Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
Главные отличия.
Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Ходи первым!
Россия должна извлечь уроки из прошлых информационных войн
Дискуссии вокруг этой темы не утихают: одни считают, что Россия проигрывает информационную войну Западу, другие доказывают обратное. Скорее всего, истина, как обычно, посередине, есть и успехи, и фиаско. Однако, оценивая нынешние результаты на этом поприще, стоит учитывать «историю вопроса». Журналист, американист Александр Палладин вспоминает наиболее драматичные, показательные и во многом парадоксальные эпизоды информационных баталий недавнего прошлого.
В МГУ с нового учебного года будут готовить специалистов в области информационных войн. Давно пора! На моём веку был лишь один эпизод, когда Кремль одержал абсолютную победу в битве за умы и сердца жителей нашей планеты. 1 мая 1960 года под Свердловском сбили американский самолёт-шпион У-2. Москва сперва ограничилась кратким сообщением, и Белый дом, посчитав, что лётчик погиб, заявил, что вылетевший из Турции самолёт якобы собирал метеорологические данные и сбился с курса. Тогда Хрущёв выложил на стол припрятанный в рукаве козырь в виде уцелевшего пилота У-2 Гарри Пауэрса, который признался в работе на ЦРУ. Властям США крыть было нечем.
За этим, однако, последовали возведение Берлинской стены, Карибский кризис, ввод советских войск в Чехословакию и Афганистан, и каждый раз в освещении этих событий наши противники побеждали не только числом средств массовой информации, но и умением препарировать и распространять соответствующие сведения.
То же случилось и после 1 сентября 1983 года, когда над Сахалином разыгралась трагедия, поставившая и без того хрупкий мир в советско-американских отношениях на грань войны. Тогда южнокорейский «Боинг-747» по пути с Аляски в Сеул углубился в воздушное пространство СССР на 500 километров и несколько часов летел в нём, не реагируя на сигналы истребителей отечественных ВВС. Один из них сбил нарушителя, на борту которого находились 269 человек, в том числе 62 американских гражданина, включая конгрессмена Ларри Макдональда (ненавистью к нашей стране не уступал своему кузену – генералу Джорджу Паттону, которому принадлежит такое высказывание о русских: «У меня нет желания понимать их, если не считать понимания того, какое количество свинца требуется для их истребления»). В связи с гибелью Ларри Макдональда в США распустили слух, будто ради этого Кремль и уничтожил авиалайнер.
Между тем ещё годом раньше (цитирую книгу «Мёртвая рука», которую 28 лет спустя издал маститый американский журналист Дэвид Хоффман) «США начали проводить провокационные учения неподалёку от советского Дальнего Востока. По выражению одного офицера американской разведки, они хотели «прогуляться под носом у Ивана».
4 апреля 1983 года 6 самолётов с авианосцев «Мидуэй» и «Энтерпрайз» застали советскую систему ПВО врасплох, пролетев над островом Зелёный (входит в состав архипелага Хабомаи). «После этого, – вспоминал Геннадий Николаевич Осипович, который потом сбил южнокорейский «Боинг», – в наш авиаполк прибыла комиссия, устроившая нам головомойку». Лётчиков на Сахалине предупредили: это не должно повториться.
Между тем в ночь на 1 сентября в небе у советской границы кружил ещё и похожий на «Боинг-747» самолёт RC-135, использовавшийся американцами в разведоперации Cobra Ball для наблюдения за испытаниями наших баллистических ракет. Возвращаясь на базу, RC-135 пересёк траекторию полёта южнокорейского авиалайнера, который всё больше углублялся в воздушное пространство СССР и тоже был принят за самолёт-шпион.
В 1983 году я работал вашингтонским собкором «Известий», и для меня случившееся тогда стало наглядным примером того, как надо – и не надо – вести ставшие ныне обыденностью информационные войны.
Как не надо – продемонстрировало советское руководство, потерпевшее сокрушительное поражение из-за неумения быстро и грамотно реагировать на ЧП. Администрация же Рейгана, наоборот, действовала напористо, умело – и предельно цинично.
Аналитики военно-воздушной разведки США, пишет Хоффман, в считаные часы заключили, что операция Cobra Ball ввела советскую ПВО в заблуждение и Осипович сбил лайнер по трагической случайности. Но их доклад попал в Белый дом лишь почти сутки спустя, да и тогда не возымел никакого эффекта.
Днём 1 сентября госсекретарь США Шульц выступил перед журналистами, обвинив Кремль в умышленном убийстве пассажиров и экипажа гражданского самолёта и дав старт всемирной антисоветской кампании. Игра пошла в одни ворота, ибо Москва действовала крайне неповоротливо, лишь два дня спустя выдавив из себя сообщение ТАСС о том, что южнокорейский «Боинг» нарушил нашу государственную границу, после чего, дескать, покинул воздушное пространство СССР и «исчез с экранов радаров».
Дальнейшие шаги Кремля только усилили впечатление его неспособности толком объяснить свои действия. Месяца через полтора в Вашингтон прилетел первый зампред правления Агентства печати «Новости» Сергей Сергеевич Иванько, до этого 6 лет проработавший в Нью-Йорке директором отдела кадров ООН. На встрече с местными журналистами он стал корить СМИ США за предвзятое освещение инцидента с южнокорейским «Боингом». А кто-то из американских репортёров возьми да спроси, почему Москва так и не удосужилась рассказать, что произошло, ограничившись заявлением: «Самолёт-нарушитель удалился в сторону Японского моря». Знаете, что ответил один из руководителей главного советского ведомства внешнеполитической пропаганды? «Наши люди умеют читать между строк. Если им говорят, что самолёт продолжил полёт в сторону Японского моря, они догадываются, что случилось».
Как тут не процитировать А.С. Черняева, который четверть века проработал в Международном отделе ЦК КПСС и впоследствии заметил в своих мемуарах: «Есть у нас общая пропагандистская линия или кто во что горазд? Скорее последнее. Никто на авторитетном уровне не руководит систематически нашей идеологической деятельностью. Так – от случая к случаю, отбрёхиваемся, как правило, с опозданием и без расчёта хотя бы на два хода вперёд». Это он записал в своём дневнике 31 августа 1975 года, но и восемь лет спустя в деятельности советского пропагандистского аппарата мало что изменилось.
…Вслед за Шульцем слово взял Рейган: «Это нападение не просто на нас или на Республику Корея, – заявил он в телевизионном обращении к нации. – Советский Союз выступил против всего мира и против моральных заповедей, которыми люди руководствуются всюду». Фактически президент США повторил сказанное шестью месяцами раньше, когда обозвал СССР империей зла.
То, что за этим последовало, я описал в корреспонденции из Вашингтона «Опьянение антисоветизмом». Местные рестораторы устроили публичное битьё бутылок «Столичной», в Техасе перепрограммировали игральные автоматы, чтоб вместо инопланетян истреблять фигурки с красной звездой на груди. Сотрудникам совучреждений в США и членам их семей стали грозить расправой, а в Нью-Йорке озверевшая толпа попыталась устроить погром в резиденции постпредства СССР при ООН.
Жертвой этой вакханалии чуть не пал Дик Оулд, нёсший охрану рядом с нашим посольством: один из прохожих принял его за русского, выхватил револьвер и едва не нажал на курок. А в штате Вермонт кто-то из местных вломился в магазинчик, где работала женщина русского происхождения, и с воплем «Проклятая комми!» разрядил в неё винтовку, хотя убитая не имела ничего общего с нашей страной…
Москва же ушла в глухую оборону, дав карт-бланш Белому дому. Андропов доживал последние месяцы жизни и управлял страной из Кремлёвской больницы, а госаппарат агитации и пропаганды, и так-то нерасторопный, словно впал в ступор.
В контексте случившегося в небе над Сахалином наши СМИ лишь вскользь упомянули аналогичное происшествие с другим южнокорейским «Боингом», который в апреле 1978 года, тоже вылетев с Аляски, так же загадочным образом сбился с курса, нарушил нашу границу и отказался отвечать на запросы наших авиадиспетчеров и подчиниться сигналам пилота Су-15. Вместо этого самолёт-нарушитель попытался скрыться в воздушном пространстве Финляндии, но был подбит и вместо Парижа сел на лёд одного из озёр на Кольском полуострове. Наши специалисты тогда заключили, что тем самым пассажирский авиалайнер использовали для проверки надёжности воздушных границ СССР.
Не догадалась Москва напомнить (как в подобной ситуации поступил бы Вашингтон) и о том, как в 1953 году
4 американских истребителя изрешетили над территорией КНР безоружный самолёт советской военно-транспортной авиации с двумя десятками людей на борту. А ставшие после Второй мировой регулярными вторжения ВВС США в воздушное пространство СССР? С 1950 года до конца 1960-х они произвели до 20 тысяч шпионских полётов вдоль наших границ. В апреле 1952 года три их самолёта-разведчика достигли рубежа Псков – Смоленск – Харьков, а позднее американские бомбардировщики не раз выходили на рубеж Новгород – Смоленск – Киев.
Ничего этого, однако, в сентябре 1983 года мир не услышал – возможно, ещё и потому, что советское руководство побоялось признаться в уязвимости нашей ПВО. И не было сделано самое главное – то, что наверняка разрядило бы обстановку, найдя понимание у миллионов людей и выбив козыри из рук оппонентов: Кремль не решился предложить версию, что наш лётчик сбил южнокорейский «Боинг» по ошибке, спутав его с самолётом RC-135. Потом можно было добавить: главная вина за это лежит на руководстве США, организовавшем постоянные провокации у наших границ.
Зато администрация Рейгана действовала споро и бесцеремонно. Уже утром 1 сентября сформировали рабочую группу из сотрудников Госдепа, Пентагона, Белого дома и ЦРУ. Возглавил её помощник госсекретаря США Ричард Берт, отличавшийся особой ненавистью к нашей стране. Он мигом смекнул, что гибель южнокорейского «Боинга» можно использовать для нейтрализации антивоенных настроений в Западной Европе, где многие противились размещению американских «першингов» и крылатых ракет. «Теперь этим ублюдкам не отвертеться!» – злорадствовал Берт, имея в виду советское руководство.
Рабочая группа сварганила речь, с которой постпред США при ООН Джин Киркпатрик выступила на заседании Совбеза. Ударным моментом сделали воспроизведение плёнки с записью радиопереговоров наших военных, участвовавших в обнаружении и уничтожении самолёта-нарушителя. За спиной у Киркпатрик поставили телеэкран, и когда она закончила вступительное слово, из динамиков зазвучала русская речь, а по экрану пополз перевод на английский. В мёртвой тишине раздалась заключительная фраза Осиповича: «Цель уничтожена». В этот момент уничтоженной (в том, что касается данной истории) оказалась репутация советского государства, причём по вине самого Кремля.
В информационной войне, как правило, побеждает сделавший первый ход, и тут инициативой целиком владел Белый дом. Разъяснения же Москвы звучали неубедительно, а после прокрученной в Совете безопасности плёнки стали выглядеть ложью: переговоры наших военных звучали так, будто они даже не попытались опознать южнокорейский «Боинг».
Между тем плёнку обкорнали, хоть Киркпатрик и уверяла: «Аудиозапись воспроизводится в оригинале». На лжи её поймал – к сожалению, лишь четыре года спустя – американский журналист Дэвид Пирсон. Накануне выступления Киркпатрик в ООН, говорится в его книге «KAL-007: The Cover Up», было объявлено, что она представит аудиозапись продолжительностью в 55 минут. На заседании же Совбеза плёнка звучала 49 минут и 11 секунд. Одно это, по мнению Пирсона, наводило на мысль, что плёнку обработали, вырезав неугодную США информацию.
Изобличить администрацию Рейгана в подтасовке мог – и должен был – Кремль, но не сделал этого, по соображениям секретности не решившись опубликовать собственную запись переговоров наших военных. Тем самым советское руководство ещё и лишило себя возможности потребовать, чтоб американская сторона представила запись переговоров своих авиадиспетчеров и операторов станций слежения.
Спасти положение попытался начальник советского Генштаба Огарков, которому три дня спустя после выступления Киркпатрик поручили изложить нашу версию случившегося над Сахалином. Он заявил, что «Боинг-747» нарушил нашу границу умышленно в рамках разведывательной операции с участием самолёта RC-135 и спутника-шпиона «Феррет-Д».
14 лет спустя эту версию подтвердил бывший сотрудник японской военной разведки Иосиро Танака, до выхода в отставку руководивший электронным прослушиванием военных объектов СССР со станции слежения на острове Хоккайдо. Были и другие версии, ставившие под сомнение то, как эту историю подала администрация Рейгана, причём многие из них принадлежат гражданам США. После драки, однако, кулаками не машут.
Осталось рассказать, как во время той самой драки повели себя два наших соотечественника: известный в ту пору журналист-международник Геннадий Герасимов и тогда ещё мало кому у нас знакомый Владимир Познер.
Через несколько дней после гибели южнокорейского «Боинга» Герасимов выступил в популярнейшей информационно-дискуссионной телепрограмме компании Эй-би-си «Найтлайн». Она выходила в полдвенадцатого ночи, а днём по Эй-би-си объявили, что в Москве состоится пресс-конференция Огаркова, после чего ведущий «Найтлайн» Тед Коппел обсудит её с видным советским журналистом.
В положенный час включаю телевизор, чтоб послушать, что Герасимов скажет в ответ на нёсшийся из каждого тостера поток обвинений нашей страны в варварском уничтожении ни в чём не повинных людей. Неспроста же по окончании работы нью-йоркским собкором АПН Геннадия Ивановича назначили главредом газеты «Московские новости» и зампредом правления АПН. Человек с многолетним опытом работы в ЦК КПСС, а затем в США не мог не понимать остроты ситуации и своей ответственности перед государством, доверившим ему руководство важнейшим органом внешнеполитической пропаганды…
Как обычно, передачу начал вступительным словом Тед Коппел. Потом дали нарезку из кадров с Рейганом, Шульцем, Киркпатрик и заголовками, клеймившими Кремль, и, наконец, на экране возник мэтр советской журналистики. То, что и как он стал говорить, повергло в шок, ибо соответствовало поговорке «не мычит, не телится». Герасимов имел доступ к недоступным рядовым гражданам источникам информации и на худой конец просто мог зачитать ключевые высказывания Огаркова, но говорливый (когда выступал перед отечественными телезрителями) Геннадий Иванович словно впал в прострацию. Каждую фразу ведущий извлекал из него клещами, причём наш представитель всячески намекал на свою отстранённость от позиции советского руководства. Обычно вальяжный Геннадий Иванович являл собой настолько жалкое зрелище, что под конец даже Коппелу стало неудобно за коллегу по профессии.
Дело было в пятницу, а в понедельник я заехал в наше посольство, сотрудники которого кипели от негодования.
– Надо же в такой момент так облажаться! – возмущался один.
– Герасимов вёл себя так, будто в эту передачу его затащили силком, – недоумевал другой.
Третий высказал догадку сродни той, что пришла в голову и мне самому:
– Он вроде как не согласен с официальной позицией Кремля…
– Тогда ему следовало отказаться от участия в «Найтлайн» и не подводить нашу страну, – резонно заметил кто-то ещё.
А дежурный помощник посла поделился со мной:
– Добрынин ещё в субботу отправил в МИД сообщение о случившемся. Депешу закончил фразой: впредь просим Герасимова к выступлениям на американском телевидении не привлекать…
Два года спустя Горбачёв поставит во главе МИД СССР Шеварднадзе, чья жена на первой же встрече с госсекретарём США Бейкером ошарашит его заявлением: «Грузия должна быть свободной!» А ещё через год Эдуард Амвросиевич сделает Герасимова своим пресс-секретарём…
Через несколько дней очередной выпуск «Найтлайн» вновь посвятили трагическому инциденту с южнокорейским «Боингом», и опять в передаче участвовал советский журналист, только в этот раз позицию Кремля излагал Владимир Познер. Вот он-то показал себя во всём блеске своих талантов, как достойный сын советского патриота, после войны вернувшегося в СССР из американской эмиграции, и как умелый боец идеологического фронта, в годы работы в Гостелерадио возглавлявший партком Главной редакции радиовещания на США и Англию. Проявив недюжинные выдержку и находчивость, Владимир Владимирович парировал попытки Коппела вновь превратить обсуждение ЧП на Дальнем Востоке в избиение младенца в виде советского журналиста. При этом, по сравнению с Герасимовым, Познеру пришлось гораздо труднее: по ходу передачи к ней неожиданно подключили сына погибшего Ларри Макдональда. Познер, однако, и тут проявил себя молодцом.
Год спустя по приглашению ряда американских университетов он прилетел в США, вызвав гнев конгрессмена Роберта Дорнана. Ветеран войн в Корее и Вьетнаме закатил истерику на Капитолийском холме:
– Почему мы позволяем этому этому маленькому еврею (this little Jew) разводить коммунистическую пропаганду в наших вузах?!
В других обстоятельствах сказанувшего такое в США заклеймили бы как антисемита. В 1982 году председатель Объединённого комитета начальников штабов (по-нашему – начальник Генштаба) Дэвид Джонс возьми да скажи:
– Что-то в наших СМИ слишком много людей еврейской национальности, к тому же играющих в прессе первую скрипку…
Пару дней спустя четырёхзвёздный генерал, образно говоря, стоял на коленях и посыпал поседевшую за 40 лет службы в ВВС голову пеплом: мол, старый дурак и солдафон, чёрт меня попутал лезть в дела, в которых я полный профан. Поскольку раскаяние было публичным, Джонса простили. А вот Дорнана американская пресса лишь пожурила: какой же Познер, мол, маленький еврей, коли в нём шесть футов росту?!
Александр Палладин

На Западе убеждены, что мы им завидуем
Андрей Суздальцев о санкциях, проблемах экономики и перспективах схватки на Украине
Сухомлинов Владимир
Навязанное России противостояние, которое развернулось на Украине, затрагивает все сферы. Касается и вопросов экономики, управления народным хозяйством, его структуры, готовности кадров решать сложнейшие задачи. Об этом разговор с известным политологом Андреем Суздальцевым.
Андрей Иванович, на днях канцлер Австрии Нехаммер сказал, что «санкции не так быстро действуют, как, возможно, надеялись… Российская армия и сама Россия за счёт размеров имеет устойчивость». Австриец заметил, что санкции повлияют на экономику России, но «потребуется время». Логики маловато: сама Европа уже страдает, а Россия устойчива. Зачем им такие санкции?
– И на Западе, в США и ЕС, и в других странах, особенно в странах БРИКС, которые тоже могут попасть под санкции и уже что-то на себе ощущают, внимание к теме большое. Считается, что санкции – обоюдоострое оружие. В реальности всё ещё сложнее. Да, это инструмент давления, но просматривается и психологический момент. Вот ввели запрет на импорт нашего золота. Объёмы экспорта в Европу у нас были неплохие, но по финансам это не сопоставимо с выручкой за поставки газа, нефти. От запрета именно золота пахнуло средневековьем. Для западников есть далёкая снежная страна, где много пушнины и золота в руках полудикарей. И возникает мысль: а давайте им золото закроем!
– А потом отберём вместе с пушниной!
– Кстати, есть греческий город Кастория, он знаменит с девятнадцатого века изделиями из меха. Там у мастеров сейчас проблемы – из-за упавшего спроса и отсутствия меха из России. Это опять психология. Как и угроза запретить нам шенгенские визы. На Западе многие это понимают так: русских отключают от рая.
– Типа жизнь у них скоро закончится...
– Да-да, именно так – своя картина мира. Всё нагляднее цивилизационное расхождение. Знаете, я как-то привёз в Париж супругу, для неё в первый раз. Поначалу всё ей нравилось, город-то для женщин: галерея Лафайет, сыры, каштаны, кофейни – всё прекрасно. В конце поездки спросил: «Осталась бы жить в Париже?» – «Да ни за что!» Есть там что-то не для житья русских. Это ни хорошо, ни плохо, это данность. Теснота, скачущие цены, мелькание рас и лиц, разноязыкие общины, предупреждения – туда не езжай, сюда не заходи. У нас гораздо спокойнее, на ментальном уровне никакого безумия. Но на Западе убеждены, что мы рвёмся к ним, завидуем им. Кстати, санкции они считают справедливым наказанием.
– Поучением со стороны цивилизованных.
– Не поучением, нет, а именно наказанием. Помните, когда в Штатах отбирали нашу дипломатическую собственность, пресс-секретарь Госдепа Псаки с гневом требовала: «Не смейте нам отвечать!» Для них, если мы отвечаем адекватно, это пик оскорбления. Мол, они имеют право наказывать, а нам – стоять-бояться.
– Но экономическое давление более конкретно.
– Дураков уже нет, все понимают, что санкции – элемент нерыночной борьбы. Это фактически создание закрытых рынков для себя. Но, ребята, раз вы начинаете закрываться, значит, не справляетесь! Кстати, то же и в информационном поле. Позакрывали русские ресурсы, какие могли. Дикость. Мы выросли, имею в виду старшее поколение, с пониманием, что Запад – это свобода информации: «Голос Америки», радио «Свобода» и т.п. Сейчас там тайно слушают наши источники. Ситуация зеркальная.
Также там ширится набор предрассудков, растёт зашоренность. В первые дни СВО мне довелось посмотреть интерактивный западный ТВ-канал (не буду пиарить название), русскоязычный. Женщина-киевлянка со слезами рассказывала, как подолгу сидела с ребёнком в подвале. И ни слова в передаче про женщин Донбасса, которые восемь лет маялись в подвалах или вблизи них. После сюжета тут же комментарий «эксперта»: из-за наших санкций Россия скоро сдохнет с голода.
– Да, в духе Нехаммера: Россию ждёт гиблая осень.
– Они не учли, что Россия, хоть наш ВВП не очень высок – близок к британскому, германскому, крепко вросла в мировую экономику и без нас международной торговле очень плохо. Введя максимально жёсткие санкции, они проявили себя как скверные экономисты. Лично у меня и так были сомнения в достойном уровне аналитической работы там даже в хороших университетах, а тут и вовсе выяснилось, что они не очень хорошо понимают нашу значимость в отдельных, иногда ключевых отраслях. Это-то и обусловило ошибки в их расчётах. В некоторых сферах мы даже подросли, а не сникли, как они полагали. Это вызвало там шок – не ожидали. Начались, можно сказать, подпольные попытки пробивать форточки к нам. Санкции вообще для контрабандистов, посредников – золотая пора: закрылись поставки нефти в США, её начали покупать подпольно, получать маржу.
– Как говорится, не было счастья…
– Да, но всё более всплывает вопрос политический. Они ведь не совсем уж двоечники, понимали, что санкции санкциями, а всё решится на поле боя. Думаю, изначально рассчитывали задавить нас именно там. И тогда никакой холодной зимы, всё будут получать от нас в виде репараций. Чувствовался и чувствуется такой подход: ещё чуть-чуть, и русских сомнём. Всё без шуток! Против нас порядка пятидесяти стран. Не полмира, но почти весь западный. В принятых санкциях вижу их ожидание, что мы провалимся на поле боя.
– Пока этого не происходит.
– С помощью энергетики мы кое-что отыграли. Уменьшились объёмы добычи, но цены помогли и продолжают расти, что сказывается и на курсе рубля. Он укрепляется даже во вред экспорту. На втором этапе, на что они рассчитывают, и о чём мы ведём у себя дискуссии, у нас могут возникнуть проблемы с промышленностью. А тут есть слабые места, нужно их видеть и оперативно все узлы развязывать.
– Если это решим – не рухнем?
– При всём том на Западе заметен слом в настроениях: всё реже говорят, что Украина победит на поле боя, а осознание этого для них очень серьёзно. Если Украина провалится, то для тех, кто возглавляет западные государства – просто катастрофа. Противостояние далеко не закончено, нас ожидает впереди много неожиданного. е
– Правительство принимает меры по поддержке промышленности, развитию отраслей. Михаил Мишустин стремится сделать управление экономикой и наукой более ответственным и современным. Разве не так?
– Тут вроде бы всё всем знающим людям понятно. Но не надо закрывать глаза на то, что мы в очень непростой ситуации. Правда, как говорится, редуты держим. Сначала нам прогнозировали 8 процентов потери ВВП за год, сейчас пересчитали до 6 с копейками. Честно скажу, эти два процента отыграло наше руководство, это здорово.
Но видим, что снижаются темпы роста экономики, нарастает технологический голод, не хватает ряда важных комплектующих, элементной базы. Это сказывается даже на оборонке. Нужны прорывные решения повсюду. Например, по микроэлектронике стоило бы собрать вместе все силы – что-то от госконцернов, что-то от частных компаний. Это, можно сказать, подход военный, но сейчас иначе нельзя…
Думаю, дела бы шли быстрее и лучше, если бы мы разрулили структурные проблемы. Скажем, по-прежнему слабоват малый бизнес. Президент постоянно напоминает, велит прекращать огульные проверки и прочее, но это бесполезно. Чем тогда жить властям некоторых регионов? Они буквально караулят тех, кто теплицы поставит, помидоры начнёт выращивать, кафе откроет или пошивочное ателье. И накидываются на них в виде чуть ли не «счетоводов мух», ведь надо же где-то деньги брать. Далеко не везде решён бюджетно-кадровый вопрос. Но решать его надо.
– Россия всё же сильна не теплицами, а большими заводами…
– Думаю, пока не в полной мере сложился крупный частный, бойкий, маневренный бизнес, который может на ходу отыскивать нужные решения, чем и сильна рыночная экономика. Его отсутствие вынужденно закрывается госконцернами, а это дети госкапитализма со всеми их болячками. По сути, они мало чем отличаются от крупных социалистических предприятий, которые так назывались, но представляли собой предприятия стандартного госкапитализма. Нужны серьёзные коррективы.
И ещё (если совсем сжато) я твёрдо уверен, что надо людей заинтересовать работать в полную силу и эффективно. И работать в России. Наиболее успешно это можно делать в гигантских частных корпорациях, у которых акции высоко котируются на всех биржах. Только тогда никакие проблемы, никакие санкции нашему развитию не помешают.
Если начнём быстрее ко всему этому приближаться, то победим в войне против пятидесяти стран Запада. Я верю в интерес людей как в двигатель прогресса. Слово «коррупция» должно быть заменено словом «заинтересованность» – всё открыто, легально, налогооблагаемо. Тогда произойдёт гигантский рывок. И только тогда сможем структурно перестроить нашу экономику, сделать её динамичной и устойчивой.

Владимир Тарабрин: сотрудничество по антитеррору должно быть "всепогодным"
Москва внимательно следит за действиями Киева по вербовке иностранных граждан для участия в боевых действиях на востоке Украины, заявил специальный представитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, директор Департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин. В интервью РИА Новости он рассказал, как ситуация вокруг Украины отразились на международном сотрудничестве по борьбе с терроризмом, о попытках отдельных стран исключить Россию из профильных организаций, а также о том, какие новые вызовы в сфере безопасности появились в последние годы.
– Как реализуется сотрудничество России и США в сфере антитеррора, прежде всего, в области обмена информацией? Можно ли ожидать консультаций по антитеррористической проблематике с Вашингтоном в обозримой перспективе? И остались ли каналы связи по этой теме с Брюсселем? Повлияла ли нынешняя ситуация вокруг Украины на сотрудничество в борьбе с международным терроризмом на площадке ООН?
– Сотрудничество между Россией и США в сфере антитеррора сейчас фактически заморожено. Как вы помните, Вашингтон под надуманным предлогом в одностороннем порядке решил приостановить профильные встречи в рамках диалога высокого уровня под эгидой внешнеполитических ведомств России и США, которые проводились в 2018-2019 годах в Вене и были полезны для обеих сторон. Похожая ситуация сложилась и с Евросоюзом по его вине. Последний раунд российско-есовских консультаций по контртерроризму состоялся в октябре 2019 года. Со своей стороны исходим из того, что такой диалог нужен нам не больше, чем западникам, и если кто-то к нему не готов в силу собственных фобий и искаженных представлений о его равноправной основе, то это уже не наша проблема.
Конечно, нынешняя ситуация вокруг Украины отразилась и на межгосударственном взаимодействии в борьбе с терроризмом в рамках совместной работы в ООН, которой принадлежит центральная и координирующая роль в этом вопросе. Все более очевидны попытки западников политизировать вопросы сотрудничества в борьбе с терроризмом, а также подменить их такими второстепенными в данном контексте темами, как гендер и права человека. В условиях противостояния с Западом продвижение российских принципиальных подходов к антитеррору во Всемирной организации, в устав которой заложено суверенное равенство стран, приобретает еще большее значение. В числе наших установок на данном направлении – необходимость опоры антитеррористического сотрудничества на выработанную международно-правовую базу; признание ведущей роли государств и их компетентных органов в борьбе с терроризмом; недопустимость использования данной проблематики, как и самих террористических группировок, в качестве инструмента геополитики и вмешательства во внутренние дела, дестабилизации "неугодных" Западу режимов.
При этом нашей принципиальной позицией является то, что международное сотрудничество в антитерроре является объективной необходимостью для всех стран, должно быть "всепогодным" и не подверженным сиюминутной геополитической конъюнктуре.
– Имеется ли уже какая-либо официальная информация по количеству боевиков, которые попадают в Россию с территории Украины для совершения диверсионно-подрывной деятельности? Как Москва намерена противодействовать вербовке Украиной боевиков "Исламского государства"* и других террористических организаций? Планирует ли российская сторона включать данный вопрос в повестку дня профильных международных контактов? Как осуществляется деятельность Международного банка данных по противодействию терроризму?
– Российская Федерация внимательно отслеживает осуществляемую властями Украины при негласной поддержке отдельных стран НАТО вербовку иностранных граждан для ведения боевых действий на востоке Украины на стороне киевского режима. В этот процесс вовлечены не только неправительственные организации, но и дипломатические представительства Украины за рубежом. В контактах с зарубежными коллегами в двустороннем формате, а также на площадке ООН и других международных организаций регулярно обращаем внимание на то, что данная порочная практика Киева противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях и иным профильным международно-правовым инструментам, а также внутреннему законодательству Украины и государств, гражданами которых эти боевики являются.
При этом подчеркиваем, что иностранные боевики, получившие военный опыт на Украине, если они не погибнут, в конечном итоге вернутся в страны своего исхода и будут представлять намного большую угрозу безопасности. Конечно, подобная ситуация нас беспокоит, и поэтому мы активно поднимаем данный вопрос в рамках наших международных контактов, настаиваем на недопустимости подобной практики и будем твердо делать это и дальше.
Что касается функционирования Международного банка данных по противодействию терроризму, то следует отметить, что он был создан аппаратом Национального антитеррористического комитета в рамках реализации договоренностей, достигнутых на III, IV и V совещаниях руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств-партнеров ФСБ России. Это действительно весьма эффективный формат межгосударственного взаимодействия по линии компетентных органов, предназначенный для обеспечения их информационного взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом, поддержки аналитической деятельности по оценке и реагированию на террористические угрозы, а также для использования в научно-исследовательских целях. Этот механизм сотрудничества значительно ускоряет процесс обмена сведениями о разыскиваемых террористах, помогает координировать работу по выявлению схем и каналов финансирования террористической деятельности и источников материальной поддержки международных террористических организаций. Хотел бы подчеркнуть, что к работе Международного банка данных уже подключились спецслужбы из десятков государств, а также целого ряда международных структур.
– Какие регионы могут представлять на данный момент наибольшую террористическую угрозу международному сообществу? Где может вспыхнуть "новый Афганистан"? Есть ли риски, что продовольственный кризис в Африке приведет к росту угрозы терроризма на континенте?
– География международного терроризма за последний десяток лет не сильно изменилась. Наибольшая террористическая угроза в глобальном контексте продолжает исходить от международных террористических организаций "Исламское государство Ирака и Леванта"* (ИГИЛ*) и "Аль-Каида"*, а также связанных с ними экстремистских группировок, орудующих преимущественно на Ближнем Востоке, в Африке, в Южной и Юго-Восточной Азии.
Особенно обеспокоены развитием ситуации в области безопасности в Африке. По нашему мнению, сегодня первоочередным вопросом повестки дня для стран этого континента является предотвращение консолидации там террористов всех мастей и недопущение возникновения "халифата в версии 2.0". Наша общая задача – предотвратить такое развитие событий. Однако вынуждены с сожалением констатировать, что противостоять данной угрозе приходится в условиях, когда предпосылки для этого в некоторых уголках региона уже созданы. В связи с сохраняющейся нерешенностью социально-экономических проблем и обнищанием населения в ряде стран террористы расширяют пропагандистскую и вербовочную работу, ведущую к радикализации населения. В периферийных районах предпринимаются попытки заместить центральную власть в предоставлении госуслуг, в том числе в сфере здравоохранения, что выглядело особо вызывающе в период пандемии. Все это, вкупе с легким доступом к стрелковому оружию, безусловно, только усугубляет обстановку.
– Интернет все чаще используется для распространения запрещенных веществ. Учитывается ли данная тенденция в профильных контактах России с партнерами, в том числе в рамках ЕАЭС? Прорабатываются ли какие-либо меры реагирования?
– Данная тематика является в настоящее время одной из самых актуальных в сфере борьбы с наркотиками. Делегация Российской Федерации предлагала на 65-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам, которая прошла в марте 2022 года, проект резолюции "Укрепление международного сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и отмыванием наркодоходов с использованием информационных и коммуникационных технологий", который был заблокирован странами коллективного Запада в контексте развязанной ими на сессии русофобской истерии. Активно продвигаем российские наработки на этом направлении в диалоге с нашими ближайшими партнёрами, при этом их круг не ограничивается форматом ЕАЭС.
В апреле в рамках ШОС проведены семинар по актуальным вопросам противодействия новым вызовам и угрозам, исходящим от использования в сетевом наркобизнесе криминальных схем на основе IT-ресурсов и электронных платежных инструментов, включая виртуальные активы, а также тренинг по обмену опытом в противодействии распространению новых психоактивных веществ и наркотиков с использованием сети Интернет и почтовых отправлений. С учетом большого интереса к этой проблематике планируем распространить наш опыт и на другие площадки. Данная тема уже включена в планы подготовки антинаркотических кадров государств Центральной Азии, осуществляемой по двусторонней линии и в рамках российского содействия под эгидой Управления ООН по наркотикам и преступности.
– Повлияла ли текущая ситуация в мире на международное сотрудничество в области борьбы с организованной преступностью? Известно, что Украина и Великобритания совершали попытки исключить Россию из Интерпола, однако они не увенчались успехом. С чем это связано? Пытаются ли исключить Россию из других профильных организаций?
– Действительно, западные страны не оставляют попыток подорвать сугубо предметный характер работы межгосударственных антикриминальных структур. В первую очередь это касается Международной организации уголовной полиции (Интерпол). Звучат призывы ограничить российской стороне возможность задействовать каналы Интерпола для розыска преступников, скрывающихся от правосудия, и даже приостановить наше членство в этой организации. Они стремятся использовать полицейскую организацию исключительно в политических интересах, надавить на ее участников для того, чтобы перекрыть российским правоохранительным органам доступ к информационным ресурсам Интерпола. В результате таких безрассудных и ничем не обоснованных действий они ставят под угрозу основную цель, ради которой, собственно, и создавался Интерпол в 1923 году, – обеспечить объединение усилий национальных правоохранительных органов его государств-участников в борьбе с преступностью.
Кроме того, подобные заходы западников подстегивают желание некоторых участников изменить устав Интерпола, чтобы в будущем оказывать политическое давление на любое неугодное правительство. В этом контексте особое значение принимает статья 3 устава организации, которая категорически запрещает ей каким-либо образом вмешиваться во внутренние дела стран-участниц или осуществлять деятельность политического характера.
Ряд государств официально прекратил сотрудничество с нами в вопросах выдачи преступников в Россию и в исполнении запросов о правовой помощи по уголовным делам. Например, если за первые два месяца текущего года российской стороной от западных государств получено четыре отказа в выдаче, связанных с объективными причинами, то в марте-июне 2022 года получено уже 60 отказов, из которых как минимум 28 приняты по политическим мотивам. Подобные деструктивные шаги несут только лишь вред международным усилиям в противодействии и профилактике преступности, ведут к резкому ухудшению криминогенной ситуации в целом. Единственный, кто будет в выигрыше от таких недальновидных и непродуманных шагов, – это криминал.
В очередной раз хотели бы напомнить, что мы открыты для равноправного взаимовыгодного сотрудничества, а профессиональное взаимодействие как на площадке Интерпола, так и на двусторонней основе необходимо выстраивать вне зависимости от глобальной политической конъюнктуры, преследуя главную цель – предотвратить противоправные деяния и привлекать преступников к ответственности.
– Ранее в МИД России сообщали об идее создания специализированного органа ООН по противодействию морскому пиратству. Как продвигается данный процесс? По вашим оценкам, когда такой специализированный институт ООН будет создан, и возможно ли его формирование в текущих условиях?
– Целесообразность создания специализированной универсальной структуры под эгидой ООН для решения всего спектра вопросов борьбы с морской преступностью в разных регионах была обозначена президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на специальном заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня по вопросам морской безопасности в августе 2021 года. По нашим оценкам, во многих государствах наблюдаются реальные трудности, связанные с недостаточно слаженной координацией работы компетентных органов в этой области, поэтому запуск такого механизма в рамках ООН помог бы найти решение имеющихся национальных и региональных вопросов борьбы с морской преступностью. Кроме того, это позволило бы осуществлять более эффективный обмен накопленным опытом и полезными видами практики по противодействию подобного рода преступлениям (терроризм на море, морское пиратство, контрабанда наркотиков и оружия, торговля людьми и другие).
В настоящее время мы находимся на этапе проработки концепции создания упомянутой структуры, в том числе с точки зрения ее встраивания в систему ООН. Считаем, что ее окончательное формирование будет напрямую зависеть от желания государств следовать сугубо практически ориентированным целям.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России

«Отрисованная» минимальная рецессия в США: кому выгодна?
американский консенсус
Сергей Ануреев
Глубокая рецессия в США, как правило, сопровождается падением мировых цен на сырьевые товары, которые являются основой российского экспорта и пока торгуются выгодно для нашей страны. Руководители США в самые сложные месяцы рецессий вынуждены больше внимания уделять внутренним вопросам и меньше – внешней политике, хотя в американской истории скатывание в рецессию и стимулирование выхода из неё часто маскировали внешнеполитическими авантюрами. Похоже, что минимальная рецессия, «отрисованная» сейчас официальной статистикой, означает наличие американского консенсуса в отношении поддержания высоких цен на сырьё и продолжения внешнеполитической активности.
В США официальное замедление спада или замедление роста экономики?
Официально рецессией считается статистический спад экономики два квартала подряд. За I квартал 2022 года официальная статистика отразила экономический спад в США на 1,6%. Свежие данные Bureau of Economic Analysis за II квартал также показали спад на 0,9%, и вроде как официальная рецессия пришла. Однако публика ожидала углубления рецессии после умеренного падения I квартала, а взамен получила статистический оптимизм, дескать, спад небольшой и уменьшается. Ещё интереснее выглядит перевод наиболее значимых официальных комментариев к цифре минус 0,9%, с помощью которых стараются внушить ещё больший оптимизм.
«Реальный ВВП снизился на 0,9% в годовом исчислении (0,2% в квартальном исчислении) во II квартале 2022 года после снижения на 1,6% в годовом исчислении (0,4% в квартальном исчислении) в I квартале. Снижение произошло на фоне продолжающейся инфляции, низкого уровня безработицы, текущих проблем с цепочками поставок и повышения процентных ставок. Экономическое влияние этих факторов не может быть определено количественно...
Индекс цен на расходы на личное потребление увеличился на 7,1% во II квартале, так же, как и в I квартале. DPI (Disposable Personal Income – реальный располагаемый личный доход) снизился на 0,5% (в годовом исчислении) во II квартале по сравнению со снижением на 7,8% в I квартале. DPI в текущем долларе увеличился на 6,6% (в годовом исчислении) во II квартале после снижения на 1,3% в I квартале. Реальный ВВП за II квартал 2022 года на 2,5% выше уровня реального ВВП за IV квартал 2019 года».
Упрощая официальные формулировки, получим следующий посыл публике со стороны официальных американских статистиков: спад всего-то мизерные 0,2% и сократился вдвое по сравнению с предыдущим кварталом. Негатив от инфляции и повышения ставок есть, но почему-то не может быть определен количественно. Инфляция, по мнению Bureau of Economic Analysis, вроде 7,1% , но, по мнению Bureau of Labor Statistics, 9,1% потребительская и 20,6% производственная. Номинальные располагаемые доходы населения так вообще выросли на замечательные 6,6%.
За пять дней до публикации указанной чудной статистики Джанет Йеллен (министр финансов США, в прошлом руководитель Федеральной резервной системы) заявила лишь о замедлении экономического роста и признала риск, но не неизбежность рецессии. За день до этой статистики вышло обоснование решения ФРС США по росту процентной ставки до 2,5%, в котором также делался упор на отсутствие рецессии и возможность из-за этого повысить ставку. В день выхода этой статистики рынок акций США по индексу S&P500 (наиболее чуткому барометру экономических настроений) сначала попробовал чуть упасть, затем подрастал в течение дня аж на целых 2%, закончив день на вполне оптимистичном плюсе в 1,3%.
Высокая инфляция должна сокращать реальный ВВП, и это называет стагфляцией
Номинальный ВВП США официально считается как совокупность транзакций, добавленной стоимости по сферам экономики в денежном, а не в натуральном выражении. Затем номинальный ВВП корректируется на статистическую же динамику цен, которая считается по некоей корзине товаров и услуг, далекой от фактической корзины многих слоев населения. Хотя следует еще раз обратить внимание на указанную выше официальную отрешенность Bureau of Economic Analysis от точных подсчетов влияния инфляции на ВВП и на расхождения в оценке инфляции с данными Bureau of Labor Statistics.
Критикам этих статистических расчетов обычно указывают на некие социологические опросы, по результатам которых чуть больше половины респондентов имеют позитивные ожидания и чуть меньше половины – негативные, что, дескать, критики попадают в эту меньшую половину, с негативными ожиданиями.
Важнейшим обоснованием страхов относительно усугубления спада экономики считается большая инфляция, которая по итогам июня составила то ли 9,1% по потребительским ценам, то ли 20,6% по промышленным ценам (в годовом выражении). Чтобы не пугать читателей, Bureau of Labor Statistics в обзоре за июнь даже сделало упор только на месячное изменение цен (1,1% в июне по сравнению с маем) и исключило из июньского обзора годовое значение. Примерно как Bureau of Economic Analysis написало о спаде на какие-то ничтожные 0,2%.
Столь большой инфляции в США не было с 1981 года, когда страна переживала последствия нефтяного шока 1979 года. Более того, даже по официальной статистике цены на ключевые товары и услуги выросли зримо больше их официального усреднения. В частности, курица свежая подорожала за год в среднем по США на 24%, новые автомобили – на 12%, частные дома – на 21% (большинство американских семей живут в домах и лишь 14% — в квартирах, точнее называемых апартаментами), коммунальные платежи – на 29%. Эти четыре товара выбраны как примеры типичного потребления, за которым стоят целые отрасли и сопоставимые товары.
Негативное влияние высокой инфляции на реальное производство выражается в стагфляции, то есть сокращении потребления товаров не первой необходимости на фоне резкого роста цен. Пока зарплаты не проиндексированы и не особо догоняют выросшие цены товаров, потребители вынуждены платить больше за товары и услуги первой необходимости (продовольствие и коммуналку) и откладывать покупку товаров не первой необходимости (машины, дома, бытовой техники, одежды). Спрос на такие товары падает, что вызывает снижение их производства по натуральным показателям и снижение ВВП.
Сопоставим официальные данные по ВВП и инфляции в понимании Bureau of Economic Analysis с данными по инфляции Bureau of Labor Statistics. Корректировка на разницу в их оценке потребительской инфляции дает спад реального ВВП на 2,9% (-0,9 - (9,1-7,1)). Если же взять за основу производственную инфляцию в 20,6%, которая в ближайший год всё равно будет переложена на плечи потребителей, то спад реального ВВП уже будет 14,4%. В ковидный II квартал 2020 года официальный спад реального ВВП составил 31%, и нынешний натуральный показатель по домам говорит о пройденной половине пути до ковидного дна, а по автомобилям – о 2/3 пути до того дна, вполне обосновывая спад в 14% (детали про дома и автомобили – далее).
Натуральные показатели американской экономики указывают на серьёзный спад
Итак, автомобилей было продано во II квартале 2022 года 13,5 млн штук в годовом выражении, а в I квартале – 13,9 млн, то есть со спадом 3%. В кварталы второй половины 2010-х годов продажи автомобилей были в диапазоне 17,5 – 18 млн. В ковидном II квартале 2020 года – 11,6 млн, а в кварталы 2009 года во время дна Глобального финансового кризиса продавалось примерно по 10 млн авто. То есть этот показатель в 2,4 раза ближе к самому большому дну экономики со времен Великой Депрессии 1930-х, нежели к ее последнему буму.
Разрешений на строительство частных домов было выдано во II квартале 2022 года 1,685 млн штук (в квартальном выражении со сглаженной сезонностью), а в I квартале с официальным спадом ВВП – 1,879 млн. В лучшие годы рынка недвижимости в середине 2000-х годов выдавалось по 2 – 2,2 млн разрешений, а в худшие середины 2010-х – по 1,2 – 1,4 млн. По домам ситуация несколько лучше, чем по автомобилям, поскольку рынок находится посередине между дном и бумом, но спад углубляется. Инфляция поначалу подстегивает строительство домов для состоятельных, которые пытаются так сохранить свои сбережения, но не для бедных. Потом деньги закончатся также у состоятельных, и новое строительство упадёт раза в два.
Ещё одним важным (хотя и не вполне натуральным) показателем является сбор подоходного налога и социальных взносов, которые дают федеральному бюджету США 85% всех доходов. За октябрь-июнь эти доходы выросли на 27% по сравнению с девятью месяцами предыдущего бюджетного года, и на первый взгляд кажется, что это результат сочетания высокой инфляции и экономического роста. Однако за этим достижением скрываются отсрочка уплаты налогов во время ковидного 2020 года и доплаты налогов по итогам «пузыря» фондового рынка в 2021 году. Поступления налогов и взносов непосредственно от деятельности плательщиков в 2022 году отстают на 6% от предыдущего бюджетного года, даже несмотря на большую инфляцию. Отставание на 6% в совокупности с даже официальной потребительской инфляцией 9,1% дают оценку динамики реального ВВП как минус 15,1%.
Важнейшим натуральным показателем роста ВВП является динамика производства коммунальных услуг (электричество и газ). Работа производителей невозможна без этих ресурсов, и для жителей эти ресурсы являются первой необходимостью наравне с продовольствием. Так вот, производство электроэнергии и газа во II квартале 2022 года оказывается всего-то на 0,35% больше производства этих ресурсов во II квартале 2021 года и чуть-чуть больше производства I квартала 2022 года. Хотя за год население США выросло с 332 млн в мае 2021 года до 332,9 млн в мае 2022 года, то есть как раз на прирост потребления коммунальных услуг.
В пользу затухающего, но все еще роста экономики говорят данные по занятости. Журналисты в первую очередь обращают внимание на показатель безработицы. Формально уровень безработицы составил в июне 2022 года 3,6% и находился на отметке аккурат предковидного декабря 2019 года, впечатляюще снизившись с ковидного апреля 2020 года, когда он был на уровне 14,7%. Сокращение безработицы происходит как за счет нашедших работу, так и за счет потерявших право на статус безработного и на пособие, обычно спустя шесть месяцев и после нескольких предложенных вакансий.
Что касается занятости, то она в июне 2022 года составляла 151,98 млн человек, в марте 2022 года – 150,86 млн, в июне 2021 года – 145,7 млн. То есть рост занятости за год составил 4,3% и за последний квартал 0,7%, что говорит в пользу мнения Джанет Йеллен. Хотя официальная занятость как процент от населения трудоспособного возраста составляла за июнь 2022 года 62,2%, за март 2022 года 62,4%, то есть начала падать, так и не дойдя до предковидного локального пика декабря 2019 года в 63,3%. Хотя и тот пик был заметно ниже, чем показатели с 1990-го по 2007 год, когда занятость колебалась в диапазоне 66-67%.
О чём говорят рецессии прошлого?
Каждый экономический цикл статистики США придумывают методики завышения «реального» ВВП и занижения статистической инфляции. Новинкой 2010-х стала вмененная аренда, по которой проживающим в собственных домах как бы начисляют аренду по аналогии с жителями арендованных домов, и это дало внушительный статистический рост ВВП после Великой рецессии первой половины 2010-х. В 1990-е годы «баловались» с методиками подсчета роста производительности труда на волне компьютеризации офисной работы, а в 2000-е стали исключать из официальной инфляции цены наиболее дорожавших тогда топлива и питания, ссылаясь на колебания этих цен в течение экономического цикла.
Последовательность, состоящая из квартала отрицательного роста, квартала с минимально положительным ростом и нескольких кварталов полноценной рецессии, была довольно частым явлением в экономической истории США. Нефтяной шок 1979 года характеризовался удвоением цен на нефть с апреля 1979-го по апрель 1980-го, вызвал спад ВВП во II квартале 1980 года и близкую к нулю динамику ВВП в III квартале, затем умеренный отскок экономики в течение 1981 года и, наконец, жесткую рецессию 1982 года.
В финале «пузыря» акций NASDAQ и перед второй войной в Персидском заливе статистики показали отрицательную динамику ВВП за I квартал 2001 года, затем отскок экономики во II квартале 2001 года, после чего настала полноценная рецессия III-IV кварталов 2001 года. В финале ипотечного бума середины 2000-х годов статистики показали отрицательную динамику ВВП в I квартале 2008 года, временно положительную – во II квартале, после чего было четыре квартала жесткой рецессии 2008-2009 годов.
Тем не менее, в первой половине 2010-х годов было и несколько статистических фальстартов рецессии, когда динамика ВВП была отрицательной или нулевой только один квартал. Такое было в I и III кварталах 2011 года, в IV квартале 2012 года, II квартале 2013 года, I квартале 2014 года, и весь этот период потом получил консенсусное название "Великая рецессия", по аналогии с Великой депрессией начала 1930-х годов.
Именно поэтому американские банки и деловые СМИ еще до выхода официальной статистики за II квартал чаще всего прогнозировали следующую американскую рецессию на 2023 год, как раз исходя из представленных выше статистических объяснений и исторических примеров. Вполне можно статистически сдвинуть рецессию на квартал, поиграв цифрами плюс-минус половина процента роста ВВП, поскольку достоверно определить такие статистические погрешности нельзя.
Банки – за отложенную рецессию, бюджетники – против рецессии в принципе
Первыми интересантами американской рецессии обычно являются крупнейшие банки. Финансовая система США по своему вкладу в ВВП является крупнейшей отраслью, превышающей вклад всей промышленности. Рынок акций США является мерилом экономического благополучия американцев и работы президентов. К слову, многие многолетние руководители американского Минфина были выходцами из крупнейших банков: напрямую (как Роберт Рубин и Генри Полсон из Goldman Sachs), с сочетанием банков и других государственных должностей (как Лоуренс Саммерс или Джек Лью), либо из близкой крупнейшим банкам ФРС (как Тимоти Гайтнер и Джанет Йеллен).
Рядовые американские инвесторы или банки других стран очень редко могут точно определить пик и дно американского рынка акций. Когда большинство инвесторов ждет рецессию, а она статистически не приходит, такое большинство возвращает значительную часть сбережений на рынок акций. Когда в других крупных странах уже происходит рецессия и падение их финансовых рынков, инвесторы из тех стран ищут относительно тихую гавань именно в американских ценных бумагах. На волне временного оптимизма крупнейшие американские банки разгружают свои балансы от акций и проблем, с тем чтобы войти в реальную рецессию с большими объёмами денег.
Такая игра происходит каждый экономический цикл, описана во многих культовых книгах по американскому фондовому рынку. Это ярко показано в голливудском блокбастере «Игра на понижение» (The Big Short) про полтора года перед Глобальным финансовым кризисом 2008 года. В фильме прозорливые главные герои понимают, что началась рецессия, наблюдая за жизнью рядовых американцев. Однако официальная рецессия всё не приходит, и финансовые рынки не падают, а именно на падение рынков ипотечных облигаций ставили главные герои. В одном из эпизодов фильма они прямо обвиняют крупнейшие американские банки в манипуляциях, в разгрузке балансов и перекладывании проблем на пенсионные фонды, иностранные банки и рядовых инвесторов.
Вторым весомым интересантом затяжки со статистической рецессией являются причастные к федеральному бюджету руководители. Каждая рецессия означает падение собираемости налогов, рост расходов на поддержку экономики, всплеск бюджетного дефицита и прирост государственного долга. Нормализация бюджетного дефицита является чуть ли не единственным достижением администрации Байдена, и нивелировать это достижение рецессией, особенно глубокой, члены администрации не хотят.
Бюджетная политика Трампа, из-за которой государственный долг США значимо превысил уровень времен окончания Второй мировой войны, сильно осложняет предстоящую рецессию. Текущий всплеск инфляции, означающий инфляционный рост налоговых доходов и пока еще минимум индексации бюджетных расходов, является расплатой за "вертолетные" деньги Трампа. Пока это выглядит менее болезненным по сравнению с прямым дефолтом (в США в XX веке было два официальных дефолта: в 1933 и 1971 годах) и бюджетной экономией (в мягкой форме по образцу перового срока Клинтона или в жёсткой – Обамы). Тем более, что американское общество ещё терпит инфляцию, вроде как верит в «путинское происхождение» этой инфляции и не выходит на массовые протесты образца 1970-х.
Невзирая на проблемы рядовых американцев, возможности проинфляционной бюджетной политики далеко не исчерпаны. Официальная потребительская инфляция превысила 9%, после инфляции 2010-х в среднем около 1%. Стоимость же государственных заимствований возросла всего-то с 1% ковидного 2020 года до 3% текущего года. Это банально означает отрицательную реальную ставку государственных заимствований США минус 6%. Ради одного года и всего-то 6% затевать инфляционный скачок бессмысленно – на повестке более серьезное инфлирование госдолга. Как минимум на уровне официальной промышленной инфляции в 19%, то есть еще одного года официальной потребительской инфляции уровня 9%.
Уже после второго и, возможно, третьего года открытой, близкой к двузначной потребительской инфляции будет необходимость в ее обуздании. Двух-трёхлетние периоды повышенной инфляции были по результатам каждого из двух нефтяных шоков 1970-х годов. Рецессия требуется именно для обуздания инфляции, чтобы социальная система США не пошла вразнос и чтобы инвесторы в государственные облигации США не перестали соглашаться на 3% доходности. В учебниках пишут про ключевую роль процентных ставок ФРС США в борьбе с инфляцией, умалчивая, что между повышением ставок и снижением инфляции обычно стоит рецессия, что ФРС применяет свои процентные ставки в операциях с государственными облигациями, являясь по необходимости крупнейшим кредитором федерального правительства.
Наложение американских экономических и президентских циклов
Третьим крупным противником глубокой рецессии именно в 2022 году является политическая система США (не конспирологический Deep State, а типично мыслящие в угоду своей долгосрочной карьере политики разного уровня). Такая толпа политиков в предыдущие десятилетия неоднократно списывала все социальные проблемы высокой инфляции и глубокого спада экономики на одного человека, ошибочно выбранного на должность президента вроде как самими рядовыми американцами. Следующий президент и его команда должны начать с «чистого листа», оставив весь багаж общественного недовольства уходящему президенту, а не получить все «прелести» последствий инфляции себе в рейтинги.
Байден после избрания был надеждой многих небогатых американцев и имел высокие рейтинги одобрения, но уже получил «почётный» титул третьего худшего президента в истории США, конкурируя в этом антирейтинге с Бушем-младшим, который является вторым худшим президентом США. Буш-младший в этой роли является модельной историей, поскольку именно как бы недалёкого папенькиного сынка Буша-младшего сделали консенсусно виноватым в Глобальном финансовом кризисе 2008 года, хотя Буш имел высочайшие рейтинги одобрения в середине своего первого срока на фоне начала войны в Ираке и вполне убедительно выиграл у Керри свои вторые президентские выборы.
Для иллюстрации наложения экономических и президентских циклов показательна фраза Буша-младшего в оправдание его общественного порицания: «Рецессию принял – рецессию сдал». Аналогичным образом Клинтон вступал в должность на фоне рецессии, стоически с ней боролся свой первый срок, затем отодвигал следующую рецессию весь второй срок и в конце подарил рецессию Бушу-младшему. Обама вступал в должность во время рецессии после Глобального финансового кризиса 2008 года, и рынки упорно ждали следующую рецессию последние два года его президентства.
Однако после Обамы пришёл Трамп и поломал наложение экономических и политических циклов, продлив экономический рост накачкой экономики бюджетными деньгами, но получил ещё более специфическую рецессию и стал президентом одного срока. До Трампа последним президентом одного срока был Буш-старший, который также попробовал отсрочить рецессию после второго срока Рейгана и получил-таки рецессию за полтора года до своих вторых неудачных президентских выборов. Только Рейган смог переизбраться на второй срок в похожих обстоятельствах, но продолжительная рецессия закончилась к середине его первого срока, как раз чтобы «списать» проблемы на предшественника и успеть «продать» электорату свои успехи в борьбе с инфляцией.
Кстати, Консультативный комитет считающего ВВП и объявляющего официальную рецессию Bureau of Economic Analysis, как высший орган этого ведомства, состоит из 13 человек. Из них при демократе Обаме назначено восемь членов, при республиканце Трампе – всего два, при демократе Байдене – три члена. Вроде как они должны отражать интересы очевидно какой партии. Однако и здесь есть пример исторического парадокса в лице Буша-старшего как вице-президента при Рейгане и президента одного срока из-за неверного входа в рецессию. Буш как-то сказал о самом весомом и многолетнем руководителе ФРС США Алане Гринспене: «Мы его поддержали, а он нас подвел». Дескать, именно процентная политика Алана Гринспена оказала медвежью услугу Бушу-старшему в преддверии его второй президентской кампании.
***
Подводя итоги, следует отметить, что официальные статистики США не просто всех запутали якобы минимальной и сокращающейся рецессией, а попробовали угодить всем основным группам интересантов. Указывает теория высокой инфляции на неизбежность спада экономики – пожалуйста – формально спад есть. Чувствуют многие рядовые американцы ухудшение своего уровня жизни – на то и официальная рецессия. Хотят крупнейшие банки сыграть на рынке акций – вроде ужасного спада нет, и можно начинать накручивать оптимизм инвесторов. Бюджетники так вообще против рецессии – пожалуйте ее минимальный уровень и близкий выход из минуса в ноль. Хочет администрация Байдена попробовать повторить успех Рейгана – и здесь статистики смогли оказаться полезными.
Только вот как долго удастся удерживать политический консенсус вокруг околонулевой статистики в условиях явных статистических манипуляций? Ответ на этот вопрос мы увидим в ближайший месяц в потоке комментариев к вышедшей статистике и в динамике рынка акций. Скорее всего, как минимум до статистики за III квартал в конце октября (преддверие выборов в Конгресс) будут тащить этот умеренный оптимизм. К тому же, а вдруг оптимистичные заклинания действительно материализуются в хотя бы торможение реального спада и торможение хотя бы промышленной инфляции? Хотя та же администрация Рейгана руками руководителя ФРС Волкера сбивала аналогичную современной инфляцию глубокой и продолжительной официальной рецессией.
Автор – доктор экономических наук, профессор департамента общественных финансов Финансового университета

«Кулачковая дипломатия» США провалилась
Вашингтону не удалось склонить арабские государства к поддержке действий США, направленных против России.
«Поездка Байдена на Ближний Восток была хуже, чем упущенная возможность. Она нанесла ущерб интересам безопасности США в регионе, продемонстрировав всему миру, что ни Саудовская Аравия, ни другие страны Персидского залива не доверяют Соединённым Штатам настолько, чтобы пойти на какие-либо жертвы для возобновления сильно потрёпанных отношений». Так оценила недавний визит президента США на Ближний Восток влиятельная американская газета «Уолл-стрит джорнэл». Практически такую же оценку это турне получило у большинства мирового сообщества. Какую же цель преследовал Байден и почему его поездка считается экспертами неудачной? На эту тему наш обозреватель побеседовал с известным политологом и военным аналитиком доктором военных наук Сергеем Печуровым, членом научного совета при Совете Безопасности РФ.
– Сергей Леонидович, на прошлой неделе Джо Байден совершил первое за 2,5 года своего президентства турне по Ближнему Востоку. Провёл большое количество встреч, бесед, переговоров, но домой, в США, вернулся, как утверждают многие наблюдатели, с пустыми руками. Почему?
– В этом нет ничего удивительного. В отличие от своих отличающихся политической изощрённостью англосаксонских братьев с Альбиона янки всегда отличались грубостью и бесцеремонностью в дипломатии. В Вашингтоне полагают, что контроль ими «печатного станка», наличие безразмерных капиталов и обилие высокотехнологичного оружия является индульгенцией для любых, в том числе и не до конца продуманных акций на внешнеполитической арене. Особенно это относится к региону Ближнего Востока.
Тем не менее американцы уже не раз тут попадали впросак, реализуя ту или иную так называемую инициативу. Так, вспоминается война Судного дня, имевшая место в октябре 1973 года между арабами и израильтянами. Вашингтон перед её началом давал понять, что будет равноудалён от враждующих сторон на Ближневосточном театре войны. В расчёте на его нейтралитет арабские силы и начали наступление, поначалу они даже владели инициативой и потеснили противника. Но из-за океана началась интенсивная материально-техническая поддержка израильтян, круто поменявшая положение на фронтах. Даже саудовцы, традиционные региональные союзники США, были не на шутку возмущены и обижены бесцеремонностью Вашингтона. Введённое арабами, прежде всего странами Персидского залива, нефтяное эмбарго в отношении Запада тогда существенно потрясло экономики ряда симпатизировавших Израилю западных государств, включая, кстати, и сами США.
В 2018 году после инцидента, связанного с гибелью оппозиционного саудовского журналиста Хашогги, американцы ничтоже сумняшеся устами Джо Байдена, в то время влиятельного сенатора, пообещали превратить Эр-Рияд в «изгоя». И даже напрямую оскорбили наследного принца, обвинили в организации убийства. И что же, проходит несколько лет, и американский президент без зазрения совести умоляет того же принца увеличить добычу нефти, чтобы «выручить американских друзей» и «насолить русским».
В Вашингтоне настолько прониклись собственной исключительностью и, соответственно, вседозволенностью, что просто не хотят понять очевидного: у других народов тоже есть национальные интересы, чувство собственного достоинства и чести.
– Тем не менее сам Байден, например, высоко оценил свой визит в Израиль, с которого начал поездку по Ближнему Востоку…
– Но это отчасти лишь стремление выдать желаемое за действительное. Конечно, Израиль постарался принять Байдена по высшему уровню. Так, президент Ицхак Герцог, приветствуя гостя, даже сказал, что Байден похож на библейского Иосифа, который нашёл своих братьев. И тут же подчеркнул, что необходимо укреплять израильско-американское взаимодействие для противостояния Ирану, который рассматривается еврейским государством как экзистенциальная угроза.
Результатом состоявшихся переговоров стало подписание «Иерусалимской декларации», которая подтвердила права Израиля на защиту себя от любой внешней угрозы самостоятельно, без предварительных консультаций с США, но при этом при активной американской поддержке. Декларация включает в себя также обязательство никогда не допускать получения Ираном ядерного оружия и обещает бороться с его «дестабилизирующей деятельностью». Под последней понимается в общем-то соответствующие нормам международного права шаги Тегерана по укреплению своего геополитического влияния в исламском мире и поддержке своих союзников – арабов-шиитов. Израильтянам, кроме того, была обещана совместная разработка лазерного оружия.
Но Байдену так и не удалось получить согласие руководства Израиля на прямую военно-техническую помощь Украине и снятие запрета на реэкспорт израильского оружия и боеприпасов в эту страну. А ведь это было, пожалуй, главной целью визита американского президента в Израиль.
Поясню: до сих пор Израиль поставлял киевскому режиму только каски, противогазы, защитные костюмы для разминирования экстренным службам и гражданским организациям Украины… А вот высокоточное оружие, противоракетные батареи он передавать не намерен, чтобы не портить традиционно хорошие со времён Горбачёва отношения с Россией.
В результате американцы были вынуждены прокомментировать эту сторону переговоров заявлением, что каждая страна должна сама решать, как ей поддерживать Украину.
Не добился Байден и каких-либо подвижек и в палестинском вопросе. На переговорах с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Вифлееме он ограничился дежурными фразами о поддержке Соединёнными Штатами возобновления прямых палестино-израильских переговоров и урегулирования ближневосточного конфликта. При этом Байден, правда, положительно высказался в отношении того, что палестинское и израильское правительства будут функционировать наравне. И даже объявил о выделении 100 млн долларов сети палестинских больниц в Восточном Иерусалиме и 200 млн долларов Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
В то же время Байден откровенно проигнорировал призыв Аббаса к возобновлению работы консульства США в Восточном Иерусалиме и представительства Палестины в Вашингтоне. Она, как известно, была прервана решением Дональда Трампа о переносе американского посольства в Иерусалим, отказе от финансирования БАПОР и закрытии офиса Организации освобождения Палестины в Вашингтоне.
– А что известно о намерениях Байдена, с которыми он после Израиля отправился в Саудовскую Аравию?
– Ну их в Вашингтоне и не скрывали. Байден планировал добиться от Эр-Рияда увеличения поставок нефти на мировой рынок, что привело бы к снижению цен на российское сырьё. Таким образом США хотели стабилизировать рынок, в том числе и внутренний, переживающий кризис после введения санкций в отношении РФ.
Но хозяина Белого дома ждал весьма холодный приём. Что это так, свидетельствует сама церемония встречи Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии. Вместо рукопожатия они приветствовали друг друга уже ставшим традиционным в условиях пандемии коронавируса соприкосновением сжатых в кулак рук. Хотя в Израиле Байден не отказывался даже обниматься с встречающими его хозяевами.
«Кулачковая дипломатия», как назвала это поведение Байдена «Вашингтон пост», не помогла американскому лидеру. По итогам состоявшихся переговоров наследный принц сказал, что Саудовская Аравия может нарастить добычу нефти с нынешних 10 млн баррелей до 13 млн баррелей в день. Но это может произойти где-то к 2027 году. Более того, любое решение об изменении уровня добычи Эр-Рияд должен принимать исключительно по согласованию с участниками ОПЕК+, то есть с Россией в том числе. Поэтому королевство, как считают наблюдатели, в августе может взять на себя обязательства по производству всего лишь 11 млн баррелей в день, что явно меньше того, чего хотели бы в Вашингтоне.
Интересно, что провал Байдена в Саудовской Аравии тут же обернулся для США новым ростом цен на нефть. По сообщениям информагентств, цена на нефть марки Brent достигла уровня 103,79 доллара за баррель. А ведь до этого момента на рынке фиксировалось падение цены на протяжении пяти недель подряд.
Следует также отметить, что Байден пытался убедить саудовцев признать Израиль законным игроком на Ближнем Востоке, ссылаясь на дружеские отношения Израиля с рядом государств Персидского залива. Но власти Саудовской Аравии, делая в этом плане небольшие жесты, такие как разрешение пролетать над территорией королевства израильским самолётам, не желают открыто признавать Израиль. Эр-Рияд намерен дожидаться, пока израильско-палестинский вопрос не будет решён более или менее приемлемым для палестинцев. Но это в обозримом будущем маловероятно.
– Судя по сообщениям из Эр-Рияда, Байден в ходе визита пытался активизировать формирование арабо-израильского союза против Ирана, а также настроить арабские государства на противостояние России и Китаю…
– Он этот вопрос поднял, по сути, прямо на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, который состоялся в саудовском городе Джидда 16 июля и был посвящён вопросам безопасности и развития. В саммите приняли участие, помимо арабских государств Персидского залива, Египет, Ирак, Иордания.
«Соединённые Штаты собираются и впредь оставаться активным и заинтересованным партнёром на Ближнем Востоке, поскольку мир становится всё более конкурентным, а проблемы, с которыми мы сталкиваемся, – более сложными. Для меня очевидно то, как тесно сплетены интересы США с успехами Ближнего Востока. Мы не уйдём и не оставим после себя вакуум, который будет заполнен Китаем, Россией или Ираном», – заявил на саммите Байден. И призвал арабские государства объединить усилия для противостояния этим трём странам.
Однако «арабской НАТО», как написала турецкая газета «Джумхурие́т» (Cumhuriyet), не получилось. Правящие круги арабских государств, имея перед глазами опыт Афганистана, осторожничают, опасаются доверять американцам, поскольку понимают, что США могут так поступить с любым своим союзником. Кроме того, как представляется, арабские элиты в богатых нефтью странах расчётливо выжидают исхода событий на Украине, на арене которой янки пытаются продемонстрировать своим партнёрам, что они по-прежнему держава № 1.
Поэтому на саммите в Джидде арабские лидеры проигнорировали призывы Байдена к единению. В совместном заявлении было лишь отмечено, что «стороны приветствовали создание объединённых оперативных групп 153 и 59 в области обороны против угроз на море». Однако и эта тема не нова. 59-я группа существует с 2006 года, когда она была создана для операции по эвакуации из Ливана, а формирование 153-й группы для патрулирования Красного моря и Аденского залива началось ещё весной этого года.
Нельзя также не заметить, что на пассаж Байдена о «вакууме на Ближнем Востоке» довольно резко отреагировали в Пекине. Там заявили, что на Ближнем Востоке нет вакуума, там «есть переизбыток, и это переизбыток империалистических США». Развивая эту мысль, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь сказал: «На Ближнем Востоке нет вакуума, хозяева Ближнего Востока – народы, проживающие на его территории». И добавил: «Ближний Восток нельзя считать чьим-то задним двором. Китай, поддерживающий суверенные права ближневосточных стран, готов путём объединённых усилий с международным сообществом содействовать миру и процветанию в этом регионе».
Примечательно и то, что Саудовская Аравия и Египет объявили о том, что обратятся в БРИКС с просьбой о принятии их в эту организацию, где участвуют Россия и Китай. Так что визит Байдена на Ближний Восток стал ещё одним свидетельством того, что гегемонии США в этом регионе приходит конец и элиты арабских стран склонны к многовекторной внешней политике.
Владимир Кузарь, «Красная звезда»

Специальная Отечественная...
путь в будущее лежит через Донбасс
Георгий Малинецкий
В статье Александра Проханова "Донбасский период русской истории" события на Украине рассматриваются как схватка между Россией и Западом, имеющая большое значение для обеих сторон.
Войны — суровый экзамен для стран, народов, цивилизаций. Их результаты определяют будущее на десятилетия, а то и на века вперёд. Поэтому на происходящее стоит посмотреть с системной, междисциплинарной точки зрения. У войны много измерений, и о них стоит подумать. В ходе обсуждений, в которых мне довелось участвовать, стало понятно, какие вопросы возникают вновь и вновь. Вот некоторые из них.
Почему война началась здесь и сейчас?
Политики и мыслители Запада не понимали Россию и боялись её. Великий Лейбниц, общавшийся с Петром I и советовавший ему создать Академию наук и ряд государственных учреждений, писал о России: «Погрязшие в схизме, нетерпеливые, не слушающие требований рассудка жертвы невежества, хуже, чем турки, создавшие при этом слишком мощное государство и жестокую диктатуру». Наполеон в своих записках представлял Россию как огромного медведя, нависшего над Европой. И войну он начал для того, чтобы его сыну на посту императора не пришлось «разбираться» с огромным восточным соседом. Можно напомнить слова американского политолога Збигнева Бжезинского: «В XXI веке Америка будет развиваться против России, за счёт России и на обломках России». Многие ведущие политики стремились к тому, чтобы России не было, либо чтобы она была слабой и раздробленной.
Стратегии противостояния Россия и Запада уже много веков. Большую роль в этой стратегии сыграл в том числе раскол Христианской церкви на католическую и православную в 1054 году. Последующая тысяча лет показала, насколько отличаются смыслы и ценности двух мировых религий и вдохновляемая ими культура.
Для того, чтобы решить вопрос с Россией силовым образом, надо дождаться, когда она будет слабой. Именно этот императив Запада президент России обозначил в 2018 году: «После развала СССР Россия, которую в советские времена называли Советским Союзом…, если говорить о наших национальных границах, утратила 23,8% территории, 48,5% населения, 41% валового общественного продукта, 44,6% военного потенциала… Видимо, у наших партнёров сложилось устойчивое мнение, что возрождение экономики, промышленности, оборонного промышленного комплекса и Вооружённых сил нашей страны до уровня, обеспечивающего необходимый стратегический потенциал, в обозримой исторической перспективе невозможно. А если это так, то нет и никакого смысла считаться с мнением России, нужно идти дальше и добиваться окончательного одностороннего военного преимущества, а затем и диктовать свои условия во всех остальных областях».
Заметим, что на 01.01.1991 численность Вооружённых сил СССР составляла 3 млн 760 тыс. человек, в то время как численность Вооружённых сил России на 01.01.2022 — 1 млн 14 тыс. человек, а активный личный состав блока НАТО в Европе насчитывает 3 млн 657 тыс. человек. Стоит посмотреть на военные бюджеты 2021 года: США — 801,0 млрд долл., Китай — 293 млрд долл., Индия — 76,6 млрд долл., Великобритания — 68 млрд долл., Россия — 65,9 млрд долл.
Россия обладает стратегическими ядерными силами, способными нанести непоправимый ущерб и США, и Европе, поэтому естественно со стороны Запада попытаться решить свои стратегические задачи, развязав большой локальный конфликт с участием России.
Почему для противостояния России выбрана Украина?
У России огромная граница, и сферой противостояния Запад мог выбрать Среднюю Азию. Тем не менее мысль противопоставить русских и украинцев — две части одного народа — в истории возникала вновь и вновь. «Необходимо не только оторвать, но и противопоставить Малороссию России, стравить две части одного народа и наблюдать, как брат убивает брата», — писал первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк.
Ту же линию продолжал Збигнев Бжезинский: «Россия может быть либо империей, либо демократией, но не тем и другим одновременно. С Украиной же, подкупленной и подчинённой, Россия автоматически превращается в империю».
Стратегия США направлена на организацию гражданских войн. В корейской войне корейцы воевали против корейцев, во вьетнамской — вьетнамцы против вьетнамцев. Сейчас, к сожалению, русские воюют против русских. Разыграна дьявольская комбинация — НАТО не может воевать с Россией, воюют люди, а не техника, и цена человеческой жизни в Европе очень высока. Украина сама по себе не может воевать против России в силу состояния экономики и вооружённых сил. Остаётся Украина с западным оружием — тот самый вариант, который сейчас разыгрывается.
Как согласуется этот конфликт с мировой динамикой, со взаимодействием крупнейших центров силы?
В течение нескольких десятилетий Запад успешно проводил проект глобализации под американским кураторством. Под глобализацией понимался свободный поток людей, идей, капиталов, товаров, информации, технологий. Этот проект выгоден сильным игрокам, и участие в нём России было разрушительно для нашей страны. Из мощной индустриальной державы она превратилась в сырьевого донора ведущих или быстрее неё развивающихся стран. Будущее — за формированием цивилизаций со своими областями влияния, с их конфликтами и взаимодействием. Американский социолог С.А. Хантингтон в книге "Становление цивилизаций и преобразование мирового порядка", опубликованной в 1996 году, писал, что XXI век станет временем беспощадного соперничества между 8 цивилизациями, опирающимися на разные культуры, с целью захвата тающих невосполнимых природных ресурсов.
Хантингтон опоздал — ведущими игроками текущего столетия, вероятно, станут социально-экономические структуры, которые можно назвать сверхцивилизацями. Пока таких структур три: это США с их «провинциями» — Мексикой и Канадой, великий Китай и Евросоюз (ЕС). Даже если Евразийский проект России удастся, то 250 млн человек и сравнительно слабой экономики будет недостаточно для формирования структуры такого масштаба. Нам необходимы стратегические союзники, например, такие как Индия или группа стран Латинской Америки.
Проект "Один пояс — один путь" усилит и Европу, и Китай. В 2021 году товарооборот между Китаем и ЕС составил 823,1 млрд долл., увеличившись на 27,5% в годовом исчислении. При таком раскладе и наличии Великого шёлкового пути «лишними» оказываются США. Поэтому Америка стремится сорвать этот план и сделать «лишней» Европу. Лучший способ для этого — препятствия транспортному коридору, нестабильность в Казахстане, военные действия на Украине и прочее. За границей США находится 860 американских военных баз, из них 305 в Германии и 153 в Японии. Это делает данные страны и многие другие более «покладистыми» в отношении американской политики.
Конфликт на Украине разоряет Европу. Возникают проблемы с энергоносителями из России. При этом рвутся транспортные цепочки, торговые потоки. По данным экспертов, в США проводились учения, связанные с последствиями подобных событий. Последствия оказываются очень тяжёлыми: цены в Европе уже взлетели, рост цен сокращает закупки и делает дорогими удобрения, это приводит к уменьшению количества продовольствия. Стоит напомнить высказывание Генри Киссинджера: «Кто контролирует снабжение продовольствием, тот контролирует людей, кто контролирует энергию, тот сможет контролировать целые континенты; тот, кто контролирует деньги, может управлять миром». Мир вступил в эпоху нестабильности, и поддержка Западом Украины идеально укладывается в этот тренд.
Что дала России специальная военная операция?
Война — это драма, гибель людей, разрушенные дома, огромные затраты. «Последний довод королей», как называл её кардинал Ришелье… Однако нет худа без добра и добра без худа.
Операция изменила отношение к России в стране и мире и к возможностям элиты. Стоит вновь напомнить крылатую фразу Бжезинского: «Россия может иметь сколь угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы ещё разберитесь, это ваша элита или уже наша? Я не вижу ни одной ситуации, при которой Россия воспользуется своим ядерным потенциалом». Мало иметь «красную кнопку» — надо чтобы и друзья, и враги были уверены, что Россия готова к силовому противостоянию. И горбачёвщина, и тридцать лет деградации страны привели к тому, что самым грозным словам российского руководства перестали верить. Нужны были дела. Именно таким делом и стала специальная военная операция.
История учит, что одним из ключевых факторов, определяющих революцию, является предательство или близорукость элиты. Далеко за примерами ходить не надо — здесь и Великая Октябрьская социалистическая революция, во многом связанная с кризисом самодержавия и расколом в царской семье, здесь и «первая цветная революция» в СССР в августе 1991 года, ставшая возможной благодаря предательству высших чиновников, разваливавших страну. И тут спецоперация и Запад нам помогли. Совет безопасности, Госдума, Совет Федерации единогласно высказались за признание Донецкой и Луганской республик. С началом спецоперации мы все оказались в одной лодке.
Несколько лет назад президент пробовал организовать национализацию элиты, направленную на то, чтобы семьи, деньги, недвижимость высших чиновников и руководителей ведущих отечественных компаний были в России. Сейчас всё стало понятно — национализация элиты произошла. Деньги и имущество забрали, «священное право частной собственности», «международное право» и прочий западный антураж тут же оказались отброшены, как только в том возникла надобность. И часть нашей элиты, включая великих деятелей культуры, оказалась «гражданами мира», и стало ясно, что не очень-то она и наша…
Главное же состоит в том, что молодёжь России активно, а во многих случаях и героически, воюет с фашизмом, против которого в тех же местах боролись их деды. Это очень важно — не порвалась «времён связующая нить».
Несмотря на отсутствие принятой и понятой народом идеологии в нашей стране, попытки «переформатировать» молодёжь по западным стандартам, готовность защитить Родину, зачастую ценой собственной жизни, у следующего поколения осталась.
На Россию наложено более 10 тысяч санкций, предприняты меры беспрецедентного экономического давления. Тем не менее наша страна держится, несмотря на её небольшую долю в глобальном валовом продукте по сравнению с экономическими гигантами. Например, в 2019 году доли ряда стран были таковы: США 24,4%; Китай — 16,35%; Япония — 5,79%; Германия — 4,38%, Франция — 3,09%; Италия — 2,23%, Бразилия — 2,1%; Россия — 1,94%.
Каковы отношения Запада и России?
Несмотря на многослойность самого понятия «Запад», основной тенденцией является жёсткая цивилизационная борьба против нашей страны. Глава евродипломатии Жозеп Боррель писал о событиях на Украине: «Эта война должна быть выиграна на поле боя». Экс-президент Польши Лех Валенса захотел «расчленить» Россию, «поднять восстание 60 народов» и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек. Президент США Джо Байден подписал 9 мая закон о поставках вооружений в рамках программы ленд-лиза. Финальная сумма военной помощи составит 40 млрд долл.
В работах Данилевского, Шпенглера, Тойнби, Гумилёва и многих других авторов развивается цивилизационный подход к мировой истории, в работах Д.С. Чернавского были построены модели соперничества цивилизаций. Дело в том, что экологическая ниша, которую занимает тот или иной народ, определяет образ его жизни, правила организации и самоорганизации. Эти правила являются ценной информацией — теми знаниями и умениями, которые помогают людям выжить. Это может быть культура, этические, моральные, нравственные нормы, язык, конфессиональная принадлежность, общность исторической судьбы и многое другое. Сравним западное «Каждый за себя, один Бог за всех» с российским, сформулированным А.В. Суворовым: «Сам погибай, а товарища выручай». В отличие от Запада, Россия расположена в зоне рискованного земледелия — одиночкам тут не выжить. Многие страны ближнего зарубежья находятся в зоне выбора: хочется и того, и другого, а ещё хочется прислониться к сильному. Немало проблем России связано с тем, что многие страны, включая ближайших соседей, не верят, что Россия сможет противостоять агрессии Запада.
Поражают попытки переписать историю Второй мировой войны и разрушение памятников советским воинам в Польше, Болгарии, Чехии, Прибалтике. Можно вспомнить циничную фразу Стэнли Кубрика: «Великие державы всегда вели себя как бандиты, а малые — как проститутки». Или высказывание Черчилля, характеризовавшего Польшу как «гиену Восточной Европы». Всё это предвидел великий русский писатель Ф.М. Достоевский: «Не будет у России, и никогда ещё не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только Россия их освободит, а Европа согласится признать их освобождёнными… Будут даже и такие минуты, когда они будут в состоянии почти уже сознательно согласиться, что не будь России, великого восточного центра и великой влекущей силы, то единство их мигом бы развалилось, рассеялось в клочки и даже так, что самая национальность их исчезла бы в европейском океане, как исчезают несколько отдельных капель воды в мире». В 2014 году на майдане толпа скандировала «Украина — цэ Европа». Запад, готовый воевать до последнего украинца, сейчас настойчиво объясняет, что Украина — не Европа.
При ответе на вопрос «Быть или не быть?» не все в мире выбирают войну. Генри Киссинджера, советовавшего договариваться с Россией, украинцы внесли на сайт "Миротворец". Джонсон, настаивающий на разгроме России, именем которого на Украине названы прекрасные пирожные «джонсонюки», ушёл в отставку из-за каких-то пинчеров. У Шольца, желающего победить Россию, начались проблемы из-за девушек, которым на вечеринке его партии дали «наркотик изнасилования». Синдзо Абэ, предлагавший разместить американские ядерные бомбы в Японии, ушёл в лучший мир. Сложно всё…
Что сейчас делать?
«Война — сфера неопределённости», — писал военный теоретик Карл фон Клаузевиц, одно время воевавший за Россию. Меня в нынешней ситуации искренне удивляет оптимизм и уверенность телеведущих. На мой взгляд, следует объяснить, что именно сейчас определяется будущее России, что она находится в точке бифуркации. В случае убедительной победы России, скорее всего, развалится НАТО, и Запад осознает предел своих возможностей. Поражение может привести к распаду России — в американском Конгрессе обсуждается план развала России 7D, связанный с «демилитаризацией», «денуклеаризацией», «децентрализацией», «демократизацией», «декоммунизацией», «десталинизацией», «депутинизацией» нашего Отечества, и рисуются карты раздела России. Всё всерьёз. Именно это и надо объяснять людям. Происходящее впору назвать Специальной Отечественной операцией. Кроме того, судя по расчётам, нас ждут очень напряжённые годы в период с 2025 по 2028-й…
Войны выигрывают молодые. Мои беседы со школьниками, студентами, преподавателями показывают, что они не понимают масштабов происходящего. В школе сейчас не проходят такие книги как "Разгром", "Как закалялась сталь", "Живые и мёртвые", "Батальоны просят огня"; урезаны Горький и Маяковский, зато Солженицын и Бунин налицо. Все наши писатели-нобелиаты писали либо о том, как плоха революция, либо о том, как плохи её последствия.
Война — большая, тяжёлая работа, от успеха в которой зависят жизни молодых людей, судьба их будущих детей и само существование России. Школьники должны это ясно понимать. Бисмарк говорил, что войны выигрывают школьный учитель и приходской священник. Средняя школа страны нуждается в реанимации. В вузах необходимо открыть больше военных кафедр — страну ждут нелёгкие годы. И конечно, без всяких «бакалавров» м «магистров» — надо готовить полноценных специалистов.
Ценны признания противника. Бисмарк писал: «Не надейтесь, что, единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут, не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть». Эту истину сейчас и доказывает наше Отечество на Украине.
Донбасс завязал в сложный узел глобальные, цивилизационные региональные, экономические, культурные проблемы. Мечом, который позволит разрубить этот узел и прочертить путь в будущее, должна быть победа нашего Отечества.

Украина и китайско-американские отношения: взгляд из Китая
ХУАН ЦЗИН
Профессор Шанхайского университета международных исследований.
CHINA – US FOCUS
Познавательный комментарий китайского коллеги, адресованный прежде всего американской аудитории.
Наряду с остальным миром, Китай – даже с его продвинутыми возможностями сбора разведданных – был шокирован началом военной операции на Украине. По мнению китайских стратегов, президенту России Владимиру Путину не следовало начинать массированную военную акцию, поскольку, объективно говоря, размещение войск на границе, признание двух новых независимых республик и отправка миротворческих войск в восточную Украину были бы вполне достаточными мерами для достижения Россией своих стратегических целей:
навязать Украине нейтральный статус, чтобы не допустить её вступления в НАТО;
разоблачить американское «пустословие» в отношении европейской безопасности;
вбить клин между США и Европой с учётом их разных интересов и подходов к разрешению кризиса.
Тем не менее была начата крупномасштабная военная операция, а это означает, что у президента Путина либо были большие амбиции, либо он чувствовал серьёзную угрозу, которую можно было сдержать только с помощью войны.
Начало российско-украинского конфликта поставило Китай в неловкую ситуацию с учётом того, что Китай и Россия – полноценные стратегические партнёры. Президент Путин даже присутствовал на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине и присоединился к своему китайскому коллеге в пространном совместном заявлении, пообещав продолжать стратегическое сотрудничество во всех аспектах.
Даже после вспышки вооружённого конфликта президент Джо Байден и высокопоставленные американские чиновники неоднократно называли Китай «самым серьёзным» оппонентом Соединённых Штатов, а американская Индо-Тихоокеанская стратегия была укреплена для более успешного сдерживания Китая. Всё это сделало невозможным присоединение Китая к возглавляемому США западному лагерю против России, поскольку это совершенно не отвечало бы интересам КНР.
Китай настаивает на мирной стратегии развития, придерживается многостороннего подхода, принимает активное участие в продвижении глобального управления и хочет создать мировое сообщество с общим будущим для человечества посредством инициативы «Пояс и путь», а также других мер. Все эти усилия призваны создать в мире образ миролюбивой и конструктивной страны. Однако российско-украинский конфликт, похоже, подтвердил мнение о том, что Россия является негативным фактором в мировой политике, поддерживая свой имидж и влияние великой державы только за счёт демонстрации колоссального разрушительного потенциала. Это противоречит усилиям Китая по созданию положительного имиджа созидателя, стремящегося поддерживать мир и вносить свой вклад в развитие человеческой цивилизации.
Устойчивое развитие Китая требует мира и процветания во всём мире, и не в его интересах укреплять отношения с Россией в ущерб отношениям с США и Европой. С самого начала конфликта Пекин старается отделить отношения с Россией от отношений с Европой и США и определить свою позицию и подход на основе независимого суждения по существу вопроса.
Поэтому Китай настаивает на «принципиальном нейтралитете» с целью мирного разрешения конфликта. Эту позицию можно обобщить в четырёх пунктах:
Незыблемость суверенитета и территориальной целостности всех стран, включая Украину. Этот принцип необходимо поддерживать. Китай выступает против войны, призывает и делает всё, что в его силах, для содействия мирному урегулированию российско-украинского конфликта.
Менталитет холодной войны и последовавшее за ним поведение в духе холодной войны стали первопричиной конфликта. Как военный альянс НАТО возникла в результате холодной войны, а её противовесом стала возглавляемая Советским Союзом Организации Варшавского договора. После распада Советского Союза и Варшавского договора в 1991 г. НАТО выполнила свою миссию. Однако она не только не была распущена, но и продолжала расширяться на Восток. Это типичное поведение, обусловленное менталитетом холодной войны, который и стал важной причиной случившейся катастрофы. Поэтому отказ от менталитета и поведения времён холодной войны является основным выходом из тупика – по крайней мере, если мы хотим урегулировать данный конфликт мирным путём.
Китай готов активно сотрудничать с европейскими странами, поддерживая их усилия по поиску мирного урегулирования. С этой целью председатель КНР Си Цзиньпин провёл ряд телефонных переговоров и онлайн-встреч с лидерами Германии и Франции. Китай поддерживает нормандский формат – то есть четырёхсторонние переговоры с участием Франции, Германии, России и Украины.
Китай, как всегда, будет поддерживать нормальные и дружественные отношения с Украиной, оказывая ей гуманитарную помощь. Его посол на Украине публично поклялся, что Китай никогда не нападёт на эту страну.
Если суммировать всё вышесказанное, Китай не принимает никакого участия в конфликте между Россией и Украиной, но готов участвовать в поиске мирного решения.
Возможные варианты окончания противостояния
Поскольку Россия недооценила решимость и силу украинского сопротивления и переоценила собственные военные возможности, она потерпела ряд неудач на начальных этапах специальной военной операции и была вынуждена отказаться от тотального наступления. С другой стороны, при массированной помощи со стороны США и НАТО, Украина продемонстрировала высокий моральный дух в защите страны. Запад во главе с США, похоже, достиг беспрецедентной солидарности в нагнетании лютой ненависти к общему врагу. Таким образом, администрация Байдена приняла стратегию, направленную на победу над Россией и даже на смену режима в этой стране. Но эта стратегия весьма проблематична. В случае её реализации возможны лишь три варианта разрешения текущего конфликта:
Россия терпит поражение, что на самом деле практически невозможно. Это означает выдавать желаемое за действительное, если только США и НАТО не будут непосредственно вовлечены в войну, не станут систематически предоставлять Украине тяжёлое вооружение и помогать ей взять под контроль воздушное пространство. В противном случае Украина никогда не сможет начать наступательные действия или победить Россию. Даже предоставление тяжёлых вооружений и уж тем более прямое участие Соединённых Штатов и Североатлантического блока неизбежно приведут к эскалации конфликта, что может быть чревато потенциально разрушительной катастрофой для всего мира. Таким образом, конец войны может стать концом всех нас.
Затяжная война при взаимной неуступчивости. Некоторые западные стратеги ратовали за то, чтобы превратить Украину в ещё один Афганистан для Кремля. Ничто не может быть более абсурдным, чем подобное мышление. Афганистан находится на отдалённой периферии, не имеющей выхода к морю, с ограниченным влиянием на окружающий регион, в то время как Украина расположена в самом сердце Европы и жизненно важна для стабильности и развития континента в целом. Пока Украина остаётся полем боя, не только два противника, но также США и Европа будут попадать в то, что я называю «ловушкой Украины» – бесконечную всепоглощающую игру. В случае затяжной войны пути Америки и Европы не только разойдутся с большой вероятностью, но она может также вызвать социально-экономические потрясения во многих регионах мира – в частности, в той же Европе. В конце концов, непрерывная война постоянно несёт угрозу глобальной безопасности и едва ли терпимые экономические затруднения для Европы и за её пределами.
Россия побеждает в войне, что не только резко ухудшит обстановку в сфере безопасности во всей Европе, но и затронет сами основы системы международных отношений во главе с США. Это может иметь катастрофические последствия для глобального мира и стабильности.
На самом деле поставленная стратегическая цель – победить Россию – эмоциональна и иррациональна, поскольку порождает нереалистичную политкорректность.
В конце концов, когда мы считаем себя абсолютно правыми, а тех, кто на противоположной стороне, – абсолютно неправыми, это приближает нас к аду.
Более рациональный подход заключается в том, чтобы изменить нереалистичную стратегическую цель и найти практический компромисс, чтобы завершить войну как можно скорее и заключить мир в форме обязывающего договора. В этом смысле нормандский формат и отвергнутый Минский протокол как минимум заслуживают серьёзного пересмотра.
Об отношениях между Китаем и США
Нынешнее «соперничество» между КНР и Соединёнными Штатами инициировано последними. Однако за фасадом конкуренции могут вызревать грозные вызовы для обеих стран. Внешняя политика Америки находится в заложниках у непримиримых социально-политических разногласий и политической поляризации внутри страны. В их основе лежит большая пропасть в национальной идентификации между гражданами США, считающими себя представителями истинной Америки и американизма, и видящими в тех, кто находится по другую сторону пропасти, злую силу, ведущую страну к гибели. Таким образом, эти две группы пребывают в состоянии вражды.
Что ещё хуже, администрацию Байдена и демократов ждет тяжёлая битва на промежуточных выборах. По общим прогнозам, демократы потерпят значительное поражение, и администрация Байдена станет «хромой уткой» ещё на два года. Таким образом, возможности для политического манёвра будут более ограниченными. Единственный способ проводить эффективную политику – вести жёсткую игру, поскольку любой признак слабости сделает демократов мишенью для критики и даст их противникам серьёзные аргументы. Так будет в случае с российско-украинской войной и тем более в случае противостояния с Китаем, которое приведёт к крайне нерациональной внешней политике.
В связи с этим я всегда считал, что высокая степень неопределённости в американской политике является препятствием для здорового развития американо-китайских отношений. В таких условиях поддерживать стабильность отношений уже трудно; улучшить их будет ещё сложнее.
С китайской стороны быстрый рост экономики в сочетании с непрекращающимися репрессиями со стороны США со времени прихода в Белый дом Дональда Трампа – включая попытку объединить силы против Китая в Индо-Тихоокеанском регионе – привели к устойчивому всплеску антиамериканских националистических настроений, что затрудняет принятие рациональных и взвешенных решений. Более того, Китай в настоящее время сталкивается с рядом социально-политических факторов давления в результате реструктуризации экономики и углубления реформ. На предстоящем ХХ съезде Компартии Китая лидер партии должен сохранить авторитет в принятии решений, чтобы эффективно реализовывать любые взятые на вооружение руководящие принципы и политику. В этих условиях, перед лицом необоснованного давления со стороны США, китайские руководители не могут позволить себе проявить слабость. Они должны решительно отстаивать национальные интересы и стоять на страже устойчивого развития своей страны.
Тем не менее сотрудничество между двумя самыми могущественными странами мира неизбежно принесёт стабильность и больше выгоды обеим странам и миру в целом. Между КНР и США действительно существуют области, где у них определённо есть точки соприкосновения. Поддержание глобальной финансовой стабильности является самым сильным объединяющим интересом.
Почти 60 процентов мировой торговли прямо или косвенно связано с Китаем, крупнейшей в мире торговой страной, чей экспорт составляет 28 процентов общемирового экспорта. Однако только 2,6 процента торговли оплачивается в китайских юанях. Из 12,8 трлн долларов мировых валютных резервов Китай владеет почти 3,5 трлн, из которых на доллар США приходится почти 60 процентов, а на юань – только 2,7 процента. Поэтому до того, как юань будет полностью интернационализирован, крах мирового финансового порядка станет крупной катастрофой как для КНР, так и для Америки.
Нынешняя ситуация очень опасна. С одной стороны, Федеральная резервная система США напечатала более 4 трлн долларов в рамках безудержного количественного смягчения, чтобы предотвратить экономический спад. С другой стороны, всесторонние санкции против России разгоняют мировую инфляцию. Пытаясь обуздать бесконтрольную инфляцию, ФРС пошла на повышение процентных ставок и сокращение своего баланса более агрессивно, чем ожидалось. Но из-за резкого роста цен на сырьевые товары, вызванного разрушительными санкциями, такое внезапное сокращение баланса – недостаточная и запоздалая мера, не способная обуздать вышедшую из-под контроля инфляцию.
Это выводит экономику Соединённых Штатов на грань стагфляции и рецессии. В этом случае только сотрудничество между Китаем и США, двумя крупнейшими экономиками, может стать эффективным в предотвращении финансового краха, который будет ещё хуже, чем в 2008 году. Глобальная финансовая стабильность имеет решающее значение для преодоления нынешнего экономического кризиса и предотвращения рецессии.
Недопущение катастрофической конфронтации между Китаем и США в интересах не только этих двух стран, но и всего остального мира.
В конце концов, необходимым условием необратимой конфронтации между ними является разделение мира на два идеологически противоположных, экономически независимых и антагонистических в военном отношении враждующих политических лагеря. Это величайший урок холодной войны. Мы, люди, не должны быть настолько глупы, чтобы скатиться к ошибкам холодной войны, которые мы исправили дорогой ценой всего несколько десятилетий назад.
Таким образом, предотвращение конфликта между КНР и США и возвращение отношений на правильный путь сотрудничества, а не конфронтации, зависит не только от двух стран, но и от всего международного сообщества. Я считаю, что после определённого периода соперничества Соединённые Штаты, наконец, поймут, что подавлять Китай путём конфронтации нецелесообразно. Этот путь только навредит обеим сторонам и приведёт к огромным негативным или даже катастрофическим последствиям для мирового сообщества. Международное сообщество также несёт ответственность и жизненно заинтересовано в том, чтобы помочь США признать эту ошибку. Чем скорее она будет признана, тем скорее отношения между Китаем и Америкой вернутся на правильную стезю.
China – US Focus

Значение и потенциал железнодорожной системы Афганистана
Об авторе: Денис Алексеевич Крылов, стажёр Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА)
Система железных дорог является неотъемлемой и обязательной составляющей инфраструктуры любого развитого и развивающегося государства. Несмотря на свою богатую и долгую историю, Афганистан до сих пор не имеет собственной полноценной железнодорожной системы, что является одним из факторов медленного экономического и промышленного развития.
Перед тем как непосредственно перейти к рассмотрению проблем, с которыми столкнулись власти Афганистана при постройке железных дорог, стоит обозначить цели, которых они стремятся достичь. Во-первых, запуск поездов даст серьезный импульс для развития производств и промышленности, поскольку железные дороги в первую очередь соединяют места залежей и добычи полезных ископаемых с местами их отгрузки. Из первой цели вытекает вторая – развитие системы железных дорог во многом поспособствует налаживанию внешних торговых связей. Афганистан является местом соединения путей западных и восточных стран, поэтому все страны-соседи заинтересованы в ресурсной базе Афганистана и использовании территории государства в качестве транзитной зоны. В-третьих, железнодорожная система, а также её использование, повлияет на развитие внутренних структур государства в целом, поскольку железные дороги – это важная часть инфраструктуры. Не только сократится время перемещения из одной части страны в другую, но и в целом появится возможность присоединить многие удаленные регионы к общей инфраструктуре. Таким образом, регионы будут развиваться практически в равных темпах и условиях. Кроме того, помимо роста уровня занятости населения, увеличится продолжительность жизни, уровень медицины и образования, поскольку общее благосостояние населения улучшится.
Однако, как это часто бывает, проекты столкнулись с рядом проблем, поскольку полноценно реализованы были лишь единицы. Какие же главные проблемы, с которыми столкнулись власти Афганистана при реализации проектов железных дорог? Первой и, вероятно, самой серьезной проблемой на данный момент является военная деятельность на территории Афганистана, а также отсутствие политической стабильности. Второй проблемой является сложность ландшафта. Гиндукуш занимает северо-восточную и центральную часть государства. Здесь же появляется третья проблема — отсутствие финансовых и технологических возможностей для строительства железных дорог. Скалистый рельеф хоть и является проблемой, но проблемой решаемой. Практика показала, что при помощи туннелей можно преодолеть любую рельефную преграду. Главный вопрос – какая сумма уйдет на реализацию столь сложного и трудоемкого проекта.
Как уже было отмечено ранее, развитие железных дорог в Афганистане тесно связано с соседними странами, однако все они преследуют свои цели и хотят получить наибольшую выгоду от развития железнодорожной системы Афганистана. Так, например, в Афганистане введена в строй новая железная дорога «Хайратон — Мазари-Шариф», построенная при участии Узбекистана. Ветка протяженностью 75 км связала приграничную железнодорожную станцию Хайратон с крупнейшим городом на севере Афганистана. Для Узбекистана максимально выгодно содействовать развитию системы железных дорог в Афганистане, так как Узбекистан является «горлышком бутылки» — через это государство проходит в Афганистан значительная часть грузопотока северных стран. Поэтому, чтобы не потерять такое преимущество, правительство Узбекистана готово помочь в развитии железнодорожной системы Афганистана и продлить пути. Впрочем, остальные соседи Афганистана не сидят сложа руки. 10 декабря 2020 года в торжественной обстановке было открыто железнодорожное сообщение по новому 225-километровому маршруту от иранского города Хаф до афганского Герата, рассчитанное на 7 млн тонн грузов и 1 млн пассажиров в год. Следовательно, железная дорога Мазари-Шариф — Герат, после того как в Герате будет организована перестановка вагонных тележек с колеи 1520 мм на колею 1435 мм, станет выходом России, Узбекистана, Казахстана, Туркмении, Таджикистана и Киргизии на железнодорожную сеть Ирана. Хотя это не очевидно, но уже здесь начинаются разногласия между странами, которые хотят «помочь» Афганистану в развитии железных дорог. По итогам узбекско-афганско-пакистанских переговоров утверждена «Дорожная карта» по строительству железной дороги «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар» протяженностью около 600 км. На реализацию проекта может уйти до 5 лет. Для этого планируется привлечь 4,8 млрд долларов кредитных средств. Но в то же время это предоставит широкий спектр торговых возможностей для Афганистана. Поскольку Пакистан заинтересован в развитии этого пути, то и Индия несомненно будет стремиться присоединиться к проекту. Участие Индии в данном проекте, в свою очередь, соединит железнодорожную систему Афганистана с Индийским океаном.
По сообщению пресс-службы Министерства инвестиций и внешней торговли РУз, глава ведомства Сардор Умурзаков на встрече с Нуруддином Азизи, и.о. главы Минторга «Талибана» (запрещен в РФ), обсудил практические аспекты организации полевых исследований по маршруту пролегания ж/д «Термез – Пешавар» во второй половине июля. Кроме того, договорились совместно проработать вопросы наращивания торговли и увеличения объемов грузоперевозок через территории Афганистана и Узбекистана. Отмечена перспективность налаживания прямых связей между узбекским и афганским бизнесом. Данная новость подтверждает тот факт, что несмотря на все проблемы, проекты могут быть реализованы. И поскольку Узбекистан действительно нуждается в ресурсах и расширении торговых связей с внешним миром, Ташкент не боится сотрудничать с непризнанным правительством Афганистана. Возможно именно такие нестандартные решения поспособствуют стабилизации хотя бы в нескольких сферах жизнедеятельности Афганистана.
Отдельным аспектом можно выделить возможную заинтересованность европейских стран, однако вряд ли мы заметим их активность до начала реализации проектов. Поскольку потенциально Афганистан может стать практически глобальным транзитным путем (выход к Индийскому и Атлантическому океанам), даже США обратили внимание на последний указанный нами проект развития ж/д системы. По сообщениям СМИ Узбекистана, в «…Международной финансовой корпорации развития (США) подтвердили заинтересованность в совместной реализации данного проекта».
Разумеется, предвидеть точный план экономического и промышленного развития невозможно из-за обильного количества вариантов, но Афганистан неоспоримо является очень перспективным регионом, и один из лучших способов реализовать его потенциал – наладить транспортную систему. Однако самостоятельно нынешние власти Афганистана не в состоянии провести данную реформу. Соседние государства проявляют интерес к развитию множества проектов, но каждое из них пытается выбрать самый выгодный для себя вариант, из-за чего процесс тормозится. Вдобавок, в связи с непредсказуемостью развития ситуации в Афганистане и непризнанным статусом правительства талибов многие проекты были временно заморожены, но не отменены.
Денис Крылов

Идем в пираты?
После ухода Голливуда наши кинотеатры стали превращаться в рассадники нелегального контента
Леонид Павлючик, кинообозреватель «Труда»
В славном городе Братске на днях закрылся кинотеатр с символическим названием «Голливуд». По иронии судьбы, причиной столь печального для местных синефилов события стал уход голливудских фильмов из нашего проката. «Голливуд» — далеко не единственная площадка в нашей стране, которая пострадала от американских санкций. Ассоциация владельцев кинотеатров еще в апреле объявила о закрытии или приостановке работы примерно 36% всех кинозалов в стране. Летом — традиционно низком для кинотеатров сезоне — ситуация резко обострилась...
Владельцы киносетей сообщают о сокращении выручки за первое полугодие на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и на 70% по сравнению с допандемийным 2019 годом. То же самое происходит и с посещаемостью кинотеатров. Так, количество зрителей за первую июльскую неделю составило всего 800 тысяч человек. Это минимальный показатель за многие и многие годы. Для сравнения: в 2019 году за первую прокатную неделю июля посмотреть фильмы пришли 4,5 миллиона человек. То есть, посещаемость кинотеатров за короткий срок упала более чем в пять раз!
Стараясь спасти финансы, которые поют романсы, владельцы кинотеатров увеличивают стоимость билетов, а это еще больше отпугивает зрителей от походов в кино. Но, конечно, не 260 рублей, которые приходится выложить за билет (такова нынче его средняя стоимость по стране), стали причиной массового оттока зрителей из кинотеатров. Причина в другом: на экране нет фильмов-событий, фильмов-аттракционов, нет настоящих зрительских хитов. Российская киноиндустрия, которая якобы находилась «в удушающих объятьях американского кино», оказалась не готова заполнить экран конкурентоспособными фильмами в ситуации, когда «большой Голливуд» сам ушел из нашей страны.
За истекшее полугодие на экраны вышло 104 новых российских релиза, поделился с «Трудом» актуальной информацией аналитик кинорынка Сергей Лавров. Совместными усилиями они собрали в наших кинотеатрах почти 4 миллиарда рублей, но только на их производство было потрачено более 9 миллиардов. Из этих 104 картин, спешно выброшенных на экраны, чтобы залатать зияющие бреши в афише, лишь шесть лент вернули затраченные на них деньги. А остальные бесславно провалились в прокате, в том числе и такие высокобюджетные фильмы, как «Своя война. Шторм в пустыне» Алексея Чадова, «Аманат» Рауфа Кубаева и Антона Сиверса, анимационная лента «Кощей. Похититель невест». А более дешевые в производстве ленты, не имеющие бюджета на рекламу, наш зритель просто не заметил.
Нельзя сказать, что кинотеатры ничего не делают для своего спасения. Выпускают в повторный прокат советскую и зарубежную киноклассику — сейчас, например, на экраны выходят «Шербургские зонтики» Жака Деми — фильм-победитель Каннского фестиваля 1964 года. Осваивают новые формы работы с публикой: проводят кинолектории, показывают в записи популярные спектакли московских театров. 9 июля в кинотеатрах 62 городов страны — от Москвы и Питера до Ижевска и Старого Оскола — был организован показ матча за Суперкубок России по футболу. Но футбол все-таки лучше смотреть на стадионе или в спортивном баре с кружкой пива, а в кинотеатрах зрители все же хотят наслаждаться эмоциями от просмотра новых фильмов.
Идя, что называется, навстречу пожеланиям трудящихся, в ряде городов страны стали выпускать на экраны нелегальные копии санкционных картин с любительским дубляжом. Так, в кинотеатры Астрахани, Самары, Томска, Кургана, Ярославля, Казани, Липецка, Уфы (всего 14 городов) стали возвращаться голливудские фильмы, премьеры которых были объявлены, но впоследствии отозваны из-за ограничений против России. Среди этих киноновинок — «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном, «Морбиус» с Джаредом Лето, «Фантастические твари: Тайны Дамблодора», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Мир Юрского периода: Господство», анимационная лента «Я краснею»...
Все эти показы подаются, как деятельность киноклубов, которые арендуют у кинотеатров залы, но, конечно, являются чистой воды пиратскими акциями. Наши власти пока смотрят на происходящее сквозь пальцы, но подобный правовой беспредел долго длиться не может. В этой ситуации Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, на днях показательно заговорил о параллельном прокате или принудительном лицензировании в сфере кинопоказа, что может придать возвращению западных фильмов на наши экраны очертания законности.
Но пока такого федерального закона нет, наши кинотеатры начинают повсеместно превращаться, с одной стороны, в рассадники пиратского контента, с другой стороны, в фитнес-центры и массажные салоны. Как по мне, оба варианта хуже.

НАТО берёт под прицел Тихий океан
США при опоре на союзников готовы к новым военным авантюрам, чтобы продлить доминирование на планете.
О том, что Россия для НАТО враг № 1, общеизвестно. В принципе этот военно-политический блок и существует с целью для противостояния с нашей страной. Это сегодня наглядно видно по практическим действиям коллективного Запада. Но в перекрестии прицела НАТО оказался и Китай, хотя он и находится за тысячи километров от стран Североатлантического альянса на другом конце земного шара. Почему? Об этом наш обозреватель побеседовал с известным политологом Владимиром Жарихиным, заместителем директора института стран СНГ.
– Владимир Леонидович, на мадридском саммите НАТО, состоявшемся в конце июня, впервые официально было заявлено, что Китай представляет собой «системную угрозу» альянсу, и что организация должна быть готова к противостоянию ей. Что вы скажете по этому поводу?
– Прежде всего хочу отметить, что в том, что Североатлантический альянс отныне нацелен и на Китай, нет ничего неожиданного. Дело в том, что Китай – страна не только самобытной древней цивилизации, культуры, но с недавних пор и с сильнейшей экономикой мира. Его ВВП давно превысил ВВП США. КНР теснит американцев и по многим другим показателям, проводит независимую внешнюю политику…
И это не может не раздражать Америку, которая не любит сильных и предпочитает доминировать в мире безраздельно. Ей не нужны равноправные партнёры – нужны вассалы. А посему любая страна, посмевшая поднять голову и укрепить свой экономический, военный потенциал, обрести подлинный суверенитет, автоматически становится врагом США.
В этом плане Вашингтон уже давно активно проводит «политику сдерживания» Китая, стремится не допустить роста его влияния как на региональном, так и на глобальном уровне. Поскольку же США продолжают доминировать в НАТО, то они решили привлечь к противостоянию Китаю и весь Североатлантический альянс.
– А что, Вашингтону мало его азиатских союзников и партнёров, тех военно-политических блоков, которые созданы в Индо-Тихоокеанском регионе и острие которых направлено против Китая?
– Ну почему же, думаю, что по большей части устраивают. Да и сами США накопили в регионе огромную силу и продолжают наращивать её мощь. Так в составе Индо-Тихоокеанского командования они держат почти 300 тысяч военнослужащих, которые размещены на свыше 200 американских военных объектах. Основу наземной группировки составляет личный состав соединений корпуса морской пехоты (около 85 тысяч человек), а также части и соединения сухопутных войск (свыше 60 тысяч). При этом ежегодно Пентагон выделяет значительные средства на усиление этой группировки, проведение учений, создание военной инфраструктуры в регионе. Так, командование вооружённых сил США в Индо-Тихоокеанском регионе предложило выделить до 2027 года финансирование в размере 1,02 млрд долларов для улучшения логистики, технического обслуживания и предварительного размещения оборудования для своей ориентированной на Китай «Инициативы тихоокеанского сдерживания».
Что касается военно-политических альянсов во главе с США в Индо-Тихоокеанском регионе, то они растут как грибы. Буквально в прошлом месяце США вместе с Великобританией, Австралией, Японией и Новой Зеландией создали новую организацию по сотрудничеству в Тихом океане – Partners in the Blue Pacific (PBP, «Партнёры в Тихоокеанском регионе»). По сообщению из Вашингтона, тем самым запущен «всеобъемлющий неформальный механизм для более эффективной и действенной поддержки тихоокеанских приоритетов». И хотя в сообщении не указывается, в чём заключается главная цель нового альянса, нет никаких сомнений, что он будет направлен прежде всего против Китая, на снижение его влияния в регионе.
А годом ранее Австралия, Великобритания и США заключили трёхсторонний договор о партнёрстве в сфере обороны и безопасности. Этот союз получил название АУКУС (AUKUS – аббревиатура названий трёх стран-участниц) и должен способствовать более глубокой интеграции научных технологий, промышленных баз и цепочек поставок вооружений в целях опять-таки сдерживания Китая.
Кроме того, существует QUAD (Quadrilateral Security Dialogue – КВАД) – четырёхсторонний диалог между Австралией, Индией, США и Японией по проблемам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Как говорится в документах альянса, он предназначен для углубления экономических, дипломатических и военных связей между четырьмя странами. При этом США не скрывают, что намерены использовать его против Китая. С этой целью Америка предпринимает немалые усилия по активизации КВАДа и по втягиванию в него других азиатских стран.
В частности, это было продемонстрировано в ходе майского саммита КВАДа , который состоялся в Токио. Под давлением США на нём было принято несколько инициатив по противодействию влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Так, страны-члены этого блока обязались решать задачи по обеспечению морского порядка, основанного на так называемых правилах, в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также выступать против любых односторонних действий, направленных на изменение статус-кво.
Учитывая всё это, действительно не может не возникнуть вопрос, а зачем тогда Соединённые Штаты расширяют деятельность Североатлантического альянса на Индо-Тихоокеанский регион. На мой взгляд, в этом свою роль сыграли несколько факторов. Во-первых, не все азиатские страны горят желанием плясать под американскую дудку, жить по правилам, установленным Соединёнными Штатами. Многие из них стремятся развивать сотрудничество и взаимодействие с Китаем и России.
Кстати, это убедительно показала встреча глав внешнеполитических ведомств стран «двадцатки», которая прошла на этой неделе на Бали. Как не старались США и их ближайшие союзники, но им не удалось добиться от участников встречи поддержки ни антироссийского курса коллективного Запада, ни «политики сдерживания» Китая.
Во-вторых, объявляя КНР противником НАТО и тем самым противопоставляя европейские страны Китаю, США ещё крепче пристегивают их к себе. По сути это превращает союзников США по НАТО, которые в своём большинстве и так из-за украинского конфликта утратили свой суверенитет, в полных американских вассалов.
В-третьих, и это, пожалуй, самое главное, нацеливая НАТО на Китай и Индо-Тихоокеанский регион, США намерены придать этому альянсу глобальный характер с расчётом на то, что он поможет им добиться мировой гегемонии. И не исключено, что США планируют поставить под знамена своеобразного глобального НАТО все региональные альянсы и выступить единым фронтом против Китая и всех других стран, которые не хотят жить по американским правилам. Во всяком случае на мадридский саммит были приглашены лидеры Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии, и с ними обсуждались вопросы координации совместных действий в Индо-Тихоокеанском регионе.
– И как Китай реагирует на всё это?
– Как всегда, сдержанно. В соответствии со своей древней национальной традицией, он не делает резких движений, сохраняя при этом свою независимость и самодостаточность. Так, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в ходе пресс-конференции заявил, что документы, принятые на мадридском саммите НАТО, очерняют внешнюю политику Китая и поощряют конфронтацию и противостояние. «НАТО сама является системным вызовом миру и стабильности во всём мире», – подчеркнул Лицзянь. И добавил, что НАТО своей политикой в отношении Китая протягивает «свои щупальца в Азиатско-Тихоокеанский регион, тщетно пытаясь экспортировать менталитет холодной войны и блоковое противостояние». В связи с этим Китай выражает серьёзную обеспокоенность и решительный протест.
Уместно будет пояснить, что Китаю требуется выиграть время. Дело в том, что в стране идёт процесс расширения внутреннего рынка, внутреннего потребления. Китай становится всё более независимым от своего экспорта, а значит от США и Евросоюза. Но он ещё не достиг того уровня, когда основная часть произведённой продукции идёт на внутреннее потребление. Поэтому ему важно максимально отсрочить активное противостояние с Западом, которое выльется в жёсткие экономические санкции, а, возможно, и в военные шаги альянса конфликт.
– А есть ли у Китая «красные линии», пересекать которые он не даст ни США, ни НАТО, ни кому-либо другому?
– Естественно, есть. Прежде всего, это – Тайвань. Как известно, Китай считает остров частью своей территорий и намерен вернуть его в родное лоно. Как недавно отметил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ, воссоединение – это великое дело китайской нации, и это историческая тенденция, которую никто и никакая сила не может остановить.
«Мирное воссоединение является величайшим желанием китайского народа, и мы обладаем предельной искренностью и готовы приложить максимальные усилия для достижения этого. Мы всё ещё прилагаем все усилия с величайшей искренностью, чтобы обеспечить мирное воссоединение сейчас», – сказал Вэй Фэнхэ. И подчеркнул, что китайские вооружённые силы будут сражаться до самого конца, если кто-нибудь осмелится отделить Тайвань.
Пока США придерживаются «политики двусмысленности» в отношении Тайваня. С одной стороны, они на словах признают принцип одного Китая, а с другой – фактически подстрекают тайваньские власти к отделению от Китая, поставляют на остров современную военную технику, оказывают помощь в строительстве вооружённых сил. Одновременно устраивают провокации в форме направления американских боевых кораблей к острову.
– В этой связи напрашивается вопрос, как вы оцениваете потенциал НОАК, которой, кстати, 1 августа 2022 года исполняется 95 лет со дня образования?
– Её потенциал по сумме всех параметров достаточно высок. Более того, КНР ведёт мощнейшую работу по совершенствованию боевых возможностей своих вооружённых сил. По словам министра обороны КНР, Китай наращивает свои оборонные возможности для обеспечения национальной безопасности и мира. Развитие вооружённых сил Китая никогда не было направлено на то, чтобы угрожать другим странам. «Китай никогда не представлял угрозы и никогда не угрожал никому другому. Китай не будет хулиганом», – подчеркнул Вэй Фэнхэ.
Говоря о развитии НОАК, нельзя не заметить, что при этом особое значение придаётся совершенствованию военно-морских сил. Сейчас идёт мощное строительство надводных и подводных кораблей, что уже в ближайшее время сделает флот КНР одним из мощнейших в Индо-Тихоокеанском регионе.
Недавно там сошёл со стапелей новый авианосец, получивший название «Фуцзянь» в честь восточной провинции страны. Водоизмещение – 80 тысяч тонн. Он построен только на основе китайских технологий. Ожидается, что в ближайшее время авианосец отправится в испытательное плавание. Прежде в составе ВМС НОАК было два авианосца. По данным гонконгской газеты South China Morning Post, Китай в прошлом году приступил к строительству четвёртого авианосца, предположительно, с ядерной силовой установкой.
Успешно китайцы развивают и свою противоракетную, противокосмическую оборону. В 2021 году им удалось поразить на орбите потерявший управление спутник. Это – высочайший уровень математического обеспечения и технического исполнения, качества ракетно-космической техники. Недавно Китай испытал и свою гиперзвуковую ракету.
У китайцев, я бы сказал, происходит полное переосмысление и изменение самих подходов к созданию продукции ОПК. Сегодня они производят свои микрочипы – так необходимые в радиоэлектронике, ракетостроении… В результате НОАК, по признанию даже американских аналитиков, теперь получают новые виды вооружений и военной техники в пять-шесть раз быстрее, чем Соединённые Штаты.
Так что у НОАК есть всё необходимое, чтобы противостоять любому противнику. Соединённым Штатам не следует недооценивать решимость Китая защищать свой суверенитет и территориальную целостность, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которая состоялась на упоминавшейся выше встрече глав внешнеполитических ведомств «двадцатки» в Индонезии.
– Поскольку Россия и Китай сегодня обозначены коллективным Западом в качестве его главных противников, то в интересах наших стран объединять свои усилия для противостояния ему…
– Вне всяких сомнений. Противостоять блоку НАТО и коллективному Западу в целом значительно легче и эффективнее сообща. Наши страны являются стратегическими партнёрами, и они углубляют сотрудничество практически по всем направлениям. И в этом отношении нельзя не выделить взаимодействие двух стран в военной и военно-технической областях, которое не только отвечает коренным интересам двух государств и способствует региональной стабильности и развитию, но и является важной гарантией поддержания стратегического баланса.
Олег Фаличев, «Красная звезда»

Так ли плохи талибы?
ВАСИЛИЙ КРАВЦОВ
Военно-политический аналитик, специалист по афганскому кризису.
Спешно покидая Афганистан в августе 2021 года, США, тем не менее, позаботились о том, чтобы оставить в регионе мощный очаг напряжённости. Критики администрации Джозефа Байдена до сих пор вспоминают о нелицеприятных подробностях бегства американских военнослужащих из Кабула.
В Вашингтоне приняли решение не вывозить из страны значительные объёмы вооружения и военной техники, а по факту добровольно передали их талибам[1]. При этом американцы заблокировали доступ для новых властей к финансовым ресурсам за рубежом. Таким образом, Белый дом заставил Кабул вариться в одном общем котле с социально-гуманитарными и экономическими проблемами и голодающим населением при полном отсутствии каких-либо перспектив улучшения ситуации.
В довесок к этому клубку сложностей Соединённые Штаты оставили талибскому руководству и более существенные проблемы. Среди них, кстати, и пресловутая «Аль-Каида»[2], под эгидой борьбы с которой американцы и оккупировали Афганистан в 2001 году. За двадцать лет присутствия западных военных на афганской земле появились и осели боевики ИГИЛ[3], пакистанские талибы, Исламское движение Восточного Туркестана (ИДВТ), «Джамаат-е Ансарулла»[4] и ещё около двадцати тергруппировок. Весьма примечательно, что Вашингтон выстраивает информационную картинку так, чтобы нынешние власти в Кабуле у всего мира ассоциировались с перечисленными террористическими объединениями.
Со своей стороны США начали декларировать поддержку антиталибским силам. Пока содействие, впрочем, носит демонстративный характер. Американцы, по-видимому, исходят из того, что Фронт национального сопротивления Афганистана должен получать финансирование и логистическую помощь со стороны и без того небогатого Таджикистана.
Кто-кто, а Вашингтон хорошо умеет разжигать огонь чужими руками.
Одна из причин нынешней медлительности американских спецслужб – традиционные для лидеров афганских нацменьшинств склоки. У северян нет единого лидера. Это существенно ограничивает манёвр администрации Байдена. Ахмад Масуд – сын легендарного таджикского полевого командира Ахмада Шаха Масуда, как считают, совсем не обладает харизмой и качествами военачальника. Знающие люди поговаривают, что ему ищут и, возможно, уже подыскали замену. Один из вероятных претендентов – боевой генерал Мурад Али Мурад.
Попытки бывших полевых командиров Северного альянса воссоздать некое его подобие обречены на неудачу. И это, увы, факт. Майские договорённости в Анкаре между Дустумом, Масудом-младшим и ещё более сорока бывшими чиновниками республиканского режима – это не более чем пустые разговоры. У нового образования нет материальных, финансовых и людских ресурсов. Повстанцы могут уже в недалёком будущем превратиться в неконтролируемые лихие банды разбойников, создающих большие проблемы не талибам, а северным соседям – Ташкенту, Душанбе и Ашхабаду, а следовательно, и Москве.
Нельзя забывать и о ещё одной стратегической цели исламистов – создании государства фундаменталистского толка на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. К слову, один из главарей ИДВТ – уйгур Абдул Хак Туркестани недавно был замечен в северных афганских провинциях. То обстоятельство, что боевые отряды уйгуров фактически свободно присутствуют в Афганистане, не добавляет желания Пекину инвестировать в афганские производственные и инфраструктурные проекты. Хотя попытки «захода» китайского бизнеса в Афганистан уже были и пока продолжаются.
Такая же ситуация и с Пакистаном. Нынешней американской администрации, как и всем предыдущим и последующим, абсолютно не выгодна самостоятельная и, главное, безопасная Исламская Республика.
Напротив, Белому дому, чтобы разорвать растущие экономические связи с Пекином, крайне необходим экспорт нестабильности в пакистанские провинции и постоянный внутриполитический кризис в Исламабаде.
К слову сказать, американский госдеп и его представитель Дональд Лу, по мнению бывшего пакистанского премьер-министра Имран-хана, напрямую причастны к его импичменту за чрезмерное проявление самостоятельности. Вряд ли, политик такого уровня будет безосновательно разбрасываться подобными обвинениями, не будь под ними серьёзных оснований. И сейчас, если рассматривать положение дел в регионе объективно, понятно, почему американский контингент не трогал пакистанских талибов. Эти «товарищи» ни много ни мало собрались повторить в Пакистане успех своих «коллег» – афганских талибов. Но если последние рассматривали ранее и продолжают рассматривать сейчас своей вотчиной исключительно Афганистан, то их пакистанские собратья кроме Пакистана собираются строить халифат во всей Центральной Азии. Что, естественно, резко повысит профиль Вашингтона на азиатском направлении. Вновь сделает актуальными американские предложения по возвращению в регион пентагоновского контингента под предлогом защиты от терроризма.
Теперь непосредственно к новым хозяевам Кабула – талибам. Да, они использовали террористические методы для борьбы с американской оккупацией. Да и то не все. Из шести основных талибских советов (шур), как органов управления группировкой, к таковым могут быть отнесены не более одной – двух. Но, необходимо отдавать отчёт, что талибы образца 2021 г. – это отнюдь не те исламисты, которых мы знали в 1990-е и 2000-е.
Они трансформировались в целом монолитное движение, сумевшее в достаточно сжатые сроки построить работающую социальную инфраструктуру, создать прообраз будущей регулярной армии Афганистана.
Нельзя обойти вниманием и внешнеполитические шаги новоиспечённого эмирата, который проявил «чудеса» дипломатии, сумев не только сохранить диппредставительства России, Ирана, Пакистана и центральноазиатских государств, но и обеспечить их безопасность. Талибы сумели привлечь ОАЭ к управлению кабульским аэроузлом.
Такие миролюбивые сигналы позитивно воспринимают соседи Афганистана. Ташкент наладил постоянный диалог по экономической проблематике с Кабулом. Тегеран намерен урегулировать вопросы водопопользования с талибами в рамках Гильмендского соглашения 1973 г. (это было серьёзной проблемой для афгано-иранских отношений).
Россия, как известно, приняла делегацию проталибских экономических кругов на ПМЭФ, заинтересованных в выходе на договорённости о поставках в Афганистан ряда товаров российского производства, а также топлива и продовольствия.
Действительность складывается так, что кроме талибов в современном Афганистане нет реальной политической силы, с которой можно вести диалог и выстраивать экономические отношения.
Конечно, помогать Кабулу справиться с внутренними деструктивными движениями никто не будет – ни Россия, ни Пакистан, ни Иран, ни страны Центральной Азии. Но вот дать возможность афганцам самостоятельно выровнять этноконфессиональный баланс вполне возможно и даже приемлемо. Нет сомнений, что талибы сделают это быстро и эффективно, так как заинтересованы в скорейшем международном признании.
А вот что точно должны сделать регионалы, – так это помочь временному правительству справиться с гуманитарным кризисом. И это, в первую очередь, в интересах самих соседей, которым совсем ни к чему потоки голодающих беженцев из Афганистана.
Те, кто делает ставку на силы сопротивления и Ахмада Масуда, вероятно, совершают очень большую ошибку. Опыта государственного строительства и управления у сепаратистов ещё меньше, чем у талибов. Возобновление кровавой гражданской войны – явно не в интересах ни самих афганцев, ни их соседей.
Вывод один – признает ли Россия талибов или нет, не в этом состоит главный вопрос сегодня. Более актуально то, что сейчас совместными усилиями всех регионалов можно и нужно оказать талибам действенную экономическую помощь, дать им возможность преодолеть гуманитарный кризис и тем самым купировать угрозы в виде ИГИЛ, пакистанских талибов. В конце концов, других вариантов, кроме как договориться с нацменьшинствами и через это обеспечить безопасность для иностранных инвестиций, у Кабула не просматривается.
СНОСКИ
[1] «Талибан» – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность. – Прим. ред.
[2] Запрещено в России – Прим. ред.
[3] Запрещено в России – Прим. ред.
[4] Запрещено в России – Прим. ред.

Проект "Русофобия"
сегодня на Украине Русская Мечта сражается с технотронным фашизмом
Александр Проханов
Возраст русофобии измеряется веками. Издревле Запад, прежде чем напасть на Россию, демонизировал русских. Объявлял их варварами, уродами, недочеловеками. А потом начинались вторжения: тевтонских рыцарей, польских рейтар, французских гвардейцев, войск СС. Цель этих вторжений — захват территорий, разгром традиционной русской власти, превращение русских в рабов.
Однако Россия, пережив нашествия, падая в бездну национальных катастроф, вновь возрождалась, вновь происходило пасхальное воскрешение, возникало новое имперское русское государство, достигавшее небывалых высот.
Сегодняшняя русофобия приобретает характер проекта. Проект "Русофобия" ставит своей задачей уничтожение той глубинной потаённой сущности, из которой каждый раз восстаёт Россия. Того потаённого зерна, из которого вновь начинают колоситься великие имперские урожаи. Россия и русские должны быть истреблены как явление. Русских нужно вычеркнуть из мировой истории раз и навсегда. Проект "Русофобия" предполагает создание гигантского бульдозера, который запускается от Минска и Смоленска, двигается по всей славянской Евразии и соскабливает Россию вплоть до Тихого океана. И эту обезлюдевшую пустошь посыплют сернистой солью, чтобы здесь не выросло ни одной травинки.
Современные русофобские центры заняты поиском сокровенной русской сущности, волшебного зерна русской цивилизации. Эти центры состоят из военных, разведчиков, экономистов, социальных психологов, пропагандистов, мастеров информационных атак, культурологов, специалистов по религии, оккультистов, магов. Они исследуют Россию во всей её полноте, рыщут в русских эмпиреях, окунаются в русскую бездну, шарят по уголкам русской культуры, стараясь обнаружить волшебное зерно. Это зерно зовётся Русской Мечтой. Русская Мечта — это стремление русского народа к идеальному божественному бытию, именуемому на языке храмов и церковных проповедей Царствием Небесным.
Коды русской судьбы ведут народ к достижению высокого божественного идеала. Эти коды не занесены в таблицу. Они не высечены на скрижалях. Эти коды являются сокровенным знанием, доступным богооткровенным русским людям. Богооткровенный русский властитель, будь то царь, князь или вождь, обладает сокровенным знанием. Он способен пробуждать русские коды в такой последовательности, что они устремляют русскую историю в творческий могучий порыв. Волшебные коды выносили Россию из всех потрясений и чёрных ям, влекли её к Русской Мечте. Они содержатся в русских сказках о мёртвой и живой воде, о бессмертии. В учениях великих православных мистиков, таких как старец Филофей, творец теории Москва — Третий Рим, и патриарх Никон — строитель подмосковного Новоиерусалимского монастыря. В учении русских космистов, грандиозном мировоззрении Николая Фёдорова, обещавшего человечеству бессмертие. В трактатах и политических доктринах большевиков, мечтавших создать на земле идеальное бытие, свести Небесное Царство на землю.
Эти коды драгоценно рассыпаны по всей русской культуре, по русской словесности. Поэтому проект "Русофобия" включает в себя подавление русской культуры, искоренение её, изгнание из мирового пространства, поиск в русской культуре этого сокровенного знания, этих волшебных русских кодов и подавление их один за другим.
Пушкин — это драгоценный ларец, в котором, как самоцветы, хранятся волшебные русские коды. На Пушкина направлена ненависть русофобов. В нём русофобы угадали источник русского возрождения, русского духовного бессмертия.
Гитлер обратился к глубинам германского язычества, к мрачным тайнам германизма: к "Золоту Рейна", нибелунгам, Зигфриду, валькириям, рунам. Тайное общество "Аненербе" вычерпывало эти глубинные энергии и вселяло их в сердца немецких легионов, которые с руническими молниями в петлицах завоевали пол-Европы и двинулись на Советский Союз.
Сталин в 1937 году дал указание сделать Пушкина самым читаемым, самым популярным советским поэтом. Произведения Пушкина издавались миллионными тиражами. Пушкина читали в школах, на заставах, декламировали в воинских частях. На сценах театров ставились сказки, оперы, созданные по произведениям Пушкина. Пушкин напитал предвоенный советский народ своими великими энергиями. И в 1941 году на полях сражений столкнулись Пушкин и "Аненербе".
Пушкинская золотая рыбка оказалась сильнее демонов Рейна. Пушкинский Евгений Онегин одолел мрачного Зигфрида. Пушкин вместе с Жуковым пришёл в Берлин, и его длани вместе с дланями советских пехотинцев держали древко победного знамени на куполе Рейхстага.
Проект "Русофобия" включён в другой, ещё более грандиозный проект — проект "Великое обнуление". Запад, стремясь к господству над всем человечеством, тщится уничтожить всё многообразие и неповторимость народов, их многоцветие и суверенность, превратить человечество в липкую, серую, отлучённую от божественных основ одноцветную массу, над которой стоят сверхлюди, управляющие ходом истории, вымарывающие из истории неугодные народы, к числу которых в первую очередь причислены русские.
В недрах проекта "Великое обнуление" формируется новый загадочный мировой субъект, который условно называется "технотронный фашизм XXI века". Его рождение мы наблюдаем на Украине на примере Зеленского. Не надо непрерывно хохотать над Зеленским, глумиться над ним, называть его клоуном или паяцем. Пусть это делают Кукрыниксы. Нам же, сражающимся на "территории смыслов", предстоит разгадать Зеленского как зловещий субъект.
Зеленский — реторта, в которую сливается множество растворов, множество эссенций, составляющих загадочный кипящий коктейль. В Зеленском, который надевает вышиванки, присутствует древнеславянское, дохристианское язычество с Перуном, идолами, богами древних славян. В нём присутствует германское духовное подполье с его магической символикой, которая видна на мёртвых телах полка "Азов"*. В нём присутствует гордыня первородной Руси с Киевом — матерью городов русских. В нём присутствует ультралиберальная идеология Запада с гей-парадами, инфернальным культом наслаждения, шоу-бизнесом, заменяющим культуру и веру. В нём присутствует загадочная иудейская мистика, каббалистические тайны. И вся эта фантасмагорическая смесь облучается энергиями цифровой реальности, наделяется искусственным интеллектом, смешивается, кипит, порождает фантастические небывалые энергии, которые фашизируют мир.
На Украине, на Крещатике родился этот фантастический зловещий субъект, именуемый технотронным фашизмом XXI века. Из украинской лаборатории, где был синтезирован, он перенесён в мир. На глазах фашизируется Польша. Фашизируется Германия, где к власти пришли потомки эсэсовцев. И европейские демократии, обессиленные толерантностью, не способные рождать лидеров, неуклонно превращаются в национальные тоталитарные государства. Зеленские будут возникать во Франции, Италии, Испании, Скандинавии.
Фашизируется Америка. Новый фашизм Америки — это не Ку-клукс-клан, не белый шовинизм, не экстравагантный яростный Трамп. Это Хиллари Клинтон, Обама, Байден, чёрный расизм, левый экстремизм, евгеническая культура, которая никогда не умирала в Америке и всегда помышляла об исправлении человечества путём исключения из него недочеловеков.
Евгеническая культура Америки в 1920-х годах привела к массовой стерилизации неполноценных американцев, к газовым камерам с газом семейства "Циклон". Евгеническая культура была перенесена в Германию и породила Гитлера и теорию сверхчеловека, зажгла крематории по всей Европе и сделала еврейский народ топливом в печах Освенцима и Майданека.
Сегодня на Украине Русская Мечта сражается с технотронным фашизмом. В Авдеевке и Попасной, о которых никогда не ведал мир, решается судьба этого мира. Русские "Ураганы" и "Грады", русские "Калибры" и "Кинжалы", ополченцы Донбасса и батальоны ВДВ атакуют проект "Русофобия", пробивая в нём дыры. И опять, в который раз Россия, кровью умытая, венценосная и бессмертная, берёт на себя грех мира — происходит великое русское омовение.
И так много в живой русской воде слёз и крови.
*террористическая организация, запрещённая в РФ

Вместо «Форта Трамп» появится «Форт Байден»
Американское военное присутствие в Польше растёт.
Польша заняла откровенно враждебную в отношении России позицию. Свидетельство тому – буквально каждый день звучащие заявления официальных представителей этой восточноевропейский страны, принимаемые её правительством решения. Чем продиктована такая политика правящей в Польше с 2015 года партии «Право и справедливость» и к чему она могут привести? На эти и другие вопросы по данной теме ответил в интервью нашему обозревателю известный политолог и военный аналитик доктор военных наук Сергей Печуров, член научного совета при Совете Безопасности РФ.
– Сергей Леонидович, давайте нашу беседу начнём с саммита НАТО, который состоялся на прошлой неделе в Мадриде. Как известно, он фактически объявил Россию главным врагом коллективного Запада, а Польша, судя по итогам саммита, должна стать основным фортпостом военного противостояния. Что вы скажите в этой связи?
– Прежде всего хотел бы отметить, что в официальном признании Североатлантическим альянсом России своим основным противником нет ничего нового. Просто лидеры НАТО сделали то, чего так старательно избегали делать с того момента, когда не стало Советского Союза и Организации Варшавского договора, против которых альянс был направлен. Чего они только не придумывали, чтобы оправдать существование НАТО – и, якобы, борьба с международным терроризмом, и противодействие наркотрафику, и даже контроль над вооружениями. При этом натовцы целеустремлённо приближали военную структуру альянса к российским границам и на многочисленных учениях отрабатывали вопросы военного противостояния.
И вот теперь маски сброшены, и альянс предстал перед мировым сообществом таким, каким он есть на самом деле, – агрессивным военно-политическим блоком, который направлен против России и других стран, которые не желают жить по правилам, навязываемым коллективным Западом. Кстати, в Пекине, комментируя решения саммита, в которых выдвинуты необоснованные упрёки и в адрес Китая, заявили, что альянс претендует на роль региональной оборонительной организации, но на самом деле ведёт войны в разных странах мира. «На руках НАТО кровь многих народов», – подчеркнули в китайской столице.
Что касается Польши, то она, с одной стороны, стремиться выдвинуться на первые роли в Центральной и Восточной Европе, потеснив Германию, а с другой – уже давно стала главной пешкой в руках элит англосаксов при проведении ими антироссийской политики. Достаточно вспомнить, как несколько лет назад Варшава активно проталкивала идею создания на территории своей страны «Форта Трамп». Под этим названием подразумевалось размещение постоянной военной базы США и основательное увеличение американского военного присутствия в Польше.
Эта идея тогда не была реализована, но саммит в Мадриде вновь породил у Польши надежду, что такой «форт» может всё же появиться в республике. Только теперь его, наверное, назовут «Форт Байден» по имени нынешнего хозяина Белого дома, который объявил, что Пентагон разместит в Польше на постоянной основе передовое командование 5-го корпуса сухопутных войск, которое будет осуществлять управление американскими вооружёнными силами на восточном фланге альянса. Комментируя это заявление Байдена, министерство обороны США отметило, что новые структуры станут «первыми постоянными силами США на восточном фланге НАТО» и их присутствие будет сопровождаться неуклонной поддержкой американских ротационных сил в Польше.
В свою очередь, американский посол в Польше Марек Бжезинский на днях заявил, что в течение ближайших 10 лет США построят в Польше более 110 военных объектов. И строительство первого из них – склада вооружения в городе Повидз, где размещена американская батальонная боевая группа, уже началось. Всего же в Польше в настоящее время находится порядка 12 тысяч американских военнослужащих.
Как и следовало ожидать, эти американские планы были восторженно встречены польскими властями. «Это новость, которую мы давно ждали, – сказал президент Анджей Дуда на пресс-конференции. – Я рад, что альянс адекватно реагирует на происходящее к востоку от Польши. Могу сказать так: с моей точки зрения, с польской точки зрения, этот ответ удовлетворителен».
– В этой связи невольно возникает вопрос относительно того, чем же руководствуются польские власти, демонстрируя неприязнь к России?
– Давайте совершим небольшой экскурс в историю. Ни для кого не секрет, что польская аристократия, шляхта, лет эдак триста назад оказалась прочно зомбированной комплексом неполноценности. Уязвлённое самолюбие в связи с нереализованными амбициями по созданию собственного государства-империи Речи Посполитой «от можа до можа» присуще и нынешней польской элите. Полякам виделась для своей страны роль форпоста европейской цивилизации, к востоку от которого бескрайняя и дикая Азия. Но завышенная самооценка шляхтичей привела к тому, что Польша стала объектом внешнего вмешательства, а затем и неоднократных разделов.
Кстати, эти разделы Польши не обошёл своим вниманием в XIX веке выдающийся военный теоретик Карл фон Клаузевиц, служивший и в прусской, и в русской армиях. В своих теоретических трудах он отвёл немало места так называемому польскому вопросу. Его заинтриговало, как могло такое по меркам того времени крупное и выгодно расположенное государство как Польша (тогда 8 млн жителей) оказаться по существу на задворках истории, а потом и вообще исчезнуть с карты Европы.
По его мнению, «гибель Польши вовсе не является такой необъяснимой, как она может показаться на первый взгляд». Дело заключается в том, что Польша, как бы её элита не хотела этого, не заслуживает одинаковой мерки с другими «членами европейского концерта». К моменту начала разделов Польши она по существу не играла никакой политической роли, а «лишь служила яблоком раздора для других».
При том состоянии этого государства и государственном устройстве Польша просто не могла долго просуществовать как самостоятельное образование. Вождям польского народа требовалось предпринять усилия, чтобы избежать такой незавидной участи и для своей родины. Но, подмечает Клаузевиц, они «сами были ещё слишком варварами для того, чтобы захотеть подобного изменения». «Их государственная неурядица и безграничное легкомыслие шли рука об руку, и они таким образом покатились в бездну».
Клаузевиц подытоживает, утверждая, что «нельзя, чтобы сохранение государства всецело ложилось на плечи других государств».
– Польская шляхта, как мы знаем, не одумалась, не извлекла уроков из позора раздела собственной страны…
– Нисколько! Лишь по результатам Первой мировой войны фактически вновь созданному государству был дан шанс продемонстрировать свою жизнеспособность. Двадцать лет Польша в виде полуфашистского государственного образования маячила на карте Европы, чтобы в 1939 году вновь быть разделённой и утратить самостоятельность. Да при этом она так насолила своим соседям (и не только!), что в очередной раз страна оказалась «кинутой» всеми, правда при обещаниях англосаксов «помочь, но потом…».
Объяснением тому служат всё те же имперские амбиции польской элиты, которая стремилась при возможности во что бы то ни стало отхватить кусок чужой земли. Во имя этого она пошла на сговор с нацистской Германией, который во многом позволил Польше захватить Тешинскую область тогдашней Чехословакии. В «благодарность» Варшава в этот период была готова поспособствовать реализации политики Германии по расширению «жизненного пространства», прежде всего за счёт СССР.
В декабре 1938 года 2-й отдел польского генштаба (разведка) подготовил доклад, в котором, процитирую, говорилось: «Расчленение России лежит в основе польской политики на Востоке… Поэтому наша возможная позиция будет сводиться к следующей формуле: кто будет принимать участие в разделе. Польша не должна остаться пассивной в этот замечательный исторический момент. Задача состоит в том, чтобы заблаговременно хорошо подготовиться физически и духовно… Главная цель – ослабление и разгром России».
Однако польская элита опять-таки просчиталась, так как её союзник в лице нацистской Германии взял и оккупировал саму Польшу, которая своей недальновидной внешней политикой сама создала предпосылки для национальной катастрофы.
– А затем Советский Союз, «большая Россия», которую тогдашняя наследники Пилсудского мечтали разделить, освободила Польшу от фашистского ига и сыграла решающую роль в восстановлении её государственности и даже территориальных приобретениях…
– Москва в годы Великой Отечественной войны стремилась вовлечь самих поляков в активную борьбу с германским нацизмом. Ставка была сделана не на пробританское эмигрантское правительство в Лондоне, явно уклонявшееся от военной помощи СССР, а на Союз польских патриотов. Была сформирована 1-я польская пехотная дивизия. Идя навстречу полякам, соединению присвоили имя Тадеуша Костюшко, хотя он и был известен как русофоб. Затем на базе дивизии к концу лета 1943 года был создан 1-й польский корпус, развёрнутый в 1-ю польскую армию. В составе 1-го Белорусского фронта поляки дошли до Берлина. А на территории самой Польши с немцами сражались партизанские отряды Армии Людовой.
В пику этим польским формированиям, считавшимся эмигрантским правительством просоветскими, британская разведка организовала на оккупированных землях Польши подпольную военную организацию под названием Армия Крайова. Её вооружённые группы, руководствуясь указаниями из Лондона, избегали взаимодействия с Красной Армией и с вооружёнными формированиями польских левых сил.
Польские эмигранты в Лондоне полагали, что после войны обескровленному Советскому Союзу будет не до Польши, которая при помощи Запада возродится в нечто, напоминающее историческую Речь Посполитую. Однако не срослось. Англосаксы были вынуждены оставить Польшу в советской сфере влияния, принимая во внимание соотношение сил в лагере победителей и учитывая заинтересованность Сталина создать зону безопасности вокруг Советской державы.
Во времена существования Польской Народной Республики Польша, замечу, стремительно развивалась и крепла, в том числе и в военном отношении.
– Что не желают признавать нынешние польские власти. Более того, они неустанно обвиняют во всех исторических бедах нашу страну.
– Увы. Сегодня русофобия вышла далеко за пределы благоразумного. Оно проявляется буквально на каждом шагу – в уничтожении памятников советским воинам, погибшим при освобождении Польши от немецко-фашистской оккупации, в отмене концертов Чайковского в филармониях и даже в удалении из меню русских пельменей. А 13 мая премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что Русский мир – это якобы чудовищная идеология, которую необходимо полностью уничтожить.
Уничтожить её в Варшаве намерены совместно с партнёрами по НАТО, при том, судя по всему, не в поединке идей, а на поле боя. Не случайно, что правительство Польши срочно предпринимает дополнительные меры по повышению боевого потенциала национальных вооружённых сил. Так, число дивизий в сухопутных войсках возрастёт с четырёх до шести, ускоренно приобретается новейшее вооружение за рубежом, в основном в США. Страну всё более авантюристически вовлекают в украинские события. Поставки оружия и боеприпасов, польские наёмники на левобережье Украины, плохо скрываемые намерения в отношении «восточных кресов»…
Знаете, хотелось бы закончить на позитиве. Но, к сожалению, признаков прозрения у нынешней польской элиты явно не наблюдается. Вся те же невыученные исторические уроки, склонность к внешнеполитическим авантюрам, иллюзорные надежды на Запад. Но в своё время потомкам шляхтичей не помогли ставки ни на Наполеона, ни на Гитлера, ни на Черчилля. Не промахнуться бы Варшаве в очередной раз!
Владимир Кузарь, «Красная звезда»

«Чем успешнее захват капитала со стороны менеджмента, тем менее успешна сама компания»
«Если менеджмент ворует деньги, а на рынке высокая конкуренция, то компания просто не выживет. Но из-за ухода западных фирм у российских не будет сильных стимулов повышать эффективность управления».
С уходом западных компаний Россия рискует потерять не только их капитал и производственные технологии, но и современные управленческие практики, говорит Андрей Маленко, профессор финансов бизнес-школы имени Стивена Росса Мичиганского университета. Из-за снижения конкуренции пострадает потребитель, а российским компаниям теперь также будет не до «зеленой» повестки.
Роль качества управления в развитии бизнеса
— Надо разделять две концепции: качество менеджмента внутри компании и корпоративное управление. Самое известное исследование по качеству менеджмента, показывающее его важность и влияние, провели экономисты Николас Блум и Джон Ван Ринен. Они опросили менеджеров более 700 компаний среднего бизнеса в разных странах и показали, что более качественные практики управления сильно скоррелированы с такими параметрами, как продуктивность, прибыльность, выживаемость фирмы на рынке, мониторинг продуктивности работников, установка целей, трекинг их достижений, продвижение работников по продуктивности, а не просто по выслуге лет…
Другое исследование, которое показывает, что качество менеджмента играет большую роль, Блум и Ван Ринен провели с одной консалтинговой компанией в Индии. Они поделили текстильные заводы на две группы: одной оказали консалтинговые услуги, а другой нет — и потом сравнили эффективность заводов. На первых предприятиях эффективность сильно выросла. Необходимость в инвентаризации сильно сократилась, и центральный офис завода мог мониторить излишки пряжи и придумывать дизайн одежды.
Про корпоративное управление — грубо говоря, чтобы менеджмент компании не воровал деньги, а оперировал в интересах инвесторов и акционеров — тоже есть ряд исследований, показывающих, что оно приводит к более высокой эффективности. Усиление контроля акционеров за тем, что делает менеджмент, приводит к тому, что стоимость компании возрастает: рынок голосует долларом за то, что компания работает эффективнее. Есть также исследования, показывающие важность независимых компетентных директоров: когда они неожиданно умирают, стоимость акций компании падает. Инвесторы долларом или рублем показывают: им важно, чтобы в совете были хорошие независимые директора.
Чем «успешнее» захват капитала со стороны менеджмента, тем менее успешна сама компания. Когда акционеры финансируют компанию, им очень важно получить отдачу. Если они ожидают, что менеджеры будут набивать собственные карманы, то инвестировать невыгодно. Соответственно, будут ниже и инвестиции, и экономический рост в целом.
Управление компанией и национально-культурные особенности
— Локальные особенности очень важны, нет универсального ответа на вопрос о том, какова должна быть комбинация общих хороших практик менеджмента и локальных культурных особенностей. Корпоративная культура может отличаться очень сильно даже в компаниях одной страны. В одних фирмах непродуктивных работников быстро увольняют, а продуктивных быстро продвигают, в других культура более стабильная: там спокойнее относятся к работникам, менее продуктивным в моменте. Их идея в том, чтобы создать ситуацию, когда люди не будут бояться, что их уволят за ошибку, и тем самым они будут больше думать про инновации.
Это разные способы быть успешным на рынке, и они накладываются еще и на локальные особенности. Глобальные компании, которые оперируют в разных странах, должны понимать, как оптимальнее адаптироваться к каждому локальному рынку.
Дополнительные риски ухода западного бизнеса
— Несомненно, уход компаний с западных бирж, уход западных технологий управления повлечет за собой снижение качества управления бизнесом. Западный капитал дополняют два важных фактора. Первый: западные инвесторы не хотят вкладывать в Россию, и это повышает стоимость денег для российских компаний. Уходят западные практики менеджмента. IKEA — очень эффективная компания. Сможет ли кто-то, кто займет их место, также эффективно организовать бизнес и продавать мебель? Сомневаюсь.
К тому же может быть не одномоментный, а долговременный эффект. Если изоляция будет надолго, то управление в компаниях «зафиксируется» во времени. И если на Западе будут инновации, они просто не придут в Россию или придут с задержкой.
Второй фактор — снижение конкуренции. До изоляции российские компании более-менее конкурировали на глобальном рынке или на локальном рынке, но с глобальными компаниями. Конкуренция — двигатель прогресса, это субститут качества корпоративного управления. Если менеджмент ворует деньги из компании, а на рынке высокая конкуренция, то она просто не выживет.
Из-за ухода западных компаний и невозможности выхода на западный рынок для российских фирм конкуренция сильно снизится — теперь вы боретесь на локальном рынке, а не глобальном, и не будет сильных стимулов повышать эффективность управления.
Если посмотреть на истории успеха российских компаний в последние годы, то тот же «Яндекс» такой классный, потому что ему нужно было конкурировать с глобальными лидерами, такими как Google. Это очень сильный фактор.
Нет сомнений, что за все в итоге заплатит потребитель. Если у вас нет «Макдональдса», другие рестораны быстрого питания могут позволить себе быть менее эффективными: будут выше издержки и ниже качество, меньше инновации, выше цены. То же самое с IKEA — другие мебельные магазины будут менее качественные и более дорогие.
Отступление от целей устойчивого развития (ESG)
В последнее десятилетие ESG — это огромный тренд в Америке и Европе, он никуда не уйдет и продолжится в следующее десятилетие в связи с изменением климата, социальными проблемами и так далее. В России запрос на ESG был не изнутри, а снаружи — от зарубежных инвесторов и банков. И поскольку он был не изнутри, а экономика изолируется, этот тренд остановится.
Изменение климата, зеленая повестка — очень важны, это огромный вызов общества на ближайшие десятилетия. Но это не мандат центральных банков, и их довольно опасно подключать к этому регулированию. В чем заключается мандат Центробанка?
Снижение вероятности финансовых и банковских кризисов, поддержка низкого уровня инфляции и стабилизация бизнес-циклов, чтобы не было большой разницы между бумами и рецессиями. В целом ничто из этого напрямую не связано с климатической повесткой и зеленой экономикой.
Сейчас активно обсуждается, чтобы центральные банки по-разному регулировали коммерческие банки, которые дают и не дают «зеленые» займы. В банковском регулировании один из самых важных параметров — это capital requirements, требования к собственному капиталу банков. Если вы даете кому-то займ на один доллар, то регулятор обязывает вас обеспечить часть этой суммы, условно, 6-8%, за счет собственного капитала, а остальное — за счет, например, депозитов. Идея такова, чтобы снизить требования капитала для «зеленых» займов, например, на экологически чистые производства: чтобы простимулировать их, давайте будет требовать выделять, например, не 8% от собственного капитала, а 5%.
Проблема здесь в том, что это может сильно политизировать Центральный банк. В обществе нет однозначного согласия по тому, насколько нужно стимулировать эту зеленую экономику, насколько это большая проблема для общества.
Даже на примере Америки мы наблюдаем две партии, у которых диаметрально противоположные взгляды на этот счет. Если мы говорим: давайте ЦБ будет по-разному регулировать зеленые и грязные займы, по сути, это сделает его политическим органом, который отражает повестку одной из двух партий (в США, в Европе партий больше, но логика та же).
За прошедшее десятилетие преимуществом центрального банка была в том, что это независимый и аполитический орган. Вне зависимости от того, кто находится у власти, мы все хотим, чтобы у нас была низкая инфляция, чтобы не было банковских кризисов. Есть согласие общества по поводу того, что делает ЦБ сейчас, и это хорошо, и поэтому важно дать ему независимость. А если же мы говорим, что центральный банк должен еще как-то регулировать зеленую экономику, то у общества нет согласия по этому вопросу, и это сделает его политическим органом. Боюсь, что в таком случае ЦБ может потерять независимость, что будет большой проблемой.
Как только центробанк становится ненезависимым — мы наблюдали примеры в разных странах — это приводит к большим проблемам: высокой инфляции и так далее. Его независимость от политических партий в США, Европе и других странах — большое достижение, и важно его не потерять.
Материал подготовлен на основе эпизода подкаста «Экономика на слух» (проект Российской экономической школы). Ведущий — Филипп Стеркин.

НАТО демонстрирует всё более возрастающие неадекватность и агрессивность
Решения Мадридского саммита направлены на расширение военных приготовлений Североатлантического альянса против России.
Состоявшаяся 28–30 июня в Мадриде встреча лидеров стран Североатлантического альянса прошла в атмосфере откровенной русофобии и стала самой агрессивной по своему содержанию за последние тридцать лет. Свидетельством тому – не только заявления и выступления его участников, но и решения саммита. Об их содержании и возможных последствиях рассказал в интервью нашему обозревателю известный политолог и аналитик Владимир Козин, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России, член-корреспондент Академии военных наук.
– Владимир Петрович, Россия больше не «партнёр НАТО», а его враг. Так, во всяком случае, вытекает из решений мадридского саммита…
– Действительно, в новой стратегической концепции НАТО, принятой на этой встрече, Россия в отличие от предыдущих подобных документов, в которых она обозначалась как натовский партнёр, названа «самой значительной и прямой угрозой альянсу». Однако, по сути, ничего неожиданного в этом нет – просто в НАТО, наконец, решили открыто признать действительную цель своего существования.
Ведь после того как не стало Организации Варшавского договора и Советского Союза, для противостояния которому и был создан Североатлантический альянс, необходимость в НАТО, казалось бы, исчезла. Но коллективный Запад во главе с США решил сохранить военно-политический блок и его нацеленность против нашей страны. Причём, не желая открыто говорить об этом, стал вести речь о необходимости развивать стратегическое партнёрство с Россией в таких сферах, как контроль над вооружениями, борьба с терроризмом, наркотрафиком и пиратством. При этом продолжал активно приближаться к российским границам, вовлекая в свои ряды всё новые страны, осваивая в военном плане их территорию, размещая на ней самые современные виды вооружений и военной техники.
И когда в конце прошлого года Россия заявила, что больше не может верить голословным заявлениям НАТО, и потребовала юридически обязывающих гарантий безопасности, в альянсе решили больше не скрывать своих истинных намерений. Инициировав и до предела обострив конфликт на Украине, коллективный Запад открыто взял курс на конфронтацию с Российской Федерацией.
При этом, объявляя Россию своим противником, НАТО в новой стратегической концепции бездоказательно обвиняет нашу страну в дестабилизации государств, расположенных к востоку и югу от территории стран – членов НАТО. В том, что «усиление военного присутствия РФ в районах Балтийского, Чёрного и Средиземного морей и военная интеграция с Белоруссией угрожает безопасности и интересам альянса».
– Не трудно догадаться, что для противостояния этой «угрозе» НАТО намерена и дальше наращивать свою военную мощь и придвигать её как можно плотнее к российским границам…
– Совершенно верно. О конкретных мерах в этом плане идёт речь как в стратегической концепции альянса, состоящей из 49 пунктов и рассчитанной на ближайшие десять лет, так и в итоговой декларации, включающей 22 пункта. Причём эти меры охватывают практически все сферы военного противостояния. В частности, подтверждено стремление совершенствовать «чикагскую триаду», то есть постоянно действующий комбинированный механизм в виде тесно взаимодействующих друг с другом в режиме реального времени ракетно-ядерных сил, противоракетных систем и сил общего назначения.
НАТО останется, как подчёркивается в документе, ядерным альянсом до тех пор, пока на планете сохраняется ядерное оружие. При этом подтверждена приверженность стратегии ядерного сдерживания, которая не исключает нанесения первого ядерного удара.
Остаются в силе двусторонние соглашения «о совместных ядерных миссиях» («о разделении ядерной ответственности»), заключённые между Вашингтоном и неядерными странами – членами альянса. Такие договорённости предоставляют американской стороне право размещать её ядерное оружие на территории пяти неядерных государств союза и проводить учения с условным применением такого оружия воздушного базирования с гораздо большим количеством натовских союзников, что нарушает положения международного Договора о нераспространении ядерного оружия. Стратегические наступательные ядерные вооружения будут по-прежнему обеспечивать ядерный зонтик всем союзникам по альянсу.
Применительно к космосу и киберпространству поставлена задача обеспечить «беспрепятственный доступ» к обеим средам, причём с оговоркой: на них будет распространено положение статьи пятой Вашингтонского договора о создании НАТО, которая предусматривает коллективную оборону по принципу «один за всех и все за одного». Решено создать и применять «виртуальный киберпотенциал быстрого реагирования».
Подчёркнута необходимость усовершенствования систем ПВО и ПРО. Будет достроена операционная база ПРО США в Польше, которая дополнит аналогичную структуру, уже поставленную на боевое дежурство в Румынии. И есть основания полагать, что и та и другая структуры будут иметь комбинированный характер, то есть будут использовать не только оборонительные системы «противоракетного щита», но и наступательные виды вооружений в виде крылатых ракет. На два боевых корабля – с четырёх до шести – будет увеличен состав группировки ВМС США с боевой информационно-управляющей системой «Иджис». Эти эсминцы УРО, способные решать задачи ПРО, базируются на военно-морской базе Рота на юге Испании.
Саммит поддержал первоначальные предложения стран – членов альянса относительно «новой модели сил» НАТО, которые укрепят и модернизируют структуру вооружённых сил блока и обеспечат ресурсами его «военные планы нового поколения». Такая «модель», которая будет введена в действие в следующем году, предусматривает развёртывание стотысячной группировки вооружённых сил альянса в течение 10 дней, а пятисоттысячной – в переделах 30–180 дней.
В частности, в Европе для этих целей будет увеличено количество военных объектов для предварительного складирования военной техники и боеприпасов, а также ГСМ.
Планируется увеличить силы быстрого развёртывания Североатлантического альянса с 40 тысяч человек до 300 тысяч. При этом надо иметь в виду, что на Европейском континенте уже находятся сто тысяч американских военнослужащих.
– И их численность ещё больше возрастёт. Как и активность. «Мы собираемся активизироваться. Мы активизируемся», – заявил на саммите президент США Джо Байден.
– По его словам, США будут наращивать свои силы на всём континенте, начиная с обеспечения постоянного присутствия в Польше. Оно будет включать постоянное передовое командование 5-го корпуса, командование армейского гарнизона и батальон полевой поддержки. В свою очередь в Пентагоне отметили, что это «первые постоянные силы США на восточном фланге НАТО», которые будут сопровождаться постоянной поддержкой ротационных сил в Польше, в том числе «боевой группы бронетанковой бригады, подразделения боевой авиационной бригады». США направляют две дополнительные эскадрильи истребителей F-35 в Великобританию, дополнительные средства противоракетной и противовоздушной обороны и другие подразделения – в Германию, Румынию и Италию.
Следуя примеру своего лидера, страны – члены НАТО также обязались развернуть «дополнительные мощные боеготовые силы на местах, наращиваемые за счёт существующих боевых групп до формирований уровня бригады там, где и когда возникнет необходимость, на основе убедительных быстродоступных подкреплений, заблаговременно размещённой техники и усовершенствованной системы командования и управления».
В Восточной Европе у границ с Белоруссией и Россией, «там, где и когда возникнет необходимость», вместо батальонных боевых групп появятся бригадные боевые группы. Возрастёт количество тактических истребителей «двойного назначения», то есть способных нести на борту не только обычные, но и ядерные авиабомбы.
Все они принимают участие в постоянно действующей операции ВВС НАТО «Балтийское воздушное патрулирование», которая проводится с 2004 года в небе Латвии, Литвы, Польши и Эстонии. Усилится авиационный парк истребителей НАТО, задействованных в рамках другой операции аналогичной функциональной направленности, – операции «Балканское воздушное патрулирование», регулярно проводимой в воздушном пространстве Болгарии и Румынии, в том числе за счёт приобретения американских F-35, способных нести ядерное оружие.
Имеющими стратегическое значение объявлены Западные Балканы и район Чёрного моря.
– И, естественно, Украина?
– Нет необходимости особо подчёркивать, что Украина заняла значительное место на саммите НАТО. Ведь именно она стала главным тараном объединённого Запада против России. Но, несмотря на огромную военную помощь альянса, этот таран продолжает всё более «съёживаться». И это вызывает серьёзную озабоченность у лидеров натовских стран. На пресс-конференции в Мадриде премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что западные страны должны работать сообща, чтобы «Украина выиграла войну».
А посему Джо Байден объявил об очередном, двенадцатом по счёту, транше поставок Киеву новой партии тяжёлых видов вооружений и военной техники на сумму более чем 800 млн долларов. Глава французского государства также заявил о дополнительной военной поддержке Украины.
Обращает на себя внимание появление в стратегической концепции 2022 года термина «оперативная совместимость», которым будут руководствоваться вооружённые силы НАТО и Украины в своих взаимоотношениях. Такой термин уже давно используется в основополагающих документах альянса как выражение, под которым понимается слаженное и документально описанное в деталях оперативное взаимодействие сил и средств стран – членов НАТО, а также их командно-штабных структур в учебной и боевой обстановке.
Означает ли это, что, официально не вступая в альянс в настоящее время, Украина фактически будет являться так называемым привилегированным партнёром блока и поддерживать с ним тесные военно-политические и военно-технические связи, а также постепенно перейдёт на натовские системы вооружений и на военные наставления альянса? Считаю, что означает.
– Североатлантический альянс на саммите фактически увеличился ещё на две страны-члена…
– Лидеры стран НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в Североатлантический альянс. Об этом говорится в распространённой декларации по итогам первого заседания 29 июня 2022 года. Вступление новых стран в альянс должны будут ратифицировать парламенты 30 действующих стран – членов НАТО.
Как известно, против вступления скандинавских стран в военный блок выступала Турция. Но 28 июня Финляндия и Швеция подписали с Турцией меморандум. В нём говорится, что Хельсинки и Стокгольм обязуются выполнить условия Турции – в основном не поддерживать в какой-либо форме Рабочую партию Курдистана и движение Фетхуллаха Гюлена, которые Анкара считает террористическими. В результате Турция не стала препятствовать приёму Швеции и Финляндии в НАТО.
Комментируя решение саммита по этому вопросу, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что присоединение двух стран укрепит общую безопасность Североатлантического блока. При этом он выразил надежду на то, что процесс оформления членства Финляндии и Швеции в НАТО пройдёт быстро, и добавил, что альянс теперь «адаптирует свою систему безопасности в Балтийском море». Как это происходить на практике, покажет время. Однако уже сейчас ясно, что членство в НАТО не укрепит безопасность Швеции и Финляндии, так как будет постоянно втягивать эти страны в военные планы альянса.
– На саммите в числе противников НАТО впервые был назван Китай…
– По сути, да. В стратегической концепции НАТО отмечено, что заявленные амбиции Китая бросают вызов общим интересам, безопасности и ценностям альянса. В концепции также утверждается, что Пекин стремится контролировать ключевые технологические и промышленные секторы, критическую инфраструктуру, стратегические материалы и цепочки поставок. Также НАТО обвинило Китай в расширении своего ядерного арсенала и развитии более сложных средств доставки ядерного оружия без роста прозрачности в этой сфере деятельности.
Участники саммита также высказали обеспокоенность углублением стратегического партнёрства Пекина и Москвы. Исходя из этого, НАТО, как отмечается в документах саммита, рассчитывает повысить свою общую осведомлённость, а также будет стремиться «укрепить готовность и защиту от применяемой КНР тактики принуждения и от его усилий по расколу альянса».
Таким образом, НАТО выходит за рамки первоначального мандата, согласно которому «зоной ответственности» альянса был определён Североатлантический регион, и раздвигает свои границы на Индо-Тихоокеанский регион. Альянс становится ведущим инструментом защиты глобальных интересов коллективного Запада. В этой связи нельзя не заметить, что на саммит были впервые приглашены главы государств и правительств Индо-Тихоокеанского региона: Австралии, Новой Зеландии, Республики Корея и Японии. А в ходе самой встречи не раз заявлялось о необходимости тесного взаимодействия НАТО с этой четвёркой в противодействии неким «общим вызовам безопасности».
КНР резко отреагировала на подобные выпады. НАТО представляет собой «системный вызов миру и стабильности», заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь, комментируя новую стратегическую концепцию альянса. По его словам, «этот документ игнорирует факты, выдаёт чёрное за белое, упорно придерживается неуместного позиционирования системных вызовов Китаю, дискредитирует его внешнюю политику и выступает против его нормального военного развития и политики национальной обороны. Это поощряет конфронтацию полную мышления времен холодной войны и идеологических предрассудков. Китай серьёзно обеспокоен этим и решительно выступает против этого», – заявил китайский дипломат.
Владимир Кузарь, «Красная звезда»

Ещё один фронт против России
Коллективный Запад активно втягивает Молдавию в действия, направленные против нашей страны.
В минувшем июне Молдавия наряду с Украиной получила на саммите Евросоюза в Брюсселе статус кандидата на вступление в ЕС. Причём Молдавия в этом плане обогнала Грузию и Северную Македонию, которые ждут такой статус с 1999 года и 2005 года соответственно. Чем объяснить «успех» Кишинёва, как сегодня развивается ситуация в республике и вокруг неё? На эти и другие вопросы в интервью «Красной звезде» ответил известный политолог Георгий Фёдоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект».
– Георгий Владимирович, с момента подачи заявки на членство в Евросоюзе до получения статуса кандидата обычно проходит несколько лет. Молдавия же подала соответствующую заявку 4 марта нынешнего года и уже стала страной-кандидатом. Чем, на ваш взгляд, можно объяснить столь быстрое принятие Евросоюзом решение на этот счёт?
– Русофобией, которое овладело сегодня коллективным Западом. Именно руководствуясь ею, он спешит вырвать Молдавию от российского влияния и фактически превратить её ещё в один таран против нашей страны. Конечно же, развитие отношений Евросоюза с другими европейскими странами не создаёт риски для России, так как ЕС не является военным блоком. Тем не менее не приходится сомневаться, что в нынешней ситуации западные лидеры будут стремиться использовать Молдавию в интересах усиления противостояния с Россией. Кстати, в Кишиневе уже заявили, что готовы поддержать новые антироссийские санкции, и что к этому республику обязывает полученный статус кандидата на вступление в ЕС.
Напомню также, что в конце февраля этого года парламент Молдавии ввёл чрезвычайное положение сроком на 60 дней в связи с событиями на Украине. На этот период были введены ограничения в отношении телепередач из России. Кроме того, был заблокирован новостной сайт «Sputnik Молдова» и ряд других ресурсов. Генеральная прокуратура страны предупредила о начале расследования в отношении ряда лиц по подозрению в некорректном освещении событий на Украине. А на прошлой неделе в Молдавии вступил в силу закон о запрете трансляции новостных программ из России – документ, который утвердил парламент и подписала президент республики Майя Санду.
Но поддержка санкций это ещё не самый худший вариант втягивания Молдавии в антироссийскую политику коллективного Запада. Нельзя не учитывать, что США, их лидер, создают вокруг России очаги напряжённости и конфликтов, чтобы затягивать в них другие страны по воле их правителей или вопреки ей. Так произошло с Украиной. Сегодня разгорается конфликт с Литвой, а завтра – быть может, и с Молдавией.
Тем более что у неё существует внутренняя территориальная проблема с самопровозглашенной Приднестровской республикой, внешнеполитический вектор которой направлен на приобретение независимости и последующее развитие отношений с Российской Федерацией. И на этом может сыграть Запад, разморозив приднестровский конфликт и создав тем самым ещё один антироссийский фронт.
В этой связи нельзя не заметить, что за несколько дней до объявления о предоставления Молдавии статуса кандидата молдавский парламент ратифицировал соглашение между Кишинёвом и Евросоюзом об оперативной деятельности, осуществляемой миссией Frontex – Европейским агентством пограничной полиции и береговой охраны на территории республики. Миссии Frontex выдали мандат на патрулирование границы Молдавии, на работу в глубине территории республики, на право применять оружие. Отдельно прописана задача по контролю границы Приднестровья и Украины.
В свою очередь побывавший недавно в Молдавии с визитом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС выделит на перевооружение вооружённых сил республики около 40 млн евро. Поставки вооружений пообещала и посетившая Кишинев делегация конгрессменов США. А глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что страны НАТО ведут переговоры о перевооружении её армии.
Заметим также, что молдавские военнослужащие повышают боевую выучку и слаженность в совместных со странами блока учениях. В принятом в начале этого года правительством Молдавии очередном проекте взаимодействия с НАТО на 2022–2023 годы говорится об укреплении боеспособности молдавской армии при содействии альянса.
– А как всё это воспринимается в самой Молдавии, какая там внутриполитическая и экономическая ситуация?
– Прежде всего хотел бы отметить, что сегодня Молдавия – самая бедная страна в Европе. По данным Национального бюро статистики Молдавии, среднегодовая инфляция в мае составила 29,05 процента. Цены на продукты питания выросли на 32,5 процента, непродовольственные товары – на 21,45 процента и услуги, оказываемые населению, – на 35,27 процента. Средняя зарплата там составляет, по-моему, около 100 долларов, из-за чего в Молдавии сохраняется огромная миграция. Люди в качестве гастарбайтеров из года в год массово уезжают на заработки в другие страны, в основном на запад, но в том числе и в Россию.
Оппозиция возложила на правительство и правящую партию «Действие и солидарность» ответственность за такую экономическую ситуацию. Однако нынешние власти не хотят это признавать. Более того, обещают чуть ли не манну небесную в связи с получением статуса кандидата. По словам той же Санду, теперь Молдавия может рассчитывать на привлечение инвестиций и помощь Евросоюза в создании условий развития для бизнеса.
Но, по мнению оппозиции, этими обещаниями власти пытаются ввести народ в заблуждение, отвлечь его внимание от истинных причин создавшегося положения. Так лидер оппозиционной в Молдавии партии «Шор» Илан Шор сравнил статус страны-кандидата в ЕС с красивой, но пустой обёрткой от шоколада. По его словам, европейская экономика сегодня сама вступила в период деградации и упадка, и у неё нет никакого интереса к тому, что сейчас происходит в Молдавии.
Действительно, молдавские фрукты и вино никому не нужны на внутреннем рынке Евросоюза. Там уже избыток итальянских, французских и испанских вин и продуктов. В то же время присоединение Молдавии к антироссийских санкциям только усугубит ситуацию в стране, так как это может порвать последние ниточки, которые пока связывают её с Россией.
По этим причинам в стране растёт убеждение, что политика нынешних молдавских властей не только осложняет экономический кризис, но и создаёт серьёзную угрозу самому государству, и чтобы противостоять этому гражданам Молдавии и оппозиционным партиям необходимо объединиться и обновить политическую элиту. Эта идея стала центральной на акциях протеста, которые на протяжении последнего времени проходят по всей Молдавии.
– Выше вы упомянули о Приднестровье. Хотелось бы подробнее поговорить на эту тему. Тем более что недавно исполнилось 30 лет бандеровской трагедии…
– Действительно, 19 июня исполнилось 30 лет кровавым событиям в Приднестровье, вошедшим в историю как Бандеровская трагедия. Им предшествовал ряд действий молдавских властей, которые вызвали недовольство у многих граждан республики. В частности, парламент Молдавии утвердил государственным языком молдавский, отказав при этом узаконить вторым государственным языком русский, на котором говорило более трети населения. У Румынии были переняты флаг и гимн. Более того правительство провозгласило курс на объединение с Румынией.
Выступая против этих действий, жители левобережья Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население, провозгласили 2 сентября 1990 года непризнанное Приднестровье. Для защиты своих интересов они стали создавать ополченские отряды. А 19 июня 1992 года молдавские военнослужащие вошли в Бандеры, где до этого произошла очередная стычка между молдавской полицией и приднестровскими ополченцами, и на улицах города развернулись кровопролитные бои, приведшие к массовым разрушениям и гибели сотен людей.
Погасить конфликт удалось благодаря решительным действиям 14-й российской армии. В июле того же года в Москве президенты Молдавии и России с участием лидера Тирасполя подписали соглашение о мирном урегулировании, по которому в зону конфликта вошли миротворцы России. С тех пор представители нашей страны поддерживают здесь мир, дав возможность Кишинёву и Тирасполю вести переговоры, которые сначала проходили при посредничестве России, Украины и ОБСЕ, а с 2006 года в качестве наблюдателей к ним присоединились США и ЕС.
Однако в последние годы переговоры из-за позиции Кишинёва практически не ведутся. При этом Майя Санду уже не раз говорила о необходимости вывода российских военнослужащих из Приднестровья и трансформации миротворческой операции с участием российских «голубых касок» в гражданскую миссию под международным мандатом. Однако в Приднестровье категорически отвергают эти предложения, так как считают миротворцев и военнослужащих Оперативной группы российских войск (ОГРВ) гарантами стабильности и безопасности на Днестре.
Тем более что сегодня ситуация вокруг Приднестровья складывается непростая. Как заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев, власти Молдавии делают всё, чтобы создать напряжение между Кишинёвом и Тирасполем, а выбранный ими курс на евроинтеграцию означает полный разрыв с Приднестровьем. В Тирасполе также высказывают обеспокоенность в связи с активизировавшимися процессами милитаризации Молдавии, в том числе возможными поставками Западом летального вооружения. По словам президента ПМР Вадима Красносельского, сказанным им на состоявшейся 27 июня встрече в Тирасполе с послом Великобритании в Молдавии Стивеном Фишером, конфликт в Приднестровье, если в него втянут республику, будет иметь необратимые последствия для безопасности всей Европы.
– Масло в огонь подливают и украинские власти…
– Им явно неймётся. Напомню, что в конце апреля и в мае в Приднестровье состоялась серия терактов. Они начались с обстрела неизвестными из гранатомётов здания министерства государственной безопасности, затем были взорваны антенны одного из крупнейших в регионе радиотелецентров в посёлке Маяк. Нападениям подверглись военные объекты под Тирасполем и Рыбницей, а также расположение приднестровского миротворческого контингента, из гранатомёта была обстреляна территория арсенала в районе села Колбасная.
По оценке приднестровских властей, за этими терактами стоят украинские спецслужбы. И с такой оценкой нельзя не согласиться. Ведь, с одной стороны, украинские диверсионно-разведывательные группы довольно легко проникают на территорию Молдавии, а затем и в ПМР, где могут устраивать теракты. С другой, Киев буквально сразу после антиконституционного переворота в 2014 голу открыто заявил о поддержке Молдовы в её стремлениях ликвидации «Тираспольского пророссийского режима». И, в-третьих, нынешние украинские власти заинтересованы в открытии ещё одного фронта против России.
О расширении взаимодействия Молдавии и Украины в этом плане речь шла на встрече Майи Санду и Владимира Зеленского, которая состоялась 27 июня в Киеве. На пресс-конференции по итогам встречи Санду заверила, что Молдова будет и дальше поддерживать Украину в её действиях, направленных против России. В свою очередь Зеленский пригрозил ударить по Приднестровью в случае «угрозы Киеву». И это не просто слова: Украина сегодня готова воевать на Днестре куда больше, чем власти Молдавии и Румынии.
– Ваш прогноз развития отношений России и Молдавии на ближайшую и отдалённую перспективу?
– Российская Федерация, полагаю, должна более активно сотрудничать с гражданским обществом Молдавии. Такие возможности у нас есть и их надо использовать. После развала Советского Союза в республике, напомню, полыхнул жесточайший национализм. Но молдаване, как и представители других национальностей, насытились им досыта. И хотя он сейчас всячески разжигается Румынией, прорумынскими силами, но, к счастью, масштабного влияния не имеет.
Население республики во многом ориентируется на Россию. Здесь её граждане зарабатывает деньги, имеют влияние, свой бизнес, родственные связи. Этот фактор является определяющим для дальнейшей интеграции двух наших стран. Так что у России и Молдавии в перспективе могут быть очень хорошие потенциальные перспективы для сотрудничества. Но для этого, повторюсь, необходима активная политическая, дипломатическая и иная работа. Надо понять, что приднестровско-молдавский конфликт сам по себе не рассосётся. Есть силы, которые попытаются его раскачать вновь. И к такому повороту событий мы должны быть готовы.
Олег Фаличев, «Красная звезда»

Акции в США по сценарию 2008 года?
приватизация прибылей и национализация убытков
Сергей Ануреев
За первое полугодие 2022 года рыночная стоимость акций США в среднем упала на 20%, откатившись на позиции начала 2021 года. Инвесторы также потеряли в покупательной способности денег из-за инфляции, официально дошедшей почти до 9%. Пятерка IT-гигантов, определяющая треть капитализации американского рынка, лишилась от четверти до половины стоимости из-за сомнений в реалистичности их прибылей.
Рынок акций является первейшим мерилом экономических успехов США, более важным, чем цены на нефть для российской экономики. Падение или даже неуверенный рост индексов акций являются фатальными для оценок результатов работы конкретных президентов. Трамп «спалил» на поддержку экономики 3 трлн долл. за счёт рекордного бюджетного дефицита 2020 года, около 80% которых оказалось на фондовом рынке, но так и не смог переизбраться на второй срок. Буш-старший попал в ловушку индексов акций и также не смог переизбраться на второй срок, даже несмотря на успешное для США окончание Холодной войны. Теперь эта же проблема стоит перед Байденом.
Американский индекс акций S&P500 (пятисот крупнейших компаний) достигал своего исторического максимума почти на уровне 4800 аккурат на годовую отчетную дату на начало 2022 года, чтобы профессиональные участники рынка и рядовые налогоплательщики зафиксировали хорошие результаты по итогам 2021 года, а в последний день июня 2022 года индекс опустился ниже 3800 пунктов. В своем снижении индекс прошёл несколько волн, включающих локальные минимумы в середине февраля, марта и мая и небольшие восстановления в конце марта и мая, приводившие к тому, что массы инвесторов терялись относительно среднесрочного тренда рынка акций.
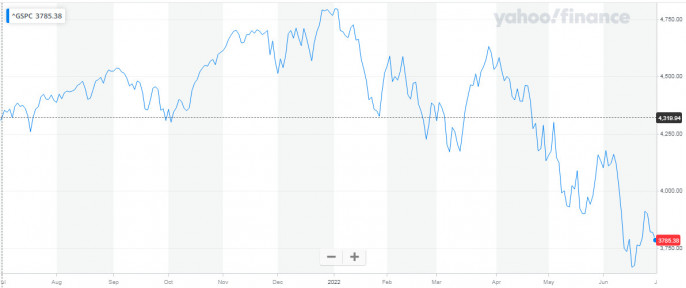
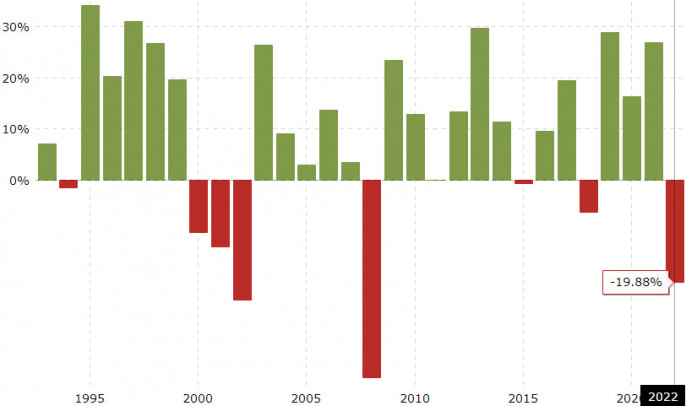
Тренд 2022 года пока очень похож на тренд 2008 года. В тот год Глобального финансового кризиса рынок акций также испытал несколько волн коррекций. Тогда были локальные падения в середине января и марта, с восстановлениями на месячные отчетные даны конца февраля, марта и мая. В динамике индекса в III квартале 2008 года продолжались волны и тренд на понижение I и II кварталов, а затем были катастрофические октябрь и ноябрь. В целом за 2008 год индекс акций S&P500 потерял 39%.
Формально наиболее острая, октябрьская фаза кризиса 2008 года связана с банкротством одного из крупнейших американских банков Lehman Brothers, крупнейшей страховой компанией AIG, а также ряда финансовых институтов поменьше. В реальности же, спустя три квартала невнятной динамики акций, всё больше и больше инвесторов распродавали акции из своих портфелей. Срабатывал самовоспроизводящийся феномен распродаж акций и падения котировок, с кульминацией обвала акций в октябре 2008 года.
В 2022 году инвесторы, настроенные всё более и более пессимистично, распродают акции, тем самым провоцируя падение котировок и новые распродажи. Финансовая система пыталась сопротивляться падению, временно подтягивая котировки вверх, особенно на месячные отчетные даты. Но многие инвесторы помнят 2008 год и также сравнивают динамику акций за тот и за текущий годы, боясь худшего именно предстоящей осенью. Хотя финансовая система знает эти страхи, но большой вопрос, сможет ли она их обуздать или будет вынуждена возглавить падение акций с целью что-то заработать на этом падении.
США не смогут по российскому сценарию ввести валютный контроль или ограничить выдачу долларовых вкладов сверх определенной суммы. В российском законодательстве такие нормы были прописаны ещё с начала 2000-х годов, по результатам лихих 1990-х, просто они были спящими, а сейчас их быстро активировали. Для США введение валютного контроля немыслимо, поскольку свободная конвертация доллара и самый большой рынок акций в мире являются национальной гордостью и основой экономики больших торговых и долговых диспропорций. Но валютный контроль вполне могут попытаться заменить политическими санкциями и заморозкой активов, с гипотетическим непубличным тиражированием российского опыта на другие страны.
Фундаментально, рынок акций США находится в состоянии колоссального пузыря, когда котировки акций слишком сильно оторвались от прибылей эмитентов. Паритет между индексом акций S&P500 и прибылями корпораций был в 2014 году, который исторически считается годом полного восстановления после кризиса 2008 года. Показатели S&P500 в единицах пунктов и прибыли в миллиардах долларов отличались в 2014 году незначительно и были в среднем 1800 (пунктов или миллиардов). К концу июня 2022 года прибыли корпораций находятся на уровне 2800 млрд долл., а индекс акций – 3800, даже с учетом внушительного падения первого полугодия 2022 года. Для сравнения: глубина падения рынка акций в ковидном II квартале 2020 года была аккурат до прогнозной прибыли за III квартал 2020 года.
Исходя из исторических сопоставлений индекса акций S&P500 и прибылей корпораций, особенно в кризисные 2008 и 2020 годы, можно прогнозировать, что до полного схлопывания пузыря на рынке акций США фондовый рынок должен упасть ещё на вторые 20% до уровня 2800 пунктов.
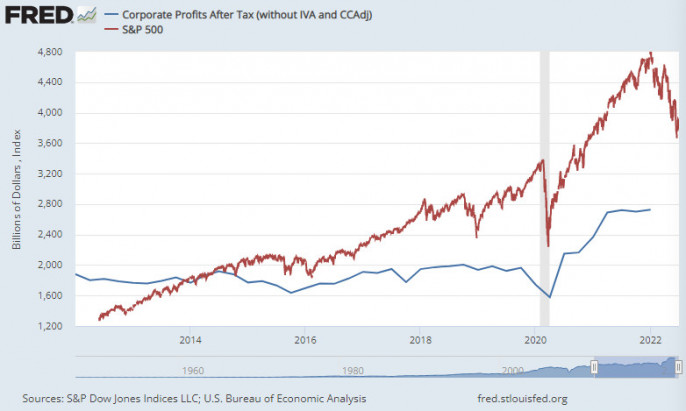
Хотя многие корпорации рассчитывают нарастить прибыль на фоне скачка инфляции и тем самым подпереть индекс от дальнейшего большого падения. Скачок прибыли уже произошёл в первом инфляционном 2021 году с уровня примерно 2150 до уровня примерно 2750 млрд долл. Фронтальная инфляция гипотетически означает общий рост цен, включая рост выручки и прибыли. Спустя несколько лет открытой инфляции зарплаты начинают индексировать и также возрастают налоговые доходы правительства, и это позволит сократить относительные размеры долга и начать больше тратить.
Если брать в расчёт официальную заниженную потребительскую инфляцию 9%, то падение S&P500 может остановиться на 3100 пунктов, повторив за год 40%-е падение 2008 года. Если же основываться на более реалистичной промышленной инфляции в 19%, то падение S&P500 может остановиться на отметке 3350 пунктов, то есть еще упадет на относительно умеренные 9% к уже состоявшемуся с начала года падению.
Получается интересная коллизия с обвинениями в адрес России и Путина. Байден прямо обвинял Путина в удвоении цен на бензин на американских заправках и в рекордной за последние 40 лет американской инфляции. Хотя российская нефть занимала всего 3% в американском энергетическом балансе, а товарооборот между США и Россией еще меньше. «Путинская» же (именно в кавычках) инфляция поддержит показатели крупнейших американских корпораций и отведёт США от жёсткого сценария финансового кризиса, поскольку последствия кризисов 1929 и 2088 годов усугублялись длительной дефляцией, особенно сильной в 1929-1933 годах.
В краткосрочной же перспективе цены на разные товары растут по-разному, быстрее на товары первой необходимости и медленнее на товары длительного пользования, быстрее на монополистические товары и медленнее на конкурентные. Поэтому в краткосрочной перспективе в США будет расти расслоение общества по линии выигрывающих от инфляции и несущих большее бремя инфляции. Такое расслоение будет как в части крупнейших корпораций (акции некоторых находятся в зелёной, плюсовой зоне), так и масс рядовых американских работников и потребителей.

Долгосрочную инфляцию дополняет проблематика потенциально растущих процентных ставок. В частности, доходность американских десятилетних облигаций повысилась с примерно 1% в ковидном 2020 году до примерно 3% в июне этого года. На растущую доходность облигаций вынужденно реагирует Федеральный резерв США, повышая свой «барометр» процентной ставки. Пока инфляция значительно больше номинальных процентных ставок, это делает реальные процентные ставки сильно отрицательными с поправкой на инфляцию и сглаживает долговую проблему. Но неизвестно, сколько удастся придерживать процентные ставки сильно отрицательными без бегства инвесторов.
Интересным является вопрос реалистичности прибылей крупнейших американских корпораций как мерила потенциальной глубины падения американской национальной гордости. Каждый крупный кризис высвечивает много бухгалтерских злоупотреблений. Крупнейшей проблемой являются нематериальные активы (intangible assets – бренды, товарные знаки, патенты и т.п.). Крупнейшие корпорации как бы инвестируют в нематериальные активы, вместо списания в расходы многих видов затрат. Пятерка крупнейших американских IT-гигантов при наличии материальных активов на 4 трлн долл. нарисовала в своей отчетности нематериальные активы на 21 трлн долл. еще в 2018 году (в размере годового ВВП того года).
Богатство инвесторов в акциях только пятерки IT-гигантов, соответствующее годовому ВВП США, во многом является дутым, никак не соответствующим даже практикам самих США 1970-1980-х годов. Акции пяти этих компаний имеют наибольший вес в индексе S&P500 и падают заметно сильнее индекса в целом, что показывает озабоченность рынка чрезмерным рисованием таких активов.
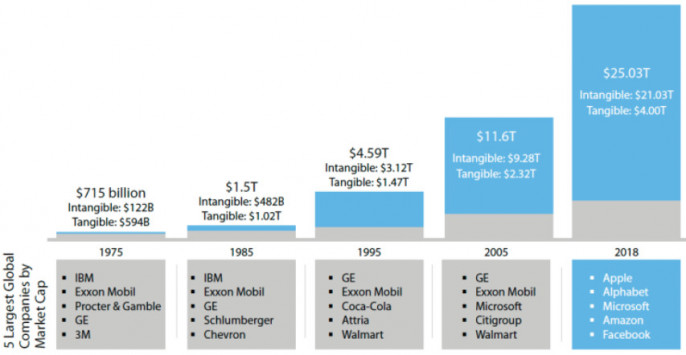
Байдену и американским пропагандистам даже сейчас не вполне удается дурачить своих инвесторов и избирателей «путинским» происхождением инфляции и проблем на рынке акций. Будут нарастать поиски внутриамериканских виновных в чрезмерном пузыре акций и последствиях его схлопывания, а также в неравномерном распределении между разными группами инвесторов и избирателей соответствующих выгод и проблем.
Буш-младший в последний свой президентский 2008 год превращался не просто в «хромую утку», а в публичного изгоя с малоработоспособной администрацией, хотя имел очень впечатляющие электоральные результаты на выборах 2004 года. Вспомним также американскую пословицу про «приватизацию прибылей и национализацию убытков», сформулированную по итогам кризиса 2008 года, точнее, огромной бюджетной поддержки экономики, фактически за счёт затягивания поясов рядовых американцев в 2010-е годы.
В заключение можно напомнить о двух прошлых публикациях автора этих строк в газете "Завтра" и на канале "День" с предсказанием падения американских акций. Статья "Поиск крайних: пузырь акций и внешняя политика США" вышла 18 декабря 2021 года, то есть за полторы недели до исторического пика S&P500 с последующим полугодовым падением. Ролик "Пузырь акций скоро лопнет" на канале "День" вышел 17 июня 2021 года при значении индекса S&P500 на уровне примерно 4200 пунктов, с демонстрацией последней возможности для инвесторов распродать американские акции осенью 2021 года на фоне августовской и октябрьской локальных волн роста.
Автор - доктор экономических наук

Сбалансированная зависимость
«Современный Запад как регион – побочный продукт истории»: Гленн Дисэн о геоэкономических регионах в многополярном мире
ПОЛ ЛУКМАН
Международный обозреватель Geopolitiek in context.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:
Лукман П. Сбалансированная зависимость // Россия в глобальной политике. 2022. Т. 20. No. 4. С. 187-189.
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ
Europe as the Western Peninsula of Greater Eurasia: Geoeconomic Regions in a Multipolar World. By Glenn Diesen, Rowman & Littlefield. 252 p. ISBN 978-1-5381-6176-0 (hardback), 978-1-5381-6177-7 (eBook). («Европа как западный полуостров Большой Евразии: геоэкономические регионы в многополярном мире»)
Европа привыкла полагаться на США, но это больше не обеспечивает её устойчивость. Гленн Дисэн, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, предлагает альтернативу.
Если российско-китайское партнёрство обретёт достаточную геоэкономическую мощь, оно интегрирует Европу и Азию в евразийский суперконтинент. При этом Евросоюз диверсифицирует партнёрские отношения и избежит чрезмерной зависимости от одного игрока или региона.
В декабре 2017 г., через год после референдума о выходе из Европейского союза в Великобритании, брюссельское подразделение испанского исследовательского центра Королевский институт Элькано (Real Instituto Elcano) опубликовало доклад, в котором были представлены четыре сценария будущего Европы с точки зрения взаимодействия между странами – членами ЕС и отношений с великими державами – США, Китаем и Россией. Главный вопрос заключался в том, останется ли Европа в геополитическом подчинении или превратится в независимого игрока среди великих держав. Четыре эксперта Elcano представили своё видение развития событий.
Первый сценарий предполагал, что Европа станет жертвой внешних акторов и внутреннего соперничества. Особые отношения с США уйдут в прошлое, НАТО умрёт, а ЕС потеряет актуальность. По второму сценарию – профессора Брюссельского свободного университета и старшего научного сотрудника Института Эгмонта Александра Маттелэра – Евросоюз будет руководить континентом и играть значимую роль в определении мировых событий. В третьем сценарии Запад переживает возрождение. Трансатлантическая архитектура во главе с Соединёнными Штатами и Великобританией определяет ход событий в Европе и то, как она позиционирует себя в мире. Наконец, четвёртый сценарий показывает, как инициатива Китая «Один пояс – один путь» объединяет Европу в экономическом, политическом и военно-стратегическом отношении.
В своей книге Гленн Дисэн рассматривает интересную альтернативу для Европы. Он отталкивается от своей теории баланса зависимости: интеграционные проекты несут устойчивые взаимовыгодные экономические блага лишь при «балансе зависимости». В то время как реализм — одна из школ мысли в области международных отношений — предполагает, что для мира необходимо равновесие сил и стимулы для поддержания статус-кво, с точки зрения геоэкономического эквивалента реализма мир требует баланса зависимости. Государство, обладающее стратегическими отраслями промышленности, транспортными коридорами и финансовыми инструментами, может использовать геоэкономическую мощь для достижения гегемонии или укрепления суверенитета. Геоэкономические регионы, имеющие эти три опоры, приобретают коллективную мощь.
Дисэн отмечает, что современный Запад как регион – побочный продукт истории. После разрушительной Второй мировой войны США смогли укрепить главенство над Западной Европой и Восточной Азией благодаря гарантиям безопасности и геоэкономическому контролю над стратегическими отраслями, транспортными коридорами и финансовыми инструментами. Конфронтация с коммунистами смягчила геоэкономическое соперничество между Америкой и зависимыми союзниками. Однако сегодня Европа столкнулась с дилеммой: в многополярном мире чрезмерно полагаться на Вашингтон уже неразумно. Соединённые Штаты будут требовать большей геоэкономической лояльности в соперничестве с Китаем и Россией в ущерб национальным интересам отдельных государств.
После теоретической части Дисэн переходит к анализу событий в ЕС и Евразии. Мир изменился геополитически и геоэкономически. Китай закрывает однополярную эпоху и готовится к геоэкономическому лидерству. Совместно с Россией он пытается интегрировать Европу и Азию в единый евразийский геоэкономический регион. Идеи Дисэна противоречат традиционной для Запада точке зрения. В отличие от четвёртого сценария Elcano, где Китай с помощью политики «разделяй и властвуй» начинает играть центральную роль в Европе, а государства ЕС всё больше от него зависят, в картине, предложенной Дисэном, нет доминирующей экономической державы. Большая Евразия коллективно приобретает глобальную экономическую мощь как геоэкономический регион.
В книге Дисэна стратегическое партнёрство России и Китая становится основой Большой Евразии. Если это партнёрство обретёт достаточную геоэкономическую мощь, то сможет интегрировать Европу и Азию в евразийский суперконтинент.
При таком сценарии Европа будет разрываться между двумя геоэкономическими регионами: с одной стороны, как субрегион трансатлантического региона, а с другой – как часть Большой Евразии. Чтобы выжить как геоэкономическому региону в многополярном мире, Евросоюзу – географически западному полуострову будущей Большой Евразии – нужно укреплять стратегическую автономность и диверсифицировать партнёрские отношения. Тогда удастся избежать избыточной зависимости от одного государства или региона.
Регион с интегрированной экономикой, обладающий современным вооружением, может быстро перейти к соперничеству экономическими средствами. Евросоюз уже предпринял шаги, чтобы отделить безопасность от геоэкономики. Большинство членов ЕС присоединились к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций, а некоторые – к инициативе Китая «Один пояс — один путь». Партнёрство с США и одновременно независимая политика в отношении России и Китая не мешают устойчивой стратегической автономности Европы. Если следовать примеру Индии и Турции, лучший подход для европейцев – стремиться к независимой роли между трансатлантическим партнёрством и Большой Евразией. При сценарии, в котором европейская армия будет обеспечивать европейскую безопасность, Евросоюз поубавит спесь американцев с их гарантиями безопасности и геоэкономической мощью.
Дисэн предлагает Европе новые возможности в меняющемся мировом порядке. Европейскую армию, о которой он пишет, возможно, лучше всего ограничить оборонительными функциями. Она не должна иметь ни желания, ни возможности заменить НАТО. В политическом ландшафте, описанном Дисэном, трансатлантический альянс постепенно утратит актуальность, если только трения между крупными державами не приведут к вооружённому конфликту. Концепция Дисэна предполагает, что Брюссель обеспечит единство членов Европейского союза, а Запад умерит разъедающую пропаганду против Китая и России. Геополитика – это не о благородных идеалах демократии, правах человека и «нашем образе жизни», здесь речь идёт о национальных интересах. В случае Европы исключительное западное партнёрство больше им не отвечает.

«Мировая закулиса»: истоки концепции
Главный отличительный признак «мировой закулисы» – антироссийская направленность
КОНСТАНТИН ДУШЕНКО
Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела культурологии Института научной информации по общественным наукам РАН.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:
Душенко К.В. «Мировая закулиса»: истоки концепции // Россия в глобальной политике. 2022. Т. 20. No. 4. С. 178-186.
ОБЗОР
«Мировая закулиса» – одно из ключевых понятий политического языка постсоветской России. Нередко оно рассматривается как синоним «мирового правительства» (global state, world state). Однако в русскоязычном дискурсе эти понятия далеко не равнозначны.
Концепция «мирового правительства» предполагает существование наднациональной правящей элиты, прежде всего финансовой, преследующей цели, не совпадающие с целями национальных правительств. Эта концепция возникла в США в кругу правых антиглобалистов, хотя ныне разделяется и частью левых антиглобалистов.
Между тем главный отличительный признак «мировой закулисы», помимо её тайного характера, – антироссийская направленность, вплоть до стремления расчленить Россию. Это понятие имеет вполне определённого автора. Концепция антироссийской «мировой закулисы» была сформулирована в послевоенной публицистике эмигрантского философа Ивана Александровича Ильина (1882-1954).
Происхождение
Неологизм «закулиса» возник из более раннего «закулисье», которое, в свою очередь, восходит к обороту «за кулисами». Ранний пример употребления этого оборота в переносном значении встречается в очерке Фаддея Булгарина «Философический взгляд за кулисы» (1825). Здесь развёрнуто уподобление мира (человеческого общества) театру, обычное со времён античности: «Загляните за кулисы большого света <…>»; «За кулисами большого света я постигнул великую тайну самых тонких искателей и интригантов»[1].
Слово «закулисье», вошедшее в обиход на рубеже XIX-XX веков, чаще всего относилось к закулисной жизни театра, но употреблялось и в более широком контексте, например: «…Люди, более знающие закулисье [военного] штаба района, разъяснили дело просто»[2]. Единственный известный нам случай употребления слова «закулиса» до Ильина встречается в дневнике Зинаиды Гиппиус за январь-май 1933 года. Здесь речь идёт о «закулисье» эмигрантской литературной жизни и Ходасевиче как одном из его «режиссёров»: «Зная все “за-кулисы”, зная, что весь Ход<асевич> – “за-кулиса” <…>»[3]. Само написание «за-кулиса» указывает на то, что слово употреблено в качестве окказионализма.
В 1948-1954 гг. Ильин написал серию программных статей, адресованных членам Русского Обще-Воинского Союза (РОВС) – крупнейшей эмигрантской монархической организации. Они печатались в виде отдельных бюллетеней под заглавием «Еженедельный листок» с подзаголовком: «Только для ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ». Автор, живший в Швейцарии, отправлял свои статьи в Париж генералу Алексею фон Лампе, заместителю председателя РОВС Алексея Архангельского. Ряд статей обсуждался с фон Лампе по переписке, а затем они посылались в Брюссель Архангельскому, после чего распространялись среди членов РОВС без подписи автора. Сборник этих статей – двухтомник «Наши задачи» – генерал фон Лампе опубликовал после смерти Ильина[4]. Именно здесь появился политический термин «(мировая) закулиса». Ильин использовал его многократно, причём в двух существенно различных – хотя отчасти пересекающихся – значениях.
Два значения термина
В первом значении «мировая закулиса» – тайные пособники коммунизма и СССР. В статье «Мировой самообман» (1949) читаем: «…Умственная лень, застарелая предубеждённость против России, экономическая и торговая заинтересованность, полное незнание русской истории и тайная прокоммунистическая пропаганда, ведшаяся повсюду (и коммунистами и полуреволюционной “закулисой”), затмили политическую дальнозоркость, возобладали над трезвым разумением и привели великие и малые державы к целому ряду грубых (политических, экономических и стратегических) ошибок». «Закулиса» – это «прокоммунистическая печать и полуреволюционные закулисные организации», которые делают всё возможное, чтобы «отвести влиятельным политикам глаза». К подобным организациям Ильин относит «так называемый Комитет борьбы за демократию (“закулиса”!)[5]». Упомянутого здесь «Комитета» в реальности не существовало; вероятно, имелся в виду Союз борьбы за освобождение народов России, созданный в 1947 г. в Мюнхене. Эта организация, считавшая себя преемницей власовского движения, обращалась к наследию Февральской революции и выступала за демократическую федеративную Россию.
После смерти Сталина, когда на повестке дня встал вопрос о «мирном сосуществовании», Ильин резко осудил этот лозунг, увидев в нём продолжение пагубного внешнеполитического курса Франклина Рузвельта. «Рузвельт <…> выслушивал кое-каких, подобранных для этого из-за кулисы, советников. <…> …“Кулиса”, помогавшая ему “информацией”, “освещением” и тому подобными способами, втайне сочувствовала русской революции <…>» («О мирном рядомжительстве», 1954)[6]. «…Мирное рядомжительство <…> состоит прежде всего в наводнении свободных стран коммунистической агентурой: эти агенты разведывают, пропагандируют, подкупают, <…> организуют рабочих, соблазняют детей, невежественную молодёжь и женщин, усиливают брожение в колониях, пробираются в буржуазную печать, связываются с “салонными” коммунистами <…>, нанимают беспринципных “учёных” и всегда состоят в тайном контакте с деятелями “мировой закулисы”»[7]. Коммунизм, согласно Ильину, выработал особые формы «неуловимости», а именно: «криптокоммунизм», «салонный коммунизм» и «левую социал-демократию»; если же попытаться вывести их на чистую воду, «закулиса начинает самую отчаянную оборону “свободы”, “демократии” <…>»[8].
«Злобная клевета “мировой закулисы”» обрушилась на «спасителя Испании» Франко. Антикоммуниста Макартура устранили руками Трумэна, а остальные «боятся остаться в меньшинстве на выборах; боятся не угодить закулисе». Антикоммунистическую чистку сенатора Маккартни «мировая закулиса» встретила «потоком ненависти, озлобленной клеветы и личной пачкотни <…>, который разлился по всей “демократической” прессе Европы»[9].
Во втором значении «мировая закулиса» в «Наших задачах» – правящие круги Запада, относящиеся к России со страхом и ненавистью. Ильин, следуя в русле неославянофильства, цитируя Достоевского и Данилевского, рассуждает о коренной чуждости России и Запада (притом что «наша душа открыта для западной культуры») («Без карьеры», 1948)[10]. Речь идёт уже не о пособниках коммунизма, но об исконной русофобии Запада. Нерасчленённой православной России враждебны «народы, государства, правительства, церковные центры, закулисные организации и отдельные люди»[11]. Исключение делается (пока что) только для Соединённых Штатов, которые «инстинктивно склонны предпочесть единую национальную Россию как неопасного им антипода и крупного, лояльного и платёжеспособного покупателя» («Против России», 1948)[12].
В статье «О расчленителях России» (1949) Ильин выделяет пять категорий недоброжелателей России:
«противники – в силу слабости, опасения и неосведомлённости» (соседние малые государства);
«недоброхоты – по морскому и торговому соперничеству»;
«враги – из зависти, жадности и властолюбия» (главным таким врагом в «Наших задачах» выступает Германия с её, как полагает Ильин, извечными и неустранимыми завоевательными притязаниями);
«недруги – из [религиозного] фанатизма и церковного властолюбия», т.е. католический мир;
«зложелатели – закулисные, идущие “тихой сапой” и наиболее из всех сочувствующие советским коммунистам, как своему (“несколько пересаливающему”!) авангарду»[13].
Развёрнутый прогноз действий «мировой закулисы» после грядущего падения большевизма содержался в статье «Что сулит миру расчленение России» (1950), занявшей целых пять выпусков «Еженедельного листка». Здесь «мировая закулиса, решившая расчленить Россию», по сути, охватывает весь Запад, не исключая «американских держав»: «…Державы всего мира (европейские, азиатские и американские) <…> будут соперничать друг с другом, добиваясь преобладания и “опорных пунктов”; мало того – выступят империалистические соседи, которые будут покушаться на прямое или скрытое “аннексирование” неустроенных и незащищённых новообразований (Германия двинется на Украину и Прибалтику, Англия покусится на Кавказ и на Среднюю Азию, Япония – на дальневосточные берега и т.д.)»[14]. Нации Запада видят в едином русском государстве «плотину для их торгового, языкового и завоевательного распространения», а потому «собираются разделить всеединый российский “веник” на прутики, переломать эти прутики поодиночке и разжечь ими меркнущий огонь своей цивилизации. Им надо расчленить Россию, чтобы провести её через западное уравнение и развязание и тем погубить её: план ненависти и властолюбия»; «мировая закулиса хоронит единую национальную Россию»[15].
Временами Запад у Ильина оказывается едва ли не столь же враждебен христианско-консервативным ценностям, как коммунизм: «Мы увидели истинное лицо Запада: сначала в советском коммунизме, потом в европейском социализме и, наконец, в том, что называется “свободным строем”, в действительности руководимым из-за кулисы» («Русскому народу необходимо духовное обновление», 1952)[16]. «Общественное мнение Запада, руководимое мировою закулисою», неспособно «отличать Россию от Советии и русских людей от коммунистов» («Надежды на иностранцев», 1952)[17]. Как видим, и здесь «закулиса» – не пособники коммунизма, а некие исконные антирусские силы.
Наконец, в статье «Почему сокрушился в России монархический строй?» (1952) «закулиса» оказывается синонимом течений, вдохновляемых идеями Великой французской революции, чем-то вроде двухвекового республиканско-масонского заговора: «Монархическое правосознание <…> было затемнено или вытеснено в широких кругах русской интеллигенции, отчасти и русского чиновничества и даже русского генералитета – анархо-демократическими иллюзиями и республиканским образом мыслей, насаждавшимися и распространявшимися мировою закулисою с самой французской революции <…>»[18].
«Мировая закулиса», по Ильину, пыталась «связать государственную волю» русского государя («О Государе», 1954), а в 1919 г. осуществила «операцию расчленения Европы». Ныне «снова идеи “свободы”, “демократии” и “прогресса” связываются с планами расчленения государств», только речь идёт уже о России («Германия возрождается», 1953)[19].
Новая жизнь понятия
Цикл «Наши задачи», сколько можно судить, не стал предметом оживлённого интереса в эмигрантской среде и упоминался преимущественно историками эмиграции. Идея посткоммунистической «национальной диктатуры», которая займётся построением православно-корпоративного государства, во второй половине XX в. должна была восприниматься как архаическая. Конспирологический по своей сути термин «мировая закулиса» вплоть до конца 1980-х гг. не был востребован ни в эмигрантской публицистике, ни в публицистике правого крыла самиздата. Его обошёл вниманием даже Игорь Шафаревич, памфлет которого «Русофобия» (1982) близко касался тех же сюжетов, что и послевоенная публицистика Ильина.
Положение изменилось лишь с появлением признаков распада СССР. Статья «Что сулит миру расчленение России» была опубликована в «Литературной России» 12 мая 1990 г., а затем в декабрьском номере журнала «Кубань» за тот же год. В 1992 г. в Москве вышел небольшой сборник статей Ильина под тем же заглавием тиражом 200 тыс. экземпляров. Год спустя цикл «Наши задачи» был полностью опубликован в России.
С этого времени «мировая закулиса» становится дежурным оборотом языка державников-патриотов всех оттенков, от монархического до сталинистского, причём, в отличие от Ильина[20], подавляющее их большинство рассматривают СССР как продолжение императорской России. В 1992 г. петербургский автор мюнхенского журнала «Вече» писал: «Мировая закулиса, развалив изнутри с помощью предателей державу, армию и экономику, взялась разваливать (тоже изнутри и сверху) и Православие – последнюю духовную скрепу, которая ещё соединяет славянское население страны»[21].
В том же духе высказывался один из лидеров державно-патриотического лагеря Александр Руцкой: «Ценой огромных людских потерь и невероятных страданий русский народ сумел всё же восстановить свои многовековые державные традиции, возродив после Победы 1945 года историческую преемственность Российской империи в новой государственной форме Советского Союза. Именно тогда “мировая закулиса”, не на шутку испуганная перспективой национально-патриотического перерождения “коммунистической империи” СССР, приняла решение о необходимости любой ценой остановить процесс “разрастания советской угрозы”. Решение это было реализовано через четыре с половиной десятилетия. В результате упорнейшей борьбы, провокаций западных спецслужб и предательства выродившейся номенклатуры Союз распался, отбросив геополитическое развитие России ко временам Ивана Грозного»[22].
В последнее десятилетие подобные взгляды высказывают уже идеологи, близкие к политическому мейнстриму.
* * *
С конца 1990-х гг. одним из синонимов «мировой закулисы», которая тайно правит Россией, стал «вашингтонский обком».
Согласно Александру Щуплову, это выражение вошло в речевой обиход после интервью Сергея Шахрая, опубликованного в газете «Сегодня» в августе 1999 г.: «…Боюсь, что решение о внутренней политике будет приниматься в вашингтонском обкоме партии. Если там решат, что России надо дальше играть в цивилизованную страну, то выборы у нас состоятся, если посчитают, что выборы опасны, то их не будет»[23]. В 2000-е гг. появилось, по аналогии, выражение «брюссельский обком», относившееся к властям ЕС.
Выражение «вашингтонский обком» заимствовано из советского анекдота, входившего в серию о кошмарных снах Брежнева и одного из американских президентов – Никсона, Картера или Рейгана. Серия строилась на абсурдном по тогдашнему времени предположении о катастрофической смене государственного строя США или СССР.
«Брежнев связался по прямому проводу с Никсоном, чтобы рассказать ему свой сон: над Белым домом развевается красный флаг! Назавтра Никсон позвонил Брежневу и рассказал ему свой сон: над Кремлем развевается красный флаг!
– Так оно и есть, – ответил Брежнев, – над Кремлем действительно развевается красный флаг.
– Да, но на том красном флаге, который я видел во сне, – сказал Никсон, – было что-то написано по-китайски!»
«Президент США Картер просыпается от кошмарного сна. Ему приснилось, что он сидит в качестве делегата на съезде КПСС, а с трибуны оратор говорит:
– В этом году хороших результатов в уборке яровой пшеницы достигли колхозники Кубанщины, Херсонщины, а также Алабамщины, Айовщины и Техасчины!»
«Рейган кричит во сне дурным голосом. Жена толкает его:
– Ронни, что с тобой?
– Понимаешь, дорогая, приснился страшный сон. Сижу я в президиуме XXVIII съезда КПСС. И вдруг председатель объявляет: “Слово предоставляется первому секретарю Вашингтонского обкома КПСС товарищу Рональду Рейгану”. А я не готов».
После крушения СССР смысл выражения «вашингтонский обком» изменился на диаметрально противоположный: в анекдоте предполагалось, что Вашингтон получает указания из Москвы; теперь же оказывалось, что Москва получает указания из Вашингтона.
--
СНОСКИ
[1] Булгарин Ф.В. Философический взгляд за кулисы: [Очерк] // Булгарин Ф.В. Полное собрание сочинений. СПб., 1844. Т. 7. С. 41, 43.
[2] Ларенко П. [Лассман П.П.] Страдные дни Порт-Артура: Хроника военных событий… СПб.: [П.А. Артемьев], 1906. С. 356 (1-я паг.).
[3] Гиппиус З.Н. Дневники: 1919-1941; из публицистики 1907-1917 гг.; Воспоминания современников. М.: Русская книга, 2005. С. 175.
[4] Ильин И.А. Наши задачи: статьи 1948-1954 гг. Париж: Изд. Русского Обще-Воинского Союза, 1956. Т. 1-2. 683 с. (сплошная паг.).
[5] Ильин И.А. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 2. М.: Русская книга, 1993. Кн. 1. С. 151. Далее «Наши задачи» цитируются по тому же изданию с указанием номера книги и страницы.
[6] Ильин И.А. Наши задачи. Кн. 2. С. 325.
[7] Там же. С. 327.
[8] Там же. С. 335, 336.
[9] Там же. С. 339.
[10] Там же. Кн. 1. С. 64.
[11] Там же. С. 65.
[12] Там же. С. 62.
[13] Там же. С. 202-203.
[14] Там же. С. 327.
[15] Там же. С. 328, 340.
[16] Там же. Кн. 2. С. 40.
[17] Там же. С. 172.
[18] Там же. С. 94.
[19] Там же. С. 280, 229.
[20] Ильин, в частности, предполагал жесточайшую люстрацию государственного аппарата постсоветской России, которая должна была затронуть прежде всего коммунистов, «чекистов-энкаведистов» и всех, кто с ними сотрудничал.
[21] Головин К. Почему молчит Церковь? Вече: Независимый русский альманах. М., 1992. № 47. С. 81.
[22] Руцкой А.В. О нас и о себе. М.: Научная книга, 1995. С. 408.
[23] Щуплов А.Н. Кто есть ху: мини-энциклопедия политических кличек. М.: Политбюро, 1999. С. 27; Сергей Шахрай о необходимости изменения конституции // Деловая пресса [Дайджест. Электронная версия]. М., 1999. № 12, 19 авг. URL: http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_40_aId_12061.html (дата обращения: 08.10.2020).

Холодная война тридцать лет спустя: (не)усвоенные уроки
США наращивают международную напряжённость, задавая контуры новой биполярности
ЛЕВ СОКОЛЬЩИК
Кандидат исторических наук, доцент Департамента зарубежного регионоведения, научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:
Сокольщик Л.М. Холодная война тридцать лет спустя: (не)усвоенные уроки // Россия в глобальной политике. 2022. Т. 20. No. 4. С. 170-177.
ОБЗОР
Упразднение Советского Союза, провозглашённое в декабре 1991 г. в Беловежской пуще руководителями России, Белоруссии и Украины, считалось благополучным (так как было мирным и не кровопролитным) окончанием не только истории единого государства на огромных пространствах Евразии, но и биполярной международной системы. В 1992 г. преобладало мнение, что метафора «конца истории» реализована, и дальше, как опасался её автор Фрэнсис Фукуяма, будет очень скучно.
События февраля 2022 г. перевернули мировую политику. Историческая эпоха, начавшаяся тогда, тридцать лет назад, завершилась. И теперь понятно, что в наступившую новую эру скучно не будет никому. Пережив непродолжительный по историческим меркам период доминирования одной державы, международный порядок вновь оказался в состоянии ускоряющейся перекройки с неопределённым финалом. В исследованиях всё чаще можно встретить оценку текущих изменений как нарастание новой блоковой конфронтации[1], хотя с определением характера этих блоков есть затруднения.
В центре современного кризиса – состояние всей политико-экономической системы либерального капитализма. Рефлексия по поводу причин распада СССР представляет для нас интерес как попытка систематизации факторов, способных сыграть роковую роль в судьбе держав, ещё совсем недавно казавшихся бессмертными. Специальный номер журнала “The National Interest”, вышедший весной 1993 г. и целиком посвящённый осмыслению причин стремительного исчезновения Советского Союза, познавателен и применительно к его основной теме, и с точки зрения экстраполяции уроков того краха на сегодняшние тенденции. Тем более что авторы – ведущие политические мыслители страны, ставшей тогда неожиданным победителем в соревновании[2].
Прямые кросстемпоральные аналогии всегда упрощают реальность, но всё же история – это память государств. И уроки имеют значение, если не в качестве прямых параллелей, то как основа для оценки всей методологии анализа. В журнале, который мы вспоминаем, предпринята одна из первых попыток систематического разбора причин и следствий дезинтеграции Советского Союза.
Авторы, представлявшие цвет американской советологии, не стали замыкаться на оценке произошедшего с СССР. Они постарались заняться и саморефлексией, другими словами, увидеть в крахе противника себя и свои проблемы.
Представленные в обширном номере эссе касаются мотивов внутриполитических трансформаций в Советском Союзе (Фрэнсис Фукуяма, Майкл Раш, Владимир Конторович, Чарльз Фэрбэнкс, Питер Реддауэй, Стивен Сестанович), провала американской советологии, не предсказавшей реформы Михаила Горбачёва (Ричард Пайпс, Майкл Малиа, Роберт Конквест, Уильям Одом, Питер Рутланд), дилеммы западных интеллектуалов, оказавшихся между крайностями антикоммунизма и анти-антикоммунизма (Сол Беллоу, Натан Глейзер, Ирвинг Кристол). Даже простое перечисление основных тем показывает, что все эти сюжеты вполне актуальны и для оценок современного состояния Запада.
Сам по себе выход сборника только в 1993 г. показывает, что нараставшая с середины 1980-х гг. динамика изменений в Советском Союзе и мире, которая приобрела лавинообразный характер на рубеже 1980–1990-х гг., во многом стала неожиданностью для американских учёных. За шоком первых лет последовал страстный поиск смыслов. В целом мнения исследователей разделились на две превалирующие группы. Одни были склонны к фатализму в анализе исторического опыта СССР и стремились доказать, что трагический финал советского проекта был предопределён в силу его внутренней и/или мировой эволюции. Но эти мыслители представляли скорее пессимистичное меньшинство. Немало исследователей вполне позитивно оценивали гипотетические перспективы Советского Союза, несмотря на внутриполитические дисбалансы и снижение динамизма развития.
В многоаспектном процессе советского упадка эксперты усматривали различные доминанты. Фукуяма, подходя с либеральных позиций, заострил внимание на модернизации советского социума, которая вписывалась в общемировой тренд[3]. По его мнению, демократические семена дали всходы в различных сегментах советского общества: от интеллигенции до партийного аппарата. В свою очередь, кризис советской системы убеждений привёл к разрушению всей политической конструкции. В то же время автор концепции «конца истории» был вынужден признать, что решающую роль сыграли инициированные сверху реформы, которые открыли путь демократии, а не гражданская активность снизу. Не без основания философ заключал, что технократы стали «могильщиками коммунизма»[4].
Согласно Питеру Реддуэю, основной движущей силой перемен являлась как раз общественность[5]. Хотя заявила она о себе только на заключительном этапе «перестройки». Особенно рельефно её значение проявилось в ряде союзных республик, где подъём этнического национализма давал местным элитам повод для сепаратизма. В этом плане, по утверждению автора, советское руководство имело все основания для решительной борьбы с недовольством. Но базовые условия для негативного сценария создала всё-таки политика гласности. Питер Рутланд отмечает, что она обернулась против режима, особенно в контексте аварии на Чернобыльской АЭС[6]. Реддуэй настаивал, что, если бы на ранней стадии реформ инициативы генерального секретаря партии были нейтрализованы или его бы вовсе сместили, с большой долей вероятности страна продолжила бы существовать.
Оптимистично смотрел на жизнеспособность советской системы и Майкл Раш[7]. Он утверждал, что СССР на самом деле не испытывал системный кризис. Советский Союз вполне мог функционировать в состоянии ослабления сил ещё несколько десятилетий, но пал жертвой фатального стечения обстоятельств.
Идеология, хотя и утратила пассионарный запал, воплощалась в ключевых советских институтах.
Снижение ассигнований на оборону на 10–20 процентов, по его мнению, позволило бы направить ресурсы в пользу гражданского сектора и перезапустить экономику. При этом эксперт не уходит от констатации очевидных фактов. В 1980-е гг. страна, действительно, столкнулась с серьёзными вызовами стагнации экономики, разочарования широких масс населения, вездесущей коррупции. Триггером фатального исхода, с точки зрения Раша, стали опрометчивые решения руководства страны, которые подорвали идейные основы режима, ударили по авторитету партии и спровоцировали взлёт национализма на окраинах. Таким образом, ключевую роль в крахе СССР Раш отводит Михаилу Горбачёву и его радикальным реформам.
Отдавая должное негативным экономическим показателям как дестабилизирующему фактору, Владимир Конторович подчёркивал, что сами по себе они редко приводят к разрушению политической системы[8]. Плановое хозяйство испытывало хронические трудности, но слабо проработанные реформы окончательно подорвали его устойчивость. Они спровоцировали усугубление инфляции и дефицита, снижение уровня производства и трудовой дисциплины. Однако эрозия политической власти, в его оценках, связана прежде всего с политическими решениями и началась с провозглашением гласности. Критический дискурс СМИ дискредитировал идеологические основы режима, что привело к краху всего государственного здания. В представлении Конторовича, убийственным для СССР стало сочетание экономического кризиса и непродуманной политики ЦК КПСС, причём последний аспект имел решающее значение.
В фокусе анализа Стивена Сеcтановича оказался дискуссионный вопрос, в какой степени внешнее давление стало катализатором внутриполитических сдвигов в СССР[9]. В его интерпретации международная обстановка в 1980-е гг. была для Советского Союза вполне спокойной. Напряжённость в отношениях с Западом скорее поддерживала его политическую систему, а сближение, наоборот, – ослабляло. Так, подписав Хельсинский акт в 1975 г., Кремль фактически принял в качестве принципа отношений с Западом защиту прав человека. При этом систематическое игнорирование обязательств, взятых по данному соглашению, планомерно подтачивало легитимность советской власти. Но главным фактором, приведшим к гибели страны, автор считал просчёты во внешней политике. Среди основных внешнеполитических ошибок он называет ввод войск в Афганистан, размещение ракет средней дальности в Европе, очередной виток гонки вооружений. Немаловажным аспектом, с точки зрения исследователя, стали иллюзии советского руководства в отношениях с визави. В то время как «перестройка» в Советском Союзе набирала обороты, ослабляя режим, требования Запада становились всё жёстче. «После долгих раздумий СССР навёл оружие на себя», – резюмировал Сеcтанович[10].
Оригинальный взгляд предложил Чарльз Фэрбанкс, который рассматривал историю СССР как серию из четырёх революций – Октябрьской, сталинской, хрущёвской, горбачёвской[11]. Утверждая, что сущностью советской системы была революционная идеология, ключевую черту развития страны он усматривал в стремлении к саморазрушению. С этой точки зрения, коммунистический проект рано или поздно должен был потерпеть фиаско. «Перестройка» лишь ускорила тенденцию. Но справедливости ради автор отмечает, что идеология породила Советский Союз, служила для него организующим началом, формировала устремлённость в будущее его общества, поддерживала привлекательность страны на мировой арене. Натан Глейзер также подчёркивал, что холодная война была в первую очередь битвой ценностей[12]. Отказ лидеров СССР от ключевых идеологических установок привёл к неминуемому поражению в противостоянии с Западом. В этом плане важным уроком для Соединённых Штатов, который стоило бы усвоить из советского опыта, по мысли Фэрбанкса, является должная оценка силы идей. Как и в Советском Союзе, в фундаменте США лежат убеждения.
Другим значимым предостережением для Америки, по общей мысли авторов выпуска, должен был послужить провал социальных наук в интерпретации мировых и советских процессов. Мир на глазах трансформировался, а привычные теории оказались бесполезны не только для выстраивания прогнозов, но даже для объяснения текущих событий. Тектонические сдвиги, с одной стороны, высветили «духовную нищету» профессионального сообщества, а с другой – стали импульсом для самоанализа. Признавая несостоятельность советологии, Уильям Одом препарировал такие её пороки, как доктринальность, предвзятость, тривиальный анализ, игнорирование очевидных тенденций[13]. Ещё одним грехом экспертного сообщества он называл бесплодные попытки понять ситуацию, руководствуясь западными лекалами, в то время как СССР развивался по собственной логике. Рутланд ещё более определённо описывал проблему – банальная некомпетентность, незнание реалий, истории, языка страны изучения[14]. Ответственность за когнитивные ошибки с представителями академических кругов разделили СМИ, которые широко тиражировали приятные взору общественности симулякры и клишированные схемы.
Параллельно с кризисом западной интеллектуальной элиты ряд исследователей прослеживал постепенный упадок всего общества США. Крёстный отец американского неоконсерватизма Ирвинг Кристол настаивал на том, что либералы, планомерно смещавшиеся в своих установках влево, оказывали разлагающее влияние на общественные устои[15]. Он обвинял идейных оппонентов не столько в симпатиях к коммунизму и СССР, сколько в оправдании социального коллективизма и морального релятивизма в западных странах. Кристола особенно беспокоило то, что либеральная повестка неуклонно становилась всё более радикальной. С точки зрения лидера неоконсерваторов, Соединённые Штаты достигли поворотного момента в истории, поскольку, когда закончилась холодная война, началось настоящее противостояние внутри самих США. К нему они оказались «гораздо менее подготовлены <…>, гораздо более уязвимы»[16].
Историческая отстранённость даёт возможность взглянуть на идеи мыслителей того времени в контексте актуальных вопросов дня сегодняшнего.
Вместе с реинкарнацией холодной войны в международную реальность вернулось военно-стратегическое, геополитическое и идеологическое соперничество, блоковое мышление, борьба за сферы влияния, гонка вооружений, угроза ядерной катастрофы.
На первый план общественно-политической жизни вышли вопросы кардинальных социальных и экономических преобразований, соотношения индивидуальной свободы и социальной ответственности, сильного политического лидерства и народного суверенитета. В немалой степени обозначенные тенденции являются следствием кризиса либеральной глобализации, а также проекцией на мировую политику внутри- и внешнеполитического кризиса США как её лидера.
Предшествующее столкновение Востока и Запада завершилось тем, что оружие добровольно сложил СССР, который фактически самораспустился. Кажется, поверив в неизбежность и необратимость своей победы в прошлой холодной войне, Запад намерен повторить ту же партию уже не только с Россией, которая в 2022 г. вернулась на позицию наиболее актуального противника, но и с Китаем. Однако карты крайне редко ложатся в столь удачный расклад несколько раз подряд. Для теории и практики международных отношений случай Советского Союза является, скорее, исключительным, чем закономерным. Об этом свидетельствуют плоды мирового развития за три десятилетия. Так, нагнетание США (при поддержке международного сообщества) политического и санкционного давления на Иран, Ирак, Северную Корею не привело к их демократизации, несмотря на колоссальную асимметрию потенциалов силы сторон. Напротив, наблюдается консолидация и внутриполитическое укрепление нелиберальных режимов. Данная тенденция нередко толкала американцев к проведению политики военно-силового насаждения демократии в других странах.
Демократический интервенционизм, с одной стороны, укрепил убеждённость альтернативных центров многополярного мира в жизненной необходимости поддержания своих оборонных возможностей. С другой, в немалой степени дискредитировал идейные основы внешней политики США и их лидерства в мире, а во внутриполитическом плане обострил общественную поляризацию. И пресловутый «трампизм» – лишь видимая часть айсберга. Как представляется, противоречия достигли базовых устоев американского общества, которое теперь разъединено даже по вопросу конституционного устройства.
В ситуации ослабления мирового доминирования страны Запада – и прежде всего Соединённые Штаты – повышают внешнеполитические ставки. Они наращивают международную напряжённость, которая задаёт контуры новой биполярности. В этом противостоянии основной удар пока направлен на Россию.
События зимы–весны 2022 г. означали выход острейшего соперничества из завуалированной в открытую военно-политическую фазу.
Дважды пережив за последние сто лет трагический опыт утраты государственности и рассматривая текущее великодержавное соперничество как экзистенциальное для себя, Россия пытается усвоить уроки истории. Это в меньшей степени характерно для США. Парадокс либеральной империи стал проявлять себя все? более рельефно. Достигнув беспрецедентного мирового могущества, Соедине?нные Штаты столкнулись с нарастающим внутренним и внешнеполитическим ослаблением. А мечта неоконсервативных стратегов о реализации имперской идеи по иронии судьбы стала их кошмарным сном, в котором США проигрывают новую холодную войну сами себе.
--
СНОСКИ
[1] Karaganov S. The New Cold War and the Emerging Greater Eurasia // Journal of Eurasian Studies. 2018. Vol. 9. No. 2. P. 85-93.
[2] The National Interest. 1993. Spring. No. 31. Special Issue: The Strange Death of Soviet Communism.
[3] Fukuyama F. The Modernizing Imperative: The USSR as an Ordinary Country // The National Interest. 1993. Spring. № 31. P. 10-18.
[4] Ibid. P. 16.
[5] Reddaway P. The Role of Popular Discontent // The National Interest. 1993. Spring. № 31. P. 57-63.
[6] Rutland P. Sovietology: Notes for a Post-Mortem // The National Interest. 1993. Spring. № 31. P. 110.
[7] Rush M. Fortune and Fate // The National Interest. 1993. Spring. № 31. P. 19-25.
[8] Kontorovich V. The Economic Fallacy // The National Interest. 1993. Spring. № 31. P. 35-45.
[9] Sestanovich S. Did the West Undo the East? // The National Interest. 1993. Spring. № 31. P. 26-34.
[10] Ibid. P. 30.
[11] Fairbanks C.H. The Nature of the Beast // The National Interest. 1993. Spring. № 31. P. 46-56.
[12] Glazer N. Did We Go Too Far? // The National Interest. 1993. Spring. № 31. P. 136.
[13] Odom W. The Pluralist Mirage // The National Interest. 1993. Spring. № 31. P. 99-108.
[14] Rutland P. Sovietology: Notes for a Post-Mortem // The National Interest. 1993. Spring. № 31. P. 112.
[15] Kristol I. My Cold War // The National Interest. 1993. Spring. № 31. P. 141-144.
[16] Ibid. 144.

Возвращение к искусству государственного управления
Назад к фундаментальным основам в постамериканском мире
ЭЛИОТ КОЭН
Профессор факультета перспективных международных исследований в Университете Джона Хопкинса, где он был деканом в 2019–2021 гг., заведующий кафедрой стратегии имени Арли Бёрка в Центре стратегических и международных исследований. В 2007–2009 гг. – советник Государственного департамента США.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:
Коэн Э. Возвращение к искусству государственного управления // Россия в глобальной политике. 2022. Т. 20. No. 4. С. 153-168.
На протяжении более семидесяти лет, начиная с середины Второй мировой войны, Соединённые Штаты, как колосс, управляли миром. Их экономика и вооружённые силы вышли из того конфликта не только невредимыми, но и со значительным превосходством.
Институты управления – единое Министерство обороны, система разбросанных по всему миру военных командований, Совет национальной безопасности, специализированные агентства по международному развитию и так далее – стали органами эффективного мирового доминирования. Даже когда США были поглощены смертельной борьбой с чуждой и враждебной идеологией коммунизма, у них на руках были преимущественно выигрышные карты. Но, как и все другие колоссы в истории, страна вызывала возмущение у всех, кто не был доволен жизнью в её тени.
Если кто-то и не замечал растущих вызовов американскому господству, действия России против Украины в феврале этого года не должны были оставить в этом ни малейших сомнений.
Международная политика явно вступила в новую эпоху, когда вернулись прежние формы хищнического поведения государств, а предполагаемый мировой гегемон оказался не в состоянии остановить перерождение. Гигант не справился.
Признаки относительного ослабления Соединённых Штатов можно было увидеть задолго до последних событий. В настоящее время экономика США производит менее четверти мирового ВВП, тогда как в 1960 г. этот показатель составлял 40 процентов. Военные расходы Соединённых Штатов по-прежнему огромны, достигая 40% от общего объёма мировых расходов, но они уже не обеспечивают такого превосходства, как раньше. США противостоят противники, которые быстрее осваивают новые технологии и способы ведения войны. Идеология свободных умов и свободных рынков сталкивается не только с вызовами со стороны зарубежных моделей авторитарной эффективности и этнонационализма, но и со слабеющим доверием к американским институтам. Исследование социологической службы Pew Research 2021 г. показало, что подавляющее большинство населения 14 стран — союзников Америки придерживается следующего мнения: в былые времена американская демократия была достойным примером для подражания, но в последние годы она перестала быть образцовой. Мятеж, который 6 января 2021 г. подняла в Капитолии толпа глумящихся и агрессивных вандалов, не согласных с поражением президента Дональда Трампа на выборах, нанёс репутации США более сильный удар, чем нападения террористов на Нью-Йорк и Вашингтон двадцатью годами ранее.
В обозримом будущем Соединённые Штаты сохранят могущество.
Хотя подъём Китая означает, что американская экономика, наверное, не вечно будет самой большой в мире, она, безусловно, останется второй по величине и, возможно, самой динамичной, с глубокими глобальными связями. У США одна из самых больших и опытных армий на планете, а также множество союзников. С момента основания Соединённые Штаты не раз доказывали свою устойчивость. Они неоднократно переживали катаклизмы, терпели серьёзные экономические неудачи, но снова и снова возрождались после кризисов.
Тем не менее относительный упадок – факт. Историкам предстоит анализировать и пытаться понять, почему эпоха американского господства закончилась именно тогда, когда закончилась, и можно ли было отсрочить или смягчить его исчезновение. Однако сейчас вопрос в том, как Соединённым Штатам приспособиться к своему меняющемуся положению. Реакция многослойна, но самый важный элемент – поведенческий. После нескольких десятилетий ставки на большие стратегические идеи, которые воплощаются в политику с помощью сложных и тяжёлых бюрократических процессов, правительство должно возродить искусство государственного управления. Это означает подход, который соединяет тонкое понимание мира, способность быстро обнаруживать вызовы и реагировать на них, умение использовать возможности по мере их возникновения, и всё это благодаря эффективным институтам формулирования и проведения гибкой внешней политики.
В предшествующую эпоху Америка была достаточно сильна для того, чтобы ей сходило с рук совсем не идеальное, мягко говоря, воплощение больших идей. Непревзойдённая мощь давала право на ошибку и широкую свободу манёвра. Поэтому Вашингтон по большей части получал то, что хотел, независимо от уровня собственной компетентности. Сегодня, когда США гораздо труднее всем заправлять, проблемы, с которыми они сталкиваются, не требуют заумных стратегий. Нужно что-то более приземлённое: умения, навыки и мастерство.
Идеи и их пределы
Рекомендация отказаться от обширных формальных стратегий в пользу некоторой приглушённости, стойкости и манёвренности противоречит веяниям времени. Операция России на Украине в феврале этого года началась, когда США предположительно уже взяли на вооружение новую большую стратегию: сосредоточиться на соперничестве с Китаем и в большей или меньшей степени оставить Европу и Ближний Восток на произвол судьбы. Поток российских ракет и бомб взорвал не только украинские города, но также и такой план. Ещё до того момента интеллектуалы выступали за возрождение большой стратегии, то есть всеобъемлющей концепции ведения внешней политики. Один за другим авторы призывали к написанию новой статьи, наподобие той, с которой выступил дипломат Джордж Кеннан на страницах Foreign Affairs в 1947 году. В ней излагалась грандиозная стратегия сдерживания времён холодной войны. Сегодня некоторые исследователи, возвращаясь к вильсоновскому идеализму, считают, что Соединённым Штатам следует выстраивать политику вокруг создания нового мирового порядка на основе чётких правил. Другие предлагают перегруппировку сил, обусловленную соображениями реальной политики, признанием упадка и уменьшения роли США на мировой арене. Существуют и иные варианты большой стратегии, но всем им свойственно стремление свести сложную внешнюю политику к нескольким чётким сентенциям. Самое главное, утверждают их сторонники, – наличие правильной интеллектуальной основы; всё остальное – лишь комментарии к ней.
Данное представление ошибочно. Конечно, нужны некоторые организующие идеи о мире – например, что Соединённые Штаты должны отстаивать и интересы, и идеалы, или что они сталкиваются с вызовами со стороны конкурентов и таких глобальных тенденций, как изменение климата и крах отдельных государств. Лица, принимающие ответственные решения, могут называть такие идеи большой стратегией, если им так удобно, но им не следует придавать чрезмерного значения, потому что такие общие принципы ограниченно полезны, когда дело доходит до конкретной политики. Большая стратегия основана на упрощениях, а мир наш сложен.
Если уж на то пошло, американское государство тоже сложно устроено. С одной стороны, это держава статус-кво и ревизионист в одно и то же время. Она стремится сохранить ключевые элементы мирового порядка – верховенство закона, свободный поток торговли и капиталов, индивидуальную свободу, и из-за своей привязанности к этим идеалам противостоит режимам, которым последние чужды, часто стремясь трансформировать их. С другой стороны, внешняя политика США формируется под влиянием сложного сочетания идеалов и интересов, меняющихся в зависимости от времени и места. Подобно тому, как американцы поддерживали Советский Союз в борьбе с нацистской Германией, сегодня они на стороне Саудовской Аравии в её противостоянии Ирану, а также Вьетнама в его противодействии Китаю.
Идеалисты, утверждающие, будто Соединённые Штаты должны отказаться от любых связей с несимпатичными партнёрами, игнорируют сложность мира в пользу догматического упрощения.
В этом также виновны сторонники урезания расходов, отмахивающиеся от понятия ценностей во внешней политике. Страны, которые жестоко обращаются со своим населением, убивают инакомыслящих, подрывают законные правительства других стран и предаются параноидальным фантазиям о внешних врагах, очевидно, более опасны, чем другие государства. В XIX в. Соединённые Штаты и Великобритания оказывались втянуты в различные территориальные споры, но каждая из сторон никогда не считала другую столь же опасной, как тоталитарные диктатуры XX века.
Большая стратегия абстрагирует политику от случайностей, связанных с личностями и непредвиденными событиями. Доктрина сдерживания, например, не предлагала никаких конкретных указаний относительно того, как управлять кризисами в Берлине и на Кубе либо войнами в Корее и Вьетнаме. Однако изучение истории показывает, что непредсказуемые личности и события имеют огромное значение. Политика США в отношении Китая должна принимать во внимание личность китайского президента Си Цзиньпина, чьи методы и цели выходят далеко за рамки методов и целей его непосредственных предшественников. Непредвиденная глобальная пандемия выставляет Соединённые Штаты либо слабыми (потому что они не смогли остановить распространение болезни и вакцинировать достаточное количество населения), либо на удивление сильными (поскольку их более свободный подход позволяет открыть экономику быстрее, чем Китай откроет свою). Иностранные лидеры могут застать всех врасплох. Памятуя высказывание бывшего чемпиона по боксу в тяжёлом весе Майка Тайсона, что у каждого бойца есть план, пока он не получит в челюсть, можно сказать, что у всех могла быть большая стратегия, пока Россия не начала свои действия против Украины.
Проблема со стратегией
Идеи имеют значение, но они не так важны, как думают интеллектуалы и политики. Гораздо существеннее государственное управление, которое заключается в том, чтобы чувствовать, корректировать, использовать и действовать вместо того, чтобы планировать и теоретизировать. Это мастерство дзюдоиста, у которого могут быть планы, но его важнейшей характеристикой являются ловкость и проворство. Это то, что философ Исайя Берлин называл пониманием, а не знанием, – способность определить, что с чем сочетается, что можно сделать в данных обстоятельствах, а чего нет, какие средства сработают в тех или иных ситуациях, и в какой мере.
Повышенное внимание к государственному строительству, а не большой стратегии особенно актуально с учётом скорости и непредсказуемости современных вызовов.
В ближайшем будущем Соединённым Штатам предстоит столкнуться с тремя противниками – Китаем, Ираном и Россией.
Каждая из этих стран – ревизионистская держава, желающая приобрести новые или вернуть старые владения в своём регионе. Каждая из них опасается долгосрочного демографического спада и экономической стагнации. Каждая культивирует гибридный стиль ведения войны, или методику «серой зоны», в которой используются изощрённые инструменты, прокси- и кибервойны, недорогие технологии, выборочные репрессии и даже убийства. Каждая из перечисленных диктатур управляется стареющим лидером, который, возможно, желает увидеть крупные достижения в течение следующих нескольких лет, прежде чем покинет политическую сцену. Все эти страны готовы сотрудничать друг с другом на чисто деловой основе. И каждая из них угрожает, не поверхностно, а экзистенциально таким понятиям, как свободная политика, верховенство закона и уважение к личным свободам. Всё это – путь к внезапным, возможно, непродуманным и совершенно точно опасным решениям, которые не может предвидеть ни один великий стратег.
Ситуацию усложняет возможность того, что кризис в одной сфере может перекинуться на другую. Хаос на границах стран НАТО, например, отвлекает ресурсы США от Азии, и он действительно уже вернул внимание Соединённых Штатов к старой арене времён холодной войны. Некоторые из более глобальных факторов риска – изменение климата, эрозия демократии, исламистский терроризм – чреваты новыми непредсказуемыми кризисами. Цель Соединённых Штатов – справиться с хаотичной реальностью, а не создавать архитектуру для осуществления глобальной политики.
Однако слишком часто Вашингтон проводит внешнюю политику некомпетентно, делая бессмысленными любые стремления к принятию большой стратегии. Худший пример – катастрофический уход из Афганистана летом 2021 года. С точки зрения большой стратегии можно обосновать любую позицию: сократить потери, не отвлекаться на Афганистан, чтобы сосредоточиться на более важных проблемах в Восточной Азии или, наоборот, поддерживать малозатратное участие в стране, чтобы сохранить доверие союзников и подорвать радикальные исламистские движения в Южной Азии. Как и при принятии большинства решений во внешней политике, с обеих сторон выдвигались веские аргументы. Однако результатом стал ужасающий провал государственного управления, и это то, что действительно имеет значение.
Хаотичное отступление привело к тому, что в стране остались десятки, если не сотни тысяч афганцев, взаимодействовавших с американскими силами. Появились унизительные фотографии, на которых радикальные исламисты и всякий сброд празднуют победу над единственной сверхдержавой. Это резко снизило популярность президента, стремящегося восстановить престиж США в мире. Подобный исход не был предопределён: вывод войск было легко отложить на конец сезона боевых действий, Госдепартамент имел возможность заранее подготовить специальные визы для афганцев, работавших с американцами, можно было оставить серьёзный временный контингент для сохранения контроля над крупнейшей авиабазой страны, а союзников предупредить, чтобы им не пришлось судорожно искать, как обеспечить безопасность своих граждан.
Провальный уход из Афганистана стал лишь одной из ран, которые Америка нанесла сама себе в последние годы. В 2003 г. администрация Джорджа Буша вторглась в Ирак, не имея продуманного плана последующей оккупации. В 2012 г. президент Барак Обама заявил, что применение химического оружия в Сирии станет «красной чертой», но не выполнил угроз, когда диктатор страны Башар Асад эту черту перешёл. Администрация Трампа, со своей стороны, не только отмахнулась от понятия ценностей во внешней политике. Президент практически упивался своими отношениями с Путиным и (по словам бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона) заложил основу для катастрофического выхода из НАТО. Даже учреждение Байденом трёхстороннего партнёрства по безопасности США, Австралии и Великобритании, долгосрочный успех американской внешней политики, было омрачено неумелым обращением с ключевым союзником – Францией. Её унизили неожиданной отменой крупной австралийско-французской программы строительства подлодок.
Всё это не означает, что американским политикам не следует придерживаться некоторых основных идей. Соединённые Штаты должны быть готовы играть активную роль за рубежом, заинтересованы в свободном потоке товаров и идей и предпочитают демократию диктатуре. В ХХ в. американские политики сделали правильный вывод о том, что агрессивные наклонности ревизионистских диктатур в конечном счёте отразятся на Соединённых Штатах, а режимы, репрессирующие своих граждан, с большей вероятностью будут применять силу за рубежом в злонамеренных целях. Это представление сохраняется. Тем не менее базовое понимание необходимости активного участия в жизни мира на основе ценностей и собственных интересов даёт лишь самые ограниченные ориентиры для внешней политики. Это особенно верно в то время, когда Соединённые Штаты не в состоянии создать новый мировой порядок (как это было в 1940-е гг.) или благожелательно управлять существующим (как после окончания холодной войны). После Второй мировой войны для формирования мирового порядка действительно требовались большие новые идеи, имевшиеся только у Соединённых Штатов с их непревзойдённой экономикой, не затронутой войнами. Сегодня США, теснимые агрессивными автократиями, неустойчивыми демократиями и непредсказуемыми глобальными явлениями, просто не могут выдать схемы, сопоставимые с теми, что брали на вооружение в послевоенный период.
Вместо этого приходится обращаться к искусству государственного управления.
Возрождение искусства госуправления
Одним из элементов обновлённой приверженности государственному управлению должен стать ярко выраженный крен политических и интеллектуальных кругов в сторону эмпиризма, а не обобщений. Точная оценка обстановки – задача не из лёгких. Например, за два десятилетия американские политики не смогли осознать стремительность подъёма Китая и угрозу, которую он может представлять для позиций США в мире, хотя китайцы почти не скрывали своих амбиций. Вашингтон игнорировал наращивание Пекином военной мощи и мало что сделал для противодействия его агрессивной военно-морской тактике в Южно-Китайском море. Администрациям Обамы и Трампа не удалось добиться одобрения Конгрессом Транстихоокеанского партнёрства – торгового блока, который помог бы уравновесить мощь КНР. Упуская из виду китайскую угрозу, политики позволили априорным верованиям, на которых строится большинство великих стратегических идей, помешать выработке здравых политических суждений. Они придерживались теории развития, согласно которой глобальная экономическая интеграция ведёт к политической либерализации, хотя в случае с Китаем эта гипотеза не сработала, поскольку изначально была ошибочной.
Понимание текущей обстановки в мире означает постоянный поиск взаимосвязей. Например, многие американские аналитики совершили ошибку, рассматривая подъём реваншистской России как отдельные, не связанные между собой эпизоды. Военные вмешательства Москвы в территориальную целостность Грузии в 2008 г. и Украины в 2014 г. рассматривались как изолированные проблемы, а не проявления нового и опасного курса российской политики, который не изменить ни путём перезагрузки российско-американских отношений, проведённой администрацией Обамы, ни личными связями Трампа с Путиным. Результат: потеряно более чем десятилетие, когда Соединённые Штаты могли бы накопить и развернуть военную мощь, необходимую для сдерживания российской агрессии.
Решения США по Афганистану, Сирии и другим проблемным точкам также рассматривались как локальные и отдельные – без видимого осознания того, что они будут иметь глобальные последствия. Конечно, не было случайностью, что присоединение Крыма Россией последовало менее чем через год после того, как администрация Обамы не смогла обеспечить соблюдение «красной линии» относительно применения химического оружия в Сирии. Как не просто совпадение, что российский поход на Украину начался вскоре после унизительного отступления Соединённых Штатов из Афганистана.
Государственное управление также подразумевает скорость. Быстрота действий – вопрос не доктрины, а менталитета, культуры и подготовки. В своих посмертно опубликованных мемуарах о падении Франции в 1940 г. историк и мученик французского Сопротивления Марк Блох сделал ужасающее наблюдение: с начала и до конца войны метроном в штабе всегда был установлен на слишком медленный ритм. Проблема заключалась не в стратегии Франции, а в медлительности механизма принятия решений. В этом кроется ещё одна проблема Соединённых Штатов в сегодняшнем мире – искушение последовать авторитетному суждению, приписываемому британскому премьер-министру Уинстону Черчиллю: «Можно быть уверенным, что американцы поступят правильно, когда все другие возможности будут исчерпаны». Но в мире, который вращается всё быстрее и быстрее, американцы больше не могут позволить себе роскошь исчерпывать другие возможности, прежде чем поступить правильно.
Архитектура компетентности
Совершенствование американского государственного управления должно начаться с ревизии институтов, формулирующих и реализующих политику. Из всех составных частей американского института национальной безопасности только одна занимается суровой самопроверкой: Корпус морской пехоты США, который после двух десятилетий операций против повстанцев переориентировался на экспедиционную войну в Индо-Тихоокеанском регионе. Совершенно не очевидно, что другие виды вооружённых сил сделали что-либо подобное, не говоря уже о ведомствах разведки, международной помощи и общественной дипломатии. Неудачи в Афганистане и Ираке отражают не только конкретный выбор политики, но и институциональные патологии, которые не позволили создать компетентные местные силы и наводнили эти страны экономической помощью, которая зачастую была не только полезна, но и контрпродуктивна. Например, дорогостоящие проекты развития способствовали коррупции и оттоку англоговорящих афганцев с преподавательской и государственной работы, но мало что сделали для создания надёжной армии и полиции. Тем не менее мы имеем очень мало свидетельств того, что институты национальной безопасности США заинтересованы в болезненном самоанализе или реформах.
Всесторонний институциональный аудит предполагает не только реформирование или даже упразднение некоторых организаций, но и возрождение старых или создание новых. Поскольку доминирующий способ ведения войны сегодня – гибридность, Соединённые Штаты должны гораздо активнее играть в нападении. Для этого можно возродить Информационное агентство США, которое распространяло проамериканскую пропаганду во времена холодной войны и было ликвидировано в конце 1990-х годов. Или же мобилизовать гражданское киберополчение, способное подрывать враждебные правительства с помощью самого мощного оружия – правды. Импровизированное объединение украинским правительством антироссийских хакеров после вторжения России – один из таких примеров. Соединённые Штаты должны сделать защиту гражданских свобод не только делом принципа, но и инструментом ослабления противников. Например, россияне должны получать сообщения, разоблачающие ложь, которой их кормит режим, узнавать правду о человеческих и экономических потерях, понесённых на Украине и из-за неё, а также о катастрофических последствиях превращения в китайское вассальное государство, изолированное от Запада.
В некоторых случаях проблема заключается не в институтах, а в менталитете, точнее, неспособности лидеров справиться с несколькими кризисами сразу.
Нет причин, по которым Соединённые Штаты не могли бы отразить несколько угроз одновременно; в конце концов, во время Второй мировой войны они успешно сражались на двух совершенно разных театрах военных действий. Но для этого необходима дисциплина, которой придерживалось поколение тогдашних лидеров, они спокойно распределяли своё время и силы между несколькими проблемами, не изнуряя себя и своих сотрудников каким-то одним вопросом в атмосфере постоянного аврала. Картина того, как вся команда Обамы толпится в оперативном штабе, чтобы следить за рейдом, в результате которого был убит Усама бен Ладен в 2011 г. (операцией, на которую они не могли повлиять после её начала), резко контрастирует с поведением американских лидеров вечером накануне высадки десанта союзников в Нормандии. Президент Франклин Рузвельт смотрел кино, а генерал Дуайт Эйзенхауэр читал вестерн. Согласно статье в The New York Times, во время вывода войск из Афганистана советник по национальной безопасности Джейк Салливан спал всего два часа в сутки – тревожный симптом отсутствия дисциплины принятия решений.
Некоторые из необходимых улучшений на самом деле вполне рутинны. Разумное планирование внешней политики больше, чем можно было бы думать, опирается на бюрократические процедуры: чёткие и лаконичные меморандумы, деловито проведённые совещания, хорошо сформулированные выводы, краткие и недвусмысленные указания сверху. Умело организованный процесс не служит гарантией успеха, но увеличивает шансы на него. Учитывая это, правительство США должно уделять повышенное внимание подготовке и управлению карьерой специалистов по безопасности. Есть много молодых людей, желающих служить в правительстве, но профессиональные школы международных отношений часто не готовят их к выполнению фактических обязанностей.
Вашингтону давно пора инвестировать значительные средства в профессиональное образование и развитие. Организация хорошо продуманных кратких курсов в университетах и даже создание государственной академии для профессионалов в области внешней политики обойдётся в ничтожную долю бюджета национальной безопасности, но способно принести неизмеримо ценные результаты. Учебную программу стоит сосредоточить на механике эффективной политики в противовес смеси социальных наук, текущей политики и организационной теории, преподаваемой в бизнес-школах, что характерно для большей части высшего американского образования в данной области.
Восстановление процедурной компетентности также требует отладки нарушенной системы кадровых назначений. Процесс назначения людей на высшие посты в Госдепартаменте и Пентагоне давно превратился в отвратительное зрелище, и эта проблема только усугубляется. По данным The Washington Post, за год президентства Джо Байдена его администрация выдвинула кандидатов, проверила их квалификацию и получила одобрение Сената лишь на одну треть из примерно восьмисот вакансий, отслеживаемых этой газетой. Среди важнейших позиций, оставшихся незанятыми, должности послов в Южной Корее и на Украине, помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока и помощника министра обороны по вопросам международной безопасности. Белый дом и Конгресс, разделяющие ответственность за эти задержки, должны ускорить процесс утверждения политических назначенцев. Необходимо также сократить их ряды. Хотя такие назначенцы привносят свежий взгляд на вещи и привержены повестке президента, Соединённые Штаты могли бы иметь вдвое меньше таких кадров. Как бы болезненно ни относились к этому демократы и республиканцы, двухпартийный подход к сокращению числа политических назначенцев и ускоренное рассмотрение их кандидатур принесёт больше пользы, чем любой новый документ по национальной безопасности.
Искусство государственного управления также подразумевает важный выбор – например, настойчивые попытки посеять раскол в стане врагов. Во время Вашингтонской конференции об ограничении морских вооружений и проблемах Дальнего Востока и бассейна Тихого океана (1921–1922) Соединённые Штаты направили переговоры в определённое русло, чтобы разорвать англо-японский союз – возможно, наиболее опасные внешнеполитические отношения того времени. В 1960-е и 1970-е гг. они эксплуатировали китайско-советский раскол для ослабления коммунистического мира. Сегодня Вашингтону необходимо вбить клин между Китаем и Россией, что будет, учитывая антиамериканские и антидемократические настроения лидеров обеих стран, задачей непростой, но не такой уж немыслимой в долгосрочной перспективе. Хотя Пекин и Москва с глубокой опаской относятся к попыткам развести их, у них разные внешнеполитические цели. Россия стремится сломать сложившийся миропорядок, Китай хочет приспособить его к своим интересам. Безусловно, США найдут способы усугубить опасения России по поводу китайской динамики и напора, с одной стороны, а также сыграть на презрительном отношении Китая к некомпетентности России — с другой. Дело не в том, чтобы расколоть Китай и Россию в ближайшей перспективе, что не представляется возможным, а в том, чтобы максимально использовать трения в их отношениях.
Разумная прагматичность и конъюнктурность особенно ценны в эпоху неформальных союзов и тайных отношений. Вашингтон склонен преуменьшать значение таких связей, считая, например, талибов проблемой Афганистана, хотя это также вызов Пакистану, или рассматривая «Аль-Каиду» как трудности для Ирака, хотя это также относится и к Ирану. Правильное решение начинается с открытого и уверенного выявления таких связей. Опять же, имеются возможности разделять оппозицию: например, Вашингтону следует усилить неявное соперничество между Россией и Турцией за влияние, встав на сторону Азербайджана (союзника Турции) в конфликте вокруг спорного региона под названием Нагорный Карабах.
Наконец, американское государственное управление должно включать в себя внутренний компонент. Внешнеполитическая элита США привыкла десятилетиями принимать решения, не задумываясь об общественном мнении. Например, была начата активная торговля с Китаем, но никто не думал, что это приведёт к сокращению рабочих мест в американской промышленности. Сегодня элита говорит об абстрактных целях, таких как расширенное сдерживание, которые имеют смысл в Вашингтоне, но никогда не получат поддержку американского народа. У американцев нет особых причин доверять экспертам, проводящим внешнюю политику, и они слабо представляют себе, на что подписываются их лидеры и по каким причинам. Политики должны внятно увязывать развитие событий в кризисных зонах с интересами Соединённых Штатов, чётко объясняя, например, каким образом независимый Тайвань связан с американскими ценностями (самоопределение и свобода) и служит американским интересам (сохранение одной из самых продуктивных экономик мира, независимой от Китая).
Кризис 2022 г. на Украине – яркий пример необходимости заменить большую стратегию искусством государственного управления.
Администрация Байдена, как и её предшественники, правильно расценивает Китай как главного конкурента Соединённых Штатов. Однако решение Путина начать боевые действия на Украине стало неожиданной встряской. Требовалась быстрая реакция, надо отдать должное администрации Байдена, она действовала не только проворно, но и хитро, обнародовав разведданные за несколько недель до вторжения, чтобы подорвать попытки России заложить основу для своих действий и расколоть Европу.
Кризис на этом, конечно, не закончился. Впереди маячит опасный период, когда Москва будет испытывать решимость Запада. Например, заявит о праве защищать русскоговорящих жителей стран Балтии или настаивать на роспуске НАТО в Восточной Европе. Хуже того, попробует проверить приверженность альянса коллективной обороне, запустив ракету или две в пункты перевалки оружия, направляющегося на Украину. Чтобы противостоять таким угрозам, Соединённым Штатам потребуется не большая стратегия, а постоянство в противостоянии с Россией, изобретательность в снабжении Украины и главных союзников по НАТО при одновременной изоляции российской экономики и тонком руководстве процессом перевооружения Европы.
Аргументы в пользу прагматизма
США уникальны в силу многих вещей: национальной идентичности, основанной на ценностях, огромных размеров, выгодного географического положения, подавляющей мощи и 250-летней истории несовершенной, но успешной демократии. Однако сегодня страна вступает в период вызовов, для решения которых грандиозная стратегия с её склонностью к большим упрощениям будет не очень полезна. Придётся прокладывать путь в сложном мире, управлять кризисами, творить всё больше добра там, где это возможно, и противостоять злу там, где это необходимо.
В перспективе внешняя политика Соединённых Штатов не станет отголоском трубного гласа, прозвучавшего в инаугурационной речи Джона Кеннеди в 1961 г., – нести любое бремя, справляться с любыми трудностями. Скорее на вооружение следует взять заветы принципиальности и прагматизма, которые в аналогичной речи 1905 г. предложил Теодор Рузвельт: «Нам многое дано, и от нас многое по праву ожидается. У нас есть обязанности перед другими и обязанности перед самими собой; и мы не можем уклоняться ни от того, ни от другого. Мы стали великой нацией, вынужденной в силу своего величия вступать в отношения с другими народами Земли, и мы должны вести себя так, как подобает народу, взвалившему на себя такую ношу».
Рузвельт на протяжении всей карьеры тщательно изучал внешнюю политику и старался объяснить её американцам, живущим за пределами космополитических городов северо-востока страны. Он был проницательным практиком. Будучи помощником министра военно-морского флота, а затем и президентом, Теодор Рузвельт помог возродить армию и флот, сделав их пригодными для нужд зарождающейся мировой державы. В 1905 г. он воспользовался возможностью выступить посредником на мирных переговорах между Японией и Россией, потому что это было выгодно Соединённым Штатам. Предвидел проблемы Первой мировой войны задолго до того, как это дошло до большинства американцев, и выступал за более раннее вмешательство США, которое вполне могло бы сократить срок конфликта. Он уравновешивал идеалы и интересы. Неустанно интересовался миром, в котором работал, читал на иностранных языках и много путешествовал. Рузвельт действовал в эпоху, когда Соединённые Штаты являлись могущественной, но едва ли доминирующей страной, и когда в мире действовали многочисленные разнонаправленные силы. Его прагматизм, движимый принципами, не был большой стратегией. Но он сработал.
Опубликовано в журнале Foreign Affairs № 3 за 2022 год. © Council on foreign relations, Inc.

Вестфальская система: переосмысление
На данном этапе истории необходима новая версия Вестфальского договора
ДАРИО ВЕЛО
Ординарный профессор Университета Павии.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:
Вело Д. Вестфальская система: переосмысление // Россия в глобальной политике. 2022. Т. 20. No. 4. С. 132-135.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «ВАЛДАЙ»
Исторические процессы движимы реальными событиями, которые развиваются постепенно, пока не приводят к серьёзным поворотам. Часто они не воспринимаются большинством до момента, пока не произведут существенных изменений. Но затем обретают символическое значение, усиливающее понимание того, что что-то меняется.
В последние недели мы стали свидетелями одного из таких символических событий, которое заставило многих осознать далекоидущие перемены.
В ООН предложение об осуждении действий России в отношении Украины было одобрено подавляющим большинством в 140 голосов при 40 против и воздержавшихся. Не сразу стало понято, что это меньшинство охватывает более 50 процентов населения мира и включает в себя страны, развивающиеся самыми высокими темпами в экономической, военной и стратегической областях. Это голосование свидетельствует о кризисе влияния ООН, о формировании нового международного порядка, что требует адаптации деятельности основных международных организаций.
В прошлом мы уже не раз были свидетелями глубоких изменений в международном порядке. Вестфальский договор представляет собой фундаментальную основу современной истории; логика, на которой он основан, сохраняет актуальность и сегодня и может способствовать сбалансированному развитию нового международного устройства. Вестфальский договор положил конец Тридцатилетней войне, опустошившей Европу. Европейские государственные деятели считали гарантией стабильности и безопасности баланс сил и ограничение их применения. Порядок, санкционированный Вестфальским договором, исходил из реальности; применение принципов, согласованных тогда, должно было обуздать попытки нарушить баланс благодаря формированию коалиций, способных действовать в качестве противовеса.
Фундаментальные цели Вестфальского договора и его актуальность можно определить как долгосрочную попытку прервать традиционный сценарий истории, противопоставляющий развивающиеся страны тем, которые приходят в упадок. Последние всегда прибегали к войне, чтобы заблокировать рост поднимающихся держав, прежде чем баланс сил склонялся в пользу последних. Многие эксперты (среди которых самым выдающимся, безусловно, является Генри Киссинджер) интерпретировали войны, которые вели Соединённые Штаты на границах Китая и России, как попытку сдержать утверждение этих новых держав.
При этом между эпохой Вестфальского договора и современными событиями существует важное отличие. Договор санкционировал европейский и мировой порядок одновременно, это проистекало из центральной роли, которую в то время играла Европа. Государственные деятели тогда предполагали, что решения, действительные для Европы, автоматически распространятся на всё мировое сообщество.
Сегодня это не так. Возникает проблема понимания, какое содержание должен иметь «новый Вестфальский договор», действующий на глобальном уровне, а какое – для европейского континента в широком смысле, учитывая российские территории в Азии. Два предполагаемых новых договора могут различаться скорее по срокам принятия, чем по общему подходу. Логически мировой договор должен предшествовать континентальным. С точки зрения необходимости разрешить текущий кризис европейский договор может предшествовать мировому, предвосхищая его развитие. В обоих случаях Европейский союз должен сыграть решающую и очень сложную роль.
Трагедия двух мировых войн, фактически – европейских гражданских войн, требует от Евросоюза отказа от насилия как инструмента международной политики в пользу авторитета собственной инициативы. Швейцария служит здесь примером.
Можно ли превратить Европейский союз в большую нейтральную Швейцарию, способную защитить свою территорию в случае агрессии? Выбор сложен, ибо необходимо преодолеть тысячелетнюю историю Европы, чтобы его сделать.
Новые договоры призваны обновить существующие международные институты, находящиеся в кризисе из-за своего «первородного греха». Нынешние структуры родились в послевоенный период по инициативе Соединённых Штатов. США были убеждены, что действуют в интересах всего человечества благодаря превосходству своей демократической системы, преданности миру и солидарности, провозглашённой ещё отцами-основателями, а они представляли тех, кто эмигрировал из Европы в поисках земли обетованной.
Все президенты Соединённых Штатов в послевоенный период в разных формулировках, но в одном и том же ключе заявляли об исключительной роли Америки в мире и её предназначении сеять добро. Американская модель должна была применяться повсеместно как самая лучшая, а не потому, что её поддерживала гегемонистская держава.
Реальность сложнее. История породила разные культуры, разные религии, разные социальные модели. Каждое общество стремится к тому, чтобы уважались его культура, язык, его выбор того, как жить. Богатство мира в разнообразии, воля к утверждению единой модели обречена на провал. Это верно независимо от того, проистекает ли неприятие разнообразия из миссионерского духа или из суверенного видения. Федерализм утверждает принцип союза между разными людьми при взаимном уважении.
Новые договоры и новые международные институты необходимы, чтобы гарантировать фундаментальный принцип: все страны вносят свой вклад в разработку международной системы и в управление ей. Страна, которая не участвует в разработке международных институтов, не может чувствовать себя представленной там. Правила станут соблюдаться, если каждое государство внесёт что-то в их формирование согласно общим процедурам.
Западная демократия – не единственно верное решение, поскольку она может не отвечать особенностям той или иной цивилизации.
Утверждение мирового порядка, поддерживаемого консенсусом, подразумевает, что каждое сообщество должно осознавать право на защиту своих ценностей с помощью конституционных инструментов. На данном этапе истории необходима новая версия Вестфальского договора, адаптированная к сегодняшним реалиям и оснащённая международными институтами, способными управлять общим порядком.
Данный комментарий написан по заказу Международного дискуссионного клуба «Валдай» и опубликован на сайте клуба. Эту и другие статьи автора можно найти по адресу: https://ru.valdaiclub.com/about/experts/19672/

Альтернативы нет?
НАТО – в прошлом и будущем
ТОМАС МИНИ
Научный сотрудник Общества Макса Планка в Геттингене.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:
Мини Т. Альтернативы нет? // Россия в глобальной политике. 2022. Т. 20. No. 4. С. 114-131.
НАТО возвращается. У Организации Североатлантического договора начинается новая жизнь на первом месте во внешнеполитической повестке. Скандинавские страны, прежде гордившиеся независимостью от этого блока, теперь стремятся присоединиться к нему. Правительство Германии пообещало беспрецедентное наращивание оборонных расходов, что означает увеличение вклада в бюджет НАТО. Американские военные стратеги снова мечтают о натовских базах в Тихоокеанском бассейне, а бюрократы ЕС планируют новый атлантический альянс для Интернета. Бывшие приверженцы либеральных идей, скептически относившиеся к блоку, научились любить его примерно так, как полюбили ЦРУ и ФБР в годы правления Трампа. Старый шериф холодной войны вновь приковал к себе всеобщее внимание и, к удивлению многих наблюдателей, доказал, что является удивительно энергичной и дееспособной силой в борьбе против России.
Возвращение Североатлантического блока в лучи прожекторов сопровождалось возобновлением дебатов о его истории. У каждой заинтересованной стороны своя версия. Для Москвы НАТО давно является проектом по подчинению России и сведению её влияния к воспоминаниям. Для Вашингтона организация возникла как способ защиты западноевропейцев от самих себя и Советского Союза, но в 1990-е гг. превратилась в действенный способ продвижения демократии, прав человека и капитала. Для восточноевропейских стран – это священный обет сдерживать русские танки. Для большинства западноевропейских государств – американский ядерный зонтик по выгодной цене, который позволял им финансировать социальное программы, а не армию, оправдывая невыполнение обязательств перед НАТО необходимостью жёсткой экономии. Для остального мира организация когда-то была атлантическим оборонительным договором, который быстро превратился в наступательный альянс, действующий на всё более дальних рубежах.
Поразительной особенностью заезженных споров о НАТО является то, что все они предполагают высокую степень знакомства с предметом. Однако, хотя организация занимает центральное место в определённой концепции Европы (или даже Запада в целом), мало кто может сказать, что именно она собой представляет. В аббревиатуре из четырёх букв заключено нечто большее, чем просто военный альянс. НАТО больше не является «Северным» «Атлантическим» «договором», а такая характеристика, как «организация», может создавать впечатление, будто это что-то вроде благотворительной миссии. Отчасти очертания НАТО так трудно определить потому, что альянс – по крайней мере, на Западе – выиграл долгую войну с общественностью. В 1950-е гг. НАТО отправляла передвижные «караваны» – массовые выставки и кинотеатры под открытым небом – во внутренние районы Европы, чтобы объяснить скептически настроенному населению преимущества альянса. Теперь уже нет необходимости в столь настойчивых доводах, и противодействие значительно уменьшилось с 1980-х годов. То, что когда-то считалось артефактом холодной войны, сейчас так удобно расположилось в центре военно-политико-экономической системы Запада, что часто принимается за естественную характеристику европейского ландшафта.
От обороны к наступлению
Формально НАТО – объединение тридцати национальных государств, приверженных свободным институтам и связанных между собой Пятой статьёй своего устава, которая гласит, что – пусть и условно – страны — члены НАТО будут коллективно защищать любую страну-участницу, подвергшуюся нападению. Созданная в 1949 г., организация считает себя младшей сестрой других международных институтов середины века – ООН и ГАТТ (затем – Всемирная торговая организация) и гордится тем, что более полувека сохраняет мир в Европе. В военном, а то и в экономическом плане НАТО в значительной степени выполнила миссию, сформулированную первым генеральным секретарём организации Гастингсом Исмеем: «Держать русских на отдалении, американцев под боком и немцев в подчинении».
Хотя в первую очередь речь идёт о военном союзе, он также представляет собой своеобразную культуру, или, как заявил третий верховный главнокомандующий союзными войсками альянса Альфред Грюнтер, «НАТО – это состояние духа». Континент буквально усеян городами, связанными с НАТО (Брунсум, Рамштайн, Гейленкирхен, Обераммергау, Удем, Авиано, Свентошув), существуют школы для детей сотрудников альянса, академии и центры, где преподаются его военные программы («умная подготовка для умной обороны»), натовский оборонный колледж в Риме, натовский подземный трубопровод авиационного топлива, проходящий через Германию, натовский песенник, натовский гимн, натовская баллада Бинга Кросби, натовский фонетический алфавит («Альфа, Браво…»), гранты и университетские кафедры, финансируемые альянсом, ежегодная Международная модель НАТО для студентов университетов, натовский шарф Hermès, гольф-клуб в Бельгии для игроков с гандикапом 36 и ниже, штаб-квартира в Брюсселе, где находится финансируемое Великобританией подразделение «контрпропаганды», а также музей НАТО, или, как говорят на тамошнем жаргоне, «центр художественного наследия», где выставлены копии античных греческих скульптур и большое количество ничем не примечательных деревянных столов.
На бумаге бюджет НАТО составляет относительно скромные 2,5 млрд евро, взносы поступают от всех членов, но оборонный бюджет США в 800 млрд долларов гарантирует, что организация может тратить большую часть собственных средств на содержание бюрократии. Несмотря на утверждения, что все решения принимаются «консенсусом», альянс почти не пытается скрыть факт американского превосходства. Официальная процедура выхода из блока, прописанная в уставе, гласит, что государство должно заявить об этом намерении не генеральному секретарю НАТО, а президенту Соединённых Штатов.
По сути, НАТО – это прежде всего политическое соглашение, которое гарантирует первенство США в формулировании ответов на европейские вопросы.
Политическая штаб-квартира расположена в новом модернистском здании в Брюсселе, но её самый важный командный центр находится в Норфолке, штат Вирджиния. Все верховные главнокомандующие союзников с 1949 г. были американцами. У НАТО нет собственных вооружённых сил. В её состав входят около четырёх тысяч чиновников, которые координируют деятельность организации по всему миру. Вооружённые силы состоят из войск, добровольно прикомандированных правительствами стран-членов, но главным поставщиком являются Соединённые Штаты. Войны и участие в них НАТО – в результате которых люксембуржцы и турки оказывались втянутыми в военные действия на Корейском полуострове, а испанцы и португальцы вынуждены были участвовать в афганской кампании – как правило, инициируются Вашингтоном. Даже те операции, в которых участвовали преимущественно европейцы – например, интервенция НАТО в Ливию, – в подавляющем большинстве случаев опирались на американскую логистику, заправочные станции и технику.
Жемчужина в короне НАТО – ядерное оружие. Теоретически три ядерные державы – Великобритания, Франция и США – координируют ядерную оборону для остальных членов альянса. Он содержит ядерные силы на континенте, но их отличает преимущественно церемониальный характер. Если Москва нанесёт ядерный удар по Брюсселю, ответ последует из Вашингтона в одностороннем порядке, поскольку соблюдение формальных процедур НАТО связано с утомительными протоколами (ядерная группа должна сначала провести совещание, договориться об ответе, а затем запросить у Вашингтона часть ядерного кода для запуска ракет, размещённых на территории Европы). Самолёты с ядерным оружием в Бельгии пилотируются и обслуживаются бельгийцами, как и в Германии, Италии и Нидерландах. Но ни одна из этих систем вооружений не находится в столь же высокой степени боевой готовности как американская, которую президент способен активировать без разрешения любого другого государства-союзника. Только Франция и Великобритания, обладающие собственными полностью независимыми ядерными силами, имеют возможность уничтожить своих врагов ядерным ударом без консультаций с Белым домом.
С 1949 г., момента появления НАТО, погребальный звон по этой организации звучал уже много раз. Особенно часто её хоронили те, кто забывает, что кризисы – источник силы НАТО. Сам альянс был почти мертворождённым. В конце Второй мировой войны Франклин Рузвельт ожидал, что и западные, и советские войска покинут Центральную Европу в течение двух лет. Но западноевропейские государственные деятели хотели, чтобы США обеспечили гарантии безопасности, пока они будут восстанавливать свои экономики.
Было много предложений, как оформить этот пакт безопасности. Американский стратег Джордж Кеннан предложил систему «гантелей», в которой Западная Европа имела бы собственную систему обороны, а Канада и США – отдельную от неё, но могли бы прийти на помощь Западной Европе в маловероятном случае советского вторжения. Выдающийся либеральный журналист Уолтер Липпманн утверждал, что Вашингтону нет смысла размещать войска в Европе, поскольку ядерное оружие сделало обычные силы ненужными в современном мире. Однако ведущие антикоммунисты, такие как Эрнест Бевин и Дин Ачесон, отвергли подобные идеи. Они знали, что Красная Армия, только что победившая нацистов, была не только самой сильной на европейском континенте, но и пользовалась популярностью в Западной Европе, что не могло не тревожить.
Бевин и его европейские коллеги создали так называемый Западный союз, расширив послевоенный Дюнкеркский договор между Францией и Великобританией за счёт включения в него Люксембурга, Нидерландов и Бельгии. Когда эта организация попросила Вашингтон предоставить обязывающие гарантии безопасности, американские дипломаты взяли проект под контроль и направили его в русло, которое затем привело к образованию НАТО – гораздо более обширного пакта безопасности, в который вошли 12 государств во главе с Соединёнными Штатами. В то время дебаты о «расширении» сводились к тому, стоит ли включать в альянс такие государства, как Италия. Кеннан считал идею расширения на юг Европы «умеренно провокационной» по отношению к Советскому Союзу, поскольку она закладывала основу для последующего безграничного расширения. Он считал, что НАТО имеет смысл только как пакт между расово и культурно схожими народами Северной Атлантики, и сокрушался по поводу альянса, который заморозит фронт холодной войны в Центральной Европе.
С самого начала НАТО была непопулярна у широкой общественности. Гарри Трумэн не рискнул говорить о планах создания Североатлантического альянса перед уставшей от войны американской общественностью во время своей первой президентской кампании. Французские коммунисты и националисты – расходившиеся почти по всем вопросам – сообща протестовали против вступления Франции в НАТО в 1949 году. По всей Италии прошли массовые антинатовские выступления. Крупнейший мятеж в послевоенной истории Исландии случился после того, как это островное государство присоединилось к альянсу. В ходе переговоров между Рейкьявиком и Вашингтоном возник обширный репертуар исландских антинатовских гимнов и песен. Накануне вступления Исландии в блок приверженец коммунистических идей и будущий нобелевский лауреат Халлдор Лакснесс опубликовал роман «Атомная станция: что осталось от Исландии», в котором молодая женщина с севера становится свидетелем того, как элита Рейкьявика за закрытыми дверями продаёт страну чиновникам НАТО.
Первое послевоенное десятилетие было бурным для НАТО. Когда экономическое восстановление Европы шло полным ходом, ослабла убеждённость, что континент нуждается в американской гарантии безопасности. Война Гарри Трумэна в Корее показала, как легко США могут перенапрячься. В ответ западноевропейские лидеры разработали планы создания Европейского оборонного сообщества, которое должно было объединить неокрепшие армии Западной Германии, Франции, Италии и стран Бенилюкса. Но проект европейской армии развалился почти сразу же, как только был представлен. Великобритания увидела в объединённых силах угрозу своему национальному суверенитету. Францию больше беспокоило возрождение Германии, чем советское вторжение.
Парадоксально, но это стремление западноевропейских государств к независимости от Вашингтона в итоге привело к тому, что они ещё решительнее утвердились в составе альянса, оказавшегося единственным механизмом, способным сгладить их разногласия.
НАТО, возможно, зарождалась как временная мера безопасности, но вскоре превратилась в гарант западной стабильности в таких формах, которые не могли представить себе его архитекторы. Для США огромные оборонные бюджеты стали образом жизни и наименее спорным способом содействия государственным тратам в послевоенной экономике, которая всё ещё стремилась к полной занятости. То, что страна так и не смогла полностью примириться с этой постоянной милитаристской позой, отражено в ритуальных обещаниях почти каждого послевоенного американского президента сократить численность американских войск в Европе, которые в итоге не выполнялись. Между тем американская оборонная щедрость позволяла западноевропейцам направлять больше средств на создание государства всеобщего благоденствия для умиротворения своих более воинственных рабочих движений.
Достигнув в 1950-е гг. политической стабильности, НАТО тем не менее никогда не была свободна от проблем. В 1955 г. Вашингтон включил в альянс Западную Германию, на что Советы отреагировали созданием Варшавского договора – собственной системы безопасности. Год спустя НАТО подверглась серьёзному удару, когда Суэцкий кризис обнажил разногласия между её членами, желавшими удержать колониальные владения, и Вашингтоном, который стремился завоевать расположение националистов из стран третьего мира, чтобы не допустить их перехода в коммунистический лагерь (Бельгия, Франция и Нидерланды изначально даже хотели включить свои колонии в состав НАТО, что было слишком сложно для Вашингтона). У командования альянса сохранялось двойственное отношение к Британской империи. С одной стороны, Североатлантический блок способствовал упадку империи, требуя от Великобритании выполнения обязательств по размещению тысяч британских войск на Рейне ценой возможной потери более важных колониальных узлов, таких как Сингапур. Но американские стратеги также опасались, что уход Великобритании с богатого ресурсами Ближнего Востока оставит после себя вакуум, который НАТО попыталась заполнить, создав Организацию Ближневосточного договора (METO), одну из нескольких неудачных попыток собственного воспроизводства.
1960-е гг. в НАТО вспоминают как время непрекращающегося форс-мажора. В течение многих лет терпение Шарля де Голля в отношении альянса было на пределе. «НАТО – это фальшивка, – заявил он в 1963 г. – Из-за НАТО Европа поставлена в зависимость от Соединённых Штатов, хотя внешне этого не видно». Три года спустя де Голль вывел Францию и её ядерное оружие из-под командования блока. (Это скорее было театральным жестом, нежели реальным событием: участие Франции в натовских учениях и обмен технологиями остались почти неизменными, и страна по-прежнему сохранила членство в альянсе.)
Решение де Голля отчасти было результатом его заблуждения относительно великодержавного статуса Франции. Но он также видел Россию естественной частью Европы, отгороженной холодной войной, которая, по его словам, когда-нибудь закончится. По мнению де Голля, вашингтонский капитализм и московский коммунизм на самом деле удивительно похожи, поскольку в обеих странах построено технократическое общество. Он видел в НАТО сознательную попытку Соединённых Штатов замедлить ход истории, чтобы продлить время, когда Вашингтон является ведущей мировой державой. Но несмотря на переполох, который де Голль вызвал среди приверженцев холодной войны, и последовавшие за этим многочисленные некрологи по поводу альянса, половинчатый выход Франции, возможно, даже укрепил его. Это позволило более полно интегрировать Западную Германию и начать бить тревогу по поводу недостаточного вклада других стран в обороноспособность.
В эти десятилетия противодействие НАТО было лозунгом западноевропейских левых. Они считали её не только блоком против Советов, институциональной формой бряцания ядерным оружием, но и классовым союзом между американскими и европейскими правящими кругами, решившими не менее надёжно укрепить оборону против внутренней оппозиции – будь то слежка за французскими коммунистами или искоренение членов Фракции Красной Армии в Германии, взрывавших натовские трубопроводы.
НАТО не особенно волновали внутриполитические порядки в странах-членах, коль скоро они были непримиримо антикоммунистическими по сути. Португалия при диктатуре Салазара присоединилась к НАТО в 1949 г., а в 1967 г., когда греческие полковники-фашисты использовали скопированные у НАТО планы по борьбе с повстанцами для свержения демократически избранного правительства, законное требование Скандинавских стран об исключении Греции было отклонено.
Однако были и более серьёзные угрозы единству НАТО, такие как вооружённое столкновение Греции и Турции из-за Кипра в 1974 году. Совсем недавно, после интервенции НАТО в Ливию 2011 г., ополченцы, поддерживаемые Турцией и Италией, сражались с ливийской армией генерала Хафтара, получавшей помощь Франции. Единство НАТО дало ещё одну трещину в 2018 г., когда Турция начала осаду курдов – союзников США и Западной Европы в Сирии, а Эммануэль Макрон объявил об «отмирании мозга» альянса. Психологический удар был нанесён и во время президентства Дональда Трампа, который любил публично ставить под сомнение цели альянса и отказался хотя бы дежурно поддержать Пятую статью во время посещения штаб-квартиры, хотя увеличил военные расходы США и численность войск в Европе.
Но самый серьёзный экзистенциальный кризис случился в 1990-е гг., когда рухнул главный смысл существования альянса – Советский Союз. В новых условиях даже функционеры не знали, какое будущее ждёт организацию. У НАТО оставалась лишь неясная перспектива стать чистильщиком, помогающим в демонтаже и утилизации советского ядерного арсенала. Исчез призрачный стержень, а ряд новых институтов – прежде всего Европейский союз – казалось, сулили Европе будущее, отличающееся большей спаянностью, а также независимостью от США. Ещё до падения Советского Союза появились предложения создать новые политические механизмы, включая недолговечную идею Франсуа Миттерана о Европейской конфедерации, в которую был бы включён СССР, а США, наоборот, не входили бы. В 1989 г. Михаил Горбачёв напомнил о старой мечте де Голля о Европе от Атлантики до Урала, он говорил об «общем европейском доме», где «доктрина сдержанности» должна заменить доктрину сдерживания.
Несколько видных участников событий и наблюдателей считали, что Североатлантический альянс, выполнив миссию, закроет лавочку. «Давайте распустим и НАТО, и Варшавский договор. Давайте освободим ваших и наших союзников», – азартно предложил Эдуард Шеварднадзе, советский министр иностранных дел, госсекретарю США в 1989 году. Позже в том же году лидер Чехословакии Вацлав Гавел сказал Джорджу Бушу-старшему, что, по его мнению, американские и российские войска скоро покинут Центральную Европу. Видные американские стратеги согласились с этим. С распадом Советского Союза пришло время европейцам взять свою безопасность в собственные руки, а Соединённым Штатам – вывести войска с континента. «Советская угроза – это клей, который удерживает НАТО от распада, – писал в 1990 г. Джон Миршаймер, один из ведущих американских теоретиков международных отношений, в журнале Atlantic Monthly. – Уберите эту угрозу, и Соединённые Штаты, скорее всего, покинут континент». Если взглянуть на результаты деятельности натовской бюрократии 1990-х гг., то можно увидеть множество панических документов с изложением способов продления жизни больного пациента.
Но кризис 1990-х гг. также оказался звёздным часом. В течение десятилетия организация не только не закрылась, но и расширилась. Она не ушла на задний план как рудимент холодной войны, но стала ещё более активной. «НАТО должна выйти за пределы своей территории, иначе она останется не у дел», – повторяли натовские аппаратчики эту своего рода мантру на протяжении всего десятилетия. За несколько лет НАТО превратилась из преимущественно оборонительной организации в беспардонно наступательную, а из геополитически консервативного хранителя статус-кво в проводника перемен в Восточной Европе. Как это произошло?
Коктейль идеализма и реализма
Глядя на руины Советского Союза, администрация Джорджа Буша-старшего решила, что новым вызовом для НАТО является не зарождающаяся Российская Федерация, а объединённая Европа. «Мы должны стремиться предотвратить появление механизмов безопасности только для Европы, которые подорвут НАТО», – говорилось в черновике просочившегося в Сеть меморандума Совета национальной безопасности 1992 года. В своей публичной риторике администрация Буша была осторожна, когда речь заходила о расширении НАТО. Но на практике она была триумфатором холодной войны: несмотря на громкие протесты Горбачёва, Буш включил в состав альянса объединённую Германию. Вскоре после этого началось обучение украинских военных.
Когда в 1992 г. Билл Клинтон стал президентом, риторика экспансии совпала с практикой. В 1999 г. Клинтон руководил принятием Польши, Венгрии и Чехии в блок, а к России относился как к рухнувшему государству, каковым она в то время и была. В том, что Клинтон удвоил усилия в отношении НАТО, была определённая ирония. Во многих отношениях он казался идеальной фигурой для того, чтобы закрыть альянс. Во время предвыборной кампании 1992 г. Клинтон говорил о сокращении НАТО в пользу более новых, изощрённых военных подразделений «быстрого развёртывания» при ООН. Первоначально Клинтон скептически относился к расширению НАТО на восток. «Итак, давайте разберёмся», – сказал он своим сотрудникам по национальной безопасности, когда их знакомили с планом расширения. Всё, что русские получат «от этой действительно замечательной сделки, которую мы им предлагаем», так это гарантию того, «что мы не будем ввозить нашу военную технику на территорию их бывших военных союзников, которые теперь станут нашими союзниками; если только мы не проснёмся однажды утром и не решим передумать».
Однако в итоге Клинтон дал добро на расширение, и оно было активно продолжено его администрацией по трём основным причинам. Во-первых, на Пентагон надавили бывшие страны Варшавского договора. Для такой страны, как Польша, членство в НАТО было первым шагом к переориентации Варшавы на богатый Запад. «Пусть российские генералы расстраиваются, – заявил в 1993 г. своему американскому коллеге польский лидер Лех Валенса. – Они не начнут ядерную войну». Второе было связано с внутриполитическими расчётами Клинтона и с тем, что поддержка членства в НАТО могла бы привлечь голоса крупных восточноевропейских эмигрантских анклавов в американском «ржавом поясе», что было немаловажным соображением для администрации, сосредоточенной в основном на внутренней политике.
Последняя причина связана с кристаллизацией идеологии прав человека в 1990-е гг., когда глобальное доминирование США было настолько велико, что опасения по поводу посягательства на суверенитет иностранного государства не принимались в расчёт. К концу холодной войны многие бывшие критики НАТО приняли и одобрили организацию, видя в ней единственное жизнеспособное средство для новой программы гуманитарного вмешательства. К 1995 г. генеральным секретарем НАТО стал Хавьер Солана, написавший в 1982 г. трактат «Пятьдесят причин сказать НАТО нет», который помог тогда его Социалистической партии победить на выборах в Испании. Когда-то он даже был включён американцами в список подрывных агентов.
Бомбардировки Боснии и Герцеговины в 1995 г., а затем Косово в 1999 г. стали демонстрацией нового места НАТО в мировом порядке после окончания холодной войны. Решение Клинтона бомбить бывшую Югославию было принято не только в обход Совета Безопасности ООН; оно ещё и доказало, что Евросоюз, и особенно Германия, не способны разрешать кризисы безопасности в собственном регионе. Но это была и демонстрация силы, которая, возможно, потрясла Кремль больше, чем расширение НАТО. Война стала преддверием грядущих преобразований: опоры на высокотехнологичные беспроигрышные военные операции, которые не требуют участия наземных войск Соединённых Штатов, а также ожидания того, что возглавляемые НАТО интервенции могут мгновенно создавать новых союзников, таких как косовские албанцы, называющие своих детей в честь Клинтона и Буша.
Вера администрации Клинтона в расширение НАТО и натовские военные действия отражала веру в капитал и рынки. С этой точки зрения НАТО должна была действовать как некое подобие рейтингового агентства, которое объявляло части Восточной Европы безопасными зонами для иностранных инвестиций и в конечном счёте членства в ЕС. «Мы будем стремиться обновить НАТО таким образом, чтобы за расширением рыночных демократий следовала важнейшая коллективная безопасность», – заявил в 1993 г. советник Клинтона по национальной безопасности Энтони Лейк.
Американским политикам трудно было устоять перед искушением и отказаться от этого коктейля из разговоров о рынках и демократии, а также геостратегических интересов: он казался идеальным сочетанием реализма и идеализма.
К концу десятилетия только ретивое охвостье рыцарей холодной войны – от американского государственного деятеля Пола Нитце до консервативного историка Ричарда Пайпса – все ещё выступало против расширения. Ранее скептически настроенные американские политики, такие как Джо Байден, совершили турне по Восточной Европе и вернулись в Вашингтон новообращёнными сторонниками экспансионистского курса. Аналогичным образом противники внутренней политики Клинтона из числа республиканцев, например, Ньют Гингрич, который однажды занял у своих друзей 13 тысяч долларов, чтобы провести академический отпуск в Европе для написания романа о НАТО (который так и остался незавершённым), были полностью согласны с расширением. Это закрепили в республиканском манифесте «Контракт для Америки». Радикализируя позицию самого Клинтона, они лишь хотели, чтобы тот действовал быстрее.
Украина стала предметом особого интереса в годы правления Клинтона и была третьим по величине получателем средств от Агентства США по международному развитию (USAID) в 1990-е гг., уступая только Египту и Израилю. До начала боевых действий в 2022 г. она получила более 3 млрд долларов; после Соединённые Штаты уже выделили ей 14 миллиардов и обещали ещё 33 млрд долларов. С течением времени активность военных инструкторов НАТО по подготовке и обучению украинских коллег резко возрастала. Начиная с вмешательства Клинтона в косовскую войну 1999 г. украинских военнослужащих можно было встретить почти в каждой операции под руководством США, включая Афганистан и Ирак. Стойкое сопротивление украинской армии российским войскам, пожалуй, не должно вызывать слишком большого удивления: ведь значительная часть украинских военных прошла подготовку в НАТО, они способны эффективно использовать натовские вооружения.
К моменту прихода к власти Джорджа Буша-младшего в 2001 г. НАТО всё ещё грелась в лучах славы после войны на Балканах, где она и сегодня управляет мини-государством Косово, которое сама же и создала. После терактов 11 сентября, когда администрация Буша впервые сослалась на Пятую статью, НАТО добавила в свой портфель глобальную координацию борьбы с терроризмом, практически закрыв глаза на внутреннюю антитеррористическую кампанию России, а также на первые крупные действия Пекина против уйгуров в провинции Синьцзян. Хотя Буш разделял веру Клинтона в неизбежный триумф американского пути, он хотел избавиться от некоторого притворства, присущего натовскому альянсу. Если Вашингтон – единственная сила в НАТО, имеющая значение, и человечество уже вступило в однополярный мировой порядок, какой смысл ждать, пока американские желания поддержат бельгийцы?
Таким образом, война Буша в Ираке велась вопреки критике некоторых членов НАТО, таких как Франция и Германия, реальную военную силу которых Буш считал несущественной. В годы Буша можно было либо быть на стороне США, либо выступать против их действий. Совершенно очевидно, что восточные европейцы были с Соединёнными Штатами, и Буш хотел щедро их вознаградить. Поэтому, несмотря на предупреждения Германии и Франции, Буш не считал нужным прислушиваться к требованиям России не обещать Грузии и Украине членства в НАТО, и в 2008 г. обнадёжил их скорым присоединением к альянсу. По мере сближения Восточной Европы и Вашингтона, Варшава, Будапешт и Прага (возглавляемые националистами, которым гораздо больше нравился национализм в американском стиле, чем постнационализм, восхваляемый Брюсселем) не упустили из виду тот факт, что Соединённые Штаты могут также служить полезным союзником в их спорах внутри Европейского союза.
Корсет холодной войны
Самыми стойкими союзниками Вашингтона в НАТО сегодня являются Польша и страны Балтии. Если бы восточноевропейским лидерам пришлось выбирать между гегемонией Берлина или Брюсселя и гегемонией Вашингтона, преимущество последнего было бы для них очевидно. В то время как Великобритания привлекает российский капитал, Германия – потребляет российские энергоресурсы, а Франция исторически рассматривает Россию как потенциального стратегического партнёра, Польша и Прибалтика не перестают подчёркивать угрозу своему с таким трудом завоёванному суверенитету. Вашингтон со временем стал разделять их взгляд на Россию: не стоит «перезагружать» отношения с неисправимой страной. Для многих ястребов в Вашингтоне Россия должна оставаться неисправимой, чтобы НАТО и дальше указывала на огромную пропасть, отделяющую государства под её крылом от варваров у их восточных ворот. С этой точки зрения сильная либеральная демократическая Россия, возможно, представляла бы гораздо больший вызов для гегемонии США в Европе, чем Россия автократическая, реваншистская, но в итоге слабая.
Если восточноевропейские государства убеждены, что НАТО защищает их суверенитет, то Европа в целом, похоже, придерживается противоположного мнения.
После избрания Дональда Трампа, когда Ангела Меркель заявила, что однажды Европе, возможно, придётся самой заботиться о своей безопасности, казалось, что страны Европейского союза отойдут от американских покровителей, и многие из последних, по крайней мере, теоретически, приветствовали бы перспективу усиления европейского партнёра. Но на практике НАТО часто уводит европейцев от провозглашаемых ими национальных интересов. В 2010 г. правительство Нидерландов ушло в отставку, когда голландская общественность выступила против его беспрекословного подчинения натовской миссии в Афганистане. Германии, уже находящейся под давлением США из-за тесных энергетических связей с Россией, теперь, наверно, придётся умиротворять НАТО, отправляя тяжёлые вооружения на Украину и полностью лишая себя российских энергоносителей. Этот очевидный разрыв между интересами Европы и США продолжает будоражить горстку европейских мыслителей. В 2018 г. духовный лидер немецких левых Ханс Магнус Энценсбергер охарактеризовал НАТО как данническую систему, в которой страны-члены и ассоциированные государства периодически посылают своих солдат для участия в войнах Вашингтона. Его французский визави Режи Дебре, вторя де Голлю, назвал НАТО «ничем иным, как военно-политическим подчинением Западной Европы Соединённым Штатам».
На протяжении многих лет в Европе туманно говорили о новой инициативе под названием «Европейская идентичность в сфере обороны и безопасности», которая, подобно Афине, должна появиться из головы НАТО. Однако действия России на Украине показали, насколько тщетны шаги Европы в направлении автономии и насколько глубоко на континенте закрепился натовский институциональный контроль. «Идея стратегической автономии Европы заходит слишком далеко, если она порождает иллюзию, будто мы можем гарантировать безопасность, стабильность и процветание в Европе без НАТО и США», – категорично заявил министр иностранных дел Германии в 2020 году. Если на то пошло, в ближайшие годы мощь и значимость НАТО должны возрасти, а увеличение европейских расходов на оборону, которые всё ещё ничтожны по сравнению с американскими, означает лишь то, что в сферу компетенции альянса будет попадать всё больше материалов и вооружений. От просторов Сахеля до берегов Днепра бдительное око Вашингтона оставляет всё меньше возможностей для манёвра.
Проблема со стремлением к европейской оборонной автономии заключается не только в том, что, подобно развёртыванию Европейского оборонного сообщества в 1952 г., это может обернуться против Европы. Скорее дело в том, что, учитывая состояние Евросоюза сегодня, если он когда-то и преуспеет в принятии более милитаризованной формы, это вряд ли станет радужной перспективой. Компетентная армия ЕС, патрулирующая страны Африки к югу от Сахары в поисках потенциальных мигрантов, обеспечивающая сложную систему репатриации и заставляющая режимы в Африке и Азии продолжать быть местами добычи ресурсов для европейцев и хранилищами их мусора, только укрепит статус «Крепости Европа» как авангарда ксенофобного неолиберализма.
Английский историк Эдвард Палмер Томпсон утверждал в 1978 г., что «натополитизм» – это крайняя форма апатии, патология в обёртке пустой идеологии, которая знает только то, против чего нужно выступать. Но Томпсон писал в то время, когда призывы к упразднению альянса ещё не стали избитыми заклинаниями. В 1983 г. размещение натовских ракет «Першинг» в Западной Германии всё ещё могло вызвать один из крупнейших протестов в послевоенной истории Германии. Но если институционализация балансирования ядерным оружием на грани войны когда-то воспринималась гражданами стран НАТО как смертельно опасный гамбит, то недавние войны альянса в Ливии и Афганистане прошли без внутренних помех, несмотря на их отвратительный провал и тот факт, что они явно сделали мир более опасным. Российская операция на Украине дала НАТО важнейшую передышку. Никто не сомневается в том, что альянс поможет Украине защитить территориальную целостность, хотя война ещё не закончена. Более сложный вопрос заключается в том, является ли Североатлантический блок корсетом холодной войны, ограничивающим свободу Запада и подвергающим опасности население всего мира в большей степени, чем обеспечивает его безопасность? В то время, когда мир как никогда нуждается в альтернативном мировом порядке, НАТО, похоже, закрывает дверь для такой возможности. Организация Североатлантического договора может вернуться, но лишь для того, чтобы поднять старое знамя: «Альтернативы нет».

Два взгляда на международные отношения и холодную войну
Стремление к безопасности одного государства может привести к агрессивным действиям другое
РОБЕРТ ДЖЕРВИС
1940-2021
Профессор международных отношений и публичной политики Колумбийского университета (Нью-Йорк), классик исследований в сфере международной безопасности.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:
Джервис Р. Два взгляда на международные отношения и холодную войну // Россия в глобальной политике. 2022. Т. 20. No. 4. С. 96-109.
Роберт Джервис (1940–2021) – профессор международных отношений и публичной политики Колумбийского университета (Нью-Йорк), классик исследований в сфере международной безопасности. Один из его основополагающих трудов «Восприятие и неверное восприятие в международной политике» (Perception and Misperception in International Politics), который увидел свет в 1976 г., впервые выходит на русском языке. Книгу издаёт Центр анализа стратегий и технологий, ранее выпустивший другую работу автора «Почему разведка терпит неудачу: уроки революции в Иране и войны в Ираке». Мы публикуем отрывок из нового перевода, любезно предоставленный издателем. На фоне мировых событий тема, поднятая Джервисом сорок с лишним лет назад, представляется в высшей степени актуальной.
Часто в основе политических дебатов лежат разные представления о намерениях другого государства. Когда участники не осознают, что они расходятся во мнениях относительно чужих намерений, спор может быть язвительным и непродуктивным. Именно так обстояли дела в Соединённых Штатах во время дебатов по поводу теории и стратегии устрашения (deterrence). Хотя аргументы формулировались в категориях общих теорий международных отношений, бóльшая часть разногласий могла быть разрешена, если бы участники сошлись в понимании советских целей. Изучение этих дебатов высветит ключевую роль восприятия чужих намерений при принятии большинства решений и прольёт свет на причины и последствия некоторых распространённых заблуждений[1].
Устрашение
Нам необязательно погружаться во все тонкости и хитросплетения теории устрашения, стоит познакомиться лишь с центральным аргументом – масштабные опасности возникают, если агрессор по умолчанию считает потенциал или решимость держав слабыми. Придя к такому выводу, агрессор обычно проверяет на прочность противников, начиная с продавливания какого-нибудь незначительного вопроса. Если (по умолчанию слабые) державы отступают, то они не только теряют нечто конкретное в данный исторический момент, но, и это более важно, – тем самым поощряют агрессора к более жёсткому давлению на них в долгосрочной перспективе. Даже если обороняющиеся позже осознают своё тяжёлое положение и будут готовы заплатить более высокую цену, чтобы предотвратить дальнейшее отступление, им будет трудно убедить агрессора в своей вновь обретённой решимости. Тогда остаётся выбор между продолжением отступления (и тем самым принесением в жертву основополагающих ценностей) или борьбой.
Чтобы избежать подобной катастрофической ситуации, государство должно демонстрировать способность и проявлять готовность вести войну. Оно не может игнорировать мелкие конфликты; вопросы, имеющие малую внутреннюю ценность, обретают показательную значимость вовне. Так, президент Кеннеди отдал приказ вывести американские ракеты из Турции в разгар кубинского ракетного кризиса, но он не согласился бы сделать это до обострения, поскольку таким образом цена за сотрудничество СССР оказалась бы слишком высокой. Многие конфликты напоминают «игру в цыплёнка»[2], и, как утверждает американский экономист Томас Шеллинг, в такой игре «если кто-то действительно не собирается уступать, то, может быть, в конечном счёте ему безопаснее ехать по середине дороги, чем уступать пядь за пядью, пока его не вытеснят на обочину. Это способно спасти обе стороны от столкновения». Принять предложение экономиста Кеннета Боулдинга «свернуть на объездную дорогу» и «отказаться играть в эту игру» – означает поощрить дорого обходящийся грабёж[3].
Государство зачастую должно идти на крайние меры, потому что умеренность и примирение обычно воспринимаются как проявление слабости.
Даже если государство готово согласиться на урегулирование, предполагающее некоторые уступки, оно имеет основания опасаться, что другая сторона ответит не уступками, а удвоенными усилиями, чтобы добиться его дальнейшего отступления. (Пока другая сторона считает, что государство готово отступить ещё дальше, она будет отказываться от предложений данного государства, даже если это может грозить срывом переговоров.) Например, незадолго до приказа о нападении на французский флот в гавани Орана в июле 1940 г. британский кабинет решил не делать французам предложения, которое, будь оно принято, обеспечило бы англичанам лучший исход, чем открытие огня. Он аргументировал это тем, что предложение «не было включено в первоначально предложенные альтернативы, и мы не должны продвигать его сейчас, так как это будет выглядеть как послабление»[4].
Опасение, что уступки могут быть восприняты как указание на возможность одержать верх в «игре в цыплёнка», не позволяет государству делать шаги, которые могли бы положить конец конфликту. Так, в конце Русско-японской войны, японский государственный деятель ответил на британское предложение посреднической дипломатической инициативы: «Это почти безумие, поскольку “партия войны” в России сразу усмотрит в этом признак слабости и укрепится в своей решимости продолжать войну». В свою очередь, президент Джонсон считал, что наиболее веским аргументом против прекращения бомбёжек Северного Вьетнама было то, что Ханой мог прийти к выводу о слабеющей решимости США. Даже вежливость опасна, потому что агрессоры зачастую неверно истолковывают её. Например, за два дня до нападения Германии на Польшу Чемберлен послал в Берлин ноту, в которой, по его мнению, ясно выражалась решимость его страны воевать. Но впечатление, отражённое в записках генерала Гальдера, было совсем иным. Письмо Чемберлена в них «примирительное. Попытка найти modus vivendi. …Достойный тон. …Лицо должно быть спасено. Англия даёт гарантию, что Польша будет участвовать на конференции. …Общее впечатление – Англия “мягка” в вопросе о крупной войне»[5].
Это не значит, что государство никогда не должно менять свою позицию. Иногда следует признать превосходство противной стороны. Законные жалобы могут быть обозначены и разрешены, хотя необходимо позаботиться о том, чтобы противник понимал, что именно движет действиями государства. В других случаях могут быть организованы честные торги. Временами приходится идти на уступки, чтобы заставить другого согласиться. Используется и кнут, и пряник, ведь дружба другой стороны не может быть получена с помощью беспричинных уступок. Как выразился в своём знаменитом меморандуме английский дипломат Эйр Кроу: «Есть одна дорога, которая… не приведёт безусловно к сколь-либо постоянному улучшению отношений с какой-либо державой, тем более с Германией, и от которой поэтому следует отказаться: это путь, вымощенный благожелательными британскими уступками – уступками, сделанными без убеждённости в их справедливости или в том, что они будут компенсированы эквивалентными встречными шагами»[6].
Оборотной стороной медали является то, что при благоприятном раскладе сил твёрдость может сдерживать агрессию. Сочетание высоких издержек войны, малой вероятности победы агрессора и ценности, которую агрессор придаёт сохранению уже приобретённого, приведёт даже минимально рациональное государство к воздержанию от экспансионистского нападения. Агрессор не ударит в заблуждении, что противоположная сторона планирует нападение, поскольку знает, что она лишь обороняется. Таким образом, как только он поймёт, что обороняющегося нельзя запугать, то попытается достичь желаемого мирными средствами – с помощью сотрудничества. В дополнение к своему аргументу, приведённому выше, Кроу утверждал, что в период, последовавший за успешным проявлением англо-французской твёрдости в первом марокканском кризисе (1905–1906), «наши отношения с Германией, если и не совсем сердечные, по крайней мере, были практически свободны от всех симптомов прямых трений, и создаётся впечатление, что Германия дважды подумает, прежде чем даст сейчас повод для новых разногласий. Она будет поощрена, встретив со стороны Англии неизменную вежливость и внимание ко всем вопросам, представляющим общий интерес, а также быстрый и твёрдый отказ заключать какие-либо односторонние сделки или соглашения и самую непреклонную решимость отстаивать британские права и интересы во всех частях земного шара»[7]. С небольшими коррективами в формулировках этот анализ можно было бы применить к изменениям в поведении СССР, которые последовали за твёрдой позицией Америки в Карибском кризисе.
В этом отношении мир тесно взаимосвязан. То, что происходит по ту сторону, влияет на эту, поскольку каждое государство тщательно изучает поведение других, прощупывая интересы, сильные и слабые стороны. Как сказал министр иностранных дел Германии во время марокканского кризиса 1905 г.: «Если мы безропотно позволим другим наступать нам на ноги в Марокко, мы поощрим повторение этого акта повсюду»[8].
Эта точка зрения часто основывается на убеждении, что цели другой стороны безграничны. Так, писатель Роберт Бутов перефразирует довод государственного деятеля Японии (в том числе занимавшего пост премьер-министра – Прим. ред.) Хидеки Тодзё в сентябре 1941 г.: «Истинная цель Соединённых Штатов – господство на Дальнем Востоке. Следовательно, уступить в одном вопросе означало бы поощрять другие требования до тех пор, пока не будет конца уступкам, требуемым от Японии». Тодзё согласился: «Отношения между Японией и Соединёнными Штатами не оставляют места для улучшения ситуации посредством вежливости и доброй воли. Скорее… такие примирительные отношения усугубили бы положение дел». Такую позицию впоследствии красочно сформулировал советский лидер Никита Хрущёв: «Хорошо известно, что если кто-то пытается умилостивить бандита, отдав ему сначала кошелёк, потом пальто и так далее, то бандит от этого не станет милосерднее, не перестанет заниматься своим бандитизмом. Наоборот, он станет ещё более наглым»[9].
В менее радикальной версии другая сторона рассматривается как не имеющая плана, но оппортунистически надеющаяся продвинуться в направлении наименьшего сопротивления. Лорд Пальмерстон призывал к твёрдости в отношениях с США по поводу незначительного спора: «Ссора с Соединёнными Штатами …нежелательна …но в общении с вульгарно настроенными хулиганами, а таковыми, к сожалению, являются жители Соединённых Штатов, ничего не добьёшься, подчинившись оскорблению и несправедливости; напротив, уступка произволу только поощряет совершение другого, более масштабного произвола – такие люди всегда стараются проверить, как далеко они отважатся зайти; и, встретив сопротивление внушительного характера, обычно останавливаются, обнаружив, что не могут идти дальше»[10].
Модель спирали
Критики теории устрашения предлагают то, что на первый взгляд кажется контрастирующим с общей теорией международного влияния. Корни того, что можно назвать спиральной моделью, уходят в анархическое устройство международных отношений. Основная проблема заключается не в налагаемых человеческой психологией ограничениях рациональности и не в недостатках человеческой натуры, а в правильном понимании последствий бытия в гоббсовском естественном состоянии. В таком мире без суверена каждое государство защищено только своей собственной силой. Более того, государственные деятели понимают, что, даже если другие в настоящее время не вынашивают агрессивных замыслов, нет никакой гарантии, что они не сделают этого позднее[11].
Например, лица, принимающие решения (и особенно военное руководство), беспокоятся о самых невероятных угрозах. В 1933 г., хотя британские сухопутные войска настаивали, что о войне с Францией не может быть и речи, представители военно-воздушных сил и флота считали иначе. Морис Хэнки, влиятельный секретарь Комитета имперской обороны, в итоге согласился с последними, его подчинённый отметил: «Мнение Хэнки таково, что мы не можем полностью игнорировать Францию – времена меняются и политика с ними; в прошлом тому есть много примеров, и изменения могут быть молниеносными». За год до этого ВМС США провели в Тихом океане учения, в которых предполагаемым противником была англо-японская коалиция. В 1920-е гг. единственный военный план Канады «утверждал, что главная внешняя угроза безопасности страны заключается в возможности вторжения Вооружённых сил США», и глава канадской военной разведки руководил разведывательными операциями в районах Портленда и Сиэтла. В 1929 г. Соединённые Штаты разработали план войны с Великобританией «Basic War Plan Red», спровоцированной англо-американским торговым соперничеством. И, прежде чем вы засмеётесь, следует отметить, что в течение многих лет историки уверенно утверждали, что Фридрих Великий был параноиком, полагая, что Семилетней войне предшествовал направленный против Пруссии иностранный заговор. Однако рассекречивание самых тайных архивов показало, что опасения Фридриха были на самом деле оправданны[12].
Отсутствие суверена в международной политике позволяет вести войны и делает безопасность дорогостоящей.
Осложнения создаёт тот факт, что большинство средств самозащиты одновременно являет собою угрозу другим[13]. Руссо хорошо сформулировал основную мысль: совершенно верно, что для всех людей было бы идеально всегда пребывать в мире. В крайних случаях государства, которые ищут безопасности, могут полагать, что лучший, если не единственный, путь к этой цели – нападение и экспансия. То, что перестаёт расти, начинает гнить, считали русские цари, японские руководители перед Первой мировой войной пришли к выводу, что альтернативой увеличению их господства в Азии было пожертвовать «самим своим существованием», а некоторые учёные утверждали, что германский экспансионизм перед Первой мировой войной коренился в желании справиться с опасностью, исходящей от могущественных соседей[14]. После Первой мировой войны французы придерживались несколько более мягкой версии этого убеждения. Осознавая, что после войны она стала самым сильным государством на континенте, Франция чувствовала, что должна ещё больше увеличить свою мощь, чтобы обеспечить защиту от Германии, восстановление которой после разрушений военного времени могло когда-нибудь привести её к попытке отменить итоги 1918 года. Эта точка зрения особенно популярна, если государство считает, что другие стороны также пришли к выводу, что и стремление к защите, и стремление к обретению ценностей указывают на одну и ту же политику экспансионизма.
Стремление к безопасности может привести к агрессивным действиям и в случае, когда государство либо задаёт очень высокую планку безопасности, либо чувствует угрозу от других сильных государств. При этом американский политолог Натан Лейтес утверждал, что «Политбюро… считает, что сама его жизнь… остаётся под угрозой до тех пор, пока существуют главные враги. Их полное поражение – это чистая необходимость выживания». Подобный взгляд может корениться как в опыте, так и в идеологии. В 1946 г. Джордж Кеннан писал в своей «Длинной телеграмме»: «Изначально это было чувство незащищённости аграрных народов, живущих на обширных открытых территориях по соседству со свирепыми кочевниками»[15].
Даже в менее экстремальных ситуациях оружие, приобретённое для обороны, может быть использовано для нападения. Экономическая и политическая готовность, направленная на удержание того, что есть у одного, способна создать потенциал для захвата территории у других. То, что одно государство считает страховкой, другое будет рассматривать как угрозу – особенно это касается великих держав. Любое государство, имеющее интересы во всём мире, обладающее властью, не может не угрожать другим. Как отмечал адмирал Мэхэн перед Первой мировой войной, если Британия будет обладать флотом, достаточным для защиты своих торговых путей, она также обретёт возможность отрезать Германию от моря[16]. Таким образом, даже в отсутствие конкретного конфликта интересов между Англией и Германией безопасность первой страны требовала, чтобы последняя была лишена важного аспекта статуса великой державы.
Когда государства ищут способ защитить себя, они получают и слишком много, и слишком мало. Слишком много – потому, что обретают возможность осуществлять агрессию; слишком мало – потому что находящиеся под угрозой другие страны расширят свой арсенал и тем самым снизят безопасность защищающихся.
Если требования к нападению и обороне не различаются по характеру или количеству, защищающаяся держава будет стремиться занять военную позицию, напоминающую позицию агрессора. По этой причине другие не в состоянии объективно судить по вооружённым силам и приготовлениям данной державы, является ли она действительно агрессивной, и, соответственно, склонны предполагать худшее. Намерения других рассматриваются как соизмеримые с их возможностями: то, что они могут сделать во вред, они сделают (или сделали бы при случае). Поэтому, чтобы быть в безопасности, держава должна приобретать столько оружия, сколько может себе позволить[17].
Однако поскольку обе стороны подчиняются одним и тем же императивам, попытки повысить безопасность, демонстрируя твёрдость и накапливая больше вооружений, будут обречены на провал. Ранее мы цитировали мнение Пальмерстона о том, что, когда имеешь дело с «вульгарно настроенными хулиганами» вроде американцев, «уступка произволу только поощряет совершение другого, более масштабного произвола». В дискуссии несколькими годами ранее президент США Джеймс Полк выразил то же мнение, утверждая, что «если Конгресс будет ошибаться или колебаться в своём курсе, Джон Булль[18] немедленно станет высокомерным и более настойчивым в своих требованиях» и что «такова была история Британской нации во всех её соперничествах с другими державами за последние двести лет»[19]. Эти схожие убеждения порождают несовместимые стратегии, которые не отвечают интересам ни одной из сторон.
Оглядываясь назад, принимающие решения лица иногда признают нежелательные последствия своих действий. Лорд Грей, британский министр иностранных дел до Первой мировой войны, так вспоминал дипломатию того периода: «Наращивание вооружений, предназначенное подводить каждую нацию к осознанию своей силы и создавать ощущение безопасности, не производит этих эффектов. Напротив, оно порождает сознание силы других народов и чувство страха. Страх приводит к подозрению, недоверию и всевозможным недобрым фантазиям, пока каждое правительство не почувствует, что было бы преступным и предательским по отношению к своей собственной стране не принимать всех мер предосторожности, тогда как каждое правительство рассматривает всякую меру предосторожности любого другого правительства в качестве свидетельства враждебных намерений»[20].
Ретроспективный взгляд немецкого канцлера был схожим: «Игнорируя тот факт, что в существующей расстановке сил любой крупный сдвиг между великими державами Европы неизбежно должен затронуть весь мир, эти державы были сосредоточены только на росте своей собственной мощи».
Есть примеры, когда государства предупреждали других об опасных последствиях политики безопасности. Так, Рамзи Макдональд сказал японскому послу, что «Японии следует быть очень осторожной, чтобы в стремлении к собственной безопасности она не нарушала чувства безопасности других наций». Но подобное редко проясняет позицию государства[21].
Непреднамеренные и нежелательные последствия действий, направленных на защиту, составляют дилемму безопасности, которую британский историк Герберт Баттерфилд рассматривает как «абсолютное затруднение… лежащее в самой геометрии человеческого конфликта. Вот основной шаблон для всех повествований о человеческом конфликте, какие бы другие шаблоны ни накладывались на него позже». С этой точки зрения центральной темой международных отношений является не зло, а трагедия. Государства часто разделяют общие интересы, но происходящее не позволяет им создать взаимовыгодную ситуацию. Этот взгляд контрастирует со школой реализма, представленной американскими учёными Хансом Моргентау и Рейнгольдом Нибуром, которые рассматривают стремление к власти как продукт инстинктивной воли человека к доминированию над другими. Как добавляет сам автор концепции «дилеммы безопасности» Джон Герц, «заблуждением является вывод из осмысления универсального явления “конкуренция за власть”, что существует такое понятие, как “инстинкт власти”. В основном это лишь инстинкт самосохранения, который в порочном круге дилеммы безопасности приводит к соперничеству за всевозрастающую мощь»[22].
Гонка вооружений – наиболее очевидное проявление этой спирали. Соперничество за колонии в конце XIX века подпитывалось дилеммой безопасности. Даже если все государства предпочли статус-кво разделению невостребованных территорий, каждое из них также выбрало экспансию риску быть исключённым из противостояния. Стремление к безопасности иногда приводит к ослаблению потенциальных соперников – ход, когда, пытаясь предотвратить угрозу, сам становишься угрозой для других. Например, поскольку французские государственные деятели опасались попыток Германии вернуть позиции, утерянные в Первой мировой войне, они пришли к выводу, что Германия должна оставаться слабой. Однако результатом их непреклонной политики стало возрастающее неприятие немцами своего нового положения и, следовательно, уменьшение долгосрочной безопасности Франции[23].
Наконец, дилемма безопасности может не только создавать конфликты и напряжённость, но и провоцировать войну. Если каждая сторона считает, что напавшее первым государство обретёт решающее преимущество, то даже государство, удовлетворенное статус-кво, может начать войну из страха, что альтернативой этому будет не мир, а нападение противника. И, конечно, если каждая сторона знает, что другая осознаёт преимущества нанесения удара первой, то и незначительные кризисы, скорее всего, закончатся войной. Это было одной из непосредственных причин Первой мировой войны, и современные военные эксперты затратили много сил и средств, чтобы избежать возвращения подобных дестабилизирующих стимулов.
Если большую часть теории устрашения можно рассматривать в терминах «игры в цыплёнка», то теоретиков спирали больше впечатляет актуальность дилеммы заключённого[24]. Понимая, что в силу неприемлемых издержек войны нынешняя ситуация не вполне схожа с данной дилеммой, они всё же считают, что основной характеристикой современной мировой политики является следующее: если каждое государство будет преследовать свои частные интересы с узким пониманием рациональности, то все государства окажутся в худшем положении, чем если бы они сотрудничали. Сотрудничество не только привело бы к более высокому уровню общей выгоды (что не имеет никакого значения для эгоистичного актора), но и улучшило положение каждого отдельного актора в условиях меньшей конфликтности. Такая взаимозависимость государств не отличается от предлагаемой теоретиками устрашения: либо государства сотрудничают друг с другом, и в этом случае все получают значительные выгоды, либо они вступают в конфликт, и все несут потери.
Второй важный момент дилеммы заключённого заключается в том, что соглашения о сотрудничестве вряд ли достижимы путём принуждения. Угрозы и враждебная позиция противника, скорее всего, приведут к противодействию, а в итоге – к ухудшению положения обеих сторон.
Если государства хотят продвигать ключевые интересы, не подвергая свою безопасность неоправданному риску, они должны использовать и развивать изобретательность, доверие и соответствующие институты.
--
СНОСКИ
[1] Превосходную трактовку противопоставления убеждений жёстких и лояльных сторонников, которая во многих отношениях параллельна обсуждаемой здесь дискуссии, не подчёркивая, однако, важности различий в восприятии противника, см.: Diesing P., Snyder G.H. Conflict Among Nations: Bargaining, Decision Making, and System Structure in International Crises. Princeton University Press, 2016. Chapter 4. P. 282-339.
[2] Берёт начало в рискованной молодёжной забаве «Цыпленок!» (англ. Chicken!). Водители быстро едут навстречу друг другу по одной стороне дороги. Свернувший первым удостаивается презрительного окрика победителя «Цыпленок!». В русском обиходе описываемый феномен передаётся образом «игры в гляделки» – «кто первый моргнёт» – Прим. пер.
[3] Archibald K., Deutsch M. Strategic Interaction and Conflict. Berkeley: Institute of International Studies, University of California, 1966. P. 87; de Reuck A., Knight J. (Eds.) Conflict in Society. Boston: Little, Brown, 1966. P. 298.
[4] Цит. по Marder A. From the Dardanelles to Oran. N.Y.: Oxford University Press, 1974. P. 253.
[5] Цитируется британским послом в России в его депеше, приведённой Gooch G.P., Temperley H. (Eds.) British Documents on the Origins of the War, 1898-1914. London: His Majesty’s Stationery Office, 1929. Vol. 4. P. 72-73; Johnson L.B. The Vantage Point. Holt, Rinehart & Winston, 1971. P. 136, 234, 237, 250, 368, 377, 408, 413; цит. по Colvin I. The Chamberlain Cabinet. Taplinger Publishing Company, 1971. P. 253.
[6] Crowe E. “Memorandum on the Present State of British Relations with France and Germany”, 7 January 1907. In: G.P. Gooch and H.W.V. Temperley (Eds.), British Documents on the Origins of War, 1914-1918. London, 1928. Vol. 3. P. 419, 428.
[7] Ibid. P. 419-420.
[8] Цит. по Woodward E.L. Great Britain and the German Navy. Oxford: The Clarendon Press, 1935. P. 84. Во время Семилетней войны французский министр иностранных дел имел сходное представление о России, хотя обе страны были союзниками. См.: Oliva L.J. Misalliance. N.Y.: New York University Press, 1964. P. 98. Аргумент о том, что большинство теоретиков устрашения переоценивают степень взаимозависимости между конфликтами, поскольку преувеличивают важность разрешения и уделяют недостаточное внимание интересам каждой стороны в рассматриваемом вопросе, см.: Pennock J.R., Chapman J.W. (Eds.) Coercion: Nomos XlV. Aldine Atherton, 1972. P. 281-283.
[9] Butow R. Tojo and the Coming of the War. Princeton University Press, 1961. P. 280; см.: Sejima R. Reminiscences. Privately printed, 1972. P. 70; Leites N. Kremlin Thoughts: Yielding, Rebuffing, Provoking, Retreating. California: The RAND Corporation, 1963. P. 12-13.
[10] Цит. по Bourne K. Britain and the Balance of Power in North America, 1815-1908. Berkeley: University of California Press, 1967. P. 182.
[11] Этот момент упускается Баттерфилдом в его аргументации, цитируемой ниже, что движущей силой гоббсовской спирали является именно неспособность каждой из сторон читать мысли другого.
[12] Brian B., Pownall H. Chief of Staff: The Diaries of Lieutenant-General Sir Henry Pownall. London: Leo Cooper Ltd, 1972. Vol. l: 1933-1940. P. 21; Thorne Ch. The Limits of Foreign Policy. Putnam, 1973. P. 75 (также см.: P. 73); Eayrs J. In Defence of Canada. Toronto: University of Toronto Press, 1965. Vol. 1: From the Great War to the Great Depression. P. 70-78 (гражданские ничего не знали об этих планах и действиях); 1929 File Reveals War Plan on Britain // Los Angeles Times. 19.12.1975; Butterfield H. George III and the Historians. Macmillan, 1969. P. 27-28.
[13] По этой причине на то, приводит ли анархия к печальным последствиям, которые мы обсуждаем, сильно влияют две переменные: степень, в которой вооружение и стратегии, полезные для самозащиты, также полезны для угрозы и нападения на других, и относительное преимущество нападения над обороной.
[14] Цит. по Ulam A.B. Expansion and Coexistence. Praeger, 1968. P. 5; цит. по Butow R. Op. cit. P. 203; Epstein K. Gerhard Ritter and the First World War. In: H.W. Koch (Ed.) The Origins of the First World War. London: Macmillan & Co., 1972. P. 290.
[15] Leites N. A Study of Bolshevism. Illinois: The Free Press, 1953. P. 31; цит. по Schlesinger A., Jr. The Origins of the Cold War // Foreign Affairs. 1967. Vol. 46. P. 30. Как позже выразился Кеннан: «Многие люди в западных правительствах возненавидели советских лидеров за то, что те сделали. Коммунисты, с другой стороны, ненавидели западные правительства за то, кем они были, независимо от того, что сделали те» (Kennan G.F. Russia and the West Under Lenin and Stalin. Mentor, 1962. P. 181). Общее обсуждение влияния спроса на высокий уровень безопасности см.: Wolfers A. Discord and Collaboration. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1962. P. 92, 150-151.
[16] Цит. по Brodie B. War and Politics. N.Y.: Macmillan Co., 1973. P. 345.
[17] Спор между первым лордом адмиралтейства Уинстоном Черчиллем и канцлером казначейства Дэвидом Ллойд Джорджем по поводу военно-морского бюджета на 1914 г. был разрешён, когда последний сказал первому: «Как ни странно, моя жена говорила со мной вчера вечером об этом деле с линкорами. Она сказала: “Знаешь, дорогой, я никогда не вмешиваюсь в политику, но говорят, что ты споришь с этим милым мистером Черчиллем о строительстве дредноутов. Конечно, я не понимаю этих вещей, но мне казалось, что лучше иметь их больше, чем надо, чем меньше”» (Churchill R., Churchill W.S. The Young Statesman, 1901-1914. London: Heinemann, 1967. Vol. 2. P. 681). Конечно, вооружение и безопасность не являются бесплатными благами, и нации должны уравновешивать их другими ценностями. См.: Wolfers A. Op. cit. P. 147-166. Это признают и теоретики, разработавшие математические модели гонки вооружений.
[18] Джон Булль – кличка, собирательный образ типичного англичанина (юмористическое олицетворение), одна из персонификаций образа Великобритании. – Прим. ред.
[19] Цит. по Bourne K. Britain and the Balance of Power in North America, 1815-1908. University of California Press, 1967. P. 182; цит. по McCoy Ch. Polk and the Presidency. Austin: University of Texas Press, 1960. P. 91.
[20] Grey E. Twenty-five Years. London: Hodder and Staughton, 1925. Vol. 1. P. 92. В то время Грей занимал совсем другую позицию. Он не верил, «что одна нация может положить конец соперничеству, выбыв из гонки. Напротив, очень может быть, что, если одна страна перестаёт конкурировать, она может на мгновение предоставить другой возможность вырваться в расходах вперёд» (цит. по Morris A.J.A. Radicalism Against War, 1906-1914. London: Longmans, 1972. P. 228).
[21] Цит. по Zechlin E. Cabinet versus Economic Warfare in Germany. In: H.W. Koch (Ed.) Op. cit. P. 167; цит. по Wheeler G. Prelude to Pearl Harbor. Columbia: University of Missouri Press, 1963. P. 167. Примеры самоограничения см. ниже.
[22] Butterfield H. History and Human Relations. London: Collins, 1951. P. 19-20; Wolfers A. Op. cit. P. 84; Herz J. Political Realism and Political Idealism. University of Chicago Press, 1959. P. 4.
[23] Подобная динамика подпитывала войну между Францией и Второй коалицией до захвата власти Наполеоном. См.: Ross S. European Diplomatic History, 1789-1815. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1969. P. 194.
[24] Дилемма заключённого (англ. Prisoner’s dilemma) – фундаментальная проблема в теории игр, согласно которой рациональные игроки («заключённые») не всегда будут сотрудничать друг с другом, даже если это в их интересах. Предполагается, что каждый игрок стремится увеличить собственный выигрыш, не заботясь о выгоде других. – Прим. пер.

Бунт на «заднем дворе» США
Американское влияние в Латинской Америке стремительно падает.
Пока Вашингтон, затягивая украинский конфликт, стремится окончательно подавить волю у своих союзников в Европе и поставить их под свой контроль, на «заднем дворе» США, так иногда называют Латинскую Америку, произошёл «бунт». Свидетельством тому стал саммит Америк, который недавно прошёл в Лос-Анджелесе и который большинство аналитиков, в том числе и иностранных, оценили как провальный для США. Что это за саммит, почему он получил такую оценку, и какой в этой связи можно сделать вывод? На эти и другие вопросы в интервью «Красной звезде» ответил политолог Константин Стригунов, ведущий аналитик Ассоциации специалистов по информационным операциям.
– Константин Сергеевич, напомните, пожалуйста, что это за саммит, который вызвал довольно широкий резонанс в мировом сообществе.
– Прежде всего хотел бы отметить, что Ассоциацию специалистов по информационным операциям, которую я представляю, возглавляет профессор МГУ доктор политических наук Андрей Манойло. Она является независимой, оценки и выводы, которые мы делаем, не ангажированы, политически не окрашены, что, полагаю, является плюсом.
Саммит Америк представляет собой встречи глав государств и правительств стран Западного полушария, то есть Северной и Южной Америк. Проходят такие встречи на высшем уровне раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств (ОАГ). Впервые такой саммит состоялся в 1994 году ещё при администрации Билла Клинтона. Относительно ОАГ следует заметить, что это – старейшая региональная организация, ведущая свое начало со времён Первой мировой войны. В нынешнем виде она действует с 1948 года, когда был принят устав организации.
ОАГ включает в себя 35 стран Латинской Америки, Карибского бассейна, а также США и Канаду. Куба после выбора ею социалистического пути развития уже не входит в эту организацию, а Венесуэла покинула её в 2017 году. ОАГ на 60 процентов финансируется США, которые, собственно говоря, и создавали эту организацию, чтобы поставить интеграционные процессы в регионе и сотрудничество между странами под свой контроль. Штаб-квартира ОАГ находится в Вашингтоне.
Одна из главных задач, которую США ставили на нынешнем саммите, – втянуть в общую антироссийскую повестку максимальное количество стран региона Латинской Америки и Карибского бассейна. Достаточно стандартный подход Вашингтона и в целом англосаксонской системы – создать максимально широкую коалицию против стратегического противника. Этот вопрос достаточно легко читался между строк в повестке саммита: превратить Россию в страну-изгоя.
На форуме администрация Байдена намеревалась также получить у его участников одобрение своей экономической инициативы под названием «Восстановите лучший мир». По плану Вашингтона она должна стать своеобразной альтернативой китайскому гигантскому инфраструктурному трансконтинентальному проекту «Один пояс – один путь». Планировалось также рассмотреть вопросы восстановления экономики после пандемии коронавируса, миграции на мексикано-американской границе, наркотрафика. Однако на саммите скандалов оказалось больше чем результатов.
– И один из них возник ещё до проведения саммита, когда стало известно, что США, как принимающая сторона, не намерены приглашать на форум представителей Кубы, Венесуэлы и Никарагуа…
– Действительно, этот шаг Вашингтона вызвал возмущение практически во всей Латинской Америке. В знак солидарности отказались ехать в Лос-Анджелес главы Мексики, Боливии и ряда других государств. Объясняя своё решение, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сказал, что надо менять правила, которые «устанавливаются веками» – политику исключения, желание США доминировать, неуважение суверенитета, независимости стран. «Не может быть Саммита Америк, если не участвуют все страны американского континента», – подчеркнул Обрадор.
Ничем иным, как демаршем, это назвать, безусловно, нельзя, что было бы просто невозможно ещё несколько лет назад. И это очень важно, поскольку, скажем, та же Мексика – крупнейшая испаноязычная страна по населению и территории. Её отсутствие на саммите, как и других стран, автоматически понизило статус данного мероприятия.
Уже на самом саммите президент Аргентины Альберто Фернандес напомнил Джо Байдену о том, что «пришло время быть по-братски открытыми ради достижения общих интересов». «Годы, предшествовавшие вашему приходу к власти в США, характеризовались политикой, которая принесла много вреда нашему региону. Её осуществляла администрация, которая вам предшествовала. Пришло время изменить эту политику и возместить ущерб», – подчеркнул аргентинский лидер.
Даже премьер-министр крохотного Белиза Хуан Антонио Брисеньо раскритиковал исключение из числа приглашённых некоторых стран и назвал «незаконную блокаду Кубы» «оскорблением человечества». «На самом деле, это не по-американски. Пришло время, господин президент, снять блокаду», – обратился Брисеньо к сидевшему в двух шагах Байдену.
Всё это красноречиво говорит о том, что на наших глазах происходит ослабление влияния США как в глобальном плане, так и на их «заднем дворе». Страны Латинской Америки не хотят больше быть на «задворках» США, где Вашингтон стремится сохранить за собой право распоряжаться всем и вся по своему усмотрению, а намерены вершить свою судьбу сами, развивая всестороннее сотрудничество и взаимодействие на равноправной основе, с учётом взаимных интересов.
– Почему страны региона выступили именно сейчас против доминирования Америки?
– Причин довольно много. Но, несомненно, их подтолкнула к тому политика США в отношении России. У большинства латиноамериканских стран крепнет понимание всей лицемерности США, создавших украинских конфликт с целью ослабить Россию и пытающих ныне обвинить Москву в организации «всемирного голода». В частности, выступая в преддверии саммита на конференции Совета по делам Америк, госсекретарь Энтони Блинкен прямо заявил, что специальная военная операция РФ на Украине якобы «усугубляет многие предшествующие проблемы, уже имеющиеся недуги, повышая по всей Америке, Северной и Южной, стоимость самых необходимых сырьевых товаров, от удобрений до пшеницы и бензина; отрезая ключевые экспортные рынки для многих отраслей в обеих Америках; ставя семьи по всему региону перед жестоким выбором: от чего отказываться в условиях безудержно растущей стоимости жизни».
Крайне негативную реакцию в регионе вызвало обещание Байдена выделить 645 млн долларов на программу поддержки стран Латинской Америки, и это при том, что буквально за два месяца Вашингтон предоставил одной Украине более 50 млрд долларов. Комментируя это, газета La Gaceta написала, что инфляция, бедность, незаконный оборот наркотиков, терроризм, отсутствие безопасности, долги и безработица – вот серьёзнейшие проблемы, от которых страдает регион на протяжении десятилетий. Но ничего этого, разумеется, не оказалось в повестке саммита, охватывающей период до 2030 года.
В этих условиях более привлекательными видятся в латиноамериканских странах действия Китая. И прежде всего то, что Поднебесная вкладывает в регион миллиарды и миллиарды долларов, не навязывая при этом никаких политических требований. Тем самым Китай, как отмечается в столицах латиноамериканских стран, несмотря на определённые издержки, оставляет своим партнёрам пространство для продвижения собственных экономических и политических альтернатив. В результате торговый оборот с Китаем по итогам 2021 года приблизился к 450 млрд долларов, и уже более 20 стран Латинской Америки вошли в китайскую программу «Один пояс – один путь», направленную на расширение экономических связей через порты, дороги, аэропорты, трубопроводы и другие инфраструктурные проекты.
Наконец, падает значение американского доллара, как резервной валюты. На всех континентах, в том числе в Латинской Америке, начинают понимать, что величие США держалось на оружии и финансовых пузырях, которые начинают лопаться, а так называемая демократия по-американски насаждалась с помощью авианосцев и бомбардировок.
Да и в самих США, как отмечают в Латинской Америке, «демократия очень спорная». Особенно, в свете таких событий, как «штурм Капитолия, сотни судебных исков о фальсификациях на выборах, допустимое существование вооружённых групп и риск гражданской войны».
В результате формальным итогом саммита стало лишь принятие Лос-Анджелесской декларации по миграции, которая была одобрена представителями двух десятков стран Западного полушария. Все же попытки Вашингтона использовать саммит Америк для консолидации в противостоянии России и Китаю провалились.
– Как США, на ваш взгляд, отреагируют на всё это? Будут продолжать давить или выберут более изощрённую политику?
– Скорее всего, какие-то формы давления останутся – от общего политико-дипломатического до прямого вмешательства, в том числе военного. Кстати, именно с помощью США в Боливии, где, якобы, были сфальсифицированы итоги выборов в октябре 2019 года, был запущен механизм государственного переворота. Его итогом стало свержение Эво Моралеса и его бегство в Мексику. Причём ОАГ в этом случае фактически выступила приводным ремнём механизма госпереворота.
Но это крайний вариант. В целом же будет давление через всевозможные санкции, хотя санкции – путь в один конец. Эффекта от них не так уж много и в целом на стратегическое поведение государств это не влияет, как мы видим на примере России. Напротив, ослабляет влияние на страны региона, которые будут искать поддержки у других могущественных держав, в том числе геополитических противников США.
Тем не менее, повторю, нельзя недооценивать влияние североамериканского доминатора на эти страны. Просто так США от него не откажутся.
– Разногласия США со странами Латинской Америки – хороший повод для расширения там влияния Российской Федерации, налаживания с ними сотрудничества?
– Согласен, для нас это большой шанс. Россию и Латинскую Америку объединяет приверженность упрочению многосторонних основ мировой политики, примату международного права, укреплению центральной, координирующей роли ООН. Вместе обе стороны выступают за решение межгосударственных проблем путём мирного диалога, на основе уважения национального суверенитета и принципа невмешательства во внутренние дела государств. Всё это делает латиноамериканские и карибские государства естественными союзниками России на международной арене, позволяет развивать плодотворное взаимодействие по широкому кругу вопросов.
Следует отметить, что Россия не только возвращается в страны Латинской Америки, которые она покинула после окончания «холодной войны», но и укрепляет свои позиции в регионе с помощью инвестиций, дипломатии и военно-технического сотрудничества. В качестве примера можно привести ту огромную гуманитарную помощь, которую Россия оказала странам региона в борьбе с пандемией.
Вместе с тем, для организации более эффективного сотрудничества с латиноамериканскими странами надо, на мой взгляд, прежде всего выработать комплексную стратегию в отношении этого региона. Системно подходить к усилению присутствия там, что соответствует нашим национальным интересам. Главное – всё это должно сопровождаться нашей экономической и культурной экспансией. Надо уметь соблюдать свои интересы при любых условиях. Это называется стратегией непрямых действий. И, во-вторых, учитывая наличие интересов Китая в регионе, было бы весьма уместно координировать с ним наши действия, что поможет в противостоянии с США.
– Вы упомянули о военно-техническом сотрудничестве. Что можно сделать на этом направлении?
– Хочу отметить, что страны Латинской Америки являются для нас важными партнёрами в области военно-технического сотрудничества. За время взаимодействия им поставлено значительное количество вооружения и военной техники, которым оснащены национальные армии и силовые структуры. Это связано с хорошей адаптацией нашей техники под климатические условия Латиноамериканского региона.
Сегодня странами региона востребована практически вся линейка российской техники. При этом наибольшим спросом пользуются авиационная техника, средства ПВО и бронетанковая техника. Например, из авиатехники наших партнёров в основном интересуют истребители МиГ-35 и Су-30, учебно-боевые самолёты Як-130, вертолёты Ми-171Ш, Ми-17В-5 и Ми-35, зенитные комплексы ближнего и среднего радиуса действия, БПЛА и средства борьбы с беспилотниками.
В целом же, у нашей страны сложились прочные партнёрские связи в области ВТС с Венесуэлой, Перу, Кубой, Никарагуа, осуществлён ряд крупных проектов с Бразилией, Мексикой, Колумбией, Эквадором, Уругваем, Аргентиной. Недавно Никарагуа разрешила временное военное присутствие на своей территории в гуманитарных целях вооружённым силам ряда стран Карибского региона, а также России. Россия готова и дальше развивать взаимовыгодное военно-техническое сотрудничество со странами Латинской Америки и Карибского бассейна.
Олег Фаличев, «Красная звезда»

Борис Межуев, философ: «Чувство влюбленности в Европу не дает нам заниматься ничем другим»
Дмитрий БЕРЕЗНИЙ
Почему перестройка, которая была направлена на интеграцию СССР в западный мир, провалилась? И для чего современной России нужна философия цивилизационного равнодушия? Об этом «Культура» поговорила c Борисом Межуевым, известным философом, доцентом кафедры истории русской философии философского факультета МГУ.
— Перестройка — это последняя точка, когда Россия на новых основаниях попыталась интегрироваться в западный мир. Почему у советского руководства не получилось перестроить основания СССР так, чтобы интеграция в западный мир не привела к распаду Союза?
— Одна из ошибок — чисто психологическая. Чувствовалась полная неготовность власти применить силу. Была попытка балансирования между крайностями, в результате чего в самой столице возникла опаснейшая ситуация двоевластия. А любая форма двоевластия в России — всегда очаг нестабильности. Вспомните двоевластие императора и Государственной думы перед революцией или же двоевластие Верховного совета и президента в 1993 году. Это всегда решается конфликтом, чаще всего вооруженным.
Я до сих пор не могу понять, почему Горбачев допустил такое двоевластие, почему не пожелал поставить во главе РСФСР стопроцентно лояльного себе человека. Судя по мемуарам Н.И. Рыжкова и Е.К. Лигачева, он обладал возможностью это сделать. Третья ошибка — идеологическая. Не учли, скажем так, цивилизационного фактора, фактора цивилизационной разнородности Запада и России.
— А что это за фактор?
— Запад представляет собой некоторую системную целостность, которая сформировалась уже давно, но при этом пережила и определенную реконфигурацию. В частности, Запад смог включить в себя Японию. Он смог интегрировать в себя Германию, хотя это было непросто. И, главное, он смог подчиниться доминированию со стороны Соединенных Штатов Америки, что тоже было далеко не предопределено. Однако он не смог вместить в себя Турцию, Индию и Россию, страны, претендовавшие на имперское наследие.
Был определенный шанс на раскол США и Западной Европы, симптомом чего стал так называемый правый популизм. Думаю, что на сегодня этот раскол преодолен и в немалой степени за счет России. Так вот, перестройка, конечно, была нацелена на интеграцию СССР в западный мир в рамках проекта общеевропейского дома. Тут тоже не все было в порядке с геополитической последовательностью, потому что Горбачев начал с противодействия республиканским США с опорой на пацифистскую Европу, а закончил стремлением зацепиться за Вашингтон с целью сохранения костяка советской империи. С самого начала перестройки вот эта интеграционистская идея, неучет фактора цивилизационной разнородности Запада и России препятствовала реализации какой-либо рациональной стратегии либерализации системы.
— То есть интеграция России в западный мир обречена с самого начала, потому что слишком отдельная, инаковая цивилизация?
— Конечно, Россия по своим масштабам не могла влиться ни в Европу, ни в Запад в целом. Сейчас об этом довольно убедительно пишет Дмитрий Тренин. Интеграция России в западный мир сразу бы изменила всю его конфигурацию. Мы слишком неодинаково трактуем ценности, и поэтому как только мы начинаем слишком сильно сближаться, это сближение немедленно приводит к катастрофическим последствиям.
При этом я не думаю, что в этом была вина одного Горбачева — это ошибка, заблуждение всей тогдашней либеральной интеллигенции, поверившей в единое человечество и сохранившее эту веру в 1980-е годы, хотя уже 1970-е должны были ее поколебать. Я имею в виду парадоксальное сближение либеральных США и маоистского Китая, которое опровергло теоретически и фактически все гуманистические проекты в духе идей теории конвергенции.
СССР, как признает и Киссинджер, главный идеолог этого сближения, рассчитывал на поддержку США в конфликте с Мао. А США в конце концов выбрали Китай. Они сделали ставку в борьбе против СССР вначале на Мао, потом на Пол Пота, и в конце концов — на мусульманский джихадизм. И, несмотря на все это, в СССР продолжали верить в то, что избавившаяся от радикального коммунизма страна будет встречена с объятиями в том мире, который только что пошел на стратегическое сближение с самыми тоталитарными режимами Евразии.
Боюсь, что сегодня те, кто рассчитывает на перестройку-3, также надеются на возможность сближения с Западом после отказа от нынешнего курса. Я уже предвижу все последствия очередного облома.
Что же касается Михаила Сергеевича, то, мне кажется, он, как и многие другие в его время, верили в мудрость российской интеллигенции. Горбачев говорил, что он воспитывался на пьесах Александра Гельмана, а сюжет многих из них был примерно таков: в бюрократическую структуру приходит интеллигент с прогрессивными идеями, с глубоким неприятием нравов бюрократии, с искренним отношением к делу и начинает всех этих негодяев и жуликов учить, как надо управлять. И вот сам Горбачев, видимо, считал себя таким интеллигентом, который покажет «чинушам», как надо управлять государством.
Проблема в том, что Горбачев, по сути, решил опереться на слой людей не то чтобы антипатриотических, но с явно ослабленным государственным мышлением. Людей, которые не понимали, что у страны должны быть оборонные интересы, и эти интересы никогда не совпадут с интересами Запада, что слово «геополитика» — это не ругательство, а необходимое обозначение пределов собственной внешнеполитической активности. Это были люди со слишком оптимистическим, чрезмерно розовым взглядом на реальность. Но в том-то и дело, что нужен был центризм, способный прочертить среднюю линию между экспансией и капитуляцией. В тот момент таких людей не нашлось, откровенно говоря, я не вижу их в большом количестве и сейчас.
— Кажется, сегодня мы вновь оказались перед тем же водоразделом, что и тридцать лет назад. На ваш взгляд, ждет ли нас перестройка «наоборот»? И какой урок нам следует почерпнуть из проваленной интеграции в западный мир?
— Я убежден, что перестройка в той или иной форме повторится, это неизбежно. Вопрос в том, будет ли она походить на первую перестройку или будет проведена работа над ошибками. Будет ли сформулирована внятная геополитическая доктрина, осторожная и вместе с тем жесткая. Окажутся ли снова силовые структуры, и в частности вооруженные силы, париями этой очередной перестройки, и будут приоритеты очередного «большого хапка» сдержаны определенной консервативной идеологией. Возобладает ли понимание, что любая либерализация не должна мыслиться как пароль на вход в евроатлантический клуб элит и что, с другой стороны, если двери в этот клуб закрыты, необязательно обращаться к реактивному тоталитаризму в духе фантазий о Пятой империи или Крепости Россия. Но кто сможет внятно сформулировать и донести эти идеи большинству, которое часто предпочитает простые ответы на сложные вопросы?
— А какое отношение нам необходимо в таком случае выработать к Западу?
— Нам нужно стать проповедниками философии цивилизационного равнодушия к его судьбе. Сейчас вместо равнодушия мы переживаем стадию разочарованной, фрустрированной любви. Мы очень переживаем, что нас где-то не любят, что где-то запрещают Чайковского, где-то перестают читать Достоевского, где-то оскорбляют те или иные памятники и так далее, список очень большой. Разумеется, это свидетельствует о нашем желании влиться в западную историю и нашей невозможности это сделать. Фрустрация ожиданий рождает ответную агрессию.
Нам следует освободиться от блоковской «любви к Европе, которая жжет и губит». На самом деле, это чувство влюбленности в Европу не дает нам ничем другим заниматься. Все, что мы делаем, так или иначе ориентировано либо на вражду с Европой, либо на дружеские объятия с ней. Ни одно наше геокультурное действие не подчинено внутренней логике — все ориентировано на взаимодействие с Западом, либо конфликтное, либо комплиментарное. Но если в двух словах, то кризис и перестройки, и постперестройки был обусловлен именно этим обстоятельством.
Надеюсь, когда мы примем этот цивилизационный барьер как реальность, мы сможем выстроить с той же Европой сугубо прагматические отношения, без всякого стремления что-то там поменять в «коллективном Западе». И сам «коллективный Запад» в духе заветов Хантингтона поймет свою уникальность, но не универсальность. Впрочем, в каком-то смысле он уже приходит к этому пониманию, хотя и боится выразить это открыто.
Так и мы, когда наступит время новой неизбежной «перестройки», должны будем исходить из того, что мы делаем ее исключительно для себя, без надежды куда-то вписаться и интегрироваться. Мы же не думаем мучительно о том, как бы нам интегрироваться с Индией, нас как-то не волнует, как эта страна живет, хотя наши отношения с ней если не прекрасны, то вполне нормальны. Так что практика показывает, что чем меньше мы хотим куда-то интегрироваться, тем лучше у нас складываются отношения.

Посткапитализм наступает
у экономики будущего должны быть три главные цели
Александр Галушка
Мне кажется, этот формат разговора о будущем с меркой в десятилетия должен быть постоянным. Потому что именно таким образом мы это будущее приближаем и определяем то, каким ему быть. Потому что в истории нет какой-то заданности, всё в будущем зависит от нас: как мы его увидим, как сформулируем и как воплотим.
Если говорить об экономике, то это будущее посткапитализма. И «посткапитализм» — это ключевое слово, вокруг которого, как мне представляется, было бы полезно разворачивать общественную, экспертную, государственную дискуссию.
Есть три признака, три симптома, на мой взгляд, говорящих о том, что посткапитализм уже наступает, что наблюдаемые нами сильные тенденции — это уже не капитализм, это то, что после него.
Во-первых, это существующие уже несколько десятков лет отрицательные ставки на капитал. Как это в капитализме могут быть отрицательные ставки на капитал, что это за капитализм такой? Причём в реальном выражении отрицательные ставки практически во всех странах Запада, прежде всего — это США, Великобритания и еврозона, но в некоторых странах они даже номинально отрицательные, причём разрыв между уровнем инфляции и уровнем ставок увеличился до нескольких раз. Это явно не капитализм! Это симптом другого хозяйства, другой формации, другой экономики.
Во-вторых, это концепция гарантированного дохода. В капитализме не может быть незаработанного дохода, это нечто другое. Но ведь эта концепция не только всерьёз обсуждается — её пытаются реализовать на практике, многие страны эксперименты в данном направлении уже проводят. В разных формах: где-то деньги раздают, где-то товарные и продуктовые сертификаты, которые позволяют бесплатно получить некоторые реальные блага. Это симптом чего? Это явный симптом посткапитализма.
И третий симптом, на мой взгляд, даже выходящий за пределы посткапитализма, постформационный симптом, — что очень долго существовавшая монополия государства на эмиссию денег испытывает очень серьёзные вызовы в виде появившихся криптовалют, которые в целом ряде стран признаны настолько, что ими даже можно платить налоги.
Все эти симптомы очень ярко свидетельствуют о том, что сегодня посткапитализм наступает, если не уже наступил. И необходимо формулировать его самим, потому что мы тридцать лет находились в капиталистической экономике, как было сказано, «на условиях вторичности», и важно, чтобы в посткапиталистической экономике эта наша историческая ошибка не повторилась. Мы не имеем права наступать на те же исторические грабли и находиться «на условиях вторичности».
Значит, надо формулировать наше будущее самим. При этом следует взглянуть на нерешённые исторические проблемы капитализма. Во-первых, это проблема социально-имущественного неравенства. В течение 250 лет, как показывает анализ, скорость накопления капитала была выше скорости увеличения экономики. И социально-имущественное неравенство — это проблема, которую капитализм за всё время своего существования не смог решить.
К этой проблеме добавляется проблема мирохозяйственного неравенства, когда уровень развития и богатства стран, которые образуют ядро мировой капиталистической системы, намного выше, чем у тех стран, которые входят в состав периферии или полупериферии данной системы. Очень яркий индикатор — тот факт, что страны периферии постоянно, перманентно являются нетто-экспортёрами капитала. Развивающиеся страны — экспортёры капитала для развитых стран.
Наконец, в-третьих, есть вопиющий разрыв между размерами реальной, физической, экономики и объёмом денежной массы. Объём мирового долга в 3,5 раза превышает объём мировой экономики. Это накопленные и нерешённые проблемы. И, формулируя экономику будущего, экономику посткапитализма, мы, на мой взгляд, обязаны дать ответы на эти вопросы, предложить решение этих проблем и не воспроизводить их в будущем.
Добавлю к этому ещё одну проблему: проблему демографии в экономически развитых странах, потому что государствообразующие, титульные этносы всех развитых стран за последние полвека утратили способность к самовоспроизводству и, соответственно, утратили историческую перспективу. Россия в этом отношении важна для нас прежде всего. Поэтому, говоря о следующих тридцати годах, мы должны подвести черту под прошедшим тридцатилетием и, в конце концов, признать, что экономика — это не «приватизация, либерализация, инфляция», не в этом треугольнике она вертится, не вокруг этих вторичных, инструментальных вопросов должна строиться.
У экономики будущего должно быть три главные цели. Прежде всего, она должна делать людей счастливее. Нельзя этого добиться только экономическими методами, но экономика очень сильно на это влияет. Второе — это не рост ВВП. Ориентация на рост ВВП является одной из форм укоренившегося экономического обмана. Рост реального благополучия людей, рост реального качества жизни граждан — вот та цель, которая должна быть у экономики будущего. И где-то на втором или даже на третьем уровне приоритетов может быть рост ВВП. И третья цель — это создание и обеспечение условий для расширенного воспроизводства граждан России, в том числе — государствообразующего русского народа.
Если экономика будущего не отвечает данным целям, не говорит о том, как мы их будем достигать, не настраивает все действия на это, то непонятно, зачем она. И на мой взгляд, если исходить из уроков прошлого, есть пять факторов, пять слагаемых, пять системообразующих характеристик экономики будущего.
Во-первых, в её рамках нет противопоставления «план или рынок». Это экономика, в рамках которой качественное государственное планирование и предпринимательская инициатива находятся в отношениях конвергенции, взаимодополняют друг друга, и это два мощных источника роста и развития, которые работают на достижение тех трёх целей экономик, о которых я уже сказал.
Второе — это экономика не сырьевая, а высокотехнологичная и высокодифференцированная. Очевидный вывод из прожитых тридцати «рыночных» лет — не может сырьевая экономика соответствовать масштабам нашей страны, её роли в мире. Сырьевая экономика не востребует людей, не содействует развитию человеческого потенциала, она просто недостойна такой страны, как Россия. И, конечно, в этой связи целевое технологическое развитие, создание национальной системы науки, образования, инноваций — обязательное слагаемое экономики будущего. Как и вопрос денег.
Да, мы стали энергетической сверхдержавой. Но, я думаю, нам было бы очень здорово от энергетической сверхдержавы перейти к цифровой, используя для этого тот огромный профицит энергетических мощностей, который есть у нас в стране, стать главным майнером мира, стать лидером в создании и использовании цифровых финансовых активов. Не ради этих цифровых активов как таковых, а ради роста и развития экономики. Напомню в этой связи слова Кейнса о том, что создание денег есть особое творчество государства. И то, что нам нужно не догматически, не стереотипно, а новаторски, изобретательно создавать деньги в условиях новой экономики, экономики будущего, исходя из целей и интересов её роста и развития, — это абсолютно точно. Некоторые из этих предложений описаны в книге "Кристалл роста. К русскому экономическому чуду" на уровне конкретных механизмов, конкретных технологий, конкретных денежно-кредитных моделей. Это может быть сделано.
Наконец, это культура хозяйства, культура ведения дела. И мне кажется, наш уникальный исторический опыт создания первой в мире антизатратной экономики, при которой «было дело — и цены снижали!», который затем был заимствован Японией, назван там «бережливым производством» и стал одним из столпов японского экономического чуда, — эта культура, которая своими корнями уходит в наш реальный исторический опыт, будет чрезвычайно полезна в качестве преобладающей модели хозяйствования.
Полагаю, что государственное планирование, лучшие технологии, целевые для развития деньги и развитое предпринимательство в значительной степени позволят добиться роста благосостояния граждан России, увеличения численности населения нашей страны, и людям станет счастливее жить в своей родной стране.
выступление на Петербургском международном экономическом форуме

Надо смотреть в будущее
выступление на Петербургском международном экономическом форуме
Михаил Хазин
Если говорить о том, что сейчас происходит, то это явление, которое обсуждалось двадцать лет назад, и в результате появилась книга "Закат империи доллара и конец Pax Americana", которая вышла в 2003 году. Запад к этому обсуждению не подошёл до сих пор, то есть в этом смысле мы обгоняем его примерно на четверть века.
Но то, что происходит, — это разрушение мировой долларовой системы на валютные зоны. Двадцать лет назад мы полагали, что потенциально таких зон может быть до семи: зона доллара, зона евро, зона юаня, зона рубля, зона рупии, латиноамериканская зона и некая зона исламского мира, где главную роль должны были играть Египет и Иран.
Обращаю внимание, что это — не империи, это — экономические кластеры, в каждом из которых может быть несколько лидеров. Тогда мы считали, что Япония войдёт в евразийский кластер, в зону рубля. И если сегодня мы посмотрим на политику США, которые пытаются затащить Японию в AUKUS, а она от этого отбивается руками и ногами, то можно сказать, что нынешняя ситуация в целом была описана ещё двадцать лет назад.
Запад ждут очень большие проблемы, и вот почему. Потому что мы пережили снижение общественного потребления в 1990-е годы. У нас сейчас кризис, и на Западе кризис. Но на Западе к нашему спаду будут добавлены наши же девяностые годы. И по этой причине социально-политическое разрушение западного мира будет очень тяжёлым и страшным.
Но это всё тактика. А теперь стратегия. Я никогда не был на этом мероприятии, а потому смотрю на него, можно сказать, свежим взглядом. И могу сказать, что основная мысль, которая у меня здесь возникла, это даже не стон, а такой вой: «Верните всё взад! Любой ценой! Мы не умеем жить в новом мире! Мы не хотим признавать, что будет новый мир! Мы хотим вернуться туда, где мы были успешными и великими!»
Беда состоит в том, что вернуться туда невозможно. А проблема — в том, что сегодня, когда надо было бы не обсуждать (обсуждать надо было двадцать лет назад), но предлагать какие-то решения: как минимизировать потери при построении новых экономических систем, что при этом делать, — никто нигде к этому не готов.
Когда я писал двадцать лет назад, что главной характеристикой этого разрушения будет разрушение системы легитимизации собственности, мне говорили, что я сумасшедший. Но вот оно. А там не только собственность — там разрушается всё. Вся система сертификации, вся система интеллектуальной собственности, вся система страхования, — в общем, всё, что только можно, всё, что носит глобальный характер, — будет разрушено полностью.
И в этой ситуации ключевой вопрос — не то, как обогнать противников. Ключевой вопрос или задача — как упасть меньше, чем они. К сожалению, как показал опыт этого вот мероприятия, никто на эту тему не думал, что лично у меня вызывает глубокий пессимизм. При том, что мы, Россия, — это единственная часть мировой экономики, которая на фоне общего спада может начать довольно быстрый экономический рост.
Но, разумеется, для этого надо смотреть в будущее, а не пытаться идти спиной вперёд, рассчитывая на то, что та картинка, которая была 15–20 лет назад, каким-то случайным, чудесным образом самоматериализуется.

На это направлены решения встречи глав военных ведомств альянса, состоявшейся в Брюсселе.
В Брюсселе на минувшей неделе прошло заседание министров обороны стран-членов НАТО. Каковы основные итоги этой встречи, и к чему они могут привести? Эти и другие вопросы стали темой интервью, которое дал нашему обозревателю известный политолог и аналитик Владимир Козин, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России, член-корреспондент Академии военных наук.
– Владимир Петрович, какова ваша оценка состоявшейся встречи в Брюсселе с военно-политической точки зрения?
– Проведённое 15–16 июня мероприятие подтвердило главную направленность Североатлантического альянса: он был и остаётся агрессивным военным союзом, имеющим глобальные интересы наступательного характера и ориентированным на осуществление вмешательства во внутренние дела других государств. Это инициирует повышение военных расходов у всех входящих в НАТО стран, а также приводит к наращиванию их избыточных вооружений наступательного характера на многих региональных направлениях, что усугубляет и без того непростую международную обстановку в области безопасности.
В частности, министры обороны 30 государств, входящих в настоящее время в этот военный блок, подтвердили готовность повысить военные расходы, выделить больше военных сил и средств в распоряжение союза «трансатлантической солидарности», усилив и без того значительное комбинированное военное присутствие альянса в Европе, в частности, в его восточной части непосредственно у российских границ. По сути НАТО готовит Восточную Европу в качестве наиболее вероятного театра военных действий. Главным же военно-политическим итогом проведённой брюссельской встречи стало окончательное согласование документов и решений, выносимых на рассмотрение саммита НАТО, который планируется провести в конце июня в Мадриде.
– Какие конкретные решения были приняты на прошедшем заседании?
– Министры договорились усилить «силы сдерживания» альянса, в которые, начиная с мая 2012 года, входят ракетно-ядерные, противоракетные и обычные виды вооружений, сведённые в единый механизм. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, усиление «сил сдерживания» означает значительное наращивание их боевых потенциалов, расширение территории развёртывания и повышение степени боеготовности. При этом особое внимание будет уделено их сосредоточению в районах передового базирования – непосредственно у границ России и Беларуссии. Произойдёт наращивание боевых потенциалов этого военного блока в четырёх сферах – на суше и море, а также в воздушной среде и киберпространстве.
Как заявил на итоговой пресс-конференции Столтенберг, альянс уже увеличил количество своих передовых боевых групп с четырёх до восьми. Сейчас планируется увеличить эти группы с батальонного до бригадного уровня, то есть с сотен до нескольких тысяч человек. Будут также развёрнуты военные базы «предварительного складирования» и дополнительные склады вооружений в Европе, которых и без того там немало.
Была выражена признательность Германии за готовность усилить своё участие в деятельности многонациональной боевой группы в Литве, которой командует офицер будесвера. Объявлено, что Франция возглавит аналогичную боевую группу НАТО в Румынии.
Генеральный секретарь упомянул о целесообразности создания «модели новых сил» НАТО, в которые должны войти больше сил и средств повышенной боеготовности, а также «специфические силы, заранее предоставленные для обеспечения обороны специфических союзников». Такие силы будут находиться на своей национальной территории в режиме «ожидания», а затем переброшены в другую страну при возникновении чрезвычайной ситуации.
– Были ли озвучены министрами какие-то подробности этой «модели» и состав «специфических сил»?
– На проведённом 15–16 июня мероприятии такие подробности раскрыты не были. Столтенберг лишь заявил, что согласована модель выделенных сил – preassigned forces, «которые будут предназначены и будут тренироваться для действий в конкретном регионе» Восточной Европы. Вполне возможно, что на мадридском саммите какие-то детали всё же будут изложены. В любом случае к таким новациям следует присмотреться с особым вниманием и реагировать на них адекватно.
– В каком ключе была рассмотрена ситуация на Украине и шла речь о необходимости поиска её урегулирования?
– Ситуация на Украине была рассмотрена не с точки зрения поиска путей её взаимоприемлемого политического урегулирования, а с позиции дальнейшего закрепления геополитических интересов Североатлантического союза в этой части Европы. При этом упор делается на продолжение конфликта и ведение боевых действий. Естественно, руками украинских вооружённых сил и националистических формирований. То есть путём, как это звучит на английском: proxy war, что в данном контексте имеет один вариант перевода: «война чужими руками».
В рамках мероприятия в Брюсселе был заслушан доклад украинского министра обороны, который требовал дополнительных вооружений. На полях министерской встречи в Брюсселе также состоялось заседание руководимой Соединёнными Штатами «Контактной группы по оказанию помощи Украине», которая рекомендовала расширить поставки вооружений и военной техники киевскому режиму.
Как признал на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Североатлантический союз уже многие годы оказывает военную помощь Украине. «Союзники по НАТО – США, Великобритания, Канада и другие – годами тренировали украинские войска. Так что десятки тысяч украинских военнослужащих, которых обучали союзники по НАТО, сейчас на передовой воюют против российских сил», – заявил он при этом. И ещё раз подчеркнул, что альянс продолжит поддерживать Украину и дальше.
Столтенберг выразил надежду на то, что на мадридской встрече в верхах союзники по НАТО согласятся с предоставлением Киеву всеобъемлющего пакета помощи, которая позволит Украине в долгосрочном плане перейти от использования военной техники советского производства к современным видам военной техники альянса, а также «улучшить оперативную совместимость» в рамках трансатлантического союза.
– И какой вывод напрашивается в этой связи?
– Прежде всего, то, что, не являясь полноправным членом военного блока НАТО с политико-правовой точки зрения, Украина в нынешней обстановке фактически приобретает статус его непосредственного военного участника. Оно приведёт к дальнейшему фактическому расширению альянса в восточном направлении с украинским участием под ширмой «партнёра с особым статусом», который в своё время придумал бывший руководитель НАТО Яаап де Хооп Схеффер, то есть к превращению Украины в плацдарм противостояния с нашей страной. Это – неприемлемое развитие ситуации с точки зрения национальных интересов Российской Федерации, так как однозначно создаст дополнительные военные угрозы нашей стране.
– Что было заявлено о перспективах вхождения Швеции и Финляндии в НАТО в качестве его полноправных членов?
– Этот вопрос довольно бурно, судя по сообщениям информагентств, обсуждался на прошедшем заседании. Но из-за возражений Турции министрам пока не удалось согласовать приём в НАТО подавших заявки Финляндии и Швеции. Тем не менее, соответствующая заявка этих стран была поддержана, а потенциальное вступление в альянс названо историческим. Также подчеркнуто, что альянс будет усердно и активно работать над поиском такого решения. Если это произойдёт, то сухопутная граница альянса с Россией увеличится более чем вдвое.
Следует отметить, что главы военных ведомств стран НАТО также рассмотрели вопрос о расширении сотрудничества с Грузией. По словам министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, который принял участие в этой встрече, на ней все участники отметили, что «Грузии нужно больше поддержки, больше помощи и конкретных шагов». В свою очередь Столтенберг заявил, что на встрече была отмечена необходимость укрепления сотрудничества с Тбилиси. «Окончательные решения зависят от саммита. Однако я ожидаю, что когда лидеры соберутся вместе, они подтвердят нашу политику открытых дверей и опять заявят то, что мы до этого говорили после саммита в Бухаресте о Грузии и членстве в НАТО», – сказал генсек альянса, имея в виду саммит, состоявшийся в румынской столице в 2008 году.
В заключение хотел бы подчеркнуть, что, учитывая характер прошедшей министерской встречи, не трудно предположить, что предстоящий саммит НАТО пройдёт в том же анитроссийском духе. Тем более что на нём планируется принять новую стратегию, в которой наряду с Россией противником альянса будет объявлен и Китай. Для этого на саммит приглашены Япония и Южная Корея. Всё это, безусловно, ещё более серьёзно осложнит геополитическую ситуацию в европейском регионе и в мире в целом.
Владимир Кузарь, «Красная звезда»

Англосаксы возвращаются в Азию
Политика США и Великобритании повышает угрозу военной конфронтации в Индо-Тихоокеанском регионе.
Министр обороны США Ллойд Остин, принявший участие в этом месяце в международной конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, заявил, что США не ищут конфронтации или холодной войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе и не планируют создавать азиатский аналог НАТО. «Мы не стремимся к новой холодной войне, азиатскому НАТО или региону, раздробленному на враждебные блоки», – утверждал он, заверив при этом, что США без колебаний будут защищать свои интересы в регионе, который считают «центром стратегического тяготения» в XXI веке. По его словам, США плотно работают с «конкурентами и друзьями» над предотвращением потенциальных конфликтов. Звучит на первый взгляд умиротворяюще, но так ли это на самом деле? Какие цели преследуют два ведущих государства англосаксонского мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе? На эту тему наш обозреватель побеседовал с известным политологом и военным аналитиком доктором военных наук Сергеем Печуровым, членом научного совета при Совете Безопасности РФ, автором серии монографий, посвящённых англосаксонскому миру.
– Сергей Леонидович, складывается впечатление, что центр внимания элиты англосаксов всё более сдвигается в Индо-Тихоокеанский регион? Так ли это?
– Вне всякого сомнения. США и Великобритания, столпы англосаксонского мира, в последнее время заметно активизировали свою деятельность в этом регионе. Но начать нашу беседу хотел бы с небольшого экскурса в историю.
Прежде всего следует отметить, что Британия пришла в Азию лет четыреста назад – в начале XVII-го века. Тогда она не играла заметной экономической и политической роли на Европейском континенте. Более того, из-за слабого военного потенциала и политической нестабильности в Соединённом Королевстве она уступала Испании, Франции и Голландии. Но на протяжении последующих двух с половиной веков Британская империя неуклонно расширялась за счёт колоний, преимущественно азиатских, которые сделали её в XIX-м веке одной из самых могущественных в мире.
Произошло это потому, что британцы, а затем и их «братья-североамериканцы» без зазрения совести грабили закабалённые территории, прикрываясь заявлениями о так называемой цивилизаторской миссии Запада. Конечно же, народы, определённые элитой англосаксов в качестве объекта экспансии, далеко не безропотно подчинялись диктату. Даже относительно слабое государство, такое как Корея, смогло сжечь американские торговые суда в порту Пхеньян в 1866 году, чтобы прекратить разграбление страны.
Или взять обе так называемые опиумные войны в Китае в середине XIX века. В их ходе зверскому, в прямом смысле этого слова, истреблению подверглось местное население прибрежных территорий. Причём британцам в навязывании опиума китайцам, в конце концов погубившего вполне развитую в тот период Цинскую цивилизацию, активно помогли французы, а затем и «братья-англосаксы» из Северной Америки.
Ещё одно проявление колониальной политики Британии – Индия. И здесь тысячи и тысячи убитых и замученных местных жителей, а в конце и раздел страны. Не случайно в 1930-е годы германские нацисты, включая их фюрера Адольфа Гитлера, официально признавали в качестве примера для своей экспансии на восток Европы именно формы и способы «работы» британцев, продемонстрированные теми в геноциде в Индостане.
Надо сказать, что колониальная политика англосаксов была доведена до совершенства. Отнюдь не из гуманизма, а из расчётливого цинизма Лондон не чурался привлекать себе на службу и, естественно, только в своих интересах вскармливаемых, что называется, на местах различных царьков и султанчиков. Им даже порой поручалась субцивилизаторская миссия по принуждению к покорности народов того же «третьего мира». То есть они служили «пушечным мясом».
Активно англосаксы практиковали и одаривание с барского плеча привилегиями некоторых представителей из прикормленных аборигенов, например в виде позволения обучаться в престижных вузах в Альбионе, где им прививали любовь к «новой родине». Отсюда и подражательство британскому образу жизни среди местных элит в бывших колониях, «любовь» ко всему английскому, стремлению изъясняться на языке господ, прочное встраивание в политический курс государства, которое когда-то поработило и унижало их предков.
– И сегодня англосаксы вознамерились, надо полагать, возвратиться в свои бывшие колонии, вновь подчинить их своему влиянию…
– В какой-то мере, да. Стремясь перестроить мир по собственным правилам, а по сути, возродить англосаксонскую империю, США и Великобритания предпринимают целенаправленные шаги по захвату Азиатско-Тихоокеанского региона, который на Западе принято теперь называть Indo-Pacific – Индо-Тихоокеанским. При этом они исходят из того, что, во-первых, обострением украинского конфликта, его переводом в горячую фазу достигнута одна из целей англосаксов в континентальной Европе – Евросоюз всё более ослабляется вовлечённостью, вопреки национальным интересам его стран, в украинские события.
Во-вторых, в Индо-Тихоокеанском регионе неуклонно развивается, в том числе в военном плане, Китай, растёт его влияние в регионе. Это создаёт, по мнению элиты англосаксов, системный вызов привычному для Запада миропорядку. Поэтому Китай наряду с Россией рассматривается как противник, которого надо ослабить и сдержать.
В-третьих, в регионе есть немало государств, которые пока ещё не до конца определились со своим внешнеполитическим вектором развития, не знают, чью сторону принять в геополитической игре или оставаться вне всяких союзов и альянсов, особенно военно-политического характера. Именно эти страны англосаксы намерены «приручить» в первую очередь, чтобы затем использовать в качестве тарана для продвижения своих интересов.
И в-четвёртых, в этой части земного шара сосредоточены страны, производящие половину мирового экспорта. Считается, что кто поставит под контроль этот регион с растущей экономикой, тот имеет ключи от всего мира.
Всё это определило суть нынешней политики англосаксов, которая изложена в концепции «Глобальная Британия», принятой Лондоном в 2021 году, и «Индо-Тихоокеанской стратегии США», обновлённой всего лишь несколько месяцев назад. Согласно британскому документу Соединённое Королевство полно решимости «вернуться в Азиатско-Тихоокеанский регион». При этом Британия, как отмечали её официальные представители, комментируя концепцию, не намерена извиняться за своё колониальное прошлое, а будет стремиться использовать его для увеличения глобального влияния. «Британцы не только не сожалеют о своих колониальных экспансиях, но и горды ими», – подчеркивали в Лондоне в этой связи.
В свою очередь в американской тихоокеанской стратегии отмечается, что для США задачей XXI века является сохранение своего господствующего положения в регионе, который является самым динамичным в мире и от будущего которого зависит развитие и процветание Соединённых Штатов.
– Решение этих задач англосаксы видят, судя по их конкретным действиям, как в росте своего присутствия, в том числе и военного, в регионе, так и в расширении взаимодействия со своими союзниками и партнёрами, находящимися в нём…
– Совершенно верно. Как пример, растущего здесь военного присутствия Великобритании, можно привести оперативное развёртывание авианосной ударной группы во главе с авианосцем «Королева Елизавета». Оно состоялось впервые за последние десять лет в прошлом году. По данным министерства обороны Великобритании, эта АУГ посетила более 40 стран, включая Индию, Японию и Сингапур, и отработала свыше 70 боевых задач, в том числе приняла участие в учениях, прошедших в Южно-Китайском море. Как заявил британский министр обороны Бен Уоллес, авианосная группа в течение более полугода продемонстрировала миру, что «Великобритания не отступает, а плывёт вперёд, чтобы играть активную роль в формировании международной системы XXI века».
Со своей стороны США держат в составе Индо-Тихоокеанского командования почти 300 тысяч военнослужащих, которые размещены на свыше 200 американских военных объектах. Основу наземной группировки составляет личный состав соединений корпуса морской пехоты (около 85 тысяч человек), а также части и соединения сухопутных сил (свыше 60 тысяч). При этом ежегодно Пентагон выделяет значительные средства на усиление этой группировки, проведение учений, создание военной инфраструктуры в регионе. В частности, сообщалось, что США в ближайшее время потратят 24,7 млрд долларов на окружение Китая так называемым новым ракетным валом, размещённым в азиатских странах-союзниках.
Следует заметить, что, действуя по своему излюбленному принципу «загребать жар чужими руками», англосаксы усиленными темпами оживляют в Азии старые и создают новые альянсы и блоки, чтобы использовать их в своих геополитических целях. В частности, в прошлом году появился пока ещё чисто англосаксонский альянс АУКУС (AUCUS – Австралия, Великобритания и США). В перспективе Вашингтон и Лондон планируют втянуть в него Канаду, Новую Зеландию, Японию и Южную Корею.
Несмотря на заявления о том, что этот альянс не нацелен ни на какую конкретную страну, его очевидная цель заключается в противостоянии прежде всего Китаю. Судя уже по первым действиям альянса, основное его внимание будет сосредоточено на Тайване и Южно-Китайском море. То есть на тех двух «горячих точках», которые Вашингтон использует для того, чтобы сплотить тихоокеанские государства против Китая, держать его в напряжении и провоцировать.
Одновременно англосаксы прилагают немалые усилия по приданию нового характера КВАДу (QUAD – четырёхсторонний диалог по безопасности), который первоначально был создан США, Австралией, Индией и Японией для оказания гуманитарной помощи и помощи при стихийных бедствиях населению пострадавшей страны. Однако в последние годы Вашингтон целенаправленно стремится превратить это объединение в своего рода азиатское НАТО. В очередной раз это нашло своё проявление на саммите QUAD, который состоялся 24 мая в Токио. Тон на нём задавал Джо Байден, который призвал участников саммита к более тесному взаимодействию в интересах «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».
На саммите лидеры альянса обязались решать задачи по обеспечению морского порядка, основанного на правилах, в том числе в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. При этом они намерены совместно выступать против, как они заявили, любых принудительных, провокационных или односторонних действий, направленных на изменение статус-кво и усиление напряжённости в регионе. Кроме того была проведена встреча QUAD-plus с участием Южной Кореи, Новой Зеландии и Вьетнама, которых в Вашингтоне видят основой для будущего расширения альянса.
Наконец, в рамках саммита было объявлено о создании новой «Индо-Тихоокеанской экономической структуры», в которой будут участвовать 13 стран: США, Япония, Индия, Австралия, Бруней, Индонезия, Малайзия, Новая Зеландия, Южная Корея, Филиппины, Таиланд, Вьетнам, Сингапур. С такой инициативой выступил Вашингтон, опять-таки, с одной стороны, выстраивая очередной региональный противовес Китаю, а с другой – рассчитывая, что сотрудничество в этой структуры будет способствовать укреплению доминирования США в Азии.
– А что, в странах региона не понимают, что собой представляют англосаксы, на что они готовы во имя своих корыстных интересов?
– Ну почему же? Уверен, что понимают. Вне всякого сомнения, в сознании народов региона сохранилась память о колониальной судьбе их предков. Помнят они и о бессмысленной атомной бомбардировке американцами японских городов Хиросима и Нагасаки, применении бактериологического оружия в Северной Корее, отравляющих веществ во Вьетнаме, использования боеприпасов с обеднённым ураном в Ираке…
Однако, к сожалению, не все в современной геополитической игре готовы выдержать откровенный диктат и шантаж англосаксов или противостоять соблазну получить от них некие обещанные дивиденды. Вместе с тем попытки США и Великобритании принудить страны Индо-Тихоокеанского региона следовать западной политике начинают вызывать у них всё большее отторжение. Подтверждением тому являются, например, отказ многих государств региона поддержать политику коллективного Запада в отношении России, проявляемая ими готовность выстраивать партнёрские отношения с Китаем.
Что же касается самого Китая, то в Пекине неизменно подчёркивают, что действия англосаксов в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе по выстраиванию системы различных альянсов и блоков, повышают угрозу военной конфронтации в этой части земного шара.
Владимир Кузарь, «Красная звезда»

Храня не те секреты: как Вашингтон упускает из виду реальную угрозу безопасности
УНА ХЭТУЭЙ
Профессор международного права Школы права Йельского университета.
ОПУБЛИКОВАНО В ЖУРНАЛЕ FOREIGN AFFAIRS № 1 ЗА 2022 ГОД
США тратят миллиарды долларов на защиту секретной информации, большая часть которой уже легко доступна из открытых источников. Но при этом мало что делают для того, чтобы позволить своим гражданам, в том числе занимающим важные государственные посты, защитить личную жизнь от разоблачения. Поступая так, они разбрасывают по всему миру кусочки мозаики национальной безопасности.
Соединённые Штаты хранят множество секретов. В 2017 г. (последнем, за который имеются полные данные) примерно 4 млн американцев с допуском к секретной информации классифицировали около 50 млн документов как секретные, что обошлось американским налогоплательщикам примерно в 18 млрд долларов.
На какое-то время я сама стала одним из этих четырёх миллионов. С 2014 по 2015 г. я работала на главного юрисконсульта Министерства обороны, получив при этом допуск на уровне «совершенно секретно». Я думала, что все секретные материалы, которые увижу, будут содержать важные тайны национальной безопасности, доступные только тем, кто прошёл тщательную проверку и был отмечен особым доверием. И была потрясена, обнаружив, что многие из этих документов на самом деле мало отличалось от сведений, доступных в Интернете. Были исключения: например, события, о которых я узнала за несколько часов или даже дней до остального мира, и информация, которая поступала от разведывательных источников. Но подавляющая часть материалов, признанных секретными, была примечательна только тем, насколько она была непримечательной.
Американская система хранения секретов основана на идее, что правительство имеет доступ к важной информации, которая недоступна или, по крайней мере, не является общедоступной для частных граждан или организаций. Однако со временем правительственные разведывательные источники утратили своё преимущество перед частными источниками. Благодаря новым технологиям наблюдения и мониторинга, таким как геолокационные трекеры, Интернет вещей и коммерческие спутники, частная информация теперь зачастую гораздо лучше и подробнее – иногда намного подробнее, чем информация, которой располагает правительство.
В то же время эти технологии породили совершенно новую угрозу: персональные данные, многие из которых легкодоступны, могут быть использованы иностранными державами. Каждая отдельная часть такой информации сама по себе относительно неважна. Но в совокупности эти фрагменты могут дать противникам беспрецедентное представление о личной жизни большинства американцев.
Тем не менее Соединённые Штаты ещё не начали совершенствовать систему защиты информации. Они по-прежнему сосредоточены на сохранении слишком большого количества секретов, которые на самом деле не имеют значения, и относятся к правительственной информации так трепетно, будто это королевские драгоценности; при этом личные данные остаются почти полностью незащищёнными.
Этот чрезмерный акцент на секретности в ущерб конфиденциальности не просто неэффективен. Он подрывает американскую демократию, а также, всё чаще, национальную безопасность.
Эпидемия шпионажа
Правительство США не всегда хранило так много секретов. На рубеже XX века у него фактически не было официальной общенациональной системы секретности. Ситуация начала меняться после того, как Япония нанесла поражение России в русско-японской войне 1905 г., ошеломив западные страны и возвестив о появлении в Азии новой региональной силы, способной бросить вызов крупным европейским державам. Япония долгое время запрещала эмиграцию, однако это ограничение было снято в 1886 г. – как раз в тот момент, когда военная мощь страны начала расти. К 1908 г. около 150 тыс. японских иммигрантов въехали в Соединённые Штаты.
По мере того, как число вновь прибывших росло, американские газеты начали публиковать истории о «японских шпионах, бродящих по Филиппинам, Гавайям и континентальной части Соединённых Штатов, спешно создавая чертежи расположения орудий, мин и других средств защиты» – так об этом писала The Atlanta Constitution в 1911 году. Журналисты Courier-Journal подробно рассказали о сложной японской шпионской операции в Лос-Анджелесе, Портленде и гаванях вокруг Пьюджет-Саунд, а также передали слухи о том, что «агенты японской военной разведки под видом рабочих железнодорожного участка или прислуги в семьях, проживающих в данной местности, находятся на каждом большом железнодорожном мосту на тихоокеанском побережье». Эти истории были фантастическими – и, вероятно, по большей части ложными, как и широко распространённые рассказы о японских владельцах кондитерских, которые на самом деле были картографами, японских рыбаках, которые на самом деле зондировали гавани, и японских парикмахерах, которые узнавали военные тайны от своих ничего не подозревающих клиентов.
Члены Конгресса, встревоженные этими историями, решили действовать. Закон об оборонной тайне, принятый в 1911 г., был первым законом США, криминализирующим шпионаж. В нём предусматривалось, что «любой, кто …без надлежащих полномочий получает, пользуется или создаёт, или пытается получить, воспользоваться или создать любой документ, эскиз, фотографию, негатив, план, модель или информацию о чём-либо, связанном с национальной обороной, на что он не имеет права», может быть арестован или заключён в тюрьму.
После того, как в Европе началась война, президент Вудро Вильсон обратился к Конгрессу с просьбой ужесточить законы против подстрекательства к мятежу и разглашения секретов. Во всеуслышание он заявил: «Я стыжусь признать, что есть граждане Соединённых Штатов, родившиеся в других странах, но гостеприимно принятые в соответствии с нашими щедрыми законами о натурализации, пользующиеся полной свободой и возможностями Америки», которые «пытались вмешиваться во все конфиденциальные дела правительства, чтобы служить чуждым нам интересам». Результатом стал Закон о шпионаже 1917 г., который, с некоторыми изменениями, по-прежнему является главной правовой основой для запрета несанкционированного раскрытия сведений о национальной безопасности. Закон был чрезвычайно широким и предусматривал уголовную ответственность за разглашение «информации, касающейся национальной обороны», которая может быть «использована во вред Соединённым Штатам».
Таким образом, появились правила, предусматривающие уголовную ответственность за разглашение секретов национальной безопасности. Но что являлось таким секретом? Историки считают, что Общий приказ экспедиционных сил № 64, также изданный в 1917 г., был «первой попыткой правительства принять официальную систему классификации правительственной информации, имеющей значение для национальной безопасности». В последующие годы армия и Военно-морской флот приняли собственные правила классификации информации, создав некоторую путаницу правил классификации во всех родах войск. Затем, в 1940 г., президент Франклин Рузвельт заменил эту серию правил децентрализованной классификации исполнительным указом, запрещающим записывать «определённую жизненно важную информацию о военных или военно-морских объектах» без разрешения. Правила касались самолётов, вооружения и другой военной техники, а также книг, брошюр и других документов, если они были признаны «секретными», «конфиденциальными» или «с ограниченным доступом».
С тех пор многие президенты издавали указы, в которых определяется, какая информация классифицируется как секретная, как она классифицируется и кто может получить к ней доступ. Последний всеобъемлющий исполнительный указ, изданный президентом Бараком Обамой в 2009 г., устанавливает три уровня классификации – секретно, совершенно секретно и конфиденциально – наряду с широким набором правил о том, что означает каждый уровень. Согласно указу, секретные документы создаются двумя способами: один из 1867 чиновников, имеющих «первоначальные полномочия по классификации», решает, что документ должен быть засекречен, или же один из примерно 4 млн человек, имеющих доступ к секретным материалам, создаёт новый документ, используя информацию, которая уже была классифицирована – происходит так называемая производная классификация. В 2017 г. более 49 млн документов, созданных правительством, были засекречены производным образом.
Секретность порождает секретность
Почти все, кто изучал американскую систему хранения секретов, пришли к выводу, что она приводит к массовому превышению секретности. Дж. Уильям Леонард, возглавлявший Управление по надзору за информационной безопасностью при администрации Буша, однажды заметил, что более половины информации, соответствующей критериям секретности, вообще не следует классифицировать как таковую. Другие исследователи могли бы назвать ещё больший процент. Майкл Хейден, бывший директор Агентства национальной безопасности, а затем ЦРУ, однажды пожаловался, что полученное им электронное письмо с поздравлениями с Рождеством, было классифицированного как содержащее совершенно секретную информацию.
Одна из основных причин чрезмерной засекреченности – тот факт, что те, кто проводит классификацию, почти всегда предпочитают ошибаться в сторону осторожности – классифицировать вверх, а не вниз. Во время моей работы в Пентагоне, если бы я допустила ошибку и классифицировала документ или электронное письмо на слишком высоком уровне, наказания, скорее всего, не последовало бы. Насколько я знаю, никто из сотрудников, с которыми я работала, никогда не подвергался дисциплинарному взысканию за слишком высокую классификацию документа. Однако слишком низкая классификация документа может привести к серьёзным последствиям, не говоря уже о потенциальной угрозе национальной безопасности. Другими словами, секретность – это самый простой и безопасный способ действий.
Однако секретность порождает ещё большую секретность, поскольку документы должны быть классифицированы на самом высоком уровне за счёт любой содержащейся в них информации. Например, если десятистраничная служебная записка содержит хотя бы одно предложение, классифицируемое как совершенно секретное, служебная записка в целом должна быть признана совершенно секретной (если только она не помечена как «маркируемая по частям», что означает, что каждому сегменту – заголовку, каждому абзацу, каждому пункту и каждой таблице присваивается отдельный знак классификации). Это требование подпитывает бесконечную прогрессию производных классификаций, что усугубляет и без того огромную проблему чрезмерной секретности.
Скрытый вред
Демократические издержки избыточной секретности трудно переоценить. Отметим очевидное: государство не может хранить секреты от своих врагов, не скрывая их также и от собственного населения. Массовое хранение государственных тайн подрывает демократическую систему сдержек и противовесов, поскольку это затрудняет, если не делает невозможным, для общественности – и, часто, для членов Конгресса – быть в курсе планов исполнительной власти.
Правительство США совершало ужасные вещи, действуя тайно. Чёрные объекты ЦРУ, где подозреваемые в причастности к террористическим группам подвергались пыткам во времена администрации Буша, не смогли бы пережить общественного огласки – вот почему они существовали скрытно в течение многих лет. Секретность также подрывает американскую демократию менее очевидными способами. Когда правительство хранит секреты, эти секреты позволяют (а иногда и требуют) лгать. Когда эта ложь разоблачается, общественное доверие к правительству падает – как это было в 2013 г., когда Эдвард Сноуден, в то время работавший подрядчиком Агентства национальной безопасности, раскрыл масштабную программу слежки, в рамках которой агентство получило доступ к электронной почте, мгновенным сообщениям и данным мобильных телефонов миллионов американцев. Это разоблачение подорвало доверие к американским спецслужбам, затруднив их работу – то есть произошло прямо противоположное тому, чего должна была достичь правительственная секретность.
Секреты также оказывают сдерживающее воздействие на свободу слова. В мае 2019 г. Министерство юстиции предъявило Джулиану Ассанжу, основателю разоблачительной организации WikiLeaks, обвинения по 17 пунктам в нарушении Закона о шпионаже за получение и публикацию секретных документов. Впервые правительство выдвинуло такие обвинения только за публикацию, что вызвало опасения в средствах массовой информации, что правительство может начать использовать Закон о шпионаже для преследования журналистов. Как сообщал The New York Times, Ассанжу были предъявлены обвинения за действия, которые предприняла и сама газета: она получила те же документы, что и WikiLeaks, также без разрешения правительства, и опубликовала часть из них, хотя и скрыла имена информаторов.
Беспокоиться нужно не только осведомителям и журналистам; бывшие правительственные чиновники также могут попасть в тиски классификации. Даже после ухода с должности госслужащие не только могут подвергнуться уголовному преследованию в случае разглашения секретной информации, которую они узнали во время работы в правительстве, но также обязаны предоставлять тексты своих сочинений (в том числе проектов публичных выступлений) для «предварительного ознакомления». Джон Болтон, который занимал пост советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа, стал примером злоупотребления процессом предварительного рецензирования после того, как выход его книги был задержан по политическим мотивам. Это далеко не единственный пример. Миллионы бывших государственных служащих, включая меня, связаны подобными правилами. Однако реальный вред эта система наносит не бывшим госслужащим.
Она влияет на качество публичного дискурса, поскольку бывшие госслужащие, знающие о системе национальной безопасности США, слишком часто решают, что проще просто промолчать.
Чрезмерная классификация также затрудняет сохранение секретов, которые действительно важны. Как выразился судья Верховного суда Поттер Стюарт по делу 1971 г., приказав рассекретить документы Пентагона относительно роли США во Вьетнаме, «когда всё засекречено, тогда ничто не засекречено, и система превращается в нечто, чем пренебрегают циники и безразличные, и чем манипулируют те, кто стремится к самозащите или саморекламе». Слишком большая секретность также может затруднить защиту американской народа от угроз национальной безопасности – например, путём ограничения обмена информацией, способной повлиять на принятие решений или выявить новые опасности. Комиссия 9/11 установила, что одной из причин, по которой заговор с целью совершения терактов 11 сентября не был раскрыт, стала слишком большая секретность: неспособность обмениваться информацией между агентствами и общественностью позволила злоумышленникам добиться успеха. «Нам лучше быть открытыми, – сказал Томас Кин, председатель комиссии. – Лучший союзник, который у нас есть в защите от терроризма, – это информированная общественность».
Глаза и уши повсюду
Однако, возможно, самая высокая цена хранения большого количества секретов заключается в том, что это помешало Соединённым Штатам увидеть новую, потенциально ещё более опасную угрозу: новые технологии отслеживания и мониторинга, которые делают сокрытие даже самой конфиденциальной информации всё более трудным. Взять хотя бы приложение для тренировок Strava, которое позволяет спортсменам записывать данные о своих пробежках и велосипедных прогулках и делиться ими с друзьями. В 2017 г. это, казалось бы, безобидное приложение стало кошмаром национальной безопасности после того, как студент в Австралии начал публиковать изображения, которые раскрыли деятельность американских пользователей Strava на передовых оперативных базах в Афганистане и военных патрулей в Сирии. Другие пользователи достаточно быстро создали карты французской военной базы в Нигере, а также итальянской базы и нераскрытого объекта ЦРУ в Джибути. Вскоре стало ясно, что данные Strava могут быть использованы не только для выявления внутренней работы таких военных объектов, но и (с некоторыми изменениями) для идентификации и отслеживания конкретных лиц.
Сотни подобных приложений ежедневно определяют местоположение ничего не подозревающих американцев, собирая информацию, которую покупают и продают агрегаторы данных. Одна из таких компаний, X-Mode, собирает, агрегирует и перепродаёт настолько детализированные данные о местоположении, что возникает возможность отслеживать перемещения отдельных устройств и даже определять их аппаратные настройки. X-Mode собирает эту информацию через собственные приложения, но также платит программистам, которые используют программное обеспечение X-Mode и его код отслеживания местоположения для своих данных. Согласно новостному сообщению за 2019 г., X-Mode имела доступ к информации о местоположении в среднем 60 млн пользователей по всему миру в месяц. В конце 2020 г. Apple и Google запретили X-Mode собирать информацию о местоположении с мобильных устройств, работающих под управлением их операционных систем, но технология отслеживания остаётся широко распространённой.
X-Mode – самый известный агрегатор данных для определения местоположения, но это далеко не единственная компания, использующая общедоступную информацию для наблюдения за частной жизнью людей. Нью-йоркская компания Clearview AI разработала инновационную систему распознавания лиц. Приложение позволяет пользователям загружать фотографии и сопоставлять их с базой данных из более чем 3 млрд изображений, собранных с Facebook, Venmo, YouTube и миллионов других веб-сайтов для идентификации людей на фотографиях. Федеральные правоохранительные органы и правоохранительные органы штатов обнаружили, что приложение работает намного лучше, чем база данных ФБР для отслеживания подозреваемых в совершении преступлений. В 2019 г. полиция штата Индиана раскрыла дело за 20 минут после загрузки в Clearview изображения из видео, снятого свидетелем преступления мобильным телефоном. Мужчина, идентифицированный как подозреваемый в совершении преступления, не имел водительских прав и не числился ни в одной государственной базе данных, но кто-то (не сам мужчина) опубликовал его видео в социальных сетях вместе с подписью, содержащей его имя. Преступник был быстро арестован и обвинён.
Развитие Интернета вещей, то есть сетевых устройств, означает, что собирается больше информации о повседневной жизни людей, чем когда-либо прежде, включая огромные массивы голосовых данных, генерируемых голосовыми помощниками, такими как Alexa от Amazon. В отчёте за 2017 г. Дэн Коутс, директор национальной разведки, определил уязвимости, создаваемые Интернетом вещей, как ключевую угрозу национальной безопасности. Но в отчёте основное внимание уделялось физическим опасностям, которые сложные киберинструменты могут представлять для потребительских товаров (например, автомобилей и медицинских устройств), и не рассматривались угрозы, которые эти инструменты могут представлять для информационной безопасности. В конце прошлого года Конгресс принял Закон об улучшении кибербезопасности Интернета вещей, устанавливающий минимальные требования безопасности для подключённых устройств. Однако закон распространяется только на устройства, которые продают федеральному правительству. Частные граждане предоставлены самим себе. Устройства – далеко не единственный способ, которым компании собирают личную информацию. Facebook создаёт сторонние плагины – кнопки «нравится» и «подписаться» и пиксели отслеживания, которые его рекламные партнёры могут добавлять на свои собственные веб-сайты и приложения, не относящиеся к Facebook. Эти плагины, в дополнение к сбору данных для партнёров Facebook, позволяют Facebook отслеживать онлайн-активность своих пользователей, даже когда они не находятся на его сайте.
Шпионы, которые привели к принятию Закона о шпионаже сто лет назад, теперь в значительной степени заменены этой вездесущей технологией отслеживания и мониторинга. Если приложение может раскрыть местоположение и личность американских солдат на передовых оперативных базах в Афганистане, оно может сделать то же самое с сотрудниками разведки, работающими в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния, или даже с министром обороны и членами его или её семьи. Безуспешны будут попытки скрыть местоположение оперативников под прикрытием. Независимо от того, насколько тщательно они скрывали свою личность в Интернете, фотографии их друзей в Facebook и Instagram и неизбежные видео с камер наблюдения, к которым агрегаторы данных и их клиенты могут легко получить доступ, сделают практически невозможным скрыть их истинные личности и контакты, не говоря уже о личностях и местонахождении их семей и друзей.
Правительство США, возможно, воздержалось от того, чтобы бить тревогу отчасти потому, что его собственные разведывательные службы используют такие уязвимости. Документы, раскрытые WikiLeaks в 2017 г., например, показали, что ЦРУ пользовалось уязвимостью телевизоров, подключённых к Samsung, чтобы применять их в качестве скрытых подслушивающих устройств. Но в то время, как правительство хранило молчание, частная промышленность соответствовала возможностям властей по сбору информации, а иногда и превосходила их. Неправительственные организации, работающие в зонах конфликтов, теперь собирают сведения, связанные с конфликтами, которые часто не уступают или превосходят информацию, полученную спецслужбами. В то же время частные спутниковые компании предоставляют по запросу доступ к сложным спутниковым снимкам практически любого места на земле. Короче говоря, правительство больше не обладает монополией на важную информацию.
Мозаичная теория
В области национальной безопасности существует концепция, известная как «мозаичная теория». Она утверждает, что разрозненные, кажущиеся безобидными кусочки информации могут стать значимыми в сочетании с другими фрагментами. Эта теория является одной из причин, по которой подавляющему большинству людей, имеющих доступ к секретной информации, говорят, что они не могут судить, какая информация должна быть классифицирована как секретная. Документ, кажущийся бессмысленным, может, будучи сопоставлен с другими сведениями, предоставить противнику важную часть мозаики.
Исторически сложилось так, что аналитики разведывательных служб собирали воедино кусочки информации, чтобы завершить мозаику. Хорошие аналитики понимают, когда кажущаяся несущественной информация может оказаться важной в контексте. Появление больших данных в сочетании с искусственным интеллектом обещает перевернуть этот традиционный подход. Чтобы понять почему, рассмотрим прорыв, достигнутый гигантом розничной торговли Target почти десять лет назад. Как и большинство компаний, Target присваивает своим клиентам идентификационные номера, привязанные к их картам в магазине и к их кредитным картам, именам и адресам электронной почты. Когда клиент совершает покупку, эта информация собирается и обрабатывается. В 2012 г. статистик, работающий в Target, понял, что он может использовать эту информацию, как и информацию о покупках, совершаемых женщинами; были созданы «реестры младенцев», чтобы определить, кто, вероятно, ждёт ребенка. Например, беременные женщины начинали покупать лосьон без запаха, с большей вероятностью покупали добавки с кальцием, магнием и цинком. Используя эту информацию, Target смогла создать «оценку предсказания беременности», подсчитать, где женщины, вероятно, находились во время беременности, и отправить им купоны на продукты, которые им могут понадобиться. Эта технология привлекла внимание общественности только после того, как разгневанный клиент пожаловался менеджеру Target на то, что компания присылает его дочери почтовые сообщения, явно предназначенные для беременных женщин. Позже он позвонил, чтобы извиниться: «Оказывается, в моём доме происходили какие-то события, о которых я не был полностью осведомлён. Она должна родить в августе. Я приношу свои извинения».
Это была всего лишь одна компания, отслеживающая один набор покупок в течение года с помощью простого статистического анализа десять лет назад. Теперь представьте, что мог бы сделать противник, если бы он объединил такого рода сведения с аналогичной информацией из различных баз данных, а затем использовал искусственный интеллект для обнаружения закономерностей.
Скорее всего, это уже происходит. Китай подозревается в сборе персональных данных миллионов американцев. Уильям Эванина, бывший директор Национального центра контрразведки и безопасности США, в начале 2021 г. предупредил, что Китай украл личную информацию 80 процентов американцев, в том числе путём взлома медицинских компаний и устройств «умного дома», подключённых к Интернету. В апреле федеральные агенты пришли к выводу, что китайские хакеры, возможно, получили информацию с сайтов социальных сетей, таких как LinkedIn, для того чтобы узнать адреса электронной почты системных администраторов. Эту информацию они впоследствии могли использовать для кибератаки на программное обеспечение электронной почты Microsoft. Другими словами, Китай, по-видимому, создал огромный массив данных о частной информации американцев, используя сведения, незаконно полученные и удалённые с общедоступных веб-сайтов.
В марте 2014 г. китайские хакеры взломали компьютерные сети Управления кадров США, в которых хранится личная информация всех федеральных служащих, и получили файлы десятков тысяч сотрудников, которые подали заявки на получение допуска к сверхсекретных данным, включая меня. Хотя эти файлы не были засекречены, они содержали ценную информацию о национальной безопасности: личности государственных служащих со сверхсекретными допусками, а также контакты членов их семей, зарубежные поездки и международные связи, номера социального страхования и контактная информация соседей и друзей. В сочетании с базой данных личной информации американцев эти сведения, вероятно, позволили Китаю определить, какие сотрудники федерального правительства, имеющие сверхсекретный доступ, имеют большие долги по кредитным картам, использовали приложения для знакомств, будучи женатыми, имеют детей, обучающихся за границей, или необычно долго задерживаются в офисе (возможно, потому что проводится важная операция). Короче говоря, в то время как правительство США тратит впустую энергию на защиту секретной информации, подавляющая часть которой неважна, информация, имеющая гораздо большую ценность для национальной безопасности, оставлена без внимания.
Прекращение переклассификации
Нынешняя система национальной безопасности США была разработана для защиты секретов XX века. На момент её создания самая важная информация о национальной безопасности находилась в руках правительства. И система, почти полностью посвящённая тому, чтобы не дать шпионам получить эту информацию и не дать инсайдерам раскрыть её, имела смысл.
Однако сегодня правительственную информацию затмила частная. Соединённым Штатам нужен такой подход к защите информации о национальной безопасности, который бы отражал эту новую реальность.
Надо коренным образом реформировать систему национальной безопасности, создавшую гигантский массив в основном бесполезных тайн, и сократить количество легко доступной частной информации.
Для достижения первой цели следует начать с введения правила автоматического рассекречивания всей секретной информации через 10 лет. В настоящее время предполагается, что все засекреченные записи старше 25 лет автоматически раскрываются, но из этого правила так много исключений, что многие документы остаются секретными в течение полувека или даже больше. Например, только в 2017 г. было рассекречено 2800 записей, относящихся к убийству президента Джона Кеннеди, и даже тогда администрация Трампа утаила некоторые записи.
Десятилетний график рассекречивания должен иметь только два исключения: информация, классифицируемая как «данные ограниченного доступа» в соответствии с Законом об атомной энергии, и информация, идентифицирующая информаторов разведывательных служб, которые всё ещё живы. Решения о том, может ли раскрытие какой-либо другой информации нанести ущерб национальной безопасности, должны приниматься независимым наблюдательным советом, состоящим из бывших правительственных чиновников, историков, журналистов и защитников гражданских прав. Правительственное учреждение, столкнувшееся с автоматическим рассекречиванием информации, которую оно сочло потенциально опасной, может обратиться в правление с просьбой продлить срок секретности – по сути, вынудив агентство обосновать любое отклонение от правила. Правило, делающее рассекречивание обязательным, будет стимулировать правительство к выделению адекватных ресурсов на процесс пересмотра и обеспечение его своевременного проведения.
Правительству также следует использовать возможности искусственного интеллекта и машинного обучения для выявления случаев избыточной секретности. Отдельные государственные служащие, которые обычно чрезмерно классифицируют информацию, могут быть идентифицированы, им может быть сообщено, что они засекречивают документы чаще, чем другие, и их следует поощрять к более тщательной оценке истинной необходимости классификации. Искусственный интеллект также может в итоге предлагать уровни классификации, в то время как сотрудники могут составлять документы или электронные письма, оспаривать неправильные решения о классификации во время их принятия и просматривать классификацию сохранённых документов.
Прекращение массовой переклассификации позволило бы должностным лицам более творчески подходить к устранению возникающей угрозы, создаваемой огромными массивами легкодоступных персональных данных. Вашингтон может начать с того, что последует примеру Пекина, который, несмотря на то, что является государством с навязчивым надзором, недавно принял один из самых строгих законов о конфиденциальности данных – вероятно, в первую очередь не для защиты частной жизни своих граждан, а для предотвращения сбора и использования их данных иностранными противниками. Закон распространяется на все юридические и физические лица, как внутри, так и за пределами Китая, которые обрабатывают персональные данные китайских граждан или организаций, устанавливая контроль над данными и позволяя гражданам Китая подавать в суд, если информация украдена, неправильно использована или искажена. При этом закон не позволяет компаниям, ведущим бизнес в Китае, собирать и хранить персональные данные, которые могут представлять интерес для иностранных разведывательных служб.
Другими словами, Китай работает над тем, чтобы закрыть дверь для иностранных держав, стремящихся использовать личные данные граждан, в то время как Соединённые Штаты оставили эту дверь широко открытой.
Неприкосновенность частной жизни в Соединённых Штатах, тем временем, опирается на множество федеральных законов и законов штатов, каждый из которых затрагивает отдельные элементы проблемы, но ни один из них не является всеобъемлющим. В течение многих лет группы по защите гражданских свобод призывали федеральное правительство защитить личную информацию отдельных лиц, но эти призывы в основном остались без внимания. Однако сегодня становится всё более очевидно, что защита частной жизни американцев необходима не только для обеспечения их гражданских свобод, но и для защиты страны.
Конгресс должен начать с распространения на все подключённые к Интернету устройства тех же требований безопасности, которые в настоящее время применяются только к тем устройствам, которыми владеет или управляет правительство. Одна подгруппа устройств, подключённых к Интернету, представляет особенно острую опасность: те, которые контролируют человеческое тело. К ним относятся фитнесс-трекеры, которые люди носят на своём теле, а также устройства, которые имплантируются в него: кардиостимуляторы, кардиовертеры и «цифровые таблетки» со встроенными датчиками, которые фиксируют, что лекарство было принято. Чтобы снизить уязвимость этих устройств к взлому, федеральные регулирующие органы должны потребовать от производителей улучшить протоколы безопасности.
Правительство также должно предоставить потребителям новые и более совершенные инструменты для контроля данных, которые компании собирают о них. Закон о прозрачности информации и контроле за персональными данными, представленный в марте Сюзан Делбен, демократом из Вашингтона, потребует «согласиться» или «отказаться» от «простых уведомлений о конфиденциальности на английском языке». Эти меры, безусловно, были бы улучшением по сравнению со статус-кво. Но исследования показывают, что потребители, как правило, не читают такого рода предупреждения, чёткие индивидуальные требования согласия или отказа могут никак не повлиять на сбор данных потребителей. Предлагаемое законодательство также будет превалировать над законами штатов, которые в свою очередь могут быть более совершенными, чем федеральный закон. Это означает, что в некоторых местах это может фактически ослабить защиту. Лучшим вариантом было бы, чтобы Конгресс принял федеральный закон, следующий примеру, недавно поданному Калифорнией, требуя от компаний уважать выбор отдельных лиц отказаться от сбора данных. Это стало бы важным шагом на пути к возвращению потребителям контроля.
Наконец, Конгресс должен создать независимое федеральное агентство для мониторинга и обеспечения соблюдения правил защиты данных. Соединённые Штаты являются одной из немногих демократий, в которой нет органа, занимающегося защитой данных. Вместо этого мы полагаемся на Федеральную торговую комиссию, у которой есть много других обязательств. Предлагаемый Закон о защите данных от 2021 г., представленный в июне сенатором Кирстен Гиллибранд, демократом из Нью-Йорка, может привести к созданию агентства для «регулирования практики обработки данных с высоким риском и сбора, обработки и обмена персональными данными», в частности агрегаторами данных. Создание такого агентства также позволило бы федеральному правительству накопить опыт в вопросах конфиденциальности данных и реагировать на новые вызовы и угрозы быстрее и эффективнее.
Заперто
Изобретатель Чарльз Кеттеринг однажды заметил, что «когда вы запираете дверь лаборатории, вы запираете скорее то, что снаружи, чем то, что внутри». В начале XX века, когда сформировалась нынешняя система классификации, информация, которую стоило защищать, в основном находилась внутри федеральных агентств, поэтому запирание двери имело некоторый смысл. Сегодня наблюдение Кеттеринга применимо как никогда. Частные организации имеют доступ к большему объёму, а во многих случаях и к лучшему качеству информации, чем правительство, поэтому запирание дверей только изолирует федеральные агентства, не защищая большую часть информации, которую стоит оберегать.
Чего требует подход XXI века к информации о национальной безопасности, так это внимания к конфиденциальности. Тем не менее Соединённые Штаты мало что сделали для защиты информации об обычных гражданах, которая в мире искусственного интеллекта и машинного обучения представляет растущую угрозу национальной безопасности. Соединённые Штаты тратят миллиарды долларов на защиту секретной информации, большая часть которой уже легко доступна из открытых источников. Но при этом мало что делают для того, чтобы позволить своим гражданам, в том числе тем, кто занимает важные государственные посты, защитить личную жизнь от документирования, отслеживания и разоблачения. Поступая таким образом, они разбрасывают по всему миру кусочки мозаики национальной безопасности, чтобы противники могли собрать их и сложить воедино.
Опубликовано в журнале Foreign Affairs № 1 за 2022 год. © Council on foreign relations, Inc.

Уход Apple Pay и Google Pay приведет к развитию технологии QR-платежей: зампред правления ВТБ — о финансовых перспективах в РФ
По мнению Анатолия Печатникова, от ухода иностранных технологий российский финансовый сектор даже приобретет. Он напомнил, что технология токенизации карты впервые появилась в России и потом начала тиражироваться
Сегодня, 18 мая, завершается Петербургский международный экономический форум. В кулуарах ПМЭФ главный редактор Business FM Илья Копелевич побеседовал с заместителем председателя правления ВТБ, руководителем блока розницы Анатолием Печатниковым.
Анатолий Юрьевич, немножечко давайте вернемся на три месяца назад и задним числом уже расскажем, как все было.
Анатолий Печатников: Ну, это уже другая жизнь.
У этой жизни было бурное начало, потому что во всех отделениях банков на протяжении трех недель стояли многочасовые очереди. Люди побежали в банки с самыми разными запросами, задачами и разнонаправленными действиями, хотя бы начнем с очередей. Как удалось с ними справиться?
Анатолий Печатников: Тут надо с предыстории начать. Потому что это, конечно, был драматический момент. Он ожидаемый был, мы готовились начиная с 2014 года к тому, что произойдет, но все равно, знаете, когда ты готовишься, все-таки была нервозность, но когда это случилось, мы уже перестали бояться, начали действовать, банк перешел в круглосуточный режим работы, потому что этот сценарий был очевиден, мы о нем все знали. Действительно, люди пошли снимать наличные, причем во всех валютах. Такой панический эффект мы наблюдали и в 2014-м, и в 2015-м, и в 2009-м, и в 2008 году, поэтому мы были готовы. Задача была всех отделений — работать до последнего клиента, выдавали всю наличку, какая была, и это продолжалось неделю, наверное. У нас достаточно было запасено наличных — и долларов, и евро, рубли вообще были без ограничений. А потом регулятор начал вводить ограничения, которые и охладили эту активность, 9 или 8 марта.
8 марта объявили, что с 9-го.
Анатолий Печатников: Да. Ограничение в 10 тысяч долларов в руки, внешние переводы закрыли, границу на вывоз наличных закрыли, и потребность в снятии наличных отпала, потому что распорядиться ею внутри страны было невозможно, ее можно было в ячейки положить или где-то в сейфе дома спрятать. И сразу спрос на наличную валюту резко сократился. Таким образом, удалось купировать эту проблему. А по рублям тут же была поднята ключевая ставка до 20%, директивно были введены депозиты выше ключевой ставки — 22%, мы даже по 23% принимали трехмесячные вклады. И конечно, люди понесли обратно. Во-первых, перестали снимать, понесли обратно эту наличку на такие высокодоходные депозиты. Просто цифры любопытно сказать. Мы сейчас в плюсе по рублям, если отсчитывать от начала года. Источники этих рублей разные, часть рублей из других банков, часть рублей пришла из-за конвертации валюты в рубль, потому что доходность 23% — феноменальная для рынка, никогда не было за всю историю наблюдений таких доходных депозитов рублевых в стране. Часть рублей пришла обратно из инвестиционных рынков, потому что был большой сброс ценных бумаг, они резко проседали, у нас весь фондовый рынок сильно упал, и люди резко начали сбрасывать как раз в период с 24 февраля по 8 марта.
Без сомнения, потому что 23% никакой фондовый рынок в лучшие годы не обеспечивает, но и депозитное счастье тоже оказалось недолгим. Депозитная ставка сейчас уже значительно снизилась, а вот эта сверхставка определялась на полгода. Соответственно, какие сейчас процессы после того, как депозитная ставка возвращается к более нормальным значениям, кредитная ставка тоже пошла вниз, в том числе по ипотеке? Какие процессы сейчас?
Анатолий Печатников: Рынок нормализуется, приходит в стабильное состояние — и главное — прогнозируемое состояние, потому что все прошедшие три месяца объективно мы планы строили сначала на неделю, такой горизонт планирования, потом на месяц, потом на квартал, сейчас мы уже видим конец года. Это говорит о том, что ситуация стабилизируется, прогнозируемая и управляемая, поэтому рынок возвращается к своим нормальным правилам, возобновляются кредитные операции, большой спрос на ипотеку, спасибо правительству — поддержали все субсидированные государственные программы, за счет этого ипотека не так сильно провалилась, как необеспеченные кредиты в этот период. Депозитные ставки в норму возвращаются, то есть мы приходим в баланс, который был в конце прошлого года и по уровню ставок, и по уровню спроса и на сберегательный продукт, и на кредитный, поэтому ситуация нормализуется по всем направлениям.
Раз вы видите конец года, я вас вот о чем хочу спросить: все-таки и на рынке труда, назовем его так академично, скорее всего, предстоят какие-то перемены, потому что на каких-то предприятиях простой, кто-то закрылся, у кого-то все хорошо, а кто-то теряет работу. Насколько это видно по вашему кредитному портфелю розничному? Может быть, еще рановато, но раз вы видите конец года, то как вы на эту сторону смотрите?
Анатолий Печатников: Нам регуляторика предписывает в подобных ситуациях создавать макрорезервы. У нас есть методика формирования будущих ожидаемых потерь, которые реализуются в объеме резервов в моменте, которые нужно создать, она отталкивается от инфляции, не от безработицы, это вторичный фактор, не от потери рабочих мест, а именно от инфляции, потому что это сокращение доходов населения и бюджетных возможностей каждого гражданина обслуживать долги с учетом роста цен. Конечно, мы ожидаем ухудшения качества кредитных портфелей, собственно для чего макропоправки эти и создают. Но есть же мощные программы поддержки людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. В полном объеме запущена каникулярная программа по всем кредитным продуктам, она дает отсрочку в шесть месяцев, когда можно ничего не платить вообще. Плюс у банка традиционно, мы и в пандемию это проходили, есть собственные программы поддержки и реструктуризации. Если не хватило шести месяцев, можно попросить у банка сокращения ставки, переноса платежей и так далее. Поэтому если формально в терминах просрочки рассуждать, то ее сегодня мы не видим в тех объемах, которые, по идее, могли бы сформироваться за счет…
Даже роста цен.
Анатолий Печатников: Я бы не преувеличивал сейчас потерю рабочих мест. Конечно, звучат заявления предприятий о простое вынужденном, сокращении рабочей недели, естественно, это отражается на доходах граждан. Но в терминах именно просрочки «90+» и ухудшения качества кредитных портфелей мы пока этого не видим, наверное, это все-таки уже событие третьего-четвертого квартала, потому что сейчас ответственные работодатели пытаются сохранить штат сотрудников и доходы сотрудников, в том числе и мы. Не секрет, что объем операций резко сократился, потому что у нас, очевидно, есть избыточный ресурс сейчас в моменте, но мы стараемся бережно им распорядиться, чтобы не лишить людей рабочих мест.
Тоже нерешенный вопрос для очень многих людей — форма сбережения. Все-таки валютный депозит был одной из популярных на протяжении десятилетий форм сбережений, которая в итоге не подводила. В конечном счете выяснилось, что можно было совершать сколько угодно операций на фондовом рынке или просто положить деньги в доллары и итог был бы равный. Сейчас ситуация в этом плане совершенно иная, доллар и евро, привычные формы сбережения денег, выглядят практически бесполезными, депозитные ставки тоже уже не 23%. Что люди делают? К инвестиционным инструментам сейчас тоже люди с большой осторожностью будут относиться, к инвестициям в любые ценные бумаги по понятным причинам.
Анатолий Печатников: Мы живем в рублевой стране, мы получаем доходы в рублях, и траты мы осуществляем в рублях. На ежедневные траты нет смысла прибегать к сберегательным продуктам в иностранной валюте. Если у вас есть средства накопленные и вы озабочены сбережением, то сегодня моя рекомендация — посмотреть на рублевые продукты, прежде всего рублевые депозиты. Пусть «восьмая» ставка, но это все равно не 0,1, то, что банки сейчас платят по валюте, а некоторые банки даже отрицательные ставки по валюте вводят, что нонсенс, и здесь нужна реакция со стороны регулятора, потому что это не социально ответственное поведение ряда участников рынка. Поэтому если говорить о сбережениях, то это рубль, рублевые продукты, сейчас облигационный рынок восстанавливается, ряд эмитентов вышел с заимствованиями с хорошими ставками, естественно, выше, чем «восьмая», — сейчас это такая средняя восьмая ставка депозитная. Плюс можно сберегать в чем угодно, можно в пассивных валютах, в мягких валютах сберегать, в юанях, золоте — в чем угодно, но вы там не будете получать процентного дохода, это просто отложить.
Это страховка от изменения курса рубля, который на данный момент, может, чересчур крепкий, бог его знает, сколько он таким будет.
Анатолий Печатников: Мне кажется, здесь нужно патриотизм проявить, я лично в рублях держу.
Хорошо, прислушаемся к этому вашему совету. В наших прошлых с вами встречах мы очень много говорили неспроста про мошенничество. За это время, за эти три месяца, что изменилось?
Анатолий Печатников: К сожалению, атак…
Здесь ничего не изменилось.
Анатолий Печатников: Наоборот даже, атаки на наших граждан выросли. У нас были гипотезы, они частично подтвердились, что со стартом спецвоенной операции ряд мошеннических кол-центров, которые на этих территориях располагались, прекратят работу, так оно и случилось. Но это затишье длилось буквально одну неделю, видимо, произошла релокация персонала, запуск новых кол-центров, и атаки на граждан опять начались. Это беда. Это явление крайне недопустимое, мне кажется, в нашей стране, то есть мы должны всем фронтом выступить в защиту наших граждан. Безусловно, банки активно работают, внедряют всякие интеллектуальные модели, которые выявляют нестандартное поведение клиента, блокируют операции, это мы все делаем. Плюс инструментарий самоограничений, сейчас мы вводим, да все вводят, инициативу Банка России — отказаться в принципе от возможности оформления кредита, значит, ограничить цифровой доступ к счетам разного рода.
Как вы к этому относитесь?
Анатолий Печатников: Позитивно.
Написать отказ от кредита, чтобы…
Анатолий Печатников: Я не вижу вреда в этом. Просто это вряд ли будет массово использовано нашими гражданами, все-таки это усилие, это процесс.
А вдруг понадобится?
Анатолий Печатников: Ну понадобится — ты можешь зайти на «Госуслуги» и отменить. Тема самоограничений, тема интеллектуальных моделей защиты нестандартного поведения — это все развивается и дальше будет развиваться. Но надо с первопричиной бороться, о чем мы всегда говорили и призываем регулятора и наших правоохранителей к этому: нужно убрать анонимность из сферы телефонных звонков. Я, как абонент сотовой телефонной связи, хочу знать, кто мне позвонил, я должен быть уверен, что если у меня возникнет желание выяснить абонента, у меня это получится. Сейчас это не так, к сожалению. Почему, собственно, наши правоохранители не могут предотвращать эффективно работу подобного рода кол-центров? Это первая проблема. А второе — это борьба с анонимностью в интернете. Я понимаю, здесь цензура, там начинаются либеральные заявления о том, что это нельзя делать, но у каждого интернет-ресурса должны быть фамилии с адресом и с ИНН и с паспортом. Потому что сейчас все технологии воровства и мошенничества — это микс социальной инженерии и фишинга, то есть они в паре работают, плюс утечка персональных данных. Поэтому пока мы с этими первопричинами не поборемся, таких радикальных улучшений в этой сфере мы не увидим.
Наверное, серьезная тоже тема, которая будет разворачиваться в предстоящий период, — это все-таки IT-инфраструктура. Банки, финансовый сектор — это очень емкий в плане IT бизнес. Оцените положение.
Анатолий Печатников: Да, действительно, мы получим ущерб от ухода ряда международных технологий, это уже очевидно. Мы потеряли систему бронирования авиабилетов, мы потеряли Google, мы потеряли технику Apple, наверное, ряд еще полезных сервисов можем потерять в перспективе. Я не буду говорить о других индустриях, я про финансовый сектор скажу. В этом плане финансовый сектор России, мне кажется, выгодно отличается от всех других индустрий, потому что здесь уровень цифровизации и уровень развития собственных технологий крайне высок. Мы по всем рейтингам мировым в топ-10 стран входим и по цифровизации госуслуг, и по цифровизации финансовых сервисов. Уже четыре или пять лет развитие этих финансовых технологий строится на открытом программном обеспечении импортонезависимом. Поэтому для конкуренции в финансовой сфере, для развития финтеха я не вижу угроз. И сокращения конкурентной способности наших банков, и ухудшения удобства, и увеличения цен для потребителя в финансовом секторе мы не увидим, потому что, во-первых, есть замещающие технологии, есть веб-решения, есть СБП. Наоборот, уход токенизации карт и платежей кошельками сейчас приведет к тому, что мы собственные технологии, российские, начнем — QR-платежи. И эта технология заместит в полном объеме ушедшую, даст новый импульс развитию. Кстати, просто чтобы наша аудитория понимала, в каких-то вопросах Россия была передовой страной. Потому что токенизация карты и прокидка ее в кошелек впервые появилась в России, а потом эта технология начала тиражироваться. Поэтому я думаю, что финансовый сектор в этом смысле даже приобретет от потери ряда иностранных технологий, потому что это даст нам возможность получить предсказуемые технологии внутри страны, независящие от геополитической обстановки.
Илья Копелевич

Дмитрий Песков: мы с США находимся в весьма горячей точке противостояния
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в годовщину первой встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве в интервью РИА Новости дал оценку этому саммиту, нынешнему состоянию российско-американских отношений, позиции Белого дома в отношении Украины, а также рассказал, как Москва впредь намерена строить отношения с Вашингтоном, и кто виноват в инфляции, резком росте цен на бензин и дефиците продуктов на Западе.
– Дмитрий Сергеевич, год назад состоялся саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Он прошел в Женеве. И тогда дал какие-то надежды для двусторонних отношений, для всего мира. Сейчас, спустя год после саммита, можно ли говорить, что итоги этой встречи полностью обесценены?
– Ну, они не то, что обесценены, но очевидно, что сейчас говорить об этих итогах – дело неблагодарное, потому что отношения сейчас фактически находятся на нулевой точке. Российско-американский диалог как таковой отсутствует. скорее всего, есть понимание того, что существуют области, которые, так или иначе, все равно придется обсуждать. Это и области контроля за вооружениями, и разоруженческие области, тема нераспространения. Это то, что, так или иначе, придется обсуждать нашим двум странам, но очевидно не сейчас.
Сейчас мы находимся в весьма и весьма горячей точке противостояния. Несмотря на определенные надежды, которые появились после Женевы, Соединенные Штаты, отказались прислушаться к нашим озабоченностям, Соединенные Штаты отказались от обсуждения темы безопасности Российской Федерации. отказались обсуждать вопрос дальнейшего нерасширения НАТО в сторону наших границ и непоглощения НАТО Украины, что во многом и стало таким триггером для неизбежности той самой специальной военной операции, о которой принял решение наш президент и Верховный главнокомандующий.
– А что можно сделать, чтобы нормализовать отношения? Возможен и нужен ли для этого еще один саммит лидеров?
– Вряд ли в настоящее время саммит лидеров возможен. И вряд ли он возможен в обозримой перспективе. Хотя, справедливости ради, надо признать, что международные дела – это субстанция, где иногда все-таки прагматичный подход начинает довлеть. И тенденции тогда достаточно быстро сменяются. Будем смотреть, как оно будет развиваться. Но сейчас и в обозримой перспективе, которая нам доступна, говорить о саммите не приходится.
Сейчас, наверно, нужно, чтобы Соединенные Штаты поняли, что воевать с нами экономически, дипломатически, политически – дело бесперспективное. Пытаться задушить нас различными рестрикциями и санкциями – это тоже те усилия, которые обречены на провал. И что единственный способ – это отказаться от политики гегомонизма в мировых делах и понять, что Россия не хочет, не может и не собирается быть ничьим вассалом – в любом смысле этого слова. И вот когда произойдет вызревание того, что с Россией можно говорить только на основе взаимной выгоды, взаимного уважения, тогда и настанет время для планирования следующих контактов.
– Вы согласны с мнением некоторых экспертов, что таких жестких решений, которые сейчас принимают США в адрес России, не принималось даже во времена "холодной войны"?
– Это действительно так. Во-первых, не принималось даже во время "холодной войны", а во-вторых, не принималось в отношении ни одной страны мира. Наша страна действительно столкнулась с совершенно беспрецедентной по своим масштабам экономической войной, попытками удушения, попытками изоляции.
Здесь даже можно не прислушиваться к нам, а прислушаться к международным экспертам и к экспертам в этих странах, в том числе и в Америке, которые сейчас уже говорят, что что-то с этими попытками удушения не все получается.
– Если возвращаться к заявлениям американских официальных лиц, господин Байден называет инфляцию США "инфляцией Путина". Вы удивлены такими заявлениями и такими оценками, и на ваш взгляд, осознает ли американский истеблишмент, что, собственно говоря, они наказывают не только нас, но и себя?
– Здесь уже всем становится очевидно, что подобные санкции и ограничения – это обоюдоострое оружие. И оно, конечно же, создает проблемы и для нас, но и не меньшие проблемы, в том числе с отложенной перспективой это создает для тех стран, которые ввели эти санкции. И эти негативные последствия в первую очередь европейцы, во вторую очередь американцы уже хорошо ощущают на себе. И это бремя, эти негативные ощущения будут только расти. Это первое.
Второе. Профессионалы, экономисты, аналитики прекрасно понимают, что связывать эти негативные проявления только с эффектом специальной военной операции неправильно. Это последствия целой серии ошибок мировых лидеров и в Европе, и в США, которые имели место на протяжении последних нескольких лет. Именно они привели к этим горьким последствиям, которые сейчас в мире по-прежнему пока нарастают. То есть к кульминации кризиса мы еще не приблизились. Точнее – они не приблизились. Мы-то в данном случае благодаря тем макро- и микроэкономическим стабилизирующим мерам, которое принимает наше руководство, все-таки находимся в более стабильном состоянии.
– В свете того, что господин Байден намекает, что он может пойти на выборы в 2024 году, не считаете ли вы, что сейчас будет удобный момент, когда риторика с американской стороны, стороны демократов будет только ужесточаться? И соответственно простые американцы могут воспринять впрямую, что действительно Россия виновата в энергокризисе, в огромных ценах на бензин в США?
– С одной стороны, любой электоральный период Соединенных Штатов Америки, особенно последние президентские циклы, наверное, последний десяток даже циклов, он так или иначе связан с такими, знаете, активными рецидивами оголтелой русофобии. Русофобия фактически становится в эти периоды инструментом внутренней политики Соединенных Штатов.
Ну а сейчас, в связи с этой войной, о которой я говорил, экономической в отношении нашей страны, эта русофобия уже стала постоянным фоном.
– Россия готовит какой-то обширный пакет ответных мер в адрес США, или они будут, как сейчас, точечными и касаться определенных сфер и отраслей?
– Ковровые бомбометания нигде не хороши. Россия везде действует высокоточным оружием, старается это делать предельно эффективно. А главное – действовать так, чтобы это наилучшим образом отвечало интересам нашей страны. Думаю, что этим и будет руководствоваться наш президент.
– Вопросы, касающиеся продовольственной безопасности, поставок зерна, поставок удобрений – это можно считать ответом России, или это общее развитие ситуации, результат ряда факторов, включая санкции против России и российских компаний?
– Нет, абсолютно неправильно так ставить вопрос. Это никакой не ответ России, это результаты ошибок, которые делали западные страны. Что произошло с продовольствием? Цены на продовольствие растут и из-за инфляции, и из-за тех ошибок, которые были допущены за последние несколько лет. Мы не будем сейчас в детали вдаваться, я уверен, что сейчас на форуме в предстоящие дни, конечно, это будет обсуждаться много и долго.
Удобрения. И Россия, и Белоруссия – крупнейшие мировые поставщики удобрений – заинтересованы в том, чтобы свою продукцию продвигать на международные рынки, как это было до сих пор. Но это же не мы наложили на нас самих санкции. Это же и Соединенные Штаты, и Европейский союз, и Канада, и целый ряд других стран пошли на эти рестрикции.
Ведь именно они не дают оплатить удобрения, именно они не дают застраховать суда, которые подходят под загрузку. При этом, тут опять же надо вспомнить, что Соединенные Штаты сначала ввели, но в отличие от европейских товарищей быстренько сообразили, в чем дело, и приравняли удобрения к продуктам первой необходимости, и эти ограничения сняли. Но косвенные ограничения – как раз по страховке, по судам, по непринятию портами наших судов – все равно есть, они действуют, к сожалению, и все это привело к сокращению чуть ли ни более, чем на 40% всех поставок.
Поэтому это последствия тех грубых ошибок, которые – тут можем прямо сказать – сделали руководство Евросоюза, европейских стран и, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки. Именно эти страны должны будут думать, как они будут отвечать перед многими миллионами голодающих, которые могут появиться.
– А России в этой связи что-то угрожает, на ваш взгляд?
– Благодаря тем мерам, которые были заблаговременно приняты в концепции продовольственной безопасности, все эти риски были захеджированы. Мы полностью обеспечиваем наши потребности, с лихвой, таким образом, чтобы не сталкиваться с каким-либо дефицитом по продуктам питания.
– Возвращаясь к саммиту Путин-Байден и оценкам, которые давал президент РФ этой встрече, тогда Владимир Путин говорил, что Байден – профессионал и ничего не пропускает. Тем не менее сейчас мы видим не совсем логичные поступки администрации США во главе с ним. А иногда и не совсем понятное поведение господина Байдена, который что-то путает, что-то забывает, теряется в странах, годах, конфликтах. На ваш взгляд, какой Байден сейчас, если судить по его поведению в адрес России?
– Мы никогда не будем опускаться до того, чтобы давать какие-то нелестные оценки главам других государств, и тем более говорить какие-то оскорбительные слова в адрес руководителей и глав других государств. Главы других государств допускали для себя такое, мы уподобляться этому не будем. Скорее, это вопрос для граждан этой страны. Именно граждане страны дают оценку своим руководителям. Это не наше дело. Наше дело – те недружественные шаги, которые принимаются в отношении нас. И мы будем с ними бороться.
– Вы дипломатично сказали, что некоторые лидеры допускали, но, по-честному, это господин Байден допускал. При этом довольно резкие. В дипломатической практике, даже сказала бы, что впервые звучали такие слова в адрес главы государства. В этой ситуации даже возникал вопрос, что это может довести до разрыва дипломатических отношений между Россией и США. На ваш взгляд, возможен ли такой сценарий и при каких условиях? Может ли получиться так, что Россия вообще будет вынуждена закрыть посольство в США?
– На самом деле США уже наделали столько всего, что давно можно было это сделать. Но еще раз повторяю, США никуда не денутся, с США нам придется жить дальше. Все равно нам придется с ними общаться.
Да, мы будем общаться по-другому, общения по-старому не будет. Мы будем общаться с ними жестко. Сохраняя гибкость по конструктивным вопросам. Мы будем отстаивать наши интересы, и мы будем требовать от них уважения наших озабоченностей, наших интересов. Такое общение оно так или иначе будет.
– Включает ли это общение тему договора СНВ? И каковы перспективы его продления – документ заканчивает своё действие а 2026 году. Стоит ли уже сейчас уже начать переговоры по этой теме?
– Это та тема, обсуждения которой нельзя избежать. Можно, конечно, как страус, пытаться зарывать голову в песок, ссылаясь на специальную военную операцию, но именно Россия и США должны обсуждать эту тему. Обсуждать нужно было вчера. И это обсуждение важно не только для народов наших двух стран, но и для всего мира, для глобальной безопасности.
– Иногда звучит довольно жесткая риторика не только экономическая или санкционная, но и по теме ядерной безопасности. Россия и США – две мощнейшие ядерные державы и, безусловно, этот конфликт мог бы иметь абсолютно фатальные последствия. Может ли, на ваш взгляд, начаться ядерная война с учетом заявлений, в том числе Владимира Путина, что при ударах по российской территории будут приняты незамедлительные решения по ответным ударам по центру принятия таких решений?
– Я считаю, что в наши дни средства массовой информации должны быть достаточно профессиональными, чтобы не задавать таких вопросов, а те, у кого берут интервью, должны быть достаточно мудрыми, чтобы на такие вопросы не отвечать.
– Спасибо, постараемся набраться этой мудрости.
Если можно, пару вопросов, связанных с Украиной и США. Сейчас Вашингтон активно вооружает Киев, помогает в выборе тактики и стратегии поведения, сожалеет, что дела идут не так хорошо, как хотела украинская сторона. Некоторые эксперты говорят, что на Украине фактически Россия сражается с США. Согласны ли вы с таким мнением, и какие в этой ситуации у России перспективы выиграть?
– США продлевают беды Украины. США затягивают вот этот вот плохой период для Украины, для народа Украины. США не позволяют здравым силам, коих осталось очень мало на Украине, как-то способствовать тому, чтобы все-таки пойти по другому пути – по пути диалога. США провоцируют дальнейшие жертвы и дальнейшие материальные потери в этой стране.
– И при этом США угрожают, что передадут замороженные российские средства, достаточно большие и весомые, Украине, ей на помощь. Думает ли Россия о таком варианте развития событий, и чем Москва может на это ответить?
– США и европейские страны, Европейский союз говорят о том, что можно присвоить то, что им не принадлежит. Сделав это однажды, они потеряют доверие всех тех, кто имеет там собственность, потому что именно с того момента, если это произойдет, ни один инвестор в американскую или европейскую экономику, ни одна страна, которая имеет там свои авуары, не сможет спать спокойно, потому что они не будут знать, что в следующий момент придет в голову людям, сидящим в Вашингтоне или в Брюсселе.
– А вообще какой-то диалог между Россией и США по Украине идет?
– Нет, не идет.
– Большое спасибо за интервью!

В обход международных договорённостей
Пентагон продолжает наращивать военно-биологический потенциал, используя Украину как полигон для своей незаконной и опасной для всего человечества деятельности.
Плановая работа Министерства обороны Российской Федерации по анализу военно-биологической деятельности США и их союзников в различных регионах мира вновь подтвердила опасения насчёт многочисленных нарушений на территории Украины международного гуманитарного права, определённых в том числе Нюрнбергским кодексом и Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ассоциации. Очередные факты и доказательства тому привели в российском военном ведомстве.
В частности, детальное изучение документов, полученных в ходе спецоперации, позволило выявить, что проведение сотрудниками лаборатории в Мерефе опытов над пациентами психиатрических клиник в Харькове, о которых ранее уже сообщалось, велось как минимум с 2011 года. Гражданка США Линда Опорто Аль-Харун – одна из организаторов на Украине этой незаконной деятельности – неоднократно посещала филиал мерефской лаборатории, построенный на средства Пентагона в населённом пункте Сороковка Харьковской области. Несмотря на то что данный объект оборудован подземными хранилищами и мощными системами вентиляции, официально это компания по производству пищевых добавок. При этом сайт компании носит явные признаки фиктивности, а с началом специальной военной операции оборудование филиала под контролем СБУ было вывезено в западные области Украины.
– Это подтверждает наши опасения насчёт многочисленных нарушений на территории Украины международного гуманитарного права, определённых в том числе Нюрнбергским кодексом и Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ассоциации, к которым относятся добровольное согласие лица на участие в эксперименте, информирование о проводимом исследовании, недопущение излишних физических и психических страданий при проведении эксперимента, пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. В соответствии с имеющейся информацией, на социально незащищённых гражданах Украины проводились испытания высокоактивных веществ нейромодуляторов, которые вызывали в том числе необратимые поражения центральной нервной системы. Это является явным нарушением норм международных договоров в сфере прав человека, – заявил на брифинге начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
В российском военном ведомстве уже упоминали о роли украинского научно-технологического центра в военно-биологической программе США на территории Украины. В этот раз в центре внимания оказался проект P-268, в реализации которого принимали участие Национальный университет имени Тараса Шевченко в Киеве и университет штата Колорадо.
Так, отдельного внимания, по словам генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, заслуживает письмо исполнительного директора УНТЦ Эндрю Худа в адрес госдепартамента США по вопросу организации исследований в рамках проекта, в котором он отмечает, что «более 30 процентов участников – бывшие учёные с опытом разработок в области оружия массового поражения».
Отметим, что заявленной целью проекта является изучение вирусов, способных инфицировать комаров рода Aedes. В соответствии с техническим заданием вирусный препарат был наработан институтом в Киеве и доставлен в США для проведения полевых аэробиологических исследований.
Интерес американских заказчиков к комарам данного вида, которые являются переносчиками трансмиссивных инфекций, таких как лихорадка денге, Зика, жёлтая лихорадка, не случаен, как заметили в Минобороны России.
Во время последней крупной вспышки жёлтой лихорадки в Африке в 2013 году было зафиксировано 170 тысяч случаев тяжёлой формы заболевания, из которых 60 тысяч закончилось летальным исходом.
– Все помнят о заражении вирусом натуральной оспы одеял для американских индейцев, меньше говорят об умышленном инфицировании возбудителем сифилиса граждан Гватемалы, факт которого признал президент США Барак Обама. Ещё реже сейчас вспоминают о применении пестицидов во время вьетнамской войны, но полностью замалчивают историю вспышек преднамеренного характера на Кубе в 70–80-х годах прошлого столетия. А вместе с тем факты применения в качестве биологического оружия комаров рода Aedes, точно таких же, с которыми работало военное ведомство США на Украине, зафиксированы в коллективном иске кубинских граждан к правительству США и выносились на рассмотрение государств – участников Конвенции о запрещении биологического оружия, – подчеркнул начальник войск РХБ защиты ВС РФ. – В материалах коллективного иска отмечено, что эпидемия лихорадки денге на территории Кубы в 1981 году, в результате которой заболели 345 тысяч человек, из них погибли 158, явилась следствием распространения второго серотипа вируса денге. Этот серотип ранее не фиксировался в странах Карибского бассейна, а вспышка имела явные признаки преднамеренного характера. Так, время проведения атаки (конец января) было выбрано с учётом биологических особенностей жизненного цикла комаров-переносчиков и являлось оптимальным для последующего развития эпидемического процесса. Кроме того, единственным местом на острове, где не были зафиксированы случаи заболевания, являлась военно-морская база США в Гуантанамо, что объясняется предварительной вакцинацией военнослужащих против вируса денге второго типа.
На брифинге генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым был приведён и другой подобного рода пример. Искусственная вспышка вирусного заболевания – африканской чумы свиней – произошла на Кубе в 1971 году. В ходе эпизоотии было уничтожено 500 тысяч животных, стране был нанесён существенный экономический ущерб. Хотя ранее на американском континенте и в западном полушарии в целом случаи АЧС не фиксировались, они появились именно на Кубе.
Определённую ясность, как отметил начальник войск РХБ защиты ВС РФ, в этот вопрос внёс бывший сотрудник ФБР Уильям Тёрнер, который в интервью Newsday сообщил о доставке ЦРУ из находившегося под юрисдикцией США форта Гулик в Панаме контейнера с возбудителем АЧС и передаче его у побережья Кубы на рыболовное судно. Он точно указал ферму, где данный возбудитель был внедрён.
В период с 1980 по 1982 год руководство Кубы заявляло о целом ряде необычных вспышек вирусных инфекций экономически значимых сельскохозяйственных культур – сахарного тростника и табака, которые появлялись в различных регионах страны и не были связаны между собой.
При этом указанные факты, расследование которых игнорируется Организацией Объединённых Наций и Всемирной организацией здравоохранения, – лишь часть военно-биологического досье США.
Несмотря на заверения Соединённых Штатов в том, что биологические исследования на Украине проводятся исключительно в сфере гражданского здравоохранения, были получены документы, подтверждающие непосредственное взаимодействие военных ведомств этих стран.
– Хотел бы обратить внимание на уведомление о включении лабораторий центрального санитарно-эпидемиологического управления минобороны Украины в программу снижения биологической угрозы. В нём отмечено, что «программа даёт возможность осуществлять сотрудничество между министерством обороны Украины и министерством обороны США, а также создаёт правовые принципы для его дальнейшего расширения», – подчеркнул генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Характерно, что с 2015 года – начала широкомасштабного финансирования Пентагоном украинских проектов – среди военнослужащих, а также жителей Луганской и Донецкой народных республик были зафиксированы многочисленные случаи инфекционных заболеваний. В соответствии с докладом министерства здравоохранения ДНР «в 2016 году заболеваемость туляремией выросла по сравнению с 2007 годом в 9,5 раза. В структуре заболеваемости также отмечены отличительные признаки, в том числе увеличение среди заболевших количества военнослужащих».
– Напомню, что в руководящих документах НАТО (руководство по оценке радиационных, химических, биологических и ядерных потерь) туляремия рассматривается в качестве одного из приоритетных биологических агентов. Именно этот возбудитель использовался в ходе войсковых учений альянса на полигонах в Швеции с официальным подтверждением в 2012 году, – подчеркнул начальник войск РХБ защиты ВС РФ. – Также хотел бы отметить, что за период с 2017 года по настоящее время в 12 областях Украины, в которых расположены и функционируют биологические объекты, подконтрольные Пентагону, было зафиксировано несколько десятков вспышек гепатита А. Заболели более 10 тысяч человек, в большинстве случаев причина заболевания не была установлена.
Анализ документов о деятельности управления по снижению угрозы на Украине свидетельствует, что одной из приоритетных задач DTRA является подготовка полевых эпидемиологов. В рамках обучающих курсов американская сторона активно внедряет собственные стандарты диагностики инфекционных болезней, которые не соответствуют актуальным проблемам здравоохранения.
– В российском военном ведомстве отметили, что в 2015 году Всемирная организация здравоохранения объявила Украину страной с высоким риском вспышки полиомиелита, и борьба с этим особо опасным заболеванием является очевидным приоритетом. С учётом этого обращает на себя внимание ответ руководителя проекта украинского офиса DTRA Брендта Сигеля региональному представителю Всемирной организации здравоохранения. В нём указывается, что реализуемая на Украине программа снижения биологической угрозы «не предусматривает изучения таких заболеваний, как полиомиелит». Возникает вопрос: тогда о каких актуальных для Украины заболеваниях идёт речь? – заметил генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Кроме этого, по словам начальника войск РХБ защиты ВС РФ, после начала специальной военной операции на территории Украины Соединёнными Штатами был разработан и реализован план эвакуации украинских граждан, принимавших непосредственное участие в обеспечении работы системы биомониторинга, с целью «предотвращения утечки чувствительной информации», что вызывает дополнительные вопросы к деятельности указанной системы и о её истинных целях.
Ранее в российском военном ведомстве уже отмечали, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний Black&Veatch и Metabiota. Опубликованные материалы переписки Байдена с руководством инвестиционного фонда RosemontSeneca свидетельствуют об использовании административного ресурса и откровенном лоббировании интересов компании Metabiota в правительственных кругах США.
– Так, в своём обращении управляющий директор фонда Джон Делош спрашивает Байдена: «Есть ли кто-нибудь, кому мы можем позвонить в Вашингтоне, чтобы получить представление о том, как серьёзно Metabiota рассматривается в различных правительственных учреждениях?» Подобные формулировки ставят вопрос о личной материальной заинтересованности Байдена и других соучредителей RosemontSeneca в реализации военно-биологической программы Пентагона на Украине, а также наличии коррупционной составляющей. Очевидное отсутствие инвестиционной привлекательности проектов по реконструкции украинских биолабораторий вызывает сомнение в прозрачности осуществляемой финансовой деятельности.
Кроме того, финансирование из негосударственных источников, таких как фонд Байдена, позволяет Пентагону не отчитываться перед сенатским комитетом по бюджету о целях и результатах военно-биологических исследований на Украине, тем самым скрывая их от широкой общественности, – заявил генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, проанализированные документы подотчётных Байдену инвестиционных структур не содержат информации о выплатах бенефициарам и распределении дивидендов. С высокой долей вероятности это свидетельствует о сокрытии прибыли и является признаком реализации незаконных платёжных схем и уклонением от уплаты налогов, что является серьёзным нарушением законодательства США.
– 9 июня на сайте Пентагона было опубликовано официальное заявление о биологической деятельности США на территории постсоветского пространства. В нём американская администрация признала факт финансирования 46 украинских биолабораторий и связь минобороны США с украинским научно-технологическим центром. Одновременно отражены особенности реализации на постсоветском пространстве программы совместного снижения угрозы Нанна-Лугара, одной из целей которой являлось привлечение к работам «тысяч бывших советских учёных, специализирующихся на биологическом оружии» якобы для «исключения возможности их сотрудничества с террористическими формированиями», – обратил внимание на интересный факт начальник войск РХБ защиты ВС РФ, отметив, что подобная попытка американской администрации обелить свою запятнанную репутацию обернулась по сути «мечтой прокурора»: в документе приведены факты осуществления военно-биологической деятельности Пентагона на территории Украины и в других странах бывшего Советского Союза, указаны сообщники американского военного ведомства.
Вместе с тем представленные США «разъяснения» не содержат ответы на поставленные Минобороны России ранее вопросы. Почему работы проводились по заказу Пентагона, а их тематика не соответствовала актуальным проблемам здравоохранения Украины? С какой целью в биологических исследованиях на Украине принимали участие сотрудники военного ведомства США, а работы проводились в условиях секретности с ограничением доступа украинских специалистов к информации и помещениям? Для чего с территории Украины осуществлялся вывоз штаммов патогенных микроорганизмов – потенциальных агентов биологического оружия и биоматериалов украинских граждан без чётко декларированных целей? Почему США и Украина умалчивают факты сотрудничества в военно-биологической сфере в международной отчётности по линии КБТО, а США с 2001 года блокируют разработку её проверочного механизма? Почему официальные лица США, включая заместителя госсекретаря Викторию Нуланд, так обеспокоены возможностью перехода результатов деятельности министерства обороны США на Украине и находящихся материалов в биолабораториях под контроль российских специалистов?
Таким образом, представленная в заявлении Пентагона картина – всего лишь ширма, под прикрытием которой Соединённые Штаты осуществляют свою деятельность в обход международных договорённостей и продолжают наращивать военно-биологический потенциал. При этом Украине отведена роль полигона для проведения испытаний, сбора биологических материалов и изучения специфики распространения инфекционных заболеваний.
Юлия Козак, «Красная звезда»

Мария Захарова: большой вопрос, как делят огромные суммы помощи США Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова "на полях" Петербургского международного экономического форума рассказала в интервью РИА Новости, как Москва относится к новой военной помощи США Украине, о перспективах обмена задержанных, по некоторых данным, американских наемников в Харьковской области и о том, что в России ждут от предстоящего через неделю саммита НАТО.
– Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму один миллиард долларов, в который должны войти артиллерия и передовые ракетные системы. Россия видит в этой помощи угрозу собственной безопасности и какие будет предпринимать действия?
– Мы говорим об этом каждый день. В ходе брифинга я тоже об этом говорила, называла конкретные суммы. В своем Telegram-канале сделала список самых крупных поступлений и отчислений в пользу киевскорежимной военщины. Конечно, это угроза всем. Угроза, во-первых, самой Украине, где тогда, с точки зрения Запада, получается, конфликт должен длиться еще долгое-долгое время. Это – угроза Европе, как континенту, куда это оружие будет возвращаться через "черный рынок". Про США мне, честно говоря, даже говорить не стоит, потому что все понятно. Каждый их новый шаг бьет по ним же самим – что экономические санкции, что другие. И большой вопрос еще, куда пойдут эти деньги? Потому что мы же только слышим о выделяемых суммах, поставках, а как это дальше распределяется, среди кого, кто делит эти колоссальные суммы внутри США или за пределами, учитывая то, что киевский режим как самостоятельная единица абсолютно не существует – все это большой вопрос.
– Относительно сообщений про задержанных в Харьковской области двух американских наемников, мы видели, что пока никакого запроса из США об этих людях не было, но в целом, готовы ли мы вести переговоры с Вашингтоном по этому поводу? Если США обратятся с вопросом об обмене этих людей, пойдет ли Россия навстречу?
– Это мы уже заходим в какие-то такие высоты, о которых сейчас, мне кажется, никто и не говорит. Но есть технический контакт с американцами, мы об этом говорили, через наше посольство в Вашингтоне и через их посольство в Москве. Все, что необходимо сторонам решать, обсуждается. Если будут какие-то сигналы по любым вопросам, пожалуйста, через наше посольство в Вашингтоне или через посольство в Москве – они могут эти сигналы нам направить. Что говорить относительно того, что будет, а чего не будет? Вы задайте им этот вопрос напрямую. Такие говорливые люди.
– Через неделю в Мадриде состоится саммит НАТО, на котором планируется принять новую стратегию. Генсек альянса уже заявил, что страны намерены пересмотреть позицию альянса в отношении России и Китая. Какие последствия может вызвать новая стратегия? Приведет ли к еще большему обострению отношений между альянсом и РФ?
– Вы, наверное, исходите из того, что будет что-то новое, а мы исходим из того, что политика уже заряжена, мне кажется, это хорошее слово, она давным-давно сформирована. Кстати, не в последние годы, а идет из ментальности "холодной войны": те же самые лекала, люди те же самые, один Байден чего стоит, человек из той эпохи. Увы, тот шанс, который планета получила после окончания "холодной войны", Запад им не воспользовался, они просто пустили его на ветер, не реализовав ничего из того потенциала, который был. А потенциал был колоссальный, соединение усилий для решения общих проблем, преодоление вызовов и угроз, развитие двухсторонних отношений, развитие многосторонних форматов, уважение международного права. Возможно, совершенствование международного права на основе реалий и исходя из целей и задач, нахождение точек соприкосновения. Вот, все это было, все это, к сожалению, разрушено и разрушается. Поэтому ничего нового не будет, будет тот же самый курс, который давным-давно сформирован, его проявления будут, конечно, различны по форме, но содержание остается одним и тем же – антироссийским, как они говорят, разрушительным для нашей страны, а мы уже это зафискировали – и устами российского руководства, в частности, об этом говорил и министр иностранных дел России, – констатировали то, что Запад объявил нам вот такую прокси-гибридную войну по всем направлениям.
– Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте заявила, что на Западе нет юридического механизма для взыскания замороженных активов России в пользу Украины для дальнейшего финансирования восстановления страны, и необходимо его разработать. Как Россия будет реагировать в случае, если такой механизм будет разработан? И будет ли он вообще создан, на ваш взгляд?
– Раньше мы считали, что на Западе есть судебная система, которая фиксирует нарушения законов, и представляет решение по сложным вопросам, которые, возможно, находятся в противоречии с какими-то законодательными нормами или с их исполнением, вот, для этого всегда и нужен был суд, судебная система. Сегодня мы видим, что на Западе нет ни закона, который бы они соблюдали, по крайней мере в плане их международных обязательств, ни судебной системы, которая адекватно давала бы реакцию. Про правоохранительные органы я вообще не говорю, которые просто стали обслуживать политический истемблишмент коллективного Запада. Конфискация частной собственности, я просто напомню, у лиц за их политические или иные убеждения, является вопиющим нарушением принципа как раз той самой демократии, либеральной демократии, рыночной экономики, всех фундаментальных ценностей и подходов Запада. В общем-то именно на эти ценности Украина и пыталась ровняться. То есть они этот круг замкнули. Это те вещи, которые вошли просто противоречия друг с другом.
Мы видели разные проявления несоблюдения этих принципов. Это, кстати, был отъем российской дипломатической собственности – несколько крупных объектов российской недвижимости, за которые были заплачены живые деньги, в период Советского Союза, они были приобретены. То есть это собственность, мало того – это собственность, которая имела дипломатический иммунитет. Она еще была дополнительно защищена дипстатусом. Несмотря на это в какой-то момент власти в Вашингтоне, на тот момент действующие, взяли и все это отняли, и не отдали до сих пор. Причем, так сказать, посыл был простым: они сказали, что это вам за то, что проиграла Хиллари Клинтон президентские выборы. Мол, победил Трамп, Трамп якобы связан с вами, с Россией, поэтому мы у вас их и забираем. Но это варварство, не имеющее отношение не то что ни к какому либерализму, вообще ни к какому цивилизованному подходу.
Неоднократно об этом говорили, что считаем заморозку принадлежащих нашей стране активов нелегитимной, нарушающей все принципы и нормы международного права и, конечно, функционирования глобальной финансовой системы, которая оказалась абсолютной не независимой. Это, безусловно, вопиющее посягательство на суверенную собственность, банальное воровство, пиратство XXI века. Когда одна группа государств в сговоре просто ворует деньги другого государства. Конечно, это повод для всего мира задуматься о надежности имеющихся в распоряжении Запада финансовых институтов, надежности доллара, евро в качестве резервных валют и основных средств внешних расчетов. Беспристрастности и устойчивости текущего глобального финансового порядка, который просто насаждается Западом, ну, и обеспеченности всей этой системы. Потому что кроме американского долга, который исчисляется уже в каких-то огромных цифрах, больше за долларом кроме, соответственно, силовых инструментариев Вашингтона, по большому счету, ничего и нет. Валюта, которая обеспечена только госдолгом, ну, вы понимаете, как называется.
Какое-либо использование средств как российского государства, так и его граждан без согласия законных владельцев, конечно, будет трактоваться российской стороной, как неправомерный и абсолютно демонстративно недружественный выбор конкретной страны, ее властных структур. И это все будет давать нам право на адекватные ответные действия, какими они будут, будем смотреть по ходу развития событий.
Что касается отказа Запада от взаимодействий исключительно в правовом поле и дальнейшего усугубления ситуации с доступом государства и отдельных лиц к принадлежащим им активов, все это лишь создает крайне опасный прецедент для всех участников Бреттон-Вудской системы. Ну, и конечно, это означало бы, что суверенный статус тех или иных активов теперь вообще в принципе ничем не гарантируется. Всегда может быть просто пересмотрен или отменен, как они любят говорить.
– В рамках ПМЭФ вы участвовали в сессии, посвященной "диктатуре неолиберализма глазами российских соотечественников за рубежом". Почему сейчас важно рассказывать истории этих людей?
– Идея была наша, МИД. Мы предложили такую историю и почетным гостям, и РИА Новости, Дмитрию Константиновичу Киселеву – все с радостью согласились. Мы все – и я, и Дмитрий Киселев, и российские журналисты – слышим от западных так называемых партнеров одну фразу: вы – пропагандисты, все, что вы говорите мы, на Западе, не будем слушать и воспринимать. Но мы захотели зайти с другой стороны и дать слово тем нашим соотечественникам, кто много лет, кто-то десятилетиями жил, работал в эпицентре западной жизни, в США, в странах НАТО, и кто смог унести оттуда ноги, по счастливой случайности во многом или благодаря титаническим усилиям, в полной мере насладившись "чудесами неолиберализма". Собрали спикеров, которые стали символами неолиберального диктата.
Константин Ярошенко – российский летчик, пилот, который ничего не делал, кроме как пилотировал самолеты и которому создали ловушку агенты ФБР, заманили его в нее на территории третьей страны. Он к США вообще не имел никакого отношения. Но его выкрали из другого государства, притащили в Штаты, устроили судилище, пытали его, использовали все виды психологического и физического воздействия и насилия с целью его перевербовать. Когда он ничему этому не поддался, создали ему нечеловеческие условия, кинули его в американскую тюрьму просто за то, что он человек, просто потому, что им так нужно было.
Олег Никитин, который является российским бизнесменом, с открытой компанией. Занимался бизнесом по тем самым законам как бы либеральных экономик, либеральной модели, взаимодействовал в открытом, конкурентном пространстве, и которого окружили, опять же, агенты ФБР, он об этом сам рассказывал, когда на один день приехал в США, бросили в тюрьму, устроили опять же постановочное судилище. Применяли различные формы воздействия, чего только не предлагали ему, запугивали, обзывали, создали целую информационную кампанию вокруг него.
Ирина Бренсон, которая занималась ровно тем, на чем стоят Соединенные Штаты Америки. Она развивала "коммьюнити", то есть занималась жизнью российской диаспоры, российских соотечественников. Это то, на чем вообще были созданы США, и то, что там развивается на государственном уровне. Она живя там, развивала это со стороны гражданского общества. И в результате за то, что она делала то же самое, что делают представители других диаспор, ей начали угрожать, запугивать, а потом просто придумали все, чтобы дать ей срок, и она была вынуждена уехать.
Таких примеров сегодня было немало, в том числе и журналисты, которые сейчас работают в РИА Новости, раньше работали в Sputnik в странах Прибалтики. Это их прямая речь. Мы хотели, чтобы люди их увидели. Кстати, заметьте, каждый из них по-разному владеет словом, но каждый сам, не по написанному, без какой-то шпаргалки или подсказки делился своей болью. Несмотря на то, что многие из них верили в силу либерального помысла, в честность провозглашенных Западом идей различных свобод. Но каждый на своем направлении столкнулся не просто с отсутствием свобод, а с настоящим подлогом и преступным помыслом.

Как Солженицын американцам не угодил
И почему не пошёл на приём к Рейгану
40 лет назад за океаном случилось нечто, о чём тогда наши СМИ не обмолвились ни полсловечком. В апреле 1982-го печать США сообщила о намерении президента Рейгана устроить обед в честь группы советских диссидентов, оказавшихся на Западе.
Затевалось мероприятие незаурядное, приуроченное к возобновлению долго Вашингтоном оттягивавшихся советско-американских переговоров по разоружению. Тем самым демонстрировалась «двухколейная» политика рейгановской администрации в отношении нашей страны. По одной колее с частыми, продолжительными остановками плёлся советско-американский диалог, а по другой, разбрасывая зловещие искры, на всех парах мчался локомотив конфронтации. В Вашингтоне всё чаще и громче стали говорить о допустимости «ограниченных» ядерных конфликтов, а главный кремленолог Белого дома Пайпс фактически предъявил нам ультиматум: или отказ от советского строя, или война.
Словом, званый обед для диссидентов замышлялся важной пропагандистско-политической акцией. Недоставало лишь личности, способной придать этой затее должные лоск и звучание. Те 7–8 фамилий, что значились в списке приглашённых, ни уму, ни сердцу рядового американского потребителя ничего не говорили.
И вот новое сообщение: обед с Рейганом почтит Александр Солженицын. Интерес к обещанному мероприятию мигом возрос: остальным приглашённым Солженицын был не чета, объяснять американцам, кто он и что он, не требовалось. Сказать, что он стал в США властителем дум, было бы преувеличением (там вообще к литературе подход иной, чем у нас). Тем не менее кое-где «Архипелаг ГУЛАГ» даже включили в список внеклассной литературы для тамошних школьников. И это при том, что других современных произведений русскоязычных авторов подавляющее большинство американцев не знало, да и знать не желало, в чём я не раз убеждался в теле- и радиодискуссиях с местными чиновниками, политологами и журналистами.
Обещанный визит Солженицына в Вашингтон подавался наподобие того, как заокеанское телевидение рекламирует мыльные оперы: прервёт ли русский отшельник своё многолетнее добровольное заточение? готов ли он отречься от ереси, приведшей к его отлучению от американского общества? состоится ли, таким образом, его примирение с местным образом жизни и мыслей?.. Ещё пуще любопытство публики раздразнили слухи о том, что в Белом доме колеблются: звать-таки Солженицына в гости или не звать?
Тут опять дам некоторые пояснения, исходя из того, что видел и читал сам. (До командировки в Соединённые Штаты я пять с половиной лет проработал в Канаде, так что практически вся жизнь Солженицына за океаном – в той, разумеется, части, какая предавалась огласке, – протекала на моих глазах.)
По приезде в США Солженицын поселился в самом что ни на есть медвежьем углу – малюсеньком, нанесённом лишь на самые крупномасштабные карты городке Кавендиш в столь же крошечном штате Вермонт. Край этот славится первозданной природой и слывёт исконной обителью янки, но Солженицыну, должно быть, приглянулся тем, что напоминает Русский Север, а расположен вдали от шума и суеты американской жизни. В поисках полного уединения писатель наглухо отгородился даже от немногочисленных – менее полутора тысяч душ – жителей Кавендиша, купив два гектара земли с непривычным для американцев забором, жилым коттеджем и трёхэтажным зданием, где в придачу к рабочим помещениям оборудовал часовню и классную комнату для занятий со своими детьми, – и с тех пор не казал оттуда носа.
Соседи Солженицына не на шутку обиделись. В США принято в пределах своего «комьюнити» активно друг с другом общаться, а здесь в кои-то веки мировая знаменитость пожаловала – и на тебе, нос от местных воротит. Когда волна недовольства докатилась до усадьбы Солженицыных, её хозяин послал жену на воскресную службу в поселковую церковь – объясниться с народом. Там она поблагодарила жителей Кавендиша за гостеприимство и призвала с пониманием отнестись к поведению мужа, полностью поглощённого литературным трудом.
Поскольку американцы и сами народ работящий, общественность Кавендиша полученными разъяснениями удовольствовалась. Зато Курт Воннегут в интервью одной из американских газет об образе жизни русского собрата по перу отозвался неодобрительно: «Он не интересуется своими соседями, он всё ещё как бы в СССР». Только ли в одержимости Солженицына своими грандиозными литературными замыслами было дело? Думаю, нет. И тут самое время вспомнить его выступление в 1978 году в Гарвардском университете и то, что за этим последовало.
К тому времени слава Солженицына в США достигла апогея. Триумфально обставили и его визит в самый престижный американский вуз, куда его пригласили, чтобы вручить почётный диплом. Тысячи людей, невзирая на дождь, собрались в сосновой роще поглазеть на легендарную личность, бросившую вызов системе, к которой американцы в ту пору относились с враждебной подозрительностью. Апофеозом должна была стать речь виновника торжества – её предвкушали будто слово пророка.
Во френче, с необычной, по американским стандартам, окладистой бородой и той особой духовностью в облике, какой выделяются православные верующие, Солженицын в тот день и впрямь походил на пророка. Когда славословия в его адрес смолкли и он достал из нагрудного кармана текст выступления, толпа затаила дыхание, взирая на своего кумира с умилённым восторгом. Схваченное телекамерами, это общее выражение лиц держалось на экране ещё минут десять, пока выступавший через переводчицу воздавал хвалу тем, кто его поддержал в годину испытаний. Но потом Солженицын перешёл к сути дела, и телеобъектив зафиксировал незабываемую метаморфозу: лица присутствовавших стали вытягиваться, мрачнеть, каменеть. Тишина, с какой внимали оратору, из упоённой сделалась гнетущей, с телеэкрана почти ощутимо повеяло холодом отчуждения.
Через пару дней, оправившись от шока, заокеанская пресса сменила милость на гнев и разразилась откликами, смысл которых сводился к тому, что Солженицын на поверку оказался-де человеком неблагодарным, строптивым, совсем не таким, каким они его себе представляли. Зато теперь, мол, стало понятно, что он замшелый консерватор, монархист и чуть ли не крепостник. После чего о нём ни слуху ни духу на долгие годы.
Чем же Александр Исаевич американцам так досадил? А тем, что пренебрёг одной их особенностью: крайне болезненным восприятием критики в собственный адрес. В США плюрализм мнений даже в те времена имел не столь уж широкие, как казалось со стороны, рамки. Солженицын же посмел за них выйти, пустившись в рассуждения о достоинствах и недостатках западной демократии. Отметив, что на Востоке люди беднее в материальном отношении, зато богаче в духовном, чем люди на Западе, он упрекнул последних в гордыне: привыкли всех и вся мерить на свой аршин и считают собственное общество образцом для подражания. Между тем, по Солженицыну, в западной модели демократии нарушен закон равновесия прав и обязанностей, за что она расплачивается падением нравственности. (Подробнее об этом – в статье «Диктат политической моды», опубликованной в «ЛГ», № 16.)
Вот, стало быть, что предшествовало приглашению Солженицына на приём в Белый дом четыре года спустя, вот почему там, не особо стесняясь, прикидывали, что будут с этой встречи иметь, и вот отчего вся эта история вызвала в США такой резонанс. Тем сильнее оказался конфуз, когда Александр Исаевич на президентский обед не явился.
Тогда уязвлённая администрация Рейгана распустила слух: мол, Солженицын не пожелал сесть за один стол с остальными диссидентами из-за… своего антисемитизма. Что-что, а манипулировать прессой Белый дом умел.
Солженицын, однако, предпринял ответный ход, через жену предложив газете «Вашингтон пост» опубликовать текст своего письма Рейгану с изложением истинных причин отказа принять приглашение на званый обед. Газета находилась в оппозиции к главе Белого дома и тут же напечатала сей примечательный документ под заголовком «Солженицын отвечает Рейгану: «Покорно благодарю». Своё послание президенту США Александр Исаевич снабдил грифом «лично, конфиденциально», из чего следовало, что для посторонних глаз оно не предназначалось, пока привходящие обстоятельства не побудили автора предать его огласке1.
«Дорогой господин Президент!
Я восхищаюсь многими аспектами Вашей деятельности, радуюсь за Америку, что у неё наконец такой Президент, не перестаю благодарить Бога, что Вы не убиты злодейскими пулями (имеется в виду покушение на Рейгана, совершённое 30 марта 1981 года Джоном Хинкли. – А.П.).
Однако я никогда не добивался чести быть принятым в Белом доме – ни при Президенте Форде (этот вопрос возник у них без моего участия), ни позже. За последние месяцы несколькими путями ко мне приходили косвенные запросы, при каких обстоятельствах я готов был бы принять приглашение посетить Белый дом. Я всегда отвечал: я готов приехать для существенной беседы с Вами, в обстановке, дающей возможность серьёзного эффективного разговора, – но не для внешней церемонии. Я не располагаю жизненным временем для символических встреч.
Однако мне была объявлена (телефонным звонком советника Пайпса) не личная встреча с Вами, а ланч с участием эмигрантских политиков. Из тех же источников пресса огласила, что речь идёт о ланче «для советских диссидентов». Но ни к тем, ни к другим писатель-художник по русским понятиям не принадлежит. К тому же факт, форма и дата приёма были установлены и переданы в печать прежде, чем сообщены мне. Я и до сегодняшнего дня не получил никаких разъяснений, ни даже имён лиц, среди которых приглашён на 11 мая.
Ещё хуже, что в прессе оглашены также и варианты, и колебания Белого дома, и публично названа, а Белым домом не опровергнута, формулировка причины, по которой отдельная встреча со мной сочтена нежелательной: что я являюсь «символом крайнего русского национализма». Эта формулировка оскорбительна для моих соотечественников, страданиям которых я посвятил всю мою писательскую жизнь.
Я – вообще не «националист», а патриот. То есть я люблю своё отечество – и оттого хорошо понимаю, что и другие также любят своё. Я не раз выражал публично, что жизненные интересы народов СССР требуют немедленного прекращения всех планетарных советских захватов. Если бы в СССР пришли к власти люди, думающие сходно со мною, – их первым действием было бы уйти из Центральной Америки, из Африки, из Азии, из Восточной Европы, оставив все эти народы их собственной вольной судьбе. Их вторым шагом было бы прекратить убийственную гонку вооружений, но направить силы страны на лечение внутренних, уже почти вековых ран, уже почти умирающего населения. И уж конечно открыли бы выходные ворота тем, кто хочет эмигрировать из нашей неудачливой страны.
Но удивительно: всё это – не устраивает Ваших близких советников! Они хотят – чего-то другого. Эту программу они называют «крайним русским национализмом», а некоторые американские генералы предлагают уничтожить атомным ударом – избирательно русское население. Странно: сегодня в мире русское национальное самосознание внушает наибольший страх: правителям СССР – и Вашему окружению. Здесь проявляется то враждебное отношение к России как таковой, стране и народу, вне государственных форм, которое характерно для значительной части американского образованного общества, американских финансовых кругов и, увы, даже Ваших советников. Настроение это губительно для будущего обоих наших народов.
Господин Президент. Мне тяжело писать это письмо. Но я думаю, что если бы где-нибудь встречу с Вами сочли бы нежелательной по той причине, что Вы – патриот Америки, – Вы бы тоже были оскорблены.
Когда Вы уже не будете Президентом, если Вам придётся быть в Вермонте – я сердечно буду рад встретить Вас у себя.
Так как весь этот эпизод уже получил исказительное гласное толкование и весьма вероятно, что мотивы моего неприезда также будут искажены, – боюсь, что я буду вынужден опубликовать это письмо, простите.
С искренним уважением,
А. Солженицын»
С той поры Солженицын так и не припал на колено перед власть имущими США, как это, например, сделал – в буквальном смысле – Михаил Барышников на гала-концерте в честь переизбрания Рейгана президентом. Книги Солженицына продолжали издавать и переиздавать, но в силу высокой стоимости и низких тиражей они были доступны лишь страстным любителям беллетристики, а таких за океаном, по нашим меркам, немного. Та самая ситуация, которую в одной из теледискуссий со мной признал, оправдывая ограниченный кругозор соотечественников, тогдашний директор Информационного агентства США Чарльз Уик: «В нашей стране не существует запретов на публикации, но то, что публикуется, подчас имеет хождение лишь в узком кругу».
Словом, в Соединённых Штатах у Солженицына не стало былого «паблисити». Лишь шесть лет спустя по случаю его 70-летия журнал «Тайм» напечатал интервью с ним, где было повторено многое из того, о чём говорилось в письме Солженицына Рейгану: не иссякает поток лживых слухов и домыслов, продолжают приклеивать ярлыки – «обскурантист», «монархист», «националист». В сущности, об этом Солженицын сказал ещё раньше, выступая в Гарвардском университете: «Безо всякой цензуры на Западе осуществляется придирчивый отбор мыслей модных от мыслей немодных – и последние, хотя никем не запрещены, не имеют реального пути ни в периодической прессе, ни через книги, ни с университетских кафедр».
Александр Палладин

Адвокат Стив Зиссу: защита Виктора Бута готовит иск против тюрьмы в США
Российский бизнесмен Виктор Бут уже более 14 лет находится в тюрьмах, отбывая в США 25-летний срок заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма – обвинениям, которые он полностью отрицает. Американский адвокат россиянина Стив Зиссу в беседе с корреспондентом РИА Новости Евгением Беленьким, который освещает дело россиянина со дня его ареста в Таиланде, рассказал о том, что в Америке уже начинают понимать несправедливость обращения США с Бутом, и о своей вере в то, что обмен россиянина на одного или нескольких американцев, находящихся в российских тюрьмах, обязательно состоится.
– Можно ли подать в суд на тюрьму за отсутствие медицинской помощи Виктору, и готовы ли вы это сделать, если ситуация не улучшится?
– Да, конечно, возможно. Можно подать иск в федеральный суд, чтобы заставить тюрьму предоставить Виктору надлежащую медицинскую помощь. Мы сейчас готовим такой иск. Американский суд не потерпит нарушения прав человека в отношении заключенных со стороны Бюро тюрем США. А речь идет именно об этом. По законам США "забота и содержание" заключенного находятся в ведении министерства юстиции. Не только неоказание медицинской помощи заключенному, но даже выдача ему лекарств без медицинского осмотра врачом и диагноза – это нарушение, которое в суде защитить невозможно.
– Не могли бы вы описать сдвиги в нарративе истории Виктора, которые происходят в настоящий момент, вызванные, в частности, тем, что говорят такие люди, как судья Шейндлин, Тревор Рид и его семья, а также другие, кто открыто высказался на эту тему?
– После ареста госпожи Грайнер (звезда женского профессионального баскетбола Бриттни Грайнер, арестованная в РФ по подозрению в контрабанде наркотических веществ – ред.) произошло несколько событий. Конечно, высказывания семьи Рид (в пользу обмена Виктора Бута на Грайнер – ред.) имели решающее значение. Потому что это заставило нескольких американских журналистов более подробно изучить дело Виктора Бута. Это означает, конечно, что некоторые из них узнали о судье Шейндлин и обратились к ней. И, к счастью, она по-прежнему готова говорить правду о своих юридических и фактических выводах, сделанных на заседании суда по вынесению приговора Виктору, и о своем мнении, что он пробыл в тюрьме более чем достаточно времени.
Еще одна вещь, которая произошла, это то, что команда защиты продолжала пытаться наладить контакт с семьями Грайнер и Уилана (Пол Уилан, гражданин США, осужденный в РФ на 16 лет тюремного заключения по обвинению в шпионаже – ред.). И хотя нам никто не ответил, они не могли не просмотреть информацию, которую мы им отправили. Мои источники подтверждают, что это, в свою очередь, привело к тому, что семьи Грайнер и Уилана стали в общении с официальными структурами более активно высказываться об обмене. Также, как вы наверняка заметили, тот факт, что Грайнер является известной американской спортсменкой, привел к тому, что несколько других известных спортсменов выразили свою поддержку, например, Сет Карри и Леброн Джеймс (звезды мужского профессионального баскетбола США – ред.). Это, конечно, заставило нескольких спортивных обозревателей заинтересоваться делами Виктора Бута и других россиян. Эти люди не зациклены на бессмысленных историях о "торговцах смертью", которые затуманивают мозг другим американским журналистам, слишком ленивым, чтобы искать правду, чтобы начать задавать вопросы.
– Как вы думаете, каково нынешнее отношение чиновников госдепа к Виктору? А как насчет позиции министерства юстиции, выступившего против обменов? Считаете ли вы, что сейчас существуют разногласия среди должностных лиц правительства США, ответственных за любой обмен, который может произойти?
– Всегда будет разница во мнениях среди людей в различных ведомствах правительства США. Но наша стратегия превращения ложного повествования о Викторе в правдивое повествование была направлена на противодействие рефлекторной реакции неоконсерваторов и других в правительстве США на то, что "американцы будут взяты в заложники другими правительствами", если США будут вести переговоры о судьбе задержанных и обмены.
Это упрощенное отношение, эта рефлекторная реакция связана с позицией "США не могут ошибаться", за которую цепляются многие люди в Америке. Никто из этих людей не задумывается ни на минуту о том, что должно думать российское правительство и его граждане, когда США нацеливаются на гражданина России, давно отошедшего от дел, живущего постоянно в Москве и Санкт-Петербурге и, как подчеркнула судья Шира Шейндлин в суде при вынесении приговора Виктору Буту, придумывают преступление, а затем платят миллионы долларов платным осведомителям, настоящим преступникам, для создания антуража такого преступления, за которое Виктор мог бы быть обвинен в суде США. То, что это преследование и, практически, похищение гражданина Российской Федерации было очевидным посягательством на суверенитет России, вряд ли может оспорить любой объективный человек. Тем не менее, эта рефлекторная реакция наблюдается во многих подразделениях правительства США. Эти люди упускают из виду тот факт, что можно легко провести прямую линию между 2008 годом, когда Виктор был похищен, и началом в той же точке неуклонного ухудшения отношений между США и Россией.
Но некоторые объективные люди на американской стороне, несомненно, начинают понимать, что именно власти США открыли эпоху жесткого обращения наших стран с гражданами друг друга, когда уполномочили DEA (Управление по борьбе с наркотиками США) похитить Виктора, привезти его в Америку, судить его за преступление, которое было создано для него самим Управлением по борьбе с наркотиками, а затем имели наглость потребовать, чтобы его приговорили к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.
Я верю, что возобладает именно эта, объективная точка зрения, и что Виктора обменяют на одного или нескольких американцев. Я глубоко надеюсь, что Россия ясно даст понять американской стороне, что Виктор Анатольевич Бут должен быть включен в список любой сделки по обмену на любого американца.
– Зависит ли любой обмен заключенными напрямую от решения президента США?
– Да, президент Байден должен одобрить любой обмен. Надеюсь, он сделает это до того, как здоровье Виктора будет необратимо надломлено из-за отказа в оказании ему медицинской помощи.

Адвокат Стив Зиссу: защита Виктора Бута готовит иск против тюрьмы в США
Российский бизнесмен Виктор Бут уже более 14 лет находится в тюрьмах, отбывая в США 25-летний срок заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма – обвинениям, которые он полностью отрицает. Американский адвокат россиянина Стив Зиссу в беседе с корреспондентом РИА Новости Евгением Беленьким, который освещает дело россиянина со дня его ареста в Таиланде, рассказал о том, что в Америке уже начинают понимать несправедливость обращения США с Бутом, и о своей вере в то, что обмен россиянина на одного или нескольких американцев, находящихся в российских тюрьмах, обязательно состоится.
– Можно ли подать в суд на тюрьму за отсутствие медицинской помощи Виктору, и готовы ли вы это сделать, если ситуация не улучшится?
– Да, конечно, возможно. Можно подать иск в федеральный суд, чтобы заставить тюрьму предоставить Виктору надлежащую медицинскую помощь. Мы сейчас готовим такой иск. Американский суд не потерпит нарушения прав человека в отношении заключенных со стороны Бюро тюрем США. А речь идет именно об этом. По законам США "забота и содержание" заключенного находятся в ведении министерства юстиции. Не только неоказание медицинской помощи заключенному, но даже выдача ему лекарств без медицинского осмотра врачом и диагноза – это нарушение, которое в суде защитить невозможно.
– Не могли бы вы описать сдвиги в нарративе истории Виктора, которые происходят в настоящий момент, вызванные, в частности, тем, что говорят такие люди, как судья Шейндлин, Тревор Рид и его семья, а также другие, кто открыто высказался на эту тему?
– После ареста госпожи Грайнер (звезда женского профессионального баскетбола Бриттни Грайнер, арестованная в РФ по подозрению в контрабанде наркотических веществ – ред.) произошло несколько событий. Конечно, высказывания семьи Рид (в пользу обмена Виктора Бута на Грайнер – ред.) имели решающее значение. Потому что это заставило нескольких американских журналистов более подробно изучить дело Виктора Бута. Это означает, конечно, что некоторые из них узнали о судье Шейндлин и обратились к ней. И, к счастью, она по-прежнему готова говорить правду о своих юридических и фактических выводах, сделанных на заседании суда по вынесению приговора Виктору, и о своем мнении, что он пробыл в тюрьме более чем достаточно времени.
Еще одна вещь, которая произошла, это то, что команда защиты продолжала пытаться наладить контакт с семьями Грайнер и Уилана (Пол Уилан, гражданин США, осужденный в РФ на 16 лет тюремного заключения по обвинению в шпионаже – ред.). И хотя нам никто не ответил, они не могли не просмотреть информацию, которую мы им отправили. Мои источники подтверждают, что это, в свою очередь, привело к тому, что семьи Грайнер и Уилана стали в общении с официальными структурами более активно высказываться об обмене. Также, как вы наверняка заметили, тот факт, что Грайнер является известной американской спортсменкой, привел к тому, что несколько других известных спортсменов выразили свою поддержку, например, Сет Карри и Леброн Джеймс (звезды мужского профессионального баскетбола США – ред.). Это, конечно, заставило нескольких спортивных обозревателей заинтересоваться делами Виктора Бута и других россиян. Эти люди не зациклены на бессмысленных историях о "торговцах смертью", которые затуманивают мозг другим американским журналистам, слишком ленивым, чтобы искать правду, чтобы начать задавать вопросы.
– Как вы думаете, каково нынешнее отношение чиновников госдепа к Виктору? А как насчет позиции министерства юстиции, выступившего против обменов? Считаете ли вы, что сейчас существуют разногласия среди должностных лиц правительства США, ответственных за любой обмен, который может произойти?
– Всегда будет разница во мнениях среди людей в различных ведомствах правительства США. Но наша стратегия превращения ложного повествования о Викторе в правдивое повествование была направлена на противодействие рефлекторной реакции неоконсерваторов и других в правительстве США на то, что "американцы будут взяты в заложники другими правительствами", если США будут вести переговоры о судьбе задержанных и обмены.
Это упрощенное отношение, эта рефлекторная реакция связана с позицией "США не могут ошибаться", за которую цепляются многие люди в Америке. Никто из этих людей не задумывается ни на минуту о том, что должно думать российское правительство и его граждане, когда США нацеливаются на гражданина России, давно отошедшего от дел, живущего постоянно в Москве и Санкт-Петербурге и, как подчеркнула судья Шира Шейндлин в суде при вынесении приговора Виктору Буту, придумывают преступление, а затем платят миллионы долларов платным осведомителям, настоящим преступникам, для создания антуража такого преступления, за которое Виктор мог бы быть обвинен в суде США. То, что это преследование и, практически, похищение гражданина Российской Федерации было очевидным посягательством на суверенитет России, вряд ли может оспорить любой объективный человек. Тем не менее, эта рефлекторная реакция наблюдается во многих подразделениях правительства США. Эти люди упускают из виду тот факт, что можно легко провести прямую линию между 2008 годом, когда Виктор был похищен, и началом в той же точке неуклонного ухудшения отношений между США и Россией.
Но некоторые объективные люди на американской стороне, несомненно, начинают понимать, что именно власти США открыли эпоху жесткого обращения наших стран с гражданами друг друга, когда уполномочили DEA (Управление по борьбе с наркотиками США) похитить Виктора, привезти его в Америку, судить его за преступление, которое было создано для него самим Управлением по борьбе с наркотиками, а затем имели наглость потребовать, чтобы его приговорили к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.
Я верю, что возобладает именно эта, объективная точка зрения, и что Виктора обменяют на одного или нескольких американцев. Я глубоко надеюсь, что Россия ясно даст понять американской стороне, что Виктор Анатольевич Бут должен быть включен в список любой сделки по обмену на любого американца.
– Зависит ли любой обмен заключенными напрямую от решения президента США?
– Да, президент Байден должен одобрить любой обмен. Надеюсь, он сделает это до того, как здоровье Виктора будет необратимо надломлено из-за отказа в оказании ему медицинской помощи.

Крупнейшие города: шоки дистанта и инфляции, важность возврата к промышленности
Сергей Ануреев
Речь идёт о крупнейших столичных городах: Нью-Йорке, Лондоне, Москве и других. Много десятилетий такие города притягивали самых состоятельных и самых деятельных людей, а дороговизна была важнейшей чертой жизни. На этой дороговизне зарабатывали застройщики, ритейл, банкиры, государство.
Теперь дистанционная работа и изменение места жительства высокооплачиваемых сотрудников, электронная коммерция и сервисы доставки, дороговизна топлива, транспорта и коммуналки меняют экономику крупнейших городов.
При менее серьёзных трансформациях Нью-Йорк в середине 1970-х годов и Калифорния в начале и конце 2000-х оказывались на грани банкротства. Агломерации Сан-Франциско, Сеула, Милана, ряда крупных немецких городов ограничивают сферы торговли и услуг, удачно сочетают их с наукой и промышленностью.
У Москвы есть время на трансформацию своей экономики, но необходимо менять стратегию, чтобы усилить лидерский потенциал.
Большие столичные города как средоточие разрыва в доходах
По статистике 10% населения типичной страны концентрируют 50% потребления, а на остальные 90% приходится вторая половина потребления. В крупнейших городах живёт и работает в разы больше обеспеченных людей по сравнению со средними и малыми городами.
В столицах размещаются штаб-квартиры крупнейших корпораций с самыми высокими зарплатами и налогами. Именно потребление среднего класса столиц облагается наибольшими налогами. Налоговая обеспеченность столиц в расчёте на жителя в несколько раз больше, чем в типичных регионах, как и вклад налогов с деятельности крупных городов в федеральные бюджеты.
Налоги на недвижимость в самых крупных городах большие ввиду дороговизны самой недвижимости и прогрессивных ставок этих налогов. Товары длительного пользования в торговых центрах крупных городов дороже, чем на рынках малых городов, и состоятельное население оплачивает большие суммы НДС и таможенных пошлин на эти товары, аренды и налога на коммерческую недвижимость. Жители крупных городов тратят на передвижение на автомобилях по несколько часов каждый день, а налоговая составляющая в цене дорогих автомобилей и особенно бензина достигает 50-65%.
Примерно половина банковских кредитов связана с недвижимостью в крупнейших городах, если считать по суммам денег, а не по количеству кредитов. Концентрация состоятельных работников, потребителей и инвесторов обеспечивает высокие цены квадратных метров. Дороговизна жилой и коммерческой недвижимости крупнейших городов определяет большие суммы кредитов на их приобретение.
Тем не менее, многие жители крупнейших городов выживают, формально получая приличную зарплату, но и прилично тратя в условиях дороговизны этих городов. Основная часть бедных в богатых городах работает в сфере услуг (торговля, общепит, транспорт, развлечения), обслуживая потребление богатых. Для сферы услуг характерна низкая производительность труда и потому низкие доходы.
Во второй половине XX века в крупнейших городах концентрировались промышленность и наука с высокой добавленной стоимостью и производительностью труда. Даже если производству была свойственна высокая доля ручного труда, долгосрочный характер использования промышленных товаров (по сравнению с разовым потреблением услуг) обеспечивал их высокую полезность и цену, более достойный уровень жизни рабочих.
Вывод производств из крупнейших городов в небольшие города и азиатские страны вызвал переориентацию потомков рабочих на сферу услуг. Именно богатые стали основными бенефициарами вывода производств, сокращения издержек и роста прибылей, с концентрацией этого богатства в крупнейших городах. Упавший и все же относительно приемлемый уровень доходов в сфере услуг крупнейших городов обеспечивался обслуживанием потребления богатых.
Концентрация богатства и растущие цены на недвижимость становились самовоспроизводящимся феноменом. Всё больше молодёжи желало воспользоваться вроде как широкими возможностями крупнейших городов, все больше состоятельных людей приобретали в таких городах недвижимость. Истории успехов предыдущих поколений становились модельными для следующих поколений, и так в крупнейших городах росли население и уровень цен.
Доковидные и постковидные вызовы для крупнейших городов
Ещё до ковида крупнейшие города боролись со своими структурными проблемами. Огромные размеры городов и транспортные трудности нивелировали преимущества широкого рынка труда, высасывая время людей и деньги из бюджетов. Недвижимость становилась запретительно дорогой для подавляющего большинства родившихся в крупнейших городах и «понаехавших» в надежде достичь успеха. Перегретые цены на недвижимость не давали должной отдачи на инвестиции, а высочайшие налоги съедали немногие доходы от владения этой недвижимостью.
Крупнейшие корпорации выводили из этих городов части своих штаб-квартир, чему содействовал прогресс в электронных технологиях дистанционной офисной работы, очевидный еще до ковида. Основным мотивом этого была экономия на зарплатах и офисах, сильно перегретых в крупнейших городах. Наиболее массово это затронуло клиентские кол-центры, затем бухгалтерию и работу с налогами, отчасти опытные конструкторские разработки. Ряд компаний вообще сокращал свои штаб-квартиры в крупнейших городах до уровня представительств.
Крупнейшие города сталкивались с выпадающими налоговыми доходами и развёрстывали их на остававшихся. Наиболее явно перерегистрация крупнейших корпораций сказывалась на поступлении налогов с таких корпораций. Сокращение и переезд высоко оплачиваемых сотрудников тормозили динамику розничных продаж и услуг. Рост цен на аренду жилой и коммерческой недвижимости тормозился относительно роста цен в других городах, куда переезжали штаб-квартиры и сотрудники. Чтобы восполнить выпадающие доходы, власти крупнейших городов повышали налоги на недвижимость и начинали экономить на социальных услугах, усиливая дороговизну жизни и снижая её качество.
Экономика розничной торговли и услуг попадала в ловушку дороговизны жизни. Средний класс крупнейших городов вынуждено увеличивал расходы на налоги и платные социальные услуги. Качественная медицина и образование стали ассоциироваться с частными клиниками и школами. Владельцам коммерческой недвижимости также увеличивали налоги, дорожавшая жизнь требовала повышения зарплат рядовых работников торговли и услуг. Растущие издержки перекладывались в цену товаров и услуг, усиливая дороговизну и снижая количество покупок.
Электронная торговля и сервисы доставки стали относительно массовыми ещё до ковида, а ковид лишь дал им мощный толчок. Несколько десятилетий назад народ ехал в крупнейшие города за покупками, что обеспечивало повышенный товарооборот и бум торговых центров. Теперь почти в каждом небольшом городке есть пункты выдачи интернет-заказов, в которых можно получить широчайший ассортимент по доступным ценам, что делает ненужными частые поездки в столичные торговые центры. Может, разве что посмотреть и померить, чтобы потом заказать с доставкой.
Некоторые политики Западной Европы ещё до ковида начали продвигать идеи сокращения избыточного импорта товаров и энергоносителей. Европа переживает значимое старение населения, делающее трудным поддержание прежнего уровня потребления. Это также накладывается на хронический бюджетный дефицит и огромный государственный долг. Наиболее известным местом выражения таких идей стал Давосский экономический форум, а наиболее известными идеями являются совместное потребление (sharing economy), локализация экономики (local economy), удлинение срока службы товаров (extending useful life of products).
Ограничения во время первой и отчасти последующих волн ковида как минимум совпали с указанными тенденциями. Именно высокооплачиваемых офисных сотрудников в первую очередь поголовно высадили на дистанционную работу, и многие из них уехали на месяцы в города подешевле. Именно розничная торговля, общепит и сфера услуг с ориентацией на дорогое избыточное потребление подверглись массовому закрытию, особенно в крупнейших городах. Стоимость аренды квартир, офисов и магазинов упала в 1,5-2 раза и слабо восстановилась при снятии антиковидных ограничений, даже несмотря на открытую инфляцию.
Немного истории и статистики цен на недвижимость
Пока недвижимость в крупнейших городах ещё воспринимается как антиинфляционный актив и растёт в цене на опасениях за сохранность покупательной способности денег. Однако всплеск инфляции не сможет поддерживать привлекательность недвижимости многие годы. Большая инфляция снижает способность населения покупать дорогие товары, поскольку больше денег тратится на продукты питания и коммуналку. Необходимость повысить процентные ставки по депозитам и кредитам ещё больше сократит возможность дорогих покупок в кредит, поскольку проценты по кредиту будут неподъёмными.
История пока не знает трансформации рынков недвижимости крупнейших городов, но знает падения отдельных лидеров и массовые временные падения. Итальянский Римини или английский Брайтон были самыми престижными и дорогими малыми городами 1970-х годов, как подмосковная Рублевка, но затем уступили другим городам. Детройт и Лас-Вегас являются знаменитыми американскими примерами безвозвратного падения очень богатых прежде городов. В 2009 году десяток самых дорогих городов США потеряли до половины рыночной стоимости недвижимости, с полным восстановлением лишь к 2016 году.
Цены жилой недвижимости Нью-Йорка после пиков мая 2006 года падали на четверть к 2012 году, вернулись к прежнему пику только в октябре 2020 года. Во время инфляционного всплеска последних полутора лет цены в Нью-Йорке выросли на 19%, но на треть медленнее среднеамериканских. Налоги на недвижимость в Нью-Йорке, взимаемые в диапазоне от 2 до 6% от рыночной стоимости, делают вложения в недвижимость за 15 лет убыточными на минус 11% (даже по минимальной ставке налога и с учетом всплеска инфляции).
В Лондоне цены на жилую недвижимость стояли с 2017 по 2020 год, немного снизившись на первом локдауне, затем на инфляционном всплеске прибавили всего 9%. Типичный лондонский дом облагается по прогрессивной шкале со ставкой в среднем 5% (с налоговыми вычетами только для небогатых местных жителей), делая доходность инвестиций в эту недвижимость за пять лет минус 16%. Цены на британскую недвижимость за исключением Лондона прибавили 5% с 2017 года до первого локдауна, затем за инфляционный скачок последних полутора лет еще 20%, обыграв лондонские цены в 2,5 раза.
Москва среди российских крупных городов не является лидером по росту цен на жилую недвижимость. Цены на жильё в I квартале 2022 года по отношению к ценам I квартала 2020 года в 25 самых дорогих российских городах выросли в среднем на 53%, при этом цены в Москве выросли на 28%, и по этому показателю Москва заняла предпоследнее место среди этих 25 городов. При этом средние цены за квадратный метр в Москве составили 251 тыс. руб., а в других 24 самых дорогих городах в среднем 97 тыс. руб., то есть разрыв в 2,5 раза. Так что дорогая Москва вынужденно дорожает медленнее других более дешёвых городов.
Проблематика трансформации столичных городов
Основой моделирования трансформации является гипотеза о переезде из крупнейших городов хотя бы половины из 10% самых высокооплачиваемых людей. Именно эти 10% населения в силу своих доходов и стиля жизни работают в дорогих офисных зданиях, арендуют дорогие квартиры, тратят деньги в торговых центрах, ездят на такси, посещают кафе и клубы. Остальные 90% населения либо не имеют доходов на дорогое и частое потребительство, либо работают на такое потребительство водителями, продавцами, техниками. Поэтому только прямой эффект переезда половины самых состоятельных означает потерю 25% доходов и расходов и ещё больший мультипликативный эффект.
Чистая прибыль торговых и офисных центров уже много лет хорошо, если дотягивает до 3-5% при средней заполняемости арендаторами в 90% во времена бума. Уход 25% выручки выбивает многих арендаторов в минус и увеличивает свободные площади, а рост свободных площадей постепенно сокращает ставки аренды арендуемых метров. Во время антиковидных ограничений именно владельцы коммерческой недвижимости паниковали больше всех, а падение ставок аренды дорогих квартир достигало 35-50%.
В малых городах можно меньше ездить на машине, покупать меньше бензина и дольше использовать имеющиеся автомобили. Дистанционная работа требует меньше дорогой одежды, бизнес-ланчей, посиделок с коллегами вечерами в кафе и клубах. Меньшая цена покупки и аренды недвижимости в регионах означает меньшие траты выехавших или вернувшихся из столицы, меньшие зарплаты местных рабочих и инженеров. Эти тезисы подтвердят выехавшие на проживание и дистанционную работу из Москвы в условные Геленджик или Ярославль, из Нью-Йорка в условные Флориду или Бостон.
Сильно проседает аренда, на которую в столичных городах приходится до 25-35% жилой недвижимости. Существенное падение оборотов торговых центров, общепита, такси, ремонта бьёт по доходам этих работников торговли и сферы услуг, по их возможности арендовать даже умеренно дорогие столичные квартиры. Если владельцы дорогих квартир в центре столицы могут сохранить приличные доходы и при снижении цен, то владельцы дешевых квартир на окраинах или в пригородах получат лишь минимальные доходы с поправкой на издержки на коммуналку, интерьер, простои.
Огромная цена объектов и высокие налоги на недвижимость ещё до ковида сделали реальную доходность вложений в недвижимость меньше ставок по вкладам. Интерес к недвижимости подпитывался только первым инфляционным скачком на фоне все еще низких ставок по вкладам и ипотеке. Политическая потребность в обуздании инфляции путем роста процентных ставок усугубит экономику недвижимости крупнейших городов.
Бюджеты крупнейших городов в значительной степени зависят от налогов на недвижимость (значительно в Нью-Йорке и Лондоне, умеренно в Москве). Рост свободных площадей, падение арендных доходов и выручки арендаторов прямо сокращает поступления налогов на доходы. Падение доходности недвижимости провоцирует снижение её рыночной стоимости и рост требований пересмотра базы имущественных налогов. Нью-Йорк оказался в предбанкротном состоянии в середине 1970-х годов, поскольку налоговые доходы перестали расти даже на фоне инфляции, а бюджетники и владельцы облигаций требовали индексации зарплат и роста процентных ставок.
Возврат от количественного роста за счёт сферы услуг к промышленности
Когда-то крупнейшие города были центрами науки и промышленности. НИОКР требует работы коллективов в научных лабораториях и на опытных производствах, чего нельзя делать в парадигме офисно-дистанционной работы. Успешные НИОКР требуют высокооплачиваемых специалистов, зарплаты которых зачастую выше зарплат типичных офисных сотрудников. Но НИОКР, как и любым экспериментам, присущи неудачи, бо'льшая нестабильность по сравнению с налаженным «бытом» офисных сотрудников. Именно сочетание больших зарплат и рисков НИОКР способствовало вытеснению этой деятельности из столичных городов в менее дорогие города и в азиатские страны.
Среди крупнейших городов еще сохранились лидеры промышленности и НИОКР. Агломерация Сан-Франциско известна не только компьютерными технологиями, но и многочисленными стартапами в области электроники, биотехнологий, сельского хозяйства, вооружений, которым требуются именно лаборатории и цеха. Корейский Сеул концентрирует в себе треть населения и большую часть передовой промышленности этой страны, включая электронику, автомобили, химию. Агломерация вокруг Милана является финансовой и промышленной столицей Италии, уступая Риму только первенство в государственной власти. Многие крупные немецкие города удачно сочетают промышленные пригороды с историческими центрами для состоятельных жителей.
Перечисленным городам свойственно ограничение сфер торговли и услуг в рамках государственной политики. Разрешение на строительство крупных торговых и офисных центров получить крайне сложно, поскольку власти понимают ненужность избыточной торговли и офисов. Налоговые льготы даются производствам и технологическим стартапам, а не бутикам, общепиту, самозанятым в такси или доставке. Налоги на коммерческую недвижимость, на излишки жилой недвижимости с потенциалом сдачи в аренду намного больше налогов на индустриальную недвижимость.
Следующей особенностью этих городов является дорогой общественный транспорт и ограничения на личные автомобили, поскольку строительство дорогих развязок в сочетании с бесплатным проездом заводят в тупик транспортную и бюджетную политику. Как минимум ставится задача полной самоокупаемости транспортной инфраструктуры, включая финансирование капитальных затрат за счет водителей и пассажиров. Как максимум транспортная инфраструктура генерирует дополнительные доходы для поддержки науки и промышленности. Хотя это в первую очередь бьет по небогатым работникам в сферах потребительства, побуждая менять съемную квартиру в случае смены места работы или искать работу рядом с домом.
Важнейшей чертой таких городов является лидерские позиции крупных университетов как каналов привлечения креативной молёдежи, в количественном выражении сопоставимого с притоком низкоквалифицированных работников в розничную торговлю и сферу услуг. Именно университеты являются важнейшим дополнением промышленных лидеров и поставщиками участников стартапов, а молодежь с ориентацией на инновации и промышленность становится основными арендаторами хороших квартир и клиентами сферы потребления. К сожалению, в России зачастую университеты ошибочно понимаются как самостоятельные инновационные структуры в отрыве от крупнейших корпораций.
Возврат Москве научного и промышленного лидерства
Западные санкции и необходимость усиления импортозамещения дают мощный толчок переосмыслению структуры московской экономики и изменению ее приоритетов. Москва в советские времена была крупнейшей в мире научно-технической агломерацией, и следует задуматься о возврате той парадигмы развития города. Для этого потребуется много бюджетных и частных денег, и они могут быть найдены за счет изменений в расходах и налогах города.
Ежегодные расходы бюджета Москвы на транспортное строительство сопоставимы с расходами федерального бюджета на науку и высшее образование по всей стране, а убытки Московского метрополитена и Мосгортранса – с федеральными расходами на МГУ и СПбГУ. Наоборот, прибыль Центральной пригородной пассажирской компании (подмосковные электрички) в два раза больше убытков Мосгортранса при умеренных тарифах по сравнению с нью-йоркскими или лондонскими. Строительство развязок и магистралей не решает проблему пробок, и необходимы разумно платные дороги для богатых и более дорогое метро для работников неприоритетных отраслей, чтобы за счёт этих дополнительных доходов субсидировать доплаты на транспорт пенсионерам, бюджетникам, работникам науки и промышленности.
Неудачные и устаревшие торговые и офисные центры Москвы начинают перестраивать под апартаменты. Это как минимум отражает проблематику избыточности такой недвижимости и переосмысления выдачи разрешений на строительство новых объектов. Закрытие части устаревших и нерентабельных объектов позволит сконцентрировать покупателей и арендаторов в меньшем количестве объектов, повысить их рентабельность, аренду и налоги. Так можно снизить налоги на промышленную недвижимость, стимулировать возврат коммерческой недвижимости для научных учреждений и опытных производств.
Потенциал роста налогов на жилую недвижимость также значителен, поскольку такие налоги остаются на порядок меньше Нью-Йорка и Лондона по ставкам налогов и доле в доходах городского бюджета. Повышение налогов на жилую недвижимость должно сочетаться с более адресной донастройкой налоговых вычетов и субсидий для собственников небольших единственных квартир с длительным «стажем» владения и работы в бюджетной сфере, науке и промышленности.
Высвобождающиеся работники сокращаемой избыточной торговли будут создавать профицит рабочих рук, снижать заработок в торговле и тем самым делать работу в промышленности более привлекательной. Признание многочисленных как бы самозанятых работников такси и доставки именно работниками с уплатой социальных взносов и НДФЛ создаст дополнительные налоговые доходы как источник бюджетной поддержки науки и промышленности. Уточнение налогового режима индивидуальных предпринимателей и сокращение выплат зарплат в конвертах наемным работникам этих предпринимателей также имеет большой фискальный потенциал для стимулирования науки и промышленности.
Автор – профессор Департамента общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ

По кому ударят санкции в конце концов?
По оценке агентства Moody's, торговая война, развязанная США против Китая, обошлась американским компаниям более чем в 1,7 трлн долларов. 92% суммы дополнительных пошлин покрывают американские потребители
Чжан Ханьхуэй, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Российской федерации
В последние годы коллективный Запад во главе с США, исповедуя политику силы и односторонности, по всякому поводу прибегает к санкциям в международных отношениях. С помощью своего пре-имущественного положения в мировой финансово-экономической системе они вводят бесчисленные односторонние санкции против Китая, России, Кубы, КНДР, Ирана, Сирии, Венесуэлы и многих других стран под флагами «демократии», «прав человека» и «международного порядка, основанного на правилах», причем с более высокой частотой и более крупным размахом. Санкции стали для них необходимым средством регулирования международных отношений. К примеру, за последние два десятилетия количество объектов, находящихся под санкциями Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), увеличилось с 912 до 9421, то есть в 10 раз. В санкционном списке OFAC числятся суверенные государства, компании и физические лица — от глав государств до простых граждан, от представителей политических и деловых кругов до спортивных и культурных деятелей. Все эти санкции были нацелены против развивающихся стран и тех, кого США считают «чуждыми». Но действительно ли такой акт буллинга, пропитанный примитивной наглостью, позволил коллективному Западу осуществить свою «задумку»? Что именно принесли санкции? Кому на самом деле вредят санкции?
Односторонние санкции грубейшим образом противоречат целям Устава ООН и нарушают основополагающие принципы международного права
Односторонние санкции не имеют ни капли легитимности. В главе VII Устава ООН четко прописано, что именно Совет Безопасности ООН уполномочивается решать вопрос о принятии мер, которые могут включать полный или частичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых или других средств сообщения. Однако вместо того, чтобы соблюдать международное право и основные нормы международных отношений о невмешательстве во внутренние дела других стран и уважении суверенного равенства государств, США и их западные союзники произвольно вводят односторонние санкции в обход СБ ООН, сами устраивают судилища и выносят приговоры ради собственных геополитических и экономических интересов. Коллективный Запад своим полным беззаконием не только наносит серьезный ущерб механизму коллективной безопасности ООН и авторитету СБ, но и создает плохие прецеденты нарушения послевоенного мирового порядка и основных норм международного права, несет прямую ответственность за проблемы и вызовы, которыми переполнена действующая система международных отношений.
Односторонние санкции полностью отступают от признанных в международных отношениях ценностей и моральных принципов
Такие понятия, как дух договорных отношений и неприкосновенность собственности, являются главными достижениями современной цивилизации, тогда как мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода — общечеловеческими ценностями. А односторонние санкции США и других западных стран все это перечеркивают. Чего они себе только не позволили! Односторонний выход из международных организаций и отказ от выполнения взятых обязательств, самовольное отключение России от системы SWIFT и заморозка ее золотовалютных резервов в размере 300 млрд долларов, срыв достигнутой в результате усилий многих стран иранской ядерной сделки на основании предпочтений одного человека или одной партии, захват и раздел между собой афганских авуаров в размере 7 млрд долларов, предназначенных для спасения жизней афганцев, незаконное задержание гражданки Китая на три года, всевозможная политизация вплоть до введения санкций против кошек, собак и деревьев в России. Список можно продолжить. Подобные эксцессы подлы и отвратительны, приносят серьезный ущерб духу договорных отношений и репутации коллективного Запада, идут вразрез с общечеловеческими ценностями и основными моральными принципами, отравляют атмосферу в международном сообществе и препятствуют развитию современной цивилизации. Под удар этих действий попали такие принципы, как свобода слова, неприкосновенность частной собственности и наука без границ, которые всячески пропагандировали на Западе. «Выстрел себе в ногу» как таковой в полной мере обнажил перед всем миром сущность Запада. Их репутация пошла прахом.
Односторонние санкции существенно расшатывают международный экономический порядок и систему глобального управления
По итогам Второй мировой войны был сформирован относительно стабильный международный финансово-экономический порядок, который регулируется набором правил международных институтов, включая Всемирную торговую организацию, Международный валютный фонд и Всемирный банк. Однако односторонние санкции и последующая ожесточенная борьба в формате «санкции против контрсанкций» его сильно подрывают. На фоне продолжающейся пандемии и вялой мировой экономики США и их западные союзники в нарушение принципов рыночной экономики и международных торгово-экономических правил опрометчиво ввели в отношении России беспрецедентное количество санкций, что нанесло серьезный удар по глобальным производственным и логистическим цепочкам, энергетической, финансовой и продовольственной безопасности. Последствия санкционной истерики коллективного Запада приходится расхлебывать всему международному сообществу. Страны мира, в том числе и зачинщики односторонних санкций, переживают дефицит энергоносителей и продовольствия, сильно страдают от роста цен, закрытия заводов и экспортных сбоев. Подрыв действующего международного экономического порядка и глобальной финансовой системы вызвал кредитный кризис, который может обернуться глубокой рецессией или даже крахом мировой экономики.
Односторонние санкции, повлекшие за собой глубокий гуманитарный кризис, противоречат духу гуманизма
Коллективный Запад во главе с США упорно использует односторонние санкции в качестве оружия, придерживается неизбирательного подхода к его применению, что наносит серьезный урон национальному развитию и народному благосостоянию соответствующих стран. Мишенью санкций в итоге оказались самые простые граждане. На протяжении 60 лет Вашингтон осуществляет против Кубы экономическую, торговую и финансовую блокаду, которая ужесточилась после вспышки пандемии COVID-19, тем самым существенно препятствует денежным переводам трудовых мигрантов на родину, разработке вакцин и доступу к лекарствам, привела к серьезному экономическому и социальному кризису на Кубе. Совокупный экономический ущерб от введенных ограничительных мер составил почти 150 млрд долларов. Санкции, введенные США против Венесуэлы с 2006 года, заставили почти 30% населения страны, то есть более 8 млн венесуэльцев, покинуть свои дома. Санкционный режим США против Ирана не ослаблялся даже в разгар пандемии. По оценкам Брукингского института США, антииранские санкции усугубили и без того сложную противоэпидемическую ситуацию в Иране и, возможно, привели к смерти 13 тысяч человек. Санкции США против Афганистана не только погрузили афганский народ в суровые бедствия, но и создали благодатную почву для терроризма. По некоторым прогнозам, число погибших гражданских лиц в результате экономических санкций США против Афганистана, вероятно, превысит общее число погибших гражданских лиц в результате 20-летней войны в Афганистане. Схожая картина сложилась и в КНДР, Сирии и Мьянме, которые страдают от гуманитарных проблем из-за санкций Вашингтона.
Односторонние санкции наносят серьезный ущерб собственным интересам и национальному имиджу США
Санкции, которые используются американцами как важный инструмент для уничтожения соперников и поддержания гегемонии, зачастую, вопреки всем ожиданиям, вредят им самим. По политическим причинам администрация Байдена продолжает ошибочную политику предыдущей администрации в отношении Китая, сохраняя повышенные пошлины на большое количество китайских товаров, что значительно повысило стоимость импортируемых товаров. А за эту ошибочную политику вынуждены расплачиваться американские потребители. Согласно оценке агентства Moody’s, торговая война, развязанная США, обошлась американским компаниям более чем в 1,7 трлн долларов США. 92% суммы дополнительных пошлин покрывают американские потребители, и каждое американское домохозяйство расходует дополнительно 1,3 тысячи долларов в год. Соединенные Штаты, подливая масло в огонь, всячески пытаются провоцировать конфликт между Россией и Украиной, привлекают своих союзников ко всесторонним антироссийским санкциям, которые, в свою очередь, усиливают и без того повышенное инфляционное давление в США. С начала года рост индекса потребительских цен в США достиг максимального значения за 40 лет, стремительный взлет цен вызвал массовое недовольство американцев. Экономисты Goldman Sachs предупреждают: вероятность того, что в 2023 году экономика США впадет в рецессию, возрастет до 20-35% из-за роста инфляции, вызванного злоупотреблением санкциями. Помимо этого, Соединенные Штаты отключением России от системы SWIFT серьезно подорвали доверие к системе расчетов в долларах и вообще надежность этой валюты. А ограничения в области высоких технологий и разъединение цепочек поставок не только лишат Соединенные Штаты важных международных рынков, но и ускорят темпы глобальной дедолларизации и замены американских технологий.
Необходимо поддерживать подлинную многосторонность и совместно построить Сообщество единой судьбы человечества
Факты доказали, что односторонность и крайний эгоизм в любых проявлениях ни к чему не приведут. Любые попытки разорвать связи, прекратить поставки или оказать максимальное давление обречены на однозначный провал, равно как и любые затеи сколачивать группировки и провоцировать конфронтации на идеологической почве. Односторонние санкции коллективного Запада не решат никаких проблем, лишь причиняют вред ему самому и другим, вызывают далекоиду-щие негативные последствия. Китай решительно выступает против односторонних санкций в любых формах и экстерриториальной юрисдикции, исходит из того, что санкции никогда не служили эффективным методом, способным в корне решить ту или иную проблему, а лишь существенно осложняют экономическую ситуацию и народное благосостояние соответствующих стран, усугубляют раскол и противостояние. Китай сохраняет приверженность международному праву и общепризнанным основным нормам международных отношений, неукоснительно соблюдает дух и букву Устава ООН, придерживается концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, содействует построению открытой мировой экономики и не участвует в создании дискриминационных и эксклюзивных правил и систем. Мы убеждены, что подлинное развитие и подлинное процветание могут быть достигнуты только путем совместного развития и общего процветания всех стран.
Как отметил Председатель КНР Си Цзиньпин, нынешняя мировая экономическая структура представляет собой органичное целое, сформировавшееся в результате длительных усилий стран всего мира. Все страны должны дорожить этим достижением, и нельзя необдуманно наносить мировой экономике вред, тем более политизировать ее, использовать ее в качестве инструмента или оружия. Страны мира разделяют единую судьбу, словно плывут в одной лодке. Для того чтобы покорить бурные волны и «докатиться» до светлого будущего, необходима консолидация усилий всех и каждого, попытки выбросить кого бы то ни было за борт абсолютно неприемлемы. В наши дни международное сообщество представляет собой сложную и изысканную машину с органичным сочетанием разных компонентов, изъятие любого из которых вызовет серьезный сбой в работе всего механизма. Все страны должны следовать тенденциям времени, стремиться к миру, развитию, взаимовыгодному сотрудничеству, придерживаться подлинной многосторонности, содействовать реализации инициативы о глобальном развитии, развивать общечеловеческие ценности, совместно преодолеть любые вызовы на пути построения Сообщества единой судьбы человечества ради общего прекрасного будущего! Вот верный путь человеческого развития!

Звёздные войны и новые надежды
АЛЕКСАНДР БАУРОВ
Врио директора исследовательско-аналитического центра ГК «Роскосмос» в 2018–2019 годах.
Сегодня освоение космоса несёт в себе как путь безграничной военной эскалации, так и путь к восстановлению утраченных и приобретению новых научных, производственных и коммерческих связей. Именно в космосе могут начать закладываться очертания тех обновлённых союзов и межблоковых отношений, которые очертят круг новых центров силы и новых периферий.
Проведение широкоформатной специальной военной операции (СВО) на Украине повлекло изменение условий жизни по всему миру. В космической отрасли, которая регулируется в России ГК «Роскосмос», был предпринят ряд действий, названных руководством госкорпорации «контрсанкциями». Их реализация усугубила разрыв научных и технологических связей с западными странами и продемонстрировала возможность российских акторов затормозить реализацию там гражданских и специальных космических проектов. Однако другие участники космической сферы не спешат рвать отношения с Россией, а некоторые усиливают военно-техническое взаимодействие.
Удушение Западом российских «партнёров»
Заявленные Дмитрием Рогозиным контрмеры лишь дополнили список взаимных претензий и ограничений, который начинается с санкций, обрушившихся на ракетно-космическую отрасль России ещё в 2014 году. При этом все последние годы проводились регулярные ужесточения этих рестрикций с целью выдавливания «Роскосмоса» с рынка коммерческих запусков. Так, запрещалось выводить спутники, созданные с применением американских технологий и набортной микроэлектроники на российских ракетоносителях, а это практически весь коммерческий сегмент за пределами США.
В 2021 г. несколько российских космических предприятий, среди которых самарский РКЦ «Прогресс» и Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш), были внесены в санкционные списки США. В начале марта 2022 г. в Белом доме сообщили о введении блокирующих санкций против 22 предприятий российского ОПК и отдельно против трёх предприятий ГК «Роскосмос» – это АО «Федеральный научно-производственный центр “Титан-Баррикады”», АО «Салаватский химический завод», Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева.
Ещё одним шагом в космической конфронтации стало отключение Германией телескопа eROSITA на борту орбитальной рентгеновской обсерватории «Спектр-РГ». «Спектр-РГ» – совместный проект: российской стороне принадлежит сама космическая лаборатория, запущенная в 2019 г., разработанная в НПО им. С.А.Лавочкина, и телескоп ART-XC, созданный Институтом космических исследований РАН и Российским федеральным ядерным центром ВНИИЭФ. Второй телескоп, eROSITA, был создан в Институте внеземной физики общества Макса Планка (Германия). Задача обсерватории – создать подробную карту неба, нанеся на неё все наблюдаемые источники рентгеновских лучей, будь то далёкие скопления галактик или близкие звёзды с активными коронами. Российский и немецкий телескопы работают независимо друг от друга. Они сканируют небо в разных диапазонах рентгеновского спектра излучения. 27 февраля 2022 г. Центр авиации и космонавтики Германии (DLR) уведомил российскую сторону о планах отключить eROSITA, и через несколько дней инструмент был переведён в безопасный режим. Наблюдения на нём прекратились.
17 марта 2022 г. Европейское космическое агентство вышло из совместного с «Роскосмосом» проекта ExoMars-2022, одним росчерком пера уничтожив десятилетнюю работу учёных и инженеров ЕС, готовившихся впервые в истории европейской науки прикоснуться к Марсу (после катастрофы спускаемого модуля Schiaparelli в октябре 2016 года). Институт космических исследований РАН создал для миссии ExoMars-2022 стационарный посадочный зонд «Казачок». После посадки на Марс с него должен был стартовать европейский ровер-марсоход «Розалинд Франклин».
Заявленные контрсанкции «Роскосмоса»
Решения руководителя госкорпорации о незапуске спутников связи One Web, а также о прекращении поставок в США ракетных двигателей РД-181, технического обслуживания уже поставленных в США двигателей РД-180, приостановке немецкого участия в научной программе российского сегмента МКС, об отзыве российских специалистов и оборудования с космодрома Куру во Французской Гвиане – вызвали большой поток публичных оценок и удачно (заметно) вошли в информационный фронт противостояния России и коллективного Запада. Оценки экспертов внутри страны, прежде порой негативно оценивавших действия госкорпорации в данном направлении, в основном солидаризируются с принятыми шагами: «Роскосмос» первым из крупных топ-20 отечественных компаний сам перешёл к наступательным действиям в экономической войне, развязанной против России. Ущерб для иностранных проектов от выхода из партнёрских отношений со стороны «Роскосмоса» составит миллиарды долларов и на годы отбросит сроки их реализации.
В дальнейшем руководство «Роскосмоса» выступило с рядом разъясняющих заявлений, суть которых в том, что на время проведения СВО предприятия ракетно-космической отрасли сосредоточатся на выполнении гособоронзаказа, оставив за скобками один из ключевых моментов – дальнейшую совместную с NASA эксплуатацию МКС. Очевидно, что без российского участия, просто в силу конструктивных особенностей построения, МКС обречена на экстренное прекращение эксплуатации и затопление. Видимо, будущее МКС является предметом переговоров с повышенными ставками. Вопрос же создания отечественной космической станции РОСС явно ускорится и будет в целом реализовывать концепт «национальные станции как вертикальное продолжение великих держав», о котором мы писали ранее.
Можно отметить и удачную просветительскую и пропагандистскую активность «Роскосмоса», который оказывает социальную поддержку жителям Донбасса, а также проводит международные акции. Так, миллионы людей наблюдали в соцсетях и масс-медиа за размещением Знамени Победы в открытом космосе с борта МКС в канун празднования Дня Победы, что в текущей обстановке важно.
Конечно, санкционная война несёт и риски для отечественной космической индустрии: отказ от заказов – это выпадение ожидавшихся доходов, осложнение с поставками комплектующих, которые нельзя мгновенно заместить даже при условии параллельного импорта. Отсутствие спроса на ожидаемую экспортную продукцию потребует поиска новых покупателей и увеличит риск сокращения нагрузки на предприятия. Как руководство госкорпорации сможет адаптироваться к новым вызовам, будет ясно уже в ближайшее время, но очевидно, что условия межстранового взаимодействия в среднесрочной перспективе будут диктовать не интересы отраслевого и коммерческого партнёрства, а интересы правительств крупнейших игроков.
Другие космические державы во время СВО
На фоне масштабного, невиданного прежде развала межстрановой кооперации, преподносимого в форме «коллективного наказания» России со стороны США и их европейских союзников, звучат голоса других стран, однозначно трактуемые как заявка на лидерство именно в выстраивании международных коалиций для решения космических задач.
Так, в конце апреля официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в публичном выступлении раскрыл два положения национальной космической стратегии. Первое: Китай приглашает космонавтов всех стран присоединиться к проектам на китайской орбитальной станции Tiangong, которая к концу 2022 г. начнёт работу в штатном режиме. Второе: освоение космоса должно осуществляться сообща, путём объединения усилий всего мирового сообщества.
Независимый эксперт, главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», член СВОП Андрей Ионин так прокомментировал это заявление: «Освоение космоса человеком – это не финансовая, технологическая или политическая проблема. Напротив, для человечества это путь к решению проблем развития цивилизации. Причём путь “наилучший” из возможных <…> Но если освоение космоса – это путь для человечества, общий для всех стран и народов, то и все проекты освоения Луны, Марса и дальше-дальше должны и могут быть только “общечеловеческими”. Что есть новое – более высокое качество по сравнению с “международными”, той же Международной космической станцией, где участвуют четыре страны и Евросоюз. Что стоит за термином “общечеловеческий”? Это значит, что проект открыт для всех стран и народов. Что в центре его не национальные цели и задачи, а цивилизационные – важные для всех и нацеленные на решение общих для всех проблем. И что в таком проекте нет и не может быть “гегемона”, за всех всё решающего, а необходим и может быть лишь “лидер” (или лидеры) – тот, кто идёт впереди и ведёт остальных за собой».
Именно эти тезисы по сути раскрыты в заявлении, касающемся стратегии пилотируемой космонавтики КНР. Это серьёзная заявка на выстраивание партнёрских отношений со странами «большой космонавтики» и политика открытых дверей со странами развивающимися и малыми, которые не могут позволить себе роскоши самостоятельной пилотируемой космической программы.
Всё это бьётся с тезисами выступления председателя КНР Си Цзиньпина 21 апреля 2022 г. на церемонии открытия ежегодной конференции Боаосского азиатского форума в Пекине (этот форум проводится уже двадцать лет, и кто-то даже называет его «азиатским Давосом»), где слова о едином пути и поиске условий солидарности в достижении целей, в том числе технологического прогресса и освоения космоса, называются главными условиями ведения экономической и внешней политики КНР.
Другие крупные страны не снижают, а даже интенсифицируют взаимодействие с Россией в области военно-технологического сотрудничества, в частности – практического ракетостроения. В середине апреля Индия провела боевые испытания ракеты PJ-10 «БраМос» – совместной разработки ОАО «ВПК НПО машиностроения» и «Организации оборонных исследований и разработок» Министерства обороны Индии. Впервые индийцы запустили две ракеты одновременно по одной и той же цели – списанному военному кораблю. Одна из ракет была запущена с эсминца INS Delhi, а вторая – с борта истребителя Су-30МКИ.
Не будем забывать, что Россия и Индия – страны, последними по срокам проводившие успешные испытания противоспутникового оружия. В случае непроизвольной эскалации российско-украинского конфликта в новые формы и вовлечения в него новых игроков околоземное пространство с глобальными системами поддержки вооружённых сил в части связи, визуального наблюдения и радиолокации, доставки широкополосного интернета и навигации могут стать полем прямых боевых столкновений, что повлечет ещё большее обрушение привычной гражданской инфраструктуры. Если же говорить о широкомасштабной милитаризации космоса, то в эпоху холодной войны были осуществлены такие научно-технические заделы, реализацию которых обитателям Земли в XXI веке не захочется увидеть ни в каком варианте. Непрямые участники конфликта, вооружающие Украину новыми, всё более совершенными средствами вооружений, системами управления и космической связи не могут этого не понимать и, полагаю, будут стараться избегать подобного неконтролируемого развития событий.
При этом с российской стороны к странам, не вводившим санкций и не разрывавшим научного и технологического сотрудничества, декларируется отношение максимальной открытости. Все понимают, что во время конфликта даже нейтральный статус страны-партнёра – это то, за что стоит бороться. «Роскосмос» хочет развивать сотрудничество с Китаем, поскольку за последние полтора месяца он «не отошёл ни на миллиметр от позиции сотрудничества с Россией». Также корпорация не отказывается от взаимодействия с другими странами. «Это страны, которые не относятся к Западу: латиноамериканские страны, африканские страны, страны Юго-Восточной Азии, Индия и многие-многие другие страны, у которых есть свои амбиции в космическом пространстве. Многие из них имеют развитую инфраструктуру для работы в космосе. Например, у Индии сейчас идёт подготовка к пилотируемой программе. Это нормальные, хорошие партнёры для нас», – заявил в апреле 2022 г. Дмитрий Рогозин.
Сегодня важно понимать, что освоение космоса несёт в себе как путь безграничной военной эскалации, так и путь к восстановлению утраченных и приобретению новых научных, производственных и коммерческих связей. Развитие международных отношений в вопросе осуществления космической деятельности, с одной стороны, отражает общую непредсказуемость межстрановой конфронтации, последствия происходящего на глазах ослабления глобализации. С другой стороны, именно в космосе могут начать закладываться очертания тех обновлённых союзов и межблоковых отношений, которые очертят круг новых центров силы и новых периферий.
Причём роль стран, которые прежде входили в пул великих держав, исполняли роль регуляторов и производителей продукции верхних переделов из блока ОЭСР, может существенно измениться. Это ярко проявится и в сфере космической деятельности из-за пристального внимания общественности Востока и Запада к «пьедесталу прогресса», которым остаётся освоение космоса для большинства жителей Земли. Каким будем место России на этом новом этапе космической гонки, напрямую зависит от того, как долго продлится и чем завершится специальная военная операция на Украине.

Ближний Восток становится ещё ближе к Москве
Всё больше стран показывают Соединённым Штатам, что не желают жить по американским правилам.
Стремление коллективного Запада во главе с США как можно дольше затянуть украинский конфликт до предела обострило международную напряжённость. На этом фоне как-то ушло в тень опасное развитие событий в другой горячей точке – на Ближнем Востоке. Между тем газета «Вашингтон пост» в своей недавней публикации предупреждает, что идущие там процессы, если их не остановить, приведут к возникновению катастрофического конфликта. Чем вызван такой прогноз и как в целом развивается ситуация на Ближнем Востоке? Эти и другие вопросы стали темой интервью, которое дал нашему обозревателю известный арабист доктор политических наук Александр Фролов, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН.
– Александр Владимирович, так о чём же идёт речь в публикации «Вашингтон пост» относительно Ближнего Востока, которая вызвала немалый международный резонанс?
– Газета опубликовала статью экс-генсека НАТО Хавьера Соланы и экс-премьера Швеции Карла Бильдта, в которой эти два известных политика утверждают, что нынешняя политика США в отношении ядерной сделки с Ираном может привести к «новой катастрофической войне». В частности, указывается, что такие действия властей США, как отказ от пересмотра решения о признании Корпуса стражей исламской революции террористической организацией, или решение сената конгресса США включить в ядерную сделку вопросы, не связанные с атомной программой, почти наверняка сорвут восстановление соглашения.
Напомню, что в 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В прошлом году переговоры по СВПД возобновились. Однако в конце марта они вновь были приостановлены. МИД Ирана обвинил в этом администрацию США. «Байден должен всерьёз задуматься, чем чревата его пассивность по отношению к Ирану, и отыскать путь вперёд, а иначе мы ввяжемся ещё в один непрошеный конфликт», – подчеркивают авторы статьи в «Вашингтон пост».
Однако вместо этого США больше активности проявляют в повышении уровня противостояния с Ираном. В частности об этом свидетельствуют переговоры главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны Израиля Биньямином Ганцем, состоявшиеся 19 мая в Вашингтоне. В это же время американские ВВС принимали участие в учении Армии обороны Израиля «Огненные колесницы», на которых отрабатывались, как утверждают арабские газеты, действия по нанесению удара по целям на территории Ирана.
При этом европейские союзники Вашингтона в отличие от США, и это особо подчёркивается в упомянутой статье, прикладывают значительные усилия для дипломатического урегулирования на всём протяжении переговоров с Ираном с 2015 года. Наша страна также настойчиво действует в этом направлении. 19 мая состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом, в ходе которого стороны обменялись мнениями по ряду актуальных региональных и международных проблем, в том числе по перспективам возобновления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Иран, сохраняя непримиримую позицию в отношении Израиля, стремится наладить конструктивные связи с арабскими странами. Как заявляют в Тегеране, такие связи станут наиболее эффективным фактором укрепления региональной безопасности. Именно на это был направлен недавний визит в Катар президента Ирана Ибрахима Раиси. В ближайшее время он также посетит с этой же целью Оман. Кроме того Иран провёл уже несколько раундов переговоров с Саудовской Аравией, нацеленных на нормализацию отношений между странами, которые практически всю их историю оставались достаточно напряжёнными. Как ожидается, вскоре представители двух государств встретятся в Багдаде для того, чтобы подписать соглашение о возобновлении дипломатических отношений и урегулировании ряда спорных вопросов двустороннего сотрудничества. Заключение такого соглашения станет серьёзным провалом ближневосточной внешней политики США, заинтересованных в противостоянии Тегерана и Эр-Рияда.
– В этой связи нельзя не заметить, что партнёрские отношения Саудовской Аравией с США, сохранявшиеся более 80 лет, в настоящее время находятся на низком уровне. Или это не так?
– Действительно, сегодня отношения между двумя странами складываются не лучшим образом. Но они всегда носили маятникообразный характер. На то, что Вашингтон и Эр-Рияд оказались в настоящее время на нисходящей фазе, есть свои причины. Одна из них заключается в том, что администрация Обамы – Байдена в ходе «оранжевых революций» практически бросила своих важнейших союзников в арабском мире на произвол судьбы – египетского президента Хосни Мубарака и президента Туниса бен Али. Это действие или бездействие Вашингтона произвело неизгладимое впечатление на арабских правителей, усомнившихся в желании и способности США поддерживать их режимы.
Усугубили ситуацию убийство в Турции влиятельного саудовского журналиста Джамаля Хашогги в октябре 2018 года и прозвучавшие обвинения американских властей в адрес представителей правящей саудовской династии, а также последовавшее затем принятие Вашингтоном санкций в отношении Эр-Рияда. В ходе президентских баталий 2020 года, желая побольней ударить Трампа, Байден подверг критике его политику в отношении Саудовской Аравии, пообещав фактически сделать саудовцев изгоями, какими, по его словам, они и являются. Такое не забывается.
Позже, став президентом, Байден попытался дезавуировать свои антисаудовские высказывания. Однако лидеры Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов отказались разговаривать с президентом США, когда тот хотел попросить увеличить добычу нефти в связи с инициированным американской стороной отказом от закупок российской нефти.
– Но эти страны далеко не единственные в арабском мире, которые отказываются следовать в фарватере политики США и их западных союзников…
– Влияние Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, особенно в арабских странах Персидского залива, неуклонно снижается, а Россия и Китай неуклонно наращивают здесь своё присутствие. Собственно говоря, это признают и в США. В частности, такой вывод сделал известный американский «мозговой центр», коим является Вашингтонский институт ближневосточной политики, по итогам опроса общественного мнения на Ближнем Востоке, проведённого в регионе в конце апреля. Особенно показательны ответы участников опроса на тезис «Наша страна не может рассчитывать только на Соединённые Штаты. Нам нужно рассматривать Россию и Китай как более ценных партнёров, чем раньше». С ним «полностью согласны» или «скорее согласны» в Саудовской Аравия 55 процентов респондентов (было 49 процентов в ноябре прошлого года), в ОАЭ – 57 процентов (соответственно 51 процент), в Бахрейне – 59 процентов (54 процента).
Главная причина такого мнения, сформировавшегося, отмечу это особо, на фоне мощного информационного пресса, который обрушил на народы мира коллективный Запад в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине, заключается в том, что страны Ближнего Востока не видят особой привлекательности в продвижении порядка, основанного на правилах, которые навязывает Вашингтон.
Следует также отметить, что устремления и амбиции новых молодых лидеров государств Аравийского полуострова отличны от тех, что были у старшего поколения. Они видят свои страны сильными и модернизированными и считают себя достойными играть важную роль на региональной и глобальной аренах. По их мнению, отношения с Вашингтоном необходимо пересмотреть, так как США уже не являются единственной силой в мире, а их государства уже не столь слабы, как было раньше.
Вместе с тем у США есть много привязок применительно к странам Ближнего Востока, немало рычагов воздействия. Они являются крупнейшим поставщиком вооружений в регион, плюс к тому существуют программы экономической помощи. Американские банки сохраняют решающее слово в мировой финансовой системе, которая функционирует на западных цифровых технологиях. И наконец, сами ближневосточные страны – те, у кого есть крупные запасы углеводородов, являются мощными инвесторами в американскую экономику. Достаточно напомнить, что только саудовские инвестиции в США составляют порядка 800 млрд долларов. Правда, в последнее время ряд представителей саудовской элиты стали продавать свою недвижимость в США, хотя это сложно назвать их уходом из американской экономики.
– США не перестанут давить на арабский мир, чтобы использовать его в своей политике в регионе и против других стран, в частности против России…
– В этом нет никакого сомнения. Воздействие будет направлено практически на все страны Ближнего Востока. Как пример, можно привести тот факт, что 15 мая в Объединённые Арабские Эмираты выезжала делегация американских чиновников во главе с вице-президентом Камалой Харрис. С ней были госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и директор ЦРУ Уильям Бёрнс. Официально поездка связана со смертью президента ОАЭ Халифы бен Заида Аль Нахайяна. Но состав делегации говорит о том, что в Вашингтоне намерены были прощупать почву и надавить на новое руководство для достижения ранее поставленных целей. Направляясь в поездку, Харрис планировала обсудить двусторонние связи в различных областях – от безопасности и климата до космоса, энергетики и торговли.
17–18 мая в Пентагоне прошло заседание стратегического объединённого комитета по планированию США и Саудовской Аравии. Согласно пресс-релизу Пентагона, США на нём вновь подтвердили готовность оказывать помощь Саудовской Аравии в укреплении её обороны от внешних угроз. Также подчеркнута необходимость совместной работы над совершенствованием региональной интегрированной совместной противовоздушной и противоракетной обороны, развития оборонного сотрудничества, в том числе путём совместных учений.
– Известно, что Россию и арабский мир связывают давние исторические связи. А что сегодня, когда международная обстановка оказалась в условиях серьёзного кризиса, связывает нашу страну с многими арабскими государствами?
– Конечно же, в арабском регионе прекрасно помнят, как Россия исторически поддерживала Ближний Восток и пыталась помогать решать его проблемы. И не только помнят, но и имеют дружеские отношения с Москвой. Более того, Россия наращивает свое влияние на страны региона благодаря ряду факторов.
– Во-первых, это координация действий в вопросах добычи и экспорта углеводородов в рамках соглашения ОПЕК+. Можно сюда добавить взаимодействие по широкому спектру иных вопросов экономического сотрудничества, включая ядерную энергетику, строительство электростанций, железных дорог. Кстати, по расчётам, товарооборот между Россией и странами Ближнего Востока может вырасти на 20 процентов к 2025 году.
Во-вторых, Россия – крупный поставщик современных вооружений для стран региона. По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, арабские страны сохраняют повышенный интерес к покупке российских вооружений, особенно ПВО и стрелкового оружия.
В-третьих, традиционно Россия остаётся неким противовесом и сдерживающим фактором для США в регионе и в этом плане может выступать в качестве гаранта региональной безопасности. Тем более что за последние десять лет подход США к диалогу с Ближним Востоком менялся, как пишет Asia Times, слишком часто. Даже самые преданные союзники Вашингтона устали от вечного маятника американской политики. Российская стабильность на этом фоне выглядит куда более предпочтительной.
И, наконец, Россия в отличие от СССР не стремится навязывать местным странам свою идеологию. В Москве стали больше понимать ислам, его ценности. Наша страна вообще является неким образцом мирного сосуществования двух ведущих мировых религий. Надо полагать, что всё это вместе и определило то, что большинство стран Ближнего Востока отказываются, несмотря на оказываемое на них давление, поддержать Запад в его противостоянии с Россией.
В завершение замечу, что в целом все мировые катаклизмы и великие войны связаны с ресурсами. Совершенно очевидно, что миру предстоит ещё более напряжённая борьба за ресурсы, и в этом плане значение Ближневосточного региона по-прежнему будет велико.
Владимир Кузарь, «Красная звезда»

Мир с ракетой у виска
По вине Запада не только произошла деградация системы контроля над вооружениями, но и возникла опасность сползания планеты в непредсказуемый для человечества конфликт.
В конце мая исполнилось 50 лет после подписания трёх договоров между Москвой и Вашингтоном, которые в определённой мере положили начало созданию системы контроля над вооружениями и содействовали в своё время укреплению стратегической стабильности в мире. Речь идёт о подписанных 26 мая 1972 года Договоре об ограничении систем противоракетной обороны и Временном соглашении между США и СССР о мерах по ограничению стратегических наступательных вооружений, получившем название ОСВ-1, а также о заключённом 25 мая того же года двустороннем Соглашении о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним. На эту тему состоялся разговор нашего обозревателя с известным политологом Владимиром Козиным, ведущим экспертом Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России, членом-корреспондентом Академии военных наук России.
– Владимир Петрович, какова основная особенность этих трёх договорных актов?
– Всех их объединяет одна общая суть – они относятся к договорённостям, достигнутым в сфере международных механизмов контроля над вооружениями. Одновременно каждый из них имеет собственное предназначение, касающееся конкретной и специфической сферы действия, что следует из их названия. Например, Договор по ПРО установил наиболее приемлемый баланс между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями сторон исходя из того, что ни одна из сторон не сможет обеспечить защиту своей территории ограниченным количеством ракет-перехватчиков системы ПРО. Такая мера, по мнению инициаторов достижения этой договорённости, должна была не позволить стороне, совершившей нападение первой, защититься от массированного ракетно-ядерного удара возмездия. На этом представлении строился в то время фундамент стратегической стабильности между СССР и США.
Соглашение об ОСВ-1 предусматривало ограничение количества баллистических ракет наземного и морского базирования и пусковых установок обеих сторон на том уровне, на котором они находились на момент его подписания. Документ запрещал строительство дополнительных стационарных пусковых установок (ПУ) МБР с 1 июля 1972 года. Стороны обязались ограничить ПУ БРПЛ и тогдашние современные подводные лодки с БРПЛ числом, находящихся в боевом составе и, стадии строительства на дату подписания указанного соглашения.
Соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним запрещало опасное сближение военно-морских и военно-воздушных судов СССР и США во время движения в Мировом океане или в международном воздушном пространстве. Тем самым оно юридически закрепило существовавшую тогда обоюдную заинтересованность Москвы и Вашингтона обеспечивать безопасность военно-морских и военно-воздушных судов, находящихся в международных водах за внешним пределом территориальных вод сторон или в воздушном пространстве над ними.
– Были ли полезны названные договорённости, например для сдерживания гонки соответствующих видов вооружений, на которые они распространялись?
– Да, они однозначно были взаимополезными. Скажем, Договор по ПРО, который, по словам тогдашних советских и американских руководителей, стал краеугольным камнем стратегической стабильности, ограничил гонку противоракетных вооружений. Сначала по этому договору количество ракет-перехватчиков для каждой стороны было ограничено 200 единицами, развёрнутыми в двух районах «противоракетного щита». Но впоследствии, по протоколу к нему, подписанному в 1974 году, Москва и Вашингтон снизили число таких районов до одного с количеством не более по 100 ракет-перехватчиков для каждого участника.
Соглашение об ОСВ-1 и последовавшее за ним Соглашение об ОСВ-2 приостановили гонку ракетно-ядерных вооружений, а также послужили основой для разработки договоров качественно новой категории – уже о физическом сокращении стратегических наступательных вооружений: например, СНВ-1 (1991 г.), СНВ-2 (1993 г.), СНП (2002 г.) – промежуточного Соглашения о сокращении стратегических наступательных потенциалов, а также СНВ-3 (2010 г.). Все они привели к постепенному снижению количества стратегических ракетно-ядерных вооружений сторон, а в дальнейшем и к снижению их качественных характеристик, запретив, например, на какой-то период времени установку разделяющихся ядерных головных частей индивидуального наведения на одной МБР, снизив их количество устанавливаемых боезарядов до единицы. Иными словами, превратили их в моноблочные.
В итоге длительного переговорного процесса и поэтапной динамики сокращений СНВ сторон общее количество стратегических ядерных боезарядов, а также их носителей и пусковых установок значительно уменьшилось по сравнению с первоначальными «потолками» созданных ракетно-ядерных вооружений стратегического назначения.
В частности, Договор СНВ-3, срок действия которого был продлён до 2026 года, предусматривает сохранение в стратегическом ракетно-ядерном балансе сторон по 1550 ядерных боезарядов стратегического назначения и по 800 развёрнутых и неразвёрнутых ПУ МБР и БРПЛ для каждой стороны, а также их тяжёлых стратегических бомбардировщиков.
Наконец, Соглашение между СССР и США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним привело к снижению эпизодов с опасным приближением боевых кораблей и вспомогательных судов сторон на океанских и морских пространствах, а также их боевых воздушных судов в воздушном пространстве над ними. Оно также послужило основой для заключения аналогичных соглашений Советского Союза, а затем и России с ведущими военно-морскими и военно-воздушными государствами мира как входящими в НАТО (например, с Великобританией, Италией, Францией, ФРГ и некоторыми другими), так и не являющимися участниками Трансатлантического альянса (например, с Японией и Южной Кореей).
На основе подписанных подобных соглашений были инициированы и стали проводиться периодические обзорные встречи делегаций государств-участников с анализом хода их выполнения и для урегулирования иногда возникавших практических вопросов.
К сожалению, названное соглашение не распространяется на подводные лодки сторон, находящиеся в погружённом положении. По вине американской стороны, направлявших свои атомные ракетно-ядерные и многоцелевые ударные подводные лодки в зону боевой подготовки Северного флота ВМФ СССР, произошло несколько случаев их столкновений с советскими субмаринами под водой. Американская сторона уже не раз отказывалась от российской инициативы распространить положения такого соглашения на подводные лодки, находящиеся в погружённом состоянии участников договорённости.
– Известно, что из трёх названных договорных актов два из них прекратили своё существование: Договор по ПРО в одностороннем и инициативном порядке был денонсирован американской стороной в 2002 году, а Соглашение об ОСВ-1 прекратило своё существование по истечении срока его действия и в результате его замены последующим Соглашением об ОСВ-2…
– Пентагон, судя по всему, не откажется от дальнейшего развития американского глобального «противоракетного щита» как в количественном измерении, то есть путём наращивания общего запаса ракет-перехватчиков, главным образом, морского базирования, так и в качественном отношении – за счёт повышения точности их наведения, увеличения скорости полёта и оснащения их разделяющими головными частями индивидуального наведения.
С другой стороны, у России теперь есть эффективные средства преодоления глобальной американской системы противоракетной обороны практически с любого направления. Эти средства нивелируют американскую инфраструктуру перехвата баллистических и крылатых ракет, несмотря на огромные денежные средства, выделенные Соединёнными Штатами на создание эшелонированной системы ПРО наземного, морского и космического базирования.
Выскажу также мнение, что в нынешней ситуации российской стороне приходится с большой осторожностью относиться к решению многоплановой проблемы обеспечения контроля над вооружениями, учитывая, что Вашингтон готов, как он продемонстрировал это уже не раз, в любой момент отказаться от соглашения, не устраивающего его по каким-либо соображениям.
К сожалению, сегодня, когда правящие круги США поставили своей целью разрушить нашу страну и в Вашингтоне появляются заявления о допустимости ядерной войны, даже рассуждать о каком-то новом соглашении в системе контроля над вооружениями не приходится. Хотя совершенно очевидно, что мир по вине Запада оказался, образно говоря, с ракетой у виска. Многие страны приступили к разработке новейших видов вооружений, в том числе проходящих по категории «обычных», которые способны доставлять боеголовки до целей с гиперзвуковой скоростью, перемещаясь на низких высотах, что затрудняет их обнаружение. По сути, начата милитаризация космоса. Нарастает угроза создания и распространения биологического оружия…
Одним словом, ситуация развивается по крайне опасному сценарию, чреватому самыми непредсказуемыми последствиями для человечества. Подлили масла в огонь киевские власти, заговорившие в начале этого года о ядерном оружии, о своём вступлении в НАТО, готовности военным путём вернуть себе Крым. Предстоит урегулировать украинский конфликт, положив в основу полную денацификацию этой страны. А для этого Западу следует прекратить всякую военную помощь киевскому режиму и заставить его сесть за стол переговоров. Страны НАТО должны конструктивно подойти к рассмотрению прошлогодних декабрьских предложений Москвы о предоставлении взаимных гарантий.
Лишь в этом случае можно говорить о восстановлении доверия и нормализации ситуации, что позволит приступить к переговорному процессу о дальнейшем контроле над вооружениями, являющимся важнейшим фактором укрепления международной безопасности, от успехов которого, без преувеличений, зависят благополучие и выживание человечества.
Владимир Кузарь, «Красная звезда»

Разногласия между западными и незападными союзниками США по поводу конфликта на Украине
ДЖОНАТАН СПАЙЕР
Специалист по Сирии, Ираку, радикальным исламистам и курдам.
Для региональных держав среднего уровня избегание ненужных трений с такой крупной державой, как Россия, рассматривается как императив, особенно в ситуации, когда последовательная поддержка со стороны их американского покровителя отнюдь не является само собой разумеющейся.
Примечательной особенностью нынешних боевых действий на Украине стала контрастная реакция на них Соединённых Штатов и ключевых западноевропейских стран, с одной стороны, и нескольких союзных США государств, расположенных за пределами западного культурного и географического ядра, с другой стороны.
Общественная дискуссия в США, Великобритании и других странах в основном сводится к морально-историческому аспекту этого конфликта. Например, американский политолог и бывший высокопоставленный чиновник Элиот Коэн, утверждал следующее в журнале Atlantic: «Для тех из нас, кто родился после Второй мировой войны, это самая значимая война нашей жизни по своим последствиям. От её исхода зависит будущее европейской стабильности и процветания».
В журнале Foreign Affairs даже было высказано мнение в одной из мартовских статей, что реакция на вторжение на Украину может «укрепить глобальный альянс, который объединит демократии против России и Китая и тем самым обеспечит безопасность свободного мира для будущего поколения».
Подобные высказывания характерны не только для аналитиков и СМИ. В своей речи, произнесённой в Польше в конце марта, президент США Джо Байден провёл параллели со Второй мировой войной и падением Берлинской стены.
Эта риторика не нашла полного отражения в политике, что неудивительно. Основные страны Западной Европы не едины в своей реакции на украинский кризис. Франция и – особенно – Германия остерегаются занимать конфронтационную позицию по отношению к Москве. Германия не хочет брать на себя огромные расходы, связанные с эмбарго на российский газ. Франция стремится к посредничеству, а не к выбору одной из сторон и конфронтации с Россией.
Несмотря на резкую риторику, Соединённые Штаты и Великобритания дали понять, что не будут направлять свои войска, чтобы бросить вызов захватчикам. В то же время помощь США и Великобритании украинским военным в период после 2014 г., по-видимому, сыграла решающую роль в обеспечении впечатляющих результатов украинских войск в конфликте, включая вынужденный отказ России от осады Киева, что крайне важно.
Вашингтон и Лондон, похоже, также серьёзно настроены увеличить поставки оружия украинцам и дать им возможность продолжить сопротивление на следующем этапе конфликта, который, как ожидается, будет сосредоточен на востоке Украины.
Однако разногласия между западными странами и разрыв между риторикой и действиями, даже среди самых решительно настроенных союзников Украины, меркнут по сравнению с диаметрально противоположной реакцией Запада и его союзников в Азии и на других континентах.
Например, Индия и союзные США арабские государства отличаются резким отходом от позиций Вашингтона и явным нежеланием принимать на себя обязательства по украинской проблематике. Позиция Израиля, между тем, интересна тем, что находится где-то посередине между позицией США/Великобритании и ЕС и позицией незападных союзников США.
Индия последовательно придерживается позиции неприсоединения по Украине. Отчасти это объясняется традиционно тесными отношениями в сфере обороны между Москвой и Дели. На долю России по-прежнему приходится 50 процентов индийского оборонного импорта, хотя уровень сотрудничества с Россией снижается, а с США – увеличивается.
Несмотря на публичную критику со стороны высокопоставленных чиновников США и предупреждение о том, что последствия «более явного стратегического согласования» дальнейших шагов с Москвой будут «значительными и долгосрочными», Индия не изменила своей позиции. Она воздержалась при голосовании в Совете Безопасности ООН, осудившем вторжение. Дели избегает публичной критики Москвы, довольствуясь обобщёнными комментариями о необходимости уважать суверенитет всех государств. Однако Индия призвала к проведению независимого расследования убийств в Буче, на территории Украины.
Нейтральная позиция Индии по Украине особенно примечательна с учётом растущего сотрудничества и сближения интересов США и Индии в связи с вызовом Китая и событиями в Индо-Тихоокеанском регионе. Индия является членом «Четвёрки», наряду с США, Японией и Австралией, которую Россия критикует как форум, направленный против Китая.
С учётом важности этой страны и ограниченной помощи, которую она может оказать Украине, позиция Индии в отношении конфликта на Украине вряд ли повлияет на усиливающееся сближение США и Индии. Виртуальная встреча на высшем уровне между Байденом и премьер-министром Нарендрой Моди 12 апреля, похоже, подтвердила, что, хотя никаких изменений в позиции Индии по Украине не произошло, это не будет иметь последствий для отдельной, но не менее важной сферы сотрудничества двух стран в Индо-Тихоокеанском регионе.
Один индийский обозреватель высказал мнение в беседе с автором, что для Индии проиходящее между Россией и Украиной представляет собой конфликт между двумя европейскими странами и не имеет непосредственного отношения к его стране. Похоже, это справедливое обобщение позиции Индии по данному вопросу.
Позиция Объединённых Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии также неоднозначна. Согласно отчету в Wall Street Journal, на ранних стадиях кризиса лидеры обеих стран отказались отвечать на телефонные звонки Байдена, который хотел попросить их увеличить добычу нефти, чтобы снизить её цены на европейских рынках и уменьшить вред, который наносят введённые против России санкции.
Просьбы Вашингтона прозвучали после ряда шагов администрации США, которые разочаровали и обеспокоили страны Персидского залива. Среди них – замораживание закупки ОАЭ истребителей F-35 и неспособность адекватно реагировать на атаки поддерживаемых Ираном хути на эмиратские и саудовские объекты.
Это происходит в контексте продолжающихся переговоров с Ираном, которые сами по себе являются предметом беспокойства для Саудовской Аравии и ОАЭ. Кроме того, администрация Байдена продолжает холодно относиться к наследному принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бин Салману после убийства журналиста Джамаля Хашогги.
Помимо всего прочего, Саудовская Аравия и ОАЭ имеют многомиллиардный торговый оборот с Россией. В августе 2021 г. Саудовская Аравия подписала с Москвой соглашение о военном сотрудничестве, а впоследствии было заключено несколько сделок по закупкам вооружений.
Реакция стран Персидского залива, похоже, является сигналом для Соединённых Штатов о том, что Вашингтон не должен воспринимать их поддержку как должное. В последние годы аргумент о том, что снижение потребности Вашингтона в нефти из стран Персидского залива сделало эти страны менее важными в глобальной стратегии США, стал уже довольно избитым. Украинский кризис показал, что это не так.
Соединённые Штаты нуждаются в решительных действиях стран Персидского залива, чтобы максимально повысить эффективность санкций против России. ОАЭ и Саудовская Аравия, похоже, балансируют между Вашингтоном и Россией.
Незападные страны, являющиеся союзниками США, не склонны рассматривать военную операцию на Украине как исторически переломный момент в мировой политике. Это также относится к Бахрейну и Катару, Бразилии и Мексике. Эти страны отказались участвовать в санкциях против России.
Та же, но более сложная закономерность отчасти характерна и для Израиля. Эта страна активнее поддержала Украину, чем другие незападные союзники США. Израиль проголосовал за исключение России из Совета ООН по правам человека и предоставил убежище примерно 12 000 нееврейских украинских беженцев.
Однако Иерусалим воздержался от активного участия в санкциях против Москвы. Это критический вопрос, который мог бы вызвать российские контрмеры, в частности сокращение сотрудничества с Израилем в воздушном пространстве Сирии.
Израиль рассматривает предотвращение дальнейшего продвижения Ирана в Сирии как ключевую стратегическую цель. Согласие России является существенным и, возможно, решающим фактором в этом вопросе. Неудивительно, что этот предполагаемый основной стратегический интерес объясняет позицию Израиля относительно конфликта на Украине.
Позиции союзных Западу стран Ближнего Востока и Азии по поводу спецоперации на Украине отражают значительные геополитические изменения. Что касается реакции Индии, то очевидна её уверенность в себе, проистекающая из ощущения того, что решающим для США в предстоящий период будет противостояние с Китаем в Азии. С этой точки зрения Дели осознает, что, скорее всего, он практически не понесёт наказания за свою двусмысленную позицию по Украине просто потому, что ставки для Соединённых Штатов в Азии слишком высоки.
Бывший советник по национальной безопасности Индии Шившанкар Менон писал в Foreign Affairs: «С азиатской точки зрения, конфликт на Украине не столько предвещает грядущие перемены, сколько подчёркивает уже произошедший сдвиг… Сегодня центр тяжести мировой экономики переместился с Атлантики к востоку от Урала. Геополитические споры и дилеммы безопасности, которые могут повлиять на мировой порядок, сосредоточены в азиатской акватории».
С ближневосточной точки зрения, ощущение частичного отстранения США от проблем Ближнего Востока приводит к настоятельной необходимости для западных союзников развивать свои структуры стратегического сотрудничества на региональном уровне. Этот процесс проявляется в растущем уровне сотрудничества между Израилем и ключевыми арабскими государствами, поддерживающими Запад (ОАЭ и Египет).
Для средних региональных держав избегание несущественных трений с такой крупной державой, как Россия, считается императивом, особенно в ситуации, когда постоянная поддержка со стороны их покровителя США отнюдь не является само собой разумеющейся. Насущная общая угроза, с которой они сталкиваются, исходит от Ирана, а не от России. Их реакция на ситуацию на Украине, возможно, аналогична реакции европейских стран на иранский проект доминирования на Ближнем Востоке. В их настроениях есть некоторая доля цинизма: «это, несомненно, проблема, но это не моя проблема».
Таким образом, по крайней мере – на данный момент, реакция неевропейских союзников Запада на конфликт на Украине, похоже, свидетельствует о более фрагментированной и локализованной глобальной стратегической картине, а не о возвращении к международному соревнованию в стиле холодной войны между демократиями и их союзниками, с одной стороны, и соперничающим с ними альянсом России и Китая, с другой стороны, вопреки предсказаниям многих западных наблюдателей.
Подобную локализацию или регионализацию мировой политики не следует воспринимать упрощённо. Альянс с Соединёнными Штатами останется основополагающим элементом, связывающим вышеупомянутые страны. В ближневосточном контексте участие Объединённого центрального командования ВС США (CENTCOM) как военной структуры США, отвечающей за Ближний Восток, способствует улучшению двусторонних отношений между государствами региона.
В то же время усечённое присутствие США в регионе позволяет союзным с ними странам действовать более независимо и свободно. Об этом свидетельствует, например, решительное продолжение Израилем кампании против Ирана даже во время попыток США заключить новое ядерное соглашение с этой страной. Такая независимость действий в сочетании с уменьшением гарантий со стороны США, похоже, становится новой нормой.
В отличие от периода холодной войны, ни Россия, ни Китай сегодня не представляют собой замкнутые, автаркические экономические блоки. Двух закрытых лагерей, каждый из которых торгует только внутри своего лагеря и вооружается исключительно своей сверхдержавой-покровителем, сегодня нет, и вряд ли они возникнут в будущем.
Это означает, что идея о том, что союзные США страны должны создать единый фронт против закрытого альянса союзников России и Китая, скорее всего, не будет реализована – перед нами более сложная, взаимосвязанная стратегическая реальность. Реакция стран – союзниц США на конфликт на Украине является примером того, что нас может ждать в будущем.
JISS

США стремятся выстроить хитроумную политику мобилизации азиатских партнеров
Федор Лукьянов (профессор-исследователь НИУ "Высшая школа экономики")
Президент США Джо Байден посетил Южную Корею и Японию - его первый визит в Восточную Азию за время нахождения в Белом доме. Важность поездки не подлежит сомнению. Вашингтон прилагает значительные усилия, чтобы собрать в кулак то, что принято называть "коллективным Западом". Европа благодаря боевым действиям на Украине на данный момент консолидирована, дело за Азией. Там готовность строиться в один ряд скромнее. Меры воздействия на Россию безоговорочно поддержали Токио и Сеул, из стран АСЕАН к ним присоединился только Сингапур. Индия не хочет следовать в американском фарватере, несмотря на заметный нажим.
Украинская тема небезразлична азиатским государствам, особенно в свете ее влияния на мировую экономику. Однако естественно, что события в Восточной Европе не являются для Азии столь же будоражащими, как для европейцев и части американцев. Там в центре внимания Пекин, и Соединенные Штаты стремятся выстроить хитроумную политику мобилизации азиатских партнеров против России, имея в виду Китай, но так, чтобы преждевременно его не провоцировать. Сложная задача.
На пресс-конференции в Токио Байден утвердительно ответил на вопрос, намерена ли Америка защищать Тайвань в случае атаки со стороны КНР. Это вызвало переполох. Американские комментаторы как официального, так и неофициального толка настаивают на том, что Байден "оговорился". Интерпретация Белого дома заключается в том, что речь шла о помощи по украинской модели - снабжение острова оружием, чтобы он мог сам себя защитить. Оговорки у Байдена, как известно, случаются, но в данном случае на нее совсем не было похоже. И по форме высказывания, и по существу. В Вашингтоне ведь постоянно говорят о том, что Китаю надо четко и ясно обозначить: Америка не будет безучастным наблюдателем, если Пекин замыслит повторить на Тайване то, что Россия сделала в отношении Украины. Аргумент: с Китаем нужна твердость.
Твердость - дело хорошее, но осознанная "сложносочиненность" (можно даже сказать намеренная невнятность) американской политики на тайваньском направлении делает ее проявление почти невозможным.
Стратегическая двойственность по отношению к Тайваню (тесно сотрудничаем во всех областях, признавая частью КНР) уходит корнями в начало семидесятых, когда Ричард Никсон и Генри Киссинджер признали коммунистический Пекин легитимным представителем Китая, отказав в таком признании националистическому Тайбэю. Это был поистине исторический разворот, который внес немалый вклад в дальнейшую победу Соединенных Штатов в холодной войне. А еще он дал возможность обеим сторонам (США и КНР) полвека стричь богатые экономические купоны, избегая конфликта.
Но сейчас выгодное дело оборачивается оборотной и довольно опасной стороной. Стратегическое противостояние Вашингтона и Пекина - факт не только свершившийся, но и доктринально закрепленный. Соперничество носит комплексный характер, однако, как и в случае американо-российских отношений, есть наиболее взрывоопасная тема. У нас это Украина, у них - Тайвань. И здесь возникает практически неразрешимая дилемма. Официально Соединенные Штаты подчеркивают приверженность принципу "одного Китая", но подтверждают гарантии безопасности тому, что признают частью другого государства. Как совместить две эти взаимоисключающие позиции - непонятно. Отсюда и попытки дезавуировать слова президента, который явно произнес именно то, что имел в виду.
Глядя на такие метания, китайское руководство может решить, что американцы запутались в своих желаниях и намерениях, сами в себе не уверены, а это только подстегнет интерес к действию, если таковой в Пекине появится. В замешательстве пребывают и те самые региональные партнеры Вашингтона, которых он желает побудить к единству. Для Японии, Республики Корея, Сингапура, Филиппин и пр. Тайвань - индикатор решимости США выполнять свои обязательства в сфере безопасности. Индикатор ненадежный - именно в силу двойственности статуса и потому крайне высокого риска вмешательства. Однако судить все равно будут именно по нему. И если Вашингтон не решится на активные действия, остальные обладатели его "векселей" по гарантиям безопасности задумаются. Разворота их политики в сторону Китая ждать не стоит, но и готовность включаться в американские стратегические инициативы поутихнет.
Проблема для Соединенных Штатов еще и в том, что они, несмотря на заинтересованность в укреплении союзов, скупы на позитивные предложения. Например, призывы к Индии и Китаю присоединиться к бойкоту России сопровождаются не выгодными экономическими предложениями, а предостережениями о "цене" за нахождение на "неправильной стороне истории". Объявленное же Байденом в пику Китаю Индо-Тихоокеанское экономическое соглашение - рамочная платформа без расширения доступа к интересующему все страны американскому рынку.
Как бы то ни было, Азия в целом превратилась в основную и наиболее интересную арену международной политики. Для России тем более, поскольку европейская сцена закрылась нам на неопределенное время, а от отношений с восточными партнерами теперь зависят формирование и успешность нашей новой внешней политики.

Все цели, поставленные Президентом России, будут выполнены
Сострадание, справедливость, достоинство – это мощные объединительные идеи, которые наша страна всегда ставила и будет ставить во главу угла.
Россия не гонится за сроками в ходе специальной военной операции по защите Донбасса – нацизм нужно искоренять на сто процентов, иначе он поднимет голову уже через несколько лет, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в интервью российскому еженедельнику «Аргументы и факты». Говоря о том, что Россия в целом понимает под денацификацией, он обратил внимание, что «всё станет понятно, если вспомнить историю». В пример секретарь Совбеза привёл Потсдамскую конференцию, в ходе которой СССР, США и Англия подписали соглашение об искоренении германского милитаризма и нацизма. Публикуем выдержки из этого интервью.
О сроках специальной военной операции
Мы не гонимся за сроками. Нацизм нужно либо искоренить на сто процентов, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причём в ещё более уродливой форме. <…>
Все цели, поставленные Президентом России, будут выполнены. Иначе и быть не может, поскольку правда, в том числе историческая, на нашей стороне. Не зря же генерал Скобелев в своё время сказал, что только наша страна может позволить себе такую роскошь, как воевать из чувства сострадания. Сострадание, справедливость, достоинство – это мощные объединительные идеи, которые мы всегда ставили и будем ставить во главу угла.
О денацификации Украины
В ходе Потсдамской конференции СССР, США и Англия подписали соглашение об искоренении германского милитаризма и нацизма. Под денацификацией подразумевался целый ряд мер. Помимо наказания нацистских преступников, отменялись законы Третьего рейха, легализующие дискриминацию на основе расы, национальности, языка, религии, политических убеждений. Из школьного образования устранялись нацистские и милитаристские доктрины.
Наша страна ставила такие цели в 1945-м, ставим эти же цели и сейчас, освобождая Украину от неонацизма. Однако тогда вместе с нами были Англия и США. Сегодня же эти страны заняли иную позицию, поддерживая нацизм и агрессивно действуя в отношении большинства стран мира.
О судьбе Украины
Судьбу Украины будет определять народ, проживающий на её территории. Хотел бы напомнить, что наша страна никогда не распоряжалась судьбами суверенных держав. Напротив, мы помогали им в отстаивании своей государственности. Мы и США поддержали во время их гражданской войны. Франции оказывали неоднократную помощь. На Венском конгрессе в 1815 году не дали её унизить, а в Первую мировую войну дважды спасали Париж. Именно СССР не позволил англичанам и американцам в 1945-м расчленить Германию на множество государств. Хорошо известно и про решающую роль Москвы в объединении Германии, которому больше всех противились французы и англичане. Не менее важную роль Россия сыграла в истории польской государственности. При этом сегодня Запад всячески затушёвывает вклад нашей страны в сохранение других государств.
О «репарациях»
Это Россия вправе требовать репарации от стран, спонсировавших нацистов на Украине, и преступного киевского режима. ДНР и ЛНР должны требовать от них возмещение всего материального ущерба за восемь лет агрессии. И сам украинский народ заслуживает репараций от основных зачинщиков конфликта, то есть США и Англии, которые заставляют украинцев сражаться, поддерживают неонацистов, снабжают их оружием, направляют своих военных советников и наёмников.
Многие украинцы, к сожалению, до сих пор верят тому, что говорят им Запад и киевский режим. Отрезвление рано или поздно придёт. Им ещё предстоит открыть глаза и увидеть, что страны фактически нет, что генофонд народа, его культурная память западниками уничтожаются и заменяются на оголтелые гендерные концепции и пустые либеральные ценности.
Об украинских неонацистах
Наверное, западники не снимут розовые очки до тех пор, пока озверевшие украинские молодчики не начнут буянить на их улицах. Кстати, не только в Европе. Вспомните недавний расстрел в американском Буффало. Хотелось бы у американцев поинтересоваться, в чём разница между неонацистом, расстреливающим людей в супермаркете, и боевиками «Азова»*, которые каждый день из года в год унижали и уничтожали мирное население Донбасса.
О вовлечённости НАТО
в события на Украине
Именно фактическое руководство натовцев киевскими властями привело к катастрофическому сценарию. Если бы Украина оставалась самостоятельной, а не управлялась нынешним марионеточным режимом, одержимым идеей вступления в НАТО и ЕС, то она давно бы уже изгнала со своей земли всю нацистскую нечисть. Между тем идеальным сценарием для всего Североатлантического альянса во главе с США видится бесконечно тлеющий конфликт в этой стране. Украина нужна Западу как противовес России, а также в качестве полигона для утилизации устаревшего вооружения. Подогревая военные действия, США накачивают деньгами свой оборонно-промышленный комплекс, вновь, как и в войнах XX века, оставаясь в выигрыше. При этом жителей Украины Штаты рассматривают в качестве расходного материала, которому нет места в том самом «золотом миллиарде».
О целях «элиты» англосаксов
Стиль англосаксов не меняется веками. Так и сегодня они продолжают диктовать свои условия миру, хамски попирая суверенные права государств. Прикрывая свои действия словами о борьбе за права человека, свободу и демократию, на самом деле реализуют доктрину «золотого миллиарда», предполагающую, что процветать в этом мире может ограниченное количество людей. Удел же остальных, как они считают, гнуть спину во имя их цели.
Ради увеличения благосостояния кучки магнатов в Лондонском Сити и на Уолл-стрит подконтрольные большому капиталу правительства США и Англии создают экономический кризис в мире, обрекают на голод миллионы человек в Африке, Азии и Латинской Америке, ограничивая им доступ к зерну, удобрениям и энергетическим ресурсам. Своими действиями провоцируют безработицу и миграционную катастрофу в Европе. Незаинтересованные в процветании европейских государств, делают всё для их исчезновения с пьедестала экономически развитых стран. А для безоговорочной управляемости этим регионом посадили европейцев на стул с двумя ножками под названием НАТО и ЕС, пренебрежительно наблюдая, как они балансируют.
Об использовании Вашингтоном международных террористических организаций
Сегодня легче сказать, какая из крупнейших международных террористических организаций не возникла при американском содействии. США широко используют их в качестве инструмента геополитического противоборства, в том числе с нашей страной. Ещё в середине 1980-х под контролем американских спецслужб для противодействия Советскому Союзу на афганской земле была создана «Аль-Каида». В 1990-х США для влияния в Афганистане и Центральной Азии создали движение «Талибан».
Руководствуясь своими якобы «национальными интересами», США вооружённым путём свергали неугодные режимы в Ливии, Ираке, пытались сделать это в Сирии. И основной ударной силой во всех случаях выступают радикальные группировки, дальнейшее объединение которых привело к созданию террористического монстра под названием «Исламское государство»*, вслед за «Аль-Каидой» и движением «Талибан» вышедшего из-под контроля американцев. Известно и про тёплые отношения Вашингтона с неонацистскими головорезами на Украине.
Об опасных биологических исследованиях на Западе
Отдельные эксперты высказывают мнение о рукотворности коронавирусной инфекции, полагая, что она могла быть создана в лабораториях Пентагона при содействии ряда крупнейших транснациональных фармацевтических компаний. К этой работе под госгарантии привлекались фонды Клинтонов, Рокфеллеров, Сороса и Байдена. Вместо заботы о здоровье человечества Вашингтон тратит миллиарды на исследование новых патогенов. Кроме того, западная медицина всё активнее практикует генную инженерию, методы синтетической биологии, тем самым размывая грань между искусственным и естественным.
О стремлении Финляндии вступить в НАТО
…Из Второй мировой войны, несмотря на участие в ней на стороне Германии, Финляндия вышла с минимальным ущербом для себя благодаря позиции Москвы. Теперь же Финляндию вместе со Швецией убедили вступить в НАТО якобы для их же безопасности. Турция и Хорватия, правда, возражают, но, думаю, всё равно Хельсинки и Стокгольм будут приняты в блок, потому что так решили Вашингтон и подконтрольный ему Брюссель. Воля других народов не интересует руководство США, хотя, полагаю, многие из жителей этих стран понимают, на какую авантюру их толкают.
НАТО – это никакой не оборонительный, а чистейшей воды агрессивный наступательный военный блок, вхождение в него подразумевает автоматическую передачу значительной части своего суверенитета Вашингтону. В случае же расширения военной инфраструктуры альянса на территории Финляндии и Швеции Россия воспримет это в качестве прямой угрозы собственной безопасности и обязана будет отреагировать.
О битве за память
В прошлом году я посещал Музей Великой Отечественной войны в Минске. Экскурсовод поделилась со мной впечатлениями от визита группы студентов из США, которые на протяжении всей экскурсии сомневались, рассказывают ли им в музее правду, поскольку наивно полагали, что именно Америка победила гитлеровскую Германию.
К сожалению, такой фальшивой версии судьбоносных событий придерживаются и некоторые школьные учителя в нашей стране. Искажают факты и многие учебные пособия. Тематике героизма советского народа в годы Великой Отечественной на уроках истории уделяется мало времени, а в учебниках она нередко описывается поверхностно. В результате только единицы старшеклассников могут назвать фамилии тех, кто ценой собственной жизни завоевал Победу в 1945 году, а про героев Первой мировой или Отечественной войны 1812 года вообще почти никто не слышал. <…>
В первую очередь нужно смотреть на подготовку педагогических кадров. Самое время вспомнить мысли Ушинского и Макаренко о том, что учитель формирует личность учащегося, и его призванием должно являться не оказание услуг, а просвещение, образование и воспитание. Профильные вузы должны готовить будущих педагогов как мастеров высокого класса, а не штамповать на конвейере.
Учителя занимают особое место в жизни каждого гражданина, поэтому недопустима произвольная трактовка отдельными преподавателями мировой и отечественной истории, подрывающая авторитет нашей страны и программирующая сознание детей на основе ложных фактов и мифов. Психологическое манипулирование молодёжью, разрыв между поколениями, искажение исторической правды – всё это несовместимо с профессиональным призванием педагога.
О крылатой фразе о том, что сражения выигрывают учителя
На мой взгляд, мысль, безусловно, верная. Тем более в условиях гибридной войны, которая сегодня развёрнута против России. И в ней педагоги находятся на переднем крае. Необходима персональная ответственность руководителей образовательных учреждений, выпускники которых не держали в руках книг, посвящённых героизму советского народа в годы Великой Отечественной войны, или имеют смутное представление о подвигах тех, кто воевал за Родину.
Нельзя задвигать вопросы патриотического воспитания молодёжи на факультативные занятия. В отчётах всё это описано красиво, а результата нет. В некоторых школах, в том числе частных, слово «патриотизм» считается устаревшим. <…>
Следует поднимать авторитет педагогов, верных своей профессии, посвящающих жизнь воспитанию подлинных патриотов. Важнейшей задачей сегодня является возрождение исторических традиций, а также защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Для её решения нужен системный подход к воспитанию и образованию. Назрела необходимость реализации государственной программы в этой сфере на всех этапах взросления человека и его становления как гражданина. Должна быть разработана комплексная модель этого процесса.
В настоящее время наших студентов и преподавателей фактически выдавливают из западной научно-образовательной сферы. Полагаю, целесообразно отказаться от так называемой болонской системы образования и вернуться к опыту лучшей в мире отечественной образовательной модели.
Кроме того, необходимо предусмотреть существенное наращивание масштабов государственного заказа на создание произведений литературы и искусства, кинолент и телепрограмм, направленных на сохранение исторической памяти, воспитание гордости за нашу страну и формирование зрелого гражданского общества, ясно сознающего ответственность за её развитие и процветание.
Только в этом случае мы сможем успешно противостоять тем угрозам и вызовам, которые формируются коллективным Западом для влияния на индивидуальное, групповое и общественное сознание.
* Террористическая организация, запрещённая в РФ.

Политика и обстоятельства. Способны ли мы сохранить страну и развивать её дальше
ДМИТРИЙ ТРЕНИН
Профессор-исследователь факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.
Надо понимать, что стратегическое поражение, которое России готовит Запад во главе с США, не приведёт к миру и последующему восстановлению отношений. С большой вероятностью театр «гибридной войны» просто переместится с Украины дальше на восток, в пределы самой России, существование которой в нынешнем виде окажется под вопросом.
Противостояние России со странами коллективного Запада, развивавшееся с 2014 г., с началом российской военной операции на Украине переросло в активное противоборство. Иными словами, «большая игра» перестала быть игрой. Она стала войной – тотальной, но пока гибридной, поскольку в настоящее время вооружённый конфликт на Украине носит опосредованный характер. Опасность эскалации в направлении прямого столкновения, однако, не только существует, но даже увеличивается.
Вызов, с которым столкнулась Россия, не имеет аналогов в нашей истории. Дело не только в том, что на Западе у нас не осталось не то чтобы союзников, но даже потенциальных партнёров. Частые сравнения с холодной войной середины и второй половины ХХ века неточны и скорее способны дезориентировать. В условиях глобализации и новых технологий современная форма противоборства не только более объёмна, чем предыдущая, но и гораздо более интенсивна. В конечном счёте главное поле ведущейся борьбы находится внутри страны – там же, где расположен основной объект противоборства.
Асимметрия противников, дисбаланс наличных сил и возможностей между ними огромны. Опираясь на это, США и их союзники вместо сравнительно консервативных стратегий сдерживания Советского Союза – геополитического (containment) и военно-технического (deterrence) – поставили гораздо более решительные цели, фактически означающие исключение России из мировой политики как самостоятельного фактора и полное разрушение российской экономики. Успех этой стратегии позволил бы Западу во главе с США окончательно решить «русский вопрос» и создать благоприятные возможности для победы в конфронтации с Китаем.
Такой настрой противника не предполагает серьёзного диалога, поскольку перспектива компромисса – прежде всего между США и РФ – на основе баланса интересов практически отсутствует. Новая динамика российско-западных отношений – это обвальный разрыв всех связей, усиление давления Запада на Россию (государство, общество, экономику, науку и технику, культуру и так далее) по всем линиям. Это уже не разлад между противниками периода холодной войны, ставшими затем (неравными) партнёрами, а проведение всё более чёткого водораздела между ними, исключающего с западной стороны любой, даже формальный нейтралитет отдельных стран.
Более того, общая антироссийская платформа уже стала одним из важных структурных элементов единства внутри Евросоюза и укрепления американского лидерства в западном мире.
В этих условиях надежды на то, что оппоненты России «образумятся» или же в результате внутренних потрясений в своих странах будут заменены на более умеренных деятелей, являются призрачными. Даже в политических классах стран, где до сих пор линия в отношении Москвы определялась прежде всего важными экономическими интересами (Германия, Италия, Франция, Австрия, Финляндия), произошёл фундаментальный сдвиг в сторону размежевания и конфронтации с РФ. Таким образом, системное противоборство Запада с Россией, вероятно, будет длительным.
Это обстоятельство практически полностью обнуляет прежнюю внешнеполитическую стратегию России в отношении США и Европы, направленную на признание Западом российских интересов безопасности, сотрудничество в вопросах глобальной стратегической стабильности и европейской безопасности, невмешательство во внутренние дела друг друга и выстраивание взаимовыгодных экономических и прочих связей с Америкой и Евросоюзом. В то же время признание неактуальности прежней повестки дня не должно означать отказа от активной политики и полного подчинения силе обстоятельств.
В центре российской внешнеполитической стратегии периода противоборства с Западом и сближения с незападными странами должна стоять сама Россия. Ей придётся все больше рассчитывать только на саму себя. Исход противоборства, однако, не предопределён. Обстоятельства влияют на Россию, но и российская политика способна изменять мир вокруг себя. Главное, что надо иметь в виду, – без чёткого целеполагания выстроить какую-либо стратегию невозможно. Начинать нужно с себя, с осознания, кто мы, откуда и к чему стремимся, основываясь на своих ценностях и продвигая свои интересы.
Внешняя политика во все времена тесно связана с политикой внутренней – в широком смысле слова, включая экономику, социальные отношения, науку, технику, культуру и так далее. В условиях войны нового типа, которую вынуждена вести Россия, грань между тем, что в прежние эпохи называли «фронтом» и «тылом», стирается. В такой войне не то, что выиграть, а просто выстоять невозможно, если элиты будут по-прежнему зациклены на дальнейшем личном обогащении, а общество останется в придавленном и расслабленном состоянии.
«Переиздание» Российской Федерации на политически более устойчивых, экономически эффективных, социально справедливых и морально здоровых основах становится остро необходимым. Надо понимать, что стратегическое поражение, которое России готовит Запад во главе с США, не приведёт к миру и последующему восстановлению отношений. С большой вероятностью театр «гибридной войны» просто переместится с Украины дальше на восток, в пределы самой России, существование которой в нынешнем виде окажется под вопросом.
Этой стратегии противника нужно активно противодействовать.
В области внешней политики общая цель, очевидно, состоит в том, чтобы укреплять самостоятельность России в качестве страны-цивилизации, крупного независимого игрока мирового уровня, обеспечивать приемлемый уровень безопасности и создавать благоприятные условия для всестороннего развития. Чтобы достичь этой цели в нынешних, гораздо более сложных и тяжёлых, чем ещё недавно, условиях, необходима эффективная комплексная стратегия – общеполитическая, военная, экономическая, технологическая, информационная и так далее.
Непосредственной и важнейшей задачей этой стратегии является достижение стратегического успеха на Украине в заданных и публично разъяснённых обществу параметрах. Необходимо уточнить заявленные цели операции и использовать все возможности для их достижения. Продолжение того, что многие сейчас называют «странной войной», ведёт к затягиванию военных действий, увеличению потерь и снижению международного авторитета России. Решение большинства других стратегических задач России прямо зависит от того, удастся ли ей добиться стратегического успеха на Украине и когда это случится.
Важнейшей из этих более широких внешнеполитических задач является не ниспровержение любыми способами и любой ценой американоцентричного мирового порядка (его эрозия происходит благодаря объективным факторам, и успех РФ на Украине станет чувствительным ударом по мировой гегемонии США) и, конечно, не возвращение в лоно этого порядка на более выгодных условиях, а последовательное выстраивание элементов новой системы международных отношений вместе со странами не-Запада, формирование во взаимодействии с ними новой мировой повестки дня и её последовательное продвижение. Подчеркнём: работать над этой задачей нужно уже сейчас, но действовать в полной мере можно будет только после достижения стратегического успеха на Украине.
Чрезвычайно важным и актуальным в этой связи становится оформление новых геополитических, геоэкономических и военно-стратегических реалий в западной части бывшего Советского Союза: в Донбассе и Новороссии. Долгосрочным приоритетом здесь становится дальнейшее развитие союзнических отношений и интеграционных связей с Белоруссией. К этой же категории относятся задачи укрепления безопасности России на центральноазиатском и южнокавказском направлениях.
В рамках решения задач перестройки внешнеэкономических связей и создания новой модели миропорядка важнейшие направления – сотрудничество с мировыми державами, Китаем и Индией, а также Бразилией; с ведущими региональными игроками – Турцией, странами АСЕАН, государствами Залива, Ираном, Египтом, Алжиром, Израилем, ЮАР, Пакистаном, Аргентиной, Мексикой и другими.
Именно на этих направлениях, а не на традиционных евроатлантических площадках необходимо задействовать основные ресурсы дипломатии, внешнеэкономических связей, информационной и культурной сфер. Если в военной сфере главное направление для России сейчас – Запад, то в других – это остальная, большая и более динамичная часть мира.
Наряду с развитием двусторонних отношений необходимо придать новое качество многостороннему взаимодействию государств незападной части мира. Нужно более активно заняться выстраиванием международных институтов. Евразийский экономический союз, Организация Договора о коллективной безопасности, Шанхайская организация сотрудничества, группа Россия – Индия – Китай, БРИКС, механизмы диалога и партнёрства РФ с АСЕАН, странами Африки и Латинской Америки нуждаются в импульсе для дальнейшего развития. В плане разработки основ идеологии этих организаций, гармонизации интересов партнёрских стран и согласования общих повесток дня Россия вполне способна играть одну из ведущих ролей.
В отношениях с Западом стратегия России будет продолжать решать задачи ядерного, обычного и киберсдерживания США от военного давления и нападения на Россию и её союзников. Никогда со времён окончания советско-американского противостояния предотвращение ядерной войны не было так актуально, как сейчас. Новой задачей после достижения стратегического успеха на Украине станет принуждение стран НАТО к фактическому признанию российских интересов, а также обеспечение безопасности новых границ РФ.
Москве необходимо внимательно оценить целесообразность, возможности и пределы ситуативного сотрудничества с различными политическими и общественными группами на Западе, а также с другими временными потенциальными союзниками за пределами Запада, чьи интересы в тех или иных вопросах совпадают с российскими. Задача состоит не в нанесении противнику ущерба где бы то ни было, а в использовании различных раздражителей для отвлечения его внимания и ресурсов от российского направления, а также для влияния на внутриполитическую ситуацию в США и Европе в выгодном для РФ направлении.
Важнейшей целью в связи с этим является выработка стратегии в отношении развивающегося противостояния США и Китая. Партнёрский характер российско-китайских отношений – главное, что отличает в позитивном плане нынешнюю «гибридную войну» с Западом от прошлой холодной. Хотя Пекин не является формальным военным союзником Москвы, стратегическое партнёрство двух стран официально характеризовалось как нечто большее, чем формальный союз. КНР – крупнейший экономический партнёр России – не присоединился к антироссийским санкциям, но китайские компании и банки, глубоко интегрированные в глобальную экономику, опасаются санкций США и ЕС, и это ограничивает возможности взаимодействия. Между лидерами России и Китая существует взаимопонимание, общества двух стран дружественно относятся друг к другу. Наконец, США рассматривают обе страны как своих противников – Китай как главного конкурента, Россию – как основную актуальную угрозу.
Политика США ещё больше сближает Россию и Китай. В условиях «гибридной войны» политическая и дипломатическая поддержка Китая и даже ограниченное экономическое и технологическое взаимодействие с ним очень важны для России. Форсировать ещё большее сближение с Пекином у Москвы сейчас нет возможностей, а в слишком тесном альянсе нет необходимости. В случае обострения американо-китайских противоречий Россия должна быть готова оказать политическую поддержку Китаю, а также – в ограниченных масштабах и на определённых условиях – военно-техническую помощь ему, избегая в то же время прямого участия в конфликте с США. Открытие «второго фронта» в Азии вряд ли существенно ослабит давление Запада на Россию, но резко повысит напряжённость в отношениях России и Индии.
Переход от конфронтационного, но ещё условно мирного состояния экономических отношений между Россией и Западом к ситуации экономической войны требует от России глубокого пересмотра внешнеэкономической политики. Эта политика уже не может реализовываться преимущественно на соображениях экономической или технологической целесообразности. Реализуются меры по дедолларизации и деофшоризации финансов. Происходит вынужденная «национализация» крупных собственников («олигархов»), прежде выводивших прибыль за пределы страны. Идёт импортозамещение. От политики вывоза сырья российская экономика перенацеливается на развитие производств замкнутого цикла. До сих пор, однако, Россия в основном защищалась и реагировала.
От ответных шагов необходимо переходить к инициативным действиям, укрепляющим позиции РФ в фактически объявленной Западом тотальной экономической войне и наносящим чувствительный ущерб противнику. В этой связи требуется более тесное сопряжение усилий государства и деятельности бизнес-сообщества, разработка и осуществление скоординированной политики в таких отраслях, как финансы, энергетика, металлургия, сельское хозяйство, современные технологии (особенно информационно-коммуникационные), транспорт, логистика, военный экспорт и экономическая интеграция – не только в рамках ЕАЭС и Союзного государства России и Белоруссии, но и с учётом новых реалий в Донбассе и северном Причерноморье. Отдельной задачей стоит пересмотр в изменившихся условиях российских подходов и политики в вопросах изменения климата. Важно определиться также с допустимыми пределами финансовой, экономической и технологической зависимости России от нейтральных стран (прежде всего – Китая), запустить технологическое партнёрство с Индией.
Война – всегда самая строгая и жестокая проверка на прочность, выносливость и внутреннюю силу. Россия сегодня и на обозримое будущее – воюющая страна. Она сможет продолжить свою историю только в том случае, если власти и общество объединятся на основе солидарности и взаимных обязательств, мобилизуют все имеющиеся ресурсы и одновременно расширят возможности для предприимчивых граждан, устранят очевидные препятствия, ослабляющие страну изнутри, и выработают реалистичную стратегию борьбы с внешними противниками. До сих пор мы только праздновали Победу, добытую предыдущими поколениями в 1945 году. Сейчас решается вопрос, способны ли мы сохранить страну и развивать её дальше. Для этого стратегия России обязана победить обстоятельства, окружающие и стесняющие её.
Статья подготовлена на основе выступления автора на XXX Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

Натовские грабли
Финляндия и Швеция отказываются от нейтрального статуса и вступают в военно-политический блок.
18 мая послы Финляндии и Швеции вручили генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их стран в Североатлантический альянс. Таким образом, публичные заявления политического руководства о намерении присоединиться к военному блоку получили первый импульс для юридического оформления. Что за всем этим стоит и как реагировать России? На этот и другие вопросы в интервью «Красной звезде» ответил известный политолог Георгий Фёдоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект».
– Георгий Владимирович, каковы, на ваш взгляд, причины столь поспешного вступления нейтральных Финляндии и Швеции в НАТО?
– Ничего поспешного и скорополительного я тут не вижу. Напомню, что и та, и другая страна свой нейтральный статус сохраняли чисто формально. Например, Швеция ещё с советских времен активно сотрудничала с НАТО, не раз была вовлечена в скандалы, когда её спецслужбы работали совместно с американским ЦРУ. Поэтому для Швеции сам переход из одного состояния в другое является по большой части техническим.
Что касается Финляндии, то внутри её политического истеблишмента существует группа, которая уже давно пытается переломить общественное сознание в пользу вступления в Североатлантический альянс. Во всяком случае, Финляндия уже давно активно сотрудничает с НАТО, как предоставляя свою территорию для проведения различных натовских учений, так и участвуя сама в манёврах альянса. Хотя большинство финнов дружественно относятся к России, не желают втягивания страны в военный блок.
Неудивительно, что в этих странах даже не идёт речь о проведении референдума по этому вопросу, так как их политики боятся, что не получат поддержки своим планам. Тем более что совершенно никаких угроз в адрес Финляндии и Швеции со стороны Российской Федерации нет.
– Разве шведы и финны не сознают, что при вступлении в НАТО их города, посёлки автоматически становятся целями для российских ракет в случае полномасштабного конфликта?
– Понимают. Но подчеркну: за такое решение выступают, в первую очередь, не граждане Швеции и Финляндии, а их военно-политическое руководство. Правящим кругам важно заручиться поддержкой Соединённых Штатов, от чего во многом зависит их материальная и геополитическая выгода. Увы, они мыслят сиюминутными категориями, но это так и есть.
И ещё. В сознании финских и шведских политиков, судя по всему, живёт родовая травма противостояния с Россией. До сих пор у них сильно желание некоего реванша за прошлые исторические поражения. Да, такие комплексы существуют. В результате видим сублимацию некоего тайного шовинизма, реваншизма, страха и несамостоятельности перед США.
– Что повлечёт этот шаг для этих стран в военно-техническом отношении? Насколько сложна для них проблема перехода на стандарты НАТО?
– Больших проблем здесь я тоже не вижу, поскольку шведы и финны, повторю, давно уже находились в кильватере военной политики США и НАТО. И их вооружённые силы, да и часть военной инфраструктуры давно развивались по натовским стандартам. Поэтому вопросов больших не будет с оформлением соответствующей документации, уставов, натовских нормативов и требований в обращении с оружием, его применением. Как и с поставками вооружений и военной техники.
Полагаю, что в ближайшее время серьёзно изменятся их экономические связи. Швеция и Финляндия попадут в ещё большую зависимость от США, утратят свой суверенитет. Правила альянса требуют от каждого члена автоматического выполнения принимаемых обязательств и правил. Если ты против, то сразу становишься изгоем. Мы видим, как сейчас давят на ту же Венгрию или Турцию, занимающих особую позицию по ряду вопросов, стоящих перед НАТО.
– Не трудно предположить, что США попытаются более активно использовать Финляндию и Швецию в проведении своей политики в Арктике…
– Безусловно, надо сознавать, что основной конфликтной точкой в мире в ХХI веке будет Арктика. Потому что ресурсы, которые там сконцентрированы, начиная от биологических и заканчивая энергоресурсами, как считают некоторые страны и прежде всего США, должны достаться им. Помните, ещё госсекретарь США Мадлен Олбрайт сказала, что Бог несправедливо наделил Россию такими огромными природными богатствами.
Сегодня речь идёт уже о несправедливом, с точки зрения США, делении региона по шельфу. Особо учитывая тот факт, что Российская Федерация, предоставляя в ООН все необходимые на то доказательства, стремится расширить свои внешние границы по арктическому шельфу.
А взять Северный морской путь, эту кратчайшую дорогу из Европы в Азию. США принципиально не согласны с тем, что такой важный в перспективе маршрут находится в сфере ведения России, и стремятся придать ему статус международной транспортной артерии. Более того, они готовы использовать вооружённые силы как американские, так и союзников по НАТО «для обеспечения свободы мореплавания» по Северному морскому пути. По сути, речь идёт о будущей большой арктической схватке. И в ней США уже сейчас отводят немалую роль Финляндии и Швеции прежде всего в плане развёртывания на их территории соответствующей инфраструктуры НАТО.
– То есть в Швеции и Финляндии могут появиться натовские военные базы и, возможно, даже ядерное оружие?
– В этом не приходится сомневаться, хотя обе страны и пытаются оговорить своё членство в альянсе условием не размещать на их территории ядерное оружие и иностранные войска. Но если они войдут в НАТО, то следующим этапом будет размещение на их национальной территории таких стратегических систем, которые необходимы для продвижения глобальных интересов США. В том числе ядерного оружия. И никто с мнением граждан этих стран считаться, поверьте, не будет. В ход пойдёт всё: от манипуляций до подкупа правящего класса. Каток НАТО неумолим.
В качестве примера можно привести их соседа – Норвегию. Она также определила своё пребывание в НАТО таким условием. Однако сегодня на её территории есть всё – и натовские базы, и американские склады с различным вооружением и военной техникой. В норвежские порты постоянного заходят американские ПЛАРБ, а на аэродромах базируются стратегические бомбардировщики В-1В «Лансер». Они, отмечу, являются носителями ядерного оружия.
Напомню также, что одной из причин нашей спецоперации на Украине стала большая вероятность размещения там ракетно-ядерного оружия НАТО. Эти планы вынашивали Соединённые Штаты, хотя Украина и не является членом Североатлантического альянса.
Подчеркну, что НАТО – не благотворительная организация, а военно-политический блок, который изначально создавался для войны с СССР и для которого Российская Федерация, как преемница Советского Союза, – противник. Это записано и в доктринальных документах США. Поэтому после распада Советского Союза и Варшавского Договора блок НАТО не прекратил своё существование, а начал расширяться фактически до наших границ. США используют НАТО для того, чтобы собрать вокруг России значительный военный потенциал, а также как можно сильнее разорвать политические и экономические связи нашей страны с Европой. Принятие в НАТО Финляндии и Швеции ещё один тому пример.
– Как же нам реагировать на всё это, что в подобной ситуации делать России?
– Прежде всего хочу отметить, что процедура приёма Финляндии и Швеции может затянуться. Возможно, на несколько месяцев, может быть, и год. Поэтому у нас есть ещё время, чтобы попытаться воспрепятствовать процессу втягивания этих стран в Североатлантический альянс. Для этого нам необходимо активизировать работу с населением Финляндии и Швеции, их бизнес-сообществом, чтобы показать, что они больше потеряют, чем приобретут, вступая в этот агрессивный блок. Надо показывать, что на протяжении многих десятилетий нас связывали добрососедские отношения, достаточно эффективное экономическое сотрудничество, широкие культурные обмены.
Разумно занять активную позицию неприятия вступления этих стран в НАТО, дать им возможность скорректировать это решение. Тем более что социологические опросы населения показывают несогласие значительной части финнов и шведов с таким решением военно-политического руководства своих стран. Они не хотят ради интересов США терять свои доходы, ухудшать уровень жизни, подвергать угрозе безопасность страны в целом и каждого гражданина в отдельности.
– Безусловно, это важные шаги на дипломатическом уровне. Но ведь есть и военная сфера…
– Я бы пока не стал забегать вперёд. Ведь не все меры дипломатического характера исчерпаны. Что же касается вопроса о мерах военно-технического характера, то на него на днях исчерпывающе ответил Президент РФ Владимир Путин. По его словам, у России нет проблем с Финляндией и Швецией, и само расширение альянса за счёт этих стран не создаёт непосредственной угрозы для нашего государства. «Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию, – предостерёг президент. – И какой она будет, мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться». Этим и будем руководствоваться.
Олег Фаличев, «Красная звезда»

Антибелый расизм
с чем мы столкнёмся в XXI веке
Анатолий Ливри
Предуведомление
Антибелый расизм и всё, что касается истребления белого человечества, — табуированный сюжет в Западной Европе, где я живу не одно десятилетие. И я ежедневно сталкиваюсь с тысячами манипуляций, окружающими всякого, кто пробует адекватно проанализировать тему системной ликвидации белого человека на Западе.
Основную структурную субверсию фальсификаторов можно подразделить на три этапа махинаций:
1) Остервенелое сокрытие статистических данных системного уничтожения белых европеоидов.
2) Наглое непризнание показателей искоренения белых народов, когда цифры геноцида белых всё-таки получены исследователями.
3) Принятие тоталитарных законов, запрещающих публикацию и анализ статистического материала геноцида белого населения Запада.
Каждая попытка серьёзно работать со статистикой — только когда это цифровые показатели этнических чисток белого населения на Западе — неизбежно приносит нулевой результат. Это происходит потому, что тотчас появляются "системные клоуны" западного мира и ложью, глумлением или угрозами уголовного преследования превращают любое исследование в пошлый цирковой трюк жонглёров. И когда вы пытаетесь изучить криминальную статистику США, например, изданную в 2018 году (утверждающую, что 90% негритянских преступников совершили межрасовое насилие и только 10% их белых сограждан выбрали своими жертвами представителей чуждых рас, вам устроят групповую истерику, а затем, как это случилось во Франции, законодательно запретят проводить расовую статистику преступлений. Такова легальная практика "врачевателей западного общества": разбить термометр, только чтобы не констатировать симптомов приближающейся социальной агонии.
Будни исследователей доходят до абсурда, проникая во все сферы науки: я анализирую в своём парижском исследовании эллиниста Третью книгу Исторической Библиотеки Диодора Сицилийского, где древнегреческий писатель I века до Христианской эры описывает негритянских обитателей соседней с его родным островом Африки — после доноса профессора мне устраивают судебный процесс. А уж когда мне попалась в руки полуофициальная статистика Министерства внутренних дел Франции, утверждающая, что если бы тюремное население Пятой республики состояло исключительно из европейских заключённых, то места заключения государства были бы пусты более чем на 70%, мне начали угрожать физической расправой, если я предам гласности эти данные.
Вот почему для моего гуманистического труда, посвящённого попытке спасти один из типов человечества от системного геноцида, мне понадобилось избрать иную тактику, чем баталия цифр, стерильная, как это следует из моего европейского опыта. И я предпочёл иной подход: разобрать для русского читателя несколько "дел", доказывающих очевидный системный расизм, разрушающий тела и души белых мужчин, женщин, детей Запада, а также фанатично экспортируемый славянским народам.
Да, системный антибелый расизм давно стал орудием тотальной гибридной войны, ведущейся космополитической олигархией против своих народов, а также против наций, сохранивших традиционную мораль. Несомненно, конфронтация эта с каждым годом будет только усиливаться, а холодная война — всё чаще переходить в стадию горячих конфликтов. А значит, умелые стратеги евразийских государств смогут воспользоваться более чем конкретными советами моего труда по использованию именно системного антибелого расизма, разъедающего психику "элит" Запада, делающего их неадекватными, прививая им суицидальные рефлексы.
Данный труд рассчитан также на здравомыслящих представителей истеблишмента стран заката, ибо такие существуют. Будучи доктором французского университета и швейцарским гражданином, я владею полудюжиной современных языков (не считая трёх древних). Именно для западного читателя я привожу более трёхсот сносок в оригинале (конечно, с их русским переводом) с тем, чтобы этими доказательствами пробудить такого разумного обитателя государств с уже официальной религией антибелого расизма к сотрудничеству с его восточными товарищами по несчастью.
Великое замещение белых наций Востока столь же выгодно — по бесчисленным причинам — космополитическим корпорациям, как и ликвидация коренных народов Западной Европы. И я могу только призвать вас к совместному противостоянию антибелому расизму…
Постепенно и неизбежно системный антибелый расизм с каждым годом будет оттеснять на задний план прочие социальные противоречия. Вскоре антибелый расизм станет главнейшей проблемой XXI века вместе с массовой депортацией негритянского населения на восток Евразии, которую глобальные олигархи начинают организовывать с помощью военных провокаций в Африке, а также в Центральной и Восточной Европе.
В этом труде будут использоваться традиционные для русского языка термины: например, "белый народ" или "негритянское население". Я также прибегну к академическим терминам прошлых лет, таким как "конгоид" (термины вроде "чёрный", "чернокожий" и проч. употребляются, конечно, в русских переводах западных текстов); "европеоидная раса" (белая раса) — эквивалент Caucasian, произошедшего от Varietas Caucasia из Гёттингенского университета XVIII–XIX веков; или "европеоид" (с уточнением "белый", когда речь идёт о коренных европейцах, ведь европеоиды обитают также и в Северной Африке, и в Передней Азии).
Стоит мне упомянуть о "коренных европейцах", как обычно сразу выскакивает проницательный критик, дабы авторитетно указать мне, что "коренные европейцы — это неандертальцы". Отвечаю тут же: нет, homo neanderthalensis (человек неандертальский) меня не интересует. Я, несомненно, осознаю вынужденную вульгаризацию терминологии, ибо труд этот философско-политологический. Его цель — не поразить конгресс антропологов, а предотвратить системную ликвидацию белого человека на планете Земля. И все превосходно понимают, о ком я пишу.
Я — еврей. Поселившись на Западе треть века назад, я констатировал, что доминирующая ценность в глазах моего народа, эта гордость за своё этническое происхождение, методично и поэтапно изымается у коренных европейцев, да и у всех белых людей мира, будь они американцами, австралийцами. Более того, немало моих сородичей фанатично, даже истерически-сладострастно участвуют в геноциде европеоидов.
И, напротив, стоит только еврею публично выступить против замещения белых людей на Западе, как его иудейские корни тотчас скрываются космополитической системой: по мнению лидеров глобалистского истеблишмента, еврею не пристало сопротивляться истреблению европеоидной расы — я могу привести немало доказательств откровенного утаивания факта моего еврейского происхождения. И в этой книге я укажу примеры замалчивания еврейского происхождения моих сородичей в крупнейших средствах массовой информации Запада, как только они, подобно мне, откровенно и в ущерб собственным интересам становятся на путь противостояния искоренению белых народов. Вид белой кожи становится триггером, запускающим не просто процесс ненависти к каждому представителю европеоидной популяции, но ненависти инстинктивной, а главное, уже почти узаконенной системой Запада ко всей многовековой цивилизации — в общем и к каждому из её элементов в отдельности, созданной народами Европы.
Речь шла о легитимированном акте ассистированного суицида целой расы, творца величайшей культуры. Я ужаснулся холокосту представителей европеоидной (белой) расы, происходящему на моих глазах. Вторым моим желанием было предотвратить самоубийство европейских этносов. Третьим стремлением, вытекающим из предыдущего, стала решимость понять генезис и механизм этого преступления против человечества.
Постепенно проникая в политические партии, порождённые силовыми структурами Франции и Евросоюза, а главное, будучи приглашён в саму матку, давшую им жизнь, — франкмасонство, преподавая в Сорбонне и университете Ниццы, выступая на академических конференциях и получая гранты в научных фондах, сотрудничая с дюжиной парижских редакций, а затем и с издателями всего мира, участвуя в деятельности крупнейших церквей Запада, я смог отдать себе отчёт в существовании чётко поставленной цели методического замещения белых народов негритянской и прочими популяциями, политики ускоренной колонизации стран с издревле европеоидным населением, которой не только упорно следуют вельможи планетарной олигархии, но и обязан поддерживать всякий мещанин, жаждущий собственного благополучия или даже пошлой безопасности.
И если мне лично никогда не приходилось сталкиваться с предводителями всемогущих космополитических кланов, свято верящими, будто ликвидация белых людей на Земле позволит установить некое новое царство справедливости, я могу утверждать повсеместно и беспрестанно растущий спрос на данное предложение. А требуемые глобалистской идеологией формы выражения ненависти ко всякому традиционному проявлению мощи и красоты европеоидной (белой) расы достаточно примитивны (как и статьи любого коммерческого договора), а потому могут быть означены термином "антибелый расизм".
Подчеркну это: антибелый расизм на Западе именно системный. И в данном труде я приведу доказательства того, что в наших странах заката антибелый расизм — это единственно дозволенная форма расовой ненависти, предписанная свыше как норма общественного поведения и предполагающая следующие основные характеристики:
1) Выражение инфантильного презрения, смешанного с животным восторгом при каждом факте физической или духовной деградации белого психически уравновешенного мужчины, приверженца вековечных ценностей своего народа, отца и супруга, или же обнаруживающего способности им стать.
2) Глум над белой девушкой, проповедующей невинность и сохраняющей собственную чистоту для будущего супруга своей крови, а также маниакальное удовлетворение при любом известии об изнасиловании каждой белой женщины, предпочтительнее — особями чуждых рас. Но главное — отвращение к верной жене, вышедшей замуж перед Ликом исконного Бога своего, белого народа, и воспитывающей своих белых детей в традициях, а ещё предпочтительнее — в религии предков.
Несомненно, на современном этапе общественного развития многие европеоиды Запада отошли от верований своих предков, приняв нормализированные агностицизм или атеизм. Эти представители европеоидной расы, однако, не теряют принадлежности к своему народу, а следовательно и к отдельно взятой ветви западной цивилизации, что превращает также светских европеоидов в жертв системного антибелого расизма.
3) Удовлетворение от повышения статистических данных абортов, новостей об убийствах детей в странах с коренным белым населением, нормализации школьными программами извращений и неразлучной с ними безграмотности.
На начальных этапах распространения в вашей стране догматов антибелого расизма стоит мужчине свернуть с пути сексуальной адекватности, стоит ему присоединиться к осквернению религии дедов и их героев, следовательно, стать коллаборационистом, ликвидатором собственного племени; стоит женщине переметнуться к трибадам либо погрязнуть в феминистической истерии; стоит белым людям обоих полов вступить в открытую половую связь с пришлыми этносами, а тем паче произвести на свет мулатов или метисов, — как они перестают быть жертвами системного антибелого расизма. Они доказали: "Мы не опасны для установления геноцида белых на государственном, а впоследствии на планетарном уровне".
Однако это послабление лишь временное. Достаточно тирании антибелого расизма закрепиться у вас повсеместно, как она уже не приемлет даже образа белого человека, пусть вырожденца. И прямо у вас на глазах те самые белые дегенераты, недавно подписавшие кровью контракт с дьяволом, надеясь на генеральский чин в сатанинском легионе и руководящую роль в геноциде собственного народа, оказываются в штрафбате вперемешку с прочим белым пушечным мясом: верховные бесы антибелого расизма черпают специфическое удовольствие, предавая лакеев, которые изменили своему роду ради служения им…
Массовые расистские изнасилования белых детей на Западе
Как, кроме системного антибелого расизма, можно охарактеризовать издевательства над детьми, длившиеся десятилетия в Великобритании? Помню, на факультете английской литературы Сорбонны и похожих заведений прочих университетов Франции крохи информации, прорывавшиеся тогда из-за Ла-Манша, о групповых изнасилованиях иностранными мафиями английских девочек вызывали лишь глум профессоров-"набоковедов" обоих полов, поминавших по этому случаю Лолиту.
Однако, как только эти сведения стали опасными для постулатов религии европейского "антирасизма" — иными словами, могли замарать цоколь пирамиды системного антибелого расизма, — даже самые отъявленные шутники замолкали: тема массового изнасилования дочерей семей белых бедняков Великобритании превращалась в первобытное табу, свято хранимое академической братией. И всё-таки в течение более чем 16 лет более чем 1400 детей британского Ротерема подверглись изнасилованию, принуждению к проституции.
А генералы французской жандармерии, информирующие меня, сообщили, что все три премьер-министра, поочерёдно управлявшие Великобританией с 1997 по 2013 год: и Тони Блэр, и Гордон Браун, и Дэвид Кэмерон, — регулярно получали сведения о сексуальных надругательствах над белыми детьми, беспрестанно происходящих в графстве Саут-Йоркшир, но послушно присоединились к "кодексу омерты". Из-за страха прослыть "расистами" — думают одни. Из-за принадлежности к чрезвычайно закрытым "клубам", самый знаменитый из которых управлялся знаменитым сейчас "самоубийцей" Джеффри Эпштейном, — оценивают другие. В таких кругах считалось (да и сейчас считается) не comme il faut (не подобает) прерывать наработку "капитала страдания" белых детей, даже если их терзают представители "нерукопожатных сословий".
Впрочем, последний социальный фактор — дело поправимое. И мои жандармские информаторы из Парижа предполагают, что звёздная карьера лорда Ахмеда Ротеремского во многом зиждется большей частью на его знакомствах, приобретённых в пылу групповых педофильских забав британской знати (которая и пожертвовала выскочкой-бароном в 2022 году, чтобы не замарать уголовной сварой своё сословие космополитического дворянства).
И если бы скандал системного антибелого расизма ограничился одним только Ротеремом! Но нет: "Британцы начинают приобретать печальную привычку: после трагедий, произошедших в Рочдейле, Ротереме и Телфорде, только что разгорелся новый сексуальный скандал. Факты, произошедшие на этот раз в Хаддерсфилде, графство Йоркшир, очень схожи с предыдущими случаями: банда мужчин, преимущественно пакистанского происхождения, совершала мерзкие сексуальные преступления над девочками".
Но и массовые изнасилования в различных городах Великобритании — это ещё не всё! Читателю уже известна моя позиция: преступления сами по себе нежелательны, но человеческая натура склонна к насилию, поэтому пресечь злодейства невозможно, разве что стерев весь людской род с лица Земли. Цель этой книги не в качественном усовершенствовании сапиенса, но в предотвращении вырождения, а затем и неотвратимого замещения европеоидной расы. Такой геноцид возможен, по-моему, единственно при абсолютном содействии белых обществ в своей массе (а главное, коллаборационизм их истеблишмента) в собственном холокосте.
Чтобы быть несовместимым с жизнью белых европеоидов, антибелый расизм должен быть всеобъемлющим, то есть системным. Чтобы самоубийство белых народов удалось, самому белому социуму надлежит сжимать вокруг себя жизненное пространство, не оставляя себе и своим детям ни малейшего шанса на выживание. Итак, вот как британская нация обставляет в течение многих лет факт изнасилования своих девочек представителями чуждых народов на их родных Британских островах: "Фактически британское правосудие запретило прессе обсуждать судебное дело, и данное эмбарго было снято только в эту пятницу, 19 октября (2018 года. — А. Л.). Это решение подогрело подозрение в омерте, тем более что эта тема чрезвычайно чувствительна в Соединённом Королевстве: злоупотребления, совершаемые бандами, уже давно "прикрываются" рядом действующих лиц, слишком озабоченных тем, чтобы "не заклеймить" пакистанское сообщество.., рискуя подвергнуть опасности жертв преступления в стране, глубоко приверженной мультикультурализму и навязчивому желанию не "оскорбить" то или иное сообщество".
Итак, все упомянутые в парижской статье являются подельниками в групповом изнасиловании: сами изуверы — аллохтоны, обосновавшиеся в Великобритании, но и судебные инстанции, редакторы Англии и прочие "действующие лица", которые на Западе все на одно лицо — трусливо-коррумпированные следователи, лондонские карьеристы-депутаты и прочие "бароны"-"антирасисты" из Палаты лордов. Ни один из вышеперечисленных "демократов" не ощущает кровного родства с изнасилованными девочками (которых "элиты" снова оставляют один на один с насильниками), в этом участники британского судебного разбирательства идеально представляют мировоззрение истеблишмента Запада, и в этом они любопытны для моего труда: все они активисты антибелого расизма, насквозь поразившего Запад, а значит, системного антибелого расизма.
Русофобия как системный антибелый расизм
Системный антибелый расизм приобретает форму ненависти не только ко всем традиционным проявлениям европеоидной (белой) расы, но становится враждебностью именно к славянам, в просторечии называемой русофобией. В корне неверно считать, что функционер какого-нибудь французского или швейцарского университета, изучивший урывками русскую историю, литературу, язык или цивилизацию любого другого славянского народа, сделал это из любви к ним. Напротив, такой западный начётчик презирает каждую в отдельности нацию славян, если только речь идёт не о сбежавшем из стран бывшего СССР русофобе.
Чаще всего такой "учёный" (обоих полов) не знает, куда себя девать, его несёт жажда наживы и гормональный угар. Однако получить университетское звание он сможет лишь при условии, что многократно докажет системный антибелый расизм самой остервенелой формы. В противном случае его просто не допустят до преподавания.
Правительства традиционных государств Евразии должны себе ясно представлять: нередко именно такие профессора русистики, антибелые расисты и, следовательно, русофобы, выступают советниками западных министров или добиваются временных постов при западных посольствах в ваших столицах. Не стоит удивляться, что после и без того неадекватные лидеры стран заката принимают неразумные решения, разжигая достаточно безумные конфликты.
Как конкретно проявляется этот русофобский системный антибелый расизм западных славистов? Он обнаруживается в их одержимости изменить вас, переделать славян. Да, антибелые расисты Запада сумели "деконструировать" собственные, презираемые ими народы. И теперь по тому же шаблону они силятся переиначить славян, стервенея, когда терпят фиаско в своих попытках вас выдрессировать.
Где именно профессора-слависты Запада, научные ничтожества черпают доказательства своего "онтологического превосходства"? Эти извращенцы вцепились в эпоху репрессий. Для них вы, неперевоспитанные россияне, белорусы, также многие украинцы — "потомки сталинских палачей".
Вы подлежите "улучшению" от их рук — как такие же педагоги прежде, после "цветной революции" мая 1968 года, "улучшили" собственные народы, извратив их, а затем начав их великое замещение. Но пока вы не покаетесь перед ними в вашем "дурном наследии", в вашей "скверной крови", вы, славяне Евразии, никогда не удовлетворите придирчивых критиканов, свихнувшихся от ощущения вседозволенности, которым злоупотребляют лакеи системного антибелого расизма. Вот отчего после каждого конфликта лидеры Российской Федерации или Белоруссии слышат истерические и полностью анахронические "объяснения" вашей структурной несостоятельности: "КГБ!", "шпион ГРУ!", "сталинский палач!", "Гулаг!".
И вы можете констатировать мою правоту на геополитической арене: проходят десятилетия, а ситуация только ухудшается. Системный антибелый расист (русофоб в том числе) — тип антропологического регресса. Такой деградант тотально не способен менять своё мнение, адаптироваться к новой ситуации…
***
Истоки этого фанатизма стоит искать во французской славистике, напрямую связанной с Троцким.
Первое поколение профессоров-"русистов" отобрал в Сорбонну, согласно базовым троцкистским требованиям, Пьер Паскаль — шарлатан, презиравший Науку и начавший свою долгую успешную карьеру предателя с дезертирства из французской армии для сотрудничества с Троцким, вслед за которым (уже женатый на свояченице будущего панегириста Троцкого, Виктора Сержа) Паскаль и последовал прочь из СССР, попутно насаждая во французском университете переводчиков, а главное — "инстинктивных пропагандистов" троцкистского изуверства по отношению к цивилизациям европеоидной расы.
В 1940 году Париж оккупирован армией Третьего рейха, и многие уважающие себя профессора-марксисты Франции покидают преподавательские посты. Но Пьер Паскаль заключает с правительством Виши гнусный союз, продолжая деятельность пропагандиста троцкистских идей и публикуя свои псевдонаучные статейки, где, например, русская деревня — эта матрица гения восточных славян, уничтожаемая по велению Троцкого до и после его изгнания из СССР, — предстаёт изолированным идиллическим мирком, а слова "коллективизация" или "продразвёрстка" даже не упоминаются. Да, даже во время гитлеровской оккупации троцкист Пьер Паскаль, глумясь над наукой и здравым смыслом в Сорбонне, обеспечивает посмертное алиби массовому расистскому убийце славян, своему гуру Лейбе Бронштейну (Льву Троцкому)!
В 1944 году наступает момент освобождения Франции, когда под шумок ликвидируют последних независимых профессоров, способных передать новым поколениям огонь знаний, но троцкист Пьер Паскаль и тут договаривается с власть предержащими. Научное ничтожество снова сохраняет своё сорбоннское место без малейших осложнений, хотя любой "правый" коллаборационист десятилетиями потом вынужден был оправдываться за свою академическую деятельность в оккупационные годы.
Приходит время Солженицына печатать на Западе свои ГУЛаговские мемуары. И тут последыши Пьера Паскаля встревают истыми сутенёрами меж долларовой манной, изливавшейся из посольства США в Париже, и Солженицыным, который никогда бы не опубликовал, да ещё с нобелевским результатом, "Архипелаг ГУЛаг", если бы не подверг своё свидетельство в YMCA-Press троцкистской правке профессоров, переводчиков, издателей — ставленников Пьера Паскаля, умершего в 1983 году.
А вот эти научные ничтожества и воспитали уже "третье поколение" сорбоннских троцкистов и троцкисток, озверелых от своей ненависти к славянам, кельтам и германцам, кликушески борющихся со "сталинизмом XXI века" (то есть с традиционными государствами Евразии) в своих полных анахронизмов, плагиата и подтасовок публикациях.
Для системных антибелых расистов, русофобов, верных мёртвому Пьеру Паскалю, Троцкий — это бог, критике не подлежит. Поэтому во всех своих топорно слепленных докторских диссертациях они занимаются подтасовками вроде: Троцкий покинул СССР в феврале 1929 года, значит, троцкистов в стране не осталось. Именно поэтому этим шарлатанам-русистам подлинные цифры репрессий безразличны. Для них главное — доказать, что репрессии в СССР происходили без участия последователей их гуру — Троцкого.
Следовательно, вы все — наследники палачей. И вас надо перевоспитать, наконец-то реализовав месть самого Троцкого. "Дрессировка" славян троцкистами в XXI веке должна заключаться в изменении формы правления, воспитания детей, подхода к гендерному вопросу в ваших государствах. Иными словами, речь идёт также об основании религии системного антибелого расизма у наконец-то успешно "завиноваченных" славян.
Вы не сможете переубедить патократических русофобов с Запада. Однако из Российской Федерации может прийти ответ на манипуляции антибелых расистов: показать повсеместно, что именно их гуру Троцкий (с затем оставленными им в СССР троцкистами — спящими агентами) основал лагерную структуру Советского Союза, а затем удрал на Запад "бороться" со своим детищем, воспитав здесь, на Западе, целые поколения профессиональных университетских неоконсерваторов — врагов "сталинизма XXI века", который в их извращённом мозгу означает традиционных славян.
Эту непростую воспитательную работу необходимо провести в нынешних славянских государствах бывшего СССР. Ведь изначально исторические исследования террора были желанны в Российской Федерации, ибо планировались ради примирения населения: "Помнить о репрессиях, случившихся в Советском Союзе, и причинах, породивших их, необходимо, но нельзя вновь подталкивать общество к черте противостояния и призывать к сведению счётов", — заявил президент РФ Владимир Путин. Противостоять разжиганию войны в Восточной Европе профессорами-троцкистами, указать этим "учёным", что у них, наследников Троцкого, "руки в крови по локоть", — это будет истинная борьба с антибелым расизмом — русофобией.

Литературовед Анна Нижник: «Мы стали приложением к Всемирной сети и компьютерам: это уже не фантастика, а реальность»
Дмитрий БЕРЕЗНИЙ
О том, каким видят будущее современные писатели-фантасты, как рефлексируют над человеческой жизнью в условиях технологического прогресса и почему нас уже можно назвать киборгами, «Культура» поговорила с литературоведом, специалистом в области фантастической литературы, преподавателем РГГУ Анной Нижник.
— Антиутопические сценарии будущего Евгения Замятина или Джорджа Оруэлла, думаю, знакомы многим. А если говорить о сегодняшней литературе, изменились ли представленные в ней сценарии будущего? И каким в них предстает человек?
— Тут важно посмотреть на развитие всего жанра ретроспективно, ведь если вернуться к истории научной фантастики, то мы обнаруживаем странную тенденцию. То, что мы называем научной фантастикой сегодня, на Западе с момента возникновения книжного рынка называется «жанровой литературой».
Жанровая фантастическая литература в начале своем была сконцентрирована исключительно на проблеме технологий (можно вспомнить и Герберта Уэллса, и Жюля Верна) и формировалась как раз в условиях этого книжного рынка. Это литература массовая, написанная с целью увеличения прибыли издателей, продающаяся литература. Поэтому нередко термин «научная фантастика» воспринимается с некоторым пренебрежением. Однако в 50-е годы XX века это восприятие поменяется.
При этом важно подчеркнуть, что ни Замятин, ни Оруэлл, ни Хаксли, о котором вы забыли упомянуть, не писали свои книги как научно-фантастические с целью опубликовать их в специальных журналах по технике или в приключенческих сборниках для подростков. Это пример так называемой «большой литературы» со смежным жанром утопия/антиутопия. Это направление social fiction, политических фантазий и спекуляций, которые, подчеркну, строго говоря, не имели ничего общего с жанровой фантастической литературой.
— Иными словами, в зачатке своем фантастическая литература представляла собой описание технического будущего и почти не интересовалась политическими и социальными проблемами?
— Я бы сказала точнее: изначально научно-фантастическая литература была разделена на литературу политических спекуляций и литературу возможностей технического прогресса. Скажем, мы помним, конечно, что капитан Немо у Жюля Верна в прошлом — участник индийского восстания против британской короны, и лишь потом он построил свою потрясающую подлодку. Политический компонент есть, но он тут не доминирует.
Но затем политика и технологии начинают смыкаться. Все начинают понимать, что научно-технический прогресс существует не сам по себе, а приводит к политическим и социальным последствиям, связанным с развитием технологий. К середине XX века становится понятно, что многое из того, чего боялись в начале века, обусловлено именно технологиями, что, собственно, приводит к «слиянию» литературы политических спекуляций и литературы возможностей технического прогресса.
Например, Карел Чапек, «дедушка» научной фантастики, подарил нам слово «робот» и саму концепцию человекоподобной машины или неких андроидов, которые трудятся в чудовищных условиях. С него в принципе и начинаются рассуждения о том, как человек вписан или не вписан в гуманистический проект. И пишет он об этом именно в тот момент, когда Европу и Америку лихорадит борьба рабочих за свои права.
Темы освоения космоса, фантастических приключений, безусловно, присутствуют в научно-фантастической литературе и продиктованы ростом технических возможностей. Но эти возможности также меняют и жизнь на Земле. У Хаксли, например, одну из основных функций социального проектирования выполняет современная фармакология, позволяющая существовать в той реальности, в которой иначе человек бы сошел с ума от скуки и безысходности.
Тут можно вспомнить и великого фантаста Станислава Лема. В своем романе «Футурологический конгресс» он пишет о технологиях производства разного рода химических препаратов, которые позволяют людям будущего существовать в иллюзии нормальности, в то время как на самом деле мир будущего оказывается разрушен, там жить нельзя, есть нечего, вода грязная. Здесь вспоминается «Матрица», герой которой съедает таблетку и оказывается как раз в другой, «настоящей» реальности.
Позже, в 60–70-е годы вместе с сексуальной революцией и со второй волной феминизма научная фантастика задает вопрос о границах человеческой и нечеловеческой свободы. Яркими представителями этого периода были Джеймс Баллард и Филип Дик, которого мы знаем по повести «Снятся ли андроидам электроовцы?» (экранизирована под названием «Бегущий по лезвию бритвы»). Эта новая волна фантастики порождает жанр «киберпанк».
Киберпанк — это комбинация low life и high tech. Лоу-лайф — это жизнь бедняков, людей, выброшенных на обочину, а хай-тек — это про то, что высокие цифровые технологии с ними делают, когда человек живет уже «внутри» них. И здесь снова появляется политический протест, потому что задается вопрос о том, справедливо ли и нормально ли, что мы живем в таком обществе, где человек вынужден продавать свою память с применением чипов, вживляемых прямо в мозг, и что может происходить с этим человеком, что происходит вокруг?
— Тем не менее, вернемся к первому вопросу: как современные писатели-фантасты представляют нашу человеческую жизнь в будущем?
— Нужно сказать, что фантастические жанры множатся. На смену мрачному и суровому миру киберпанка приходит, например, solarpunk, «солнечный панк». В нем человек, будучи приложением к Всемирной сети и компьютерам, переосмысливает свое будущее уже не в контексте того, как мрачно и тяжело ему живется сейчас. Он думает о том, как можно увидеть будущее, которое было бы одновременно технологичным и все-таки более-менее справедливым, позволяющим делать выбор. Например, в «Соларе» возникает мир сохранения энергии и поиск альтернативных источников энергии, то есть проблемы экологии становятся здесь самыми важными.
Здесь я бы привела в пример несколько англоязычных антологий: «Экологические и фантастические истории в мире, который может сам себя поддерживать» и сборник «Стекло и сады». В одном из них опубликован рассказ Камиллы Майерс о том, что люди будущего вынуждены проводить эксперименты по созданию фотосинтезирующих людей, что избавляет всех от проблем плохого воздуха и от проблем поиска источников энергии. Для того чтобы жить припеваючи, нужно только солнце. Но естественно, жить припеваючи так просто не получается, потому что к технологиям прилагаются человеческие противоречия. В этом рассказе все проблемы крутятся вокруг противостоящих друг другу философий: с одной стороны, нельзя менять божье творение (эта философия представлена некими религиозными фанатиками), а с другой стороны, над человеком можно произвести любой эксперимент, если сам эксперимент подразумевает абстрактное общее благо и крупные прибыли (позиции корпораций).
То есть в современной литературе явно происходит попытка осмыслить проблему неравного доступа к технологиям и возможные варианты ее решения. Но хоть проблематика в целом новая, технологии новые, фантастические, биотехнологические, альтернативно энергетические, однако проблемы те же, человеческие: жадность, импульсивность, глобальное неравенство и все остальное, с чем так или иначе придется сталкиваться.
— А как писатели осмысляют проблему того, что современные технологии позволяют нарушить границы индивидуального пространства человека? Что технологии все сильнее посягают на пространство приватного?
— Об этом как раз речь идет в том же самом солар-панке: крупные государства или объединения становятся все мельче, возникает общинная жизнь, внутри которой, с одной стороны, человек менее свободен, а с другой стороны, вынужден гораздо в большей степени договариваться с другими. Поэтому вес его личного выбора и решений становится гораздо значительнее.
Здесь вспоминается роман «Хлорофилия» Андрея Рубанова — русская антиутопия о подчинении народа государству и социальном неравенстве. Из актуального, но не такого уж свежего можем вспомнить Владимира Сорокина с его вопросом о том, каким образом технологии влияют на идею государственности, в том числе его романы «Сахарный Кремль» или «День опричника».
В них Сорокин представляет собой интересный для России сплав, с одной стороны, технологичности, технологий, которые мы заказываем из-за рубежа, а с другой стороны, очень архаичного мышления, которое к этим технологиям прилагается и в свою очередь порождает страшные вещи, происходящие в том числе с психикой человека, который благодаря таким технологиям политической вседозволенности меняется. Интересно, что мир читатель видит глазами самого опричника, который творит насилие.
— Иными словами, в современной фантастической литературе человек будущего все более растворяется в социуме, становится частью неких социальных сетей, а значит, все более значимым становится идеал солидарности?
— Солидарная ответственность — это очень важная тема, потому что если в будущем мы сталкиваемся с общими вызовами, то и решать их можно только сообща. Насчет того, насколько человек в этот момент теряется как личность, я бы сказала, что преобразования происходят не с личностью, а скорее именно с самим обществом, в котором эта коллективная ответственность становится более актуальной. Это совершенно не значит, что личность там теряется, более того, личность продолжает переживать те же самые проблемы.
Здесь уместно вспомнить американскую писательницу Урсулу Ле Гуин. Она полагает, что основные тенденции, связанные с развитием человека, — это не объединение в единую тоталитарную сеть, в рамках которой нет никакой личности, а некоторый ретро-утопический откат назад в сторону сообществ, которые мы называем «нецивилизованными», типа сообщества индейцев или африканских племен, в которых не существует единой государственности, и люди, живущие небольшими группами, вынуждены договариваться друг с другом.
Другой пример — роман Майкла Суэнвика конца 80-х годов «Вакуумные цветы». Там Земля превращается в гигантский компьютер, объединенный общей сетью, мозг каждого человека подключен к этой единой сети, люди никогда не спорят, не договариваются и все время говорят «мы». Это довольно любопытно, потому что герой, такой типичный носитель западных индивидуалистических ценностей, попадая в такую реальность, приходит в ужас. Интересно, однако, что при этом такая единая сеть способна решать задачи, которые никто больше решить не может, и это любопытная вещь, ведь участники этой сети не страдают, мы просто представить себе не можем, что мог бы чувствовать такой человек.
— Мы говорили в первую очередь о художественной литературе, хотя есть немало популярных книг типа книги израильского исследователя Юваля Ноя Харари «21 урок для XXI века», где в научно-популярной форме представлено будущее человека, говорится о технологиях, которые внедряются в нашу жизнь и как бы нивелируют роль человека и его значимость. Есть ли перекличка в этом отношении между научно-популярной литературой с фантастической?
— Естественно, рассуждения на тему будущего в научно-популярной и особенно философской литературе есть. Отдельно можно упомянуть о том, что в философии и литературе становится популярно мировоззрение постгуманизм, трансгуманизм, в котором эволюция рассматривается как единый процесс. По-моему, еще французский философ Фернан Бродель предложил отсчитывать историю человечества от истории Земли, потому что совершенно невозможно оторвать человека от геологической истории Земли, биологической. Конечно, это большая иллюзия, что история человека начинается с первых найденных глиняных табличек. Это не так, человек существовал задолго до письменности. Кстати, такое обращение взгляда назад было характерно для советской фантастики.
Иван Ефремов в «Часе Быка» рисует читателю предсказания на тему светлого коммунистического будущего и при этом все время возвращается к истории Земли и говорит, что это единая история всего живого, всей материи и от этого никуда не деться.
Тут можно упомянуть популярного философа Донну Харауэй, написавшую в 1985 году «Манифест киборгов», в котором говорится о том, что мы уже вплетены в сети и никуда от них деться не сможем. По Харауэй, каждый из нас станет киборгом, в том смысле, что киборг — это сочетание ранее несочетаемых вещей.
Мы не можем себе по-настоящему представить, что такое женщина, что такое мужчина, взрослый или ребенок, рабочий, человек той или иной расы. Всегда будет какая-то недоговоренность. Харауэй говорит о том, что если мы во что-то вовлечены, значит, мы киборги, люди, в которых сочетается множество вещей. Мы постоянно меняемся: переезжаем из страны в страну, вступаем в коалиции с разными предметами, техникой — а не киборги ли мы уже? Пора это признать.
— Давайте попробуем резюмировать. Как современная литература рефлексирует на тему ценности человеческой жизни в условиях развивающейся технологической среды? Если литература не изменила своего представления, то, может, поменялся язык, палитра образов, стилистика? Или все очень индивидуально и зависит от каждого автора?
— Я бы сказала, что в современной литературе, которая размышляет об экологическом человеческом будущем, роль личности человека даже возросла: к ценности человеческой жизни как таковой прибавилась ценность всей жизни на Земле. Это не значит, если мы говорим об остальной жизни, что мы теперь презираем людей и нужно их уничтожить. Мы говорим, что все остальное существование точно так же важно, как и человеческое. Просто человеческая жизнь, при всей ее ценности, будет вплетена еще и в трудности того, что мы на планете не одиноки, мы и раньше были не одиноки, но нам казалось, что мы самые главные. Это не значит, что мы стали хуже. Просто появилось понимание, что выживание человека невозможно, если мы не оглянемся вокруг и не заметим кого-то еще здесь.
Что касается того, поменялся ли язык и стиль, трудно говорить о разных направлениях. Скажем, сейчас на подъеме китайская научная фантастика, в которой чувствуется влияние старого доброго соцреализма. Тем не менее, она самобытна. Не могу сказать, насколько изменился язык и стиль китайцев. Кроме того, появилась отдельная волна латиноамериканской фантастики, которая у нас недостаточно переведена. Она опирается на традиции магического реализма, в том числе на традицию Маркеса, Кортасара.
Однако стоит обратить внимание, что в фантастической литературе, начиная с 60-х годов, происходит отход от моноповествования, где есть лишь одна точка зрения и один герой, потому что это уже вещь совершенно невозможная в силу как раз сетевой организации нашего опыта и нашего общества. Часто уходит то, что мы называем авторитетный стиль, такое «толстовское» повествование во главе с автором, который знает все на свете, а читатель ничего не знает.
Наконец, еще одна тенденция — это отсутствие дидактики и передача решения читателю. В этом смысле фантастика 60–70-х годов очень амбивалентна: не очень понятно, хотели бы мы жить в этом обществе или нет? Как с романом «Мы» происходит. Если в «1984» мы бы жить не хотели, потому что там больно и нечего есть, то «Мы» в некотором смысле очень привлекателен, потому что вся эта картина нарисована прозрачно, ярко, зрелищно.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

























