Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
Главные отличия.
Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Ли Тамахори: «Всех этих людей стоит поставить к стенке и расстрелять»
В прокат выходит «Двойник дьявола» Ли Тамахори. В середине 1990-х Тамахори прославился драмой «Когда-то они были воинами» о судьбе потомков коренных жителей Новой Зеландии. После этого его пригласили в Голливуд, где он снял ряд крупных успешных фильмов (одну из серий бондианы «Умри, но не сейчас», «Пророк»), в том числе и таких, которые высоко оценены киноманами («Скала Малхолланд», «На грани»). «Двойник дьявола» — его первая картина, сделанная на европейские деньги, ставшая одним из хитов крупнейших кинофестивалей мира. Это вымышленная история молодого человека по имени Латиф, которого насильно принудили стать двойником Удэя Хуссейна — одного из сыновей Саддама Хусейна. В фильме Удэй показан садистом, развратником, наркоманом, убийцей — истинным дьяволом. Накануне российской премьеры фильма Ли ТАМАХОРИ рассказал «МН» о том, что всегда хотел снять кино об отпрысках великих диктаторов.
— «Двойник дьявола» не только стилизован под 80-е, он как будто бы и снят в эти годы. Вы специально поставили перед собой такую задачу?
— Да. Мы не могли снимать в Ираке, поэтому нам пришлось сделать свой Ирак, фальшивый. Я хотел показать зрителям Ирак таким, каким я его представляю. Наибольшее внимание мы уделили реквизиту — костюмам, машинам и другим деталям. Специфические прически — у всех женщин пышно уложенные волосы. Костюмы от Gucci и Аrmani, на несколько размеров больше нужного, могут многое сказать о месте и времени. Важный элемент, передающий ту эпоху, — музыка 80-х.
— В одном интервью вы сказали, что не пытались точно воспроизвести реальные события.
— Фильм основан на реальных событиях, но я с подозрением отношусь к так называемой правде. Неважно, о чем фильм, пусть об Александре Невском или Андрее Рублеве, — он все равно лишь визуализация представления режиссера о том времени.
Когда я брался за «Двойника дьявола», я отдавал себе отчет, что материал сложный и спорный. Я знал, что натворил сын Хусейна — сколько он убил и покалечил людей, сколько он изнасиловал школьниц. И я взял эти факты и окружил их вымыслом. Никто точно не знает, что тогда происходило в Ираке. Все участники событий либо умерли, либо желают оставаться в тени. Я намеренно отверг документальную стилистику и сделал ударение на драматическом вымысле, чтобы заставить зрителей поверить в реальность происходящего на экране. Хотя это всего лишь иллюзия реальности, которую я придумал. «Двойник дьявола» в некотором смысле гангстерский фильм, рассказывающий о бандитах, пришедших к государственной власти.
— Если вы не стремились докопаться до сути того, что на самом деле происходило в Ираке, чем вас привлекла эта история?
— Мне нравятся фильмы, где присутствуют харизматичные злодеи. Ведь если есть злодей, есть и конфликт. Не то чтобы фильмы о хороших парнях скучно смотреть, но интереснее, если положительному персонажу есть с кем бороться. В «Двойнике дьявола» злодей очень харизматичный.
Еще меня всегда интересовали дети диктаторов. Сирия, Ливия, Румыния, может быть, даже Советский Союз — в этих странах детей лидеров ни в чем не ограничивали, в их распоряжении имелись огромные деньги. Без какого-либо контроля они могли творить все что хотели — и доходили до того, что начинали убивать. И постепенно становились тенями своих отцов. Так произошло в Ираке с Хусейном и его сыновьями, так, видимо, произойдет и в Ливии с детьми Каддафи. А самый яркий пример — диктатор Ким Чен Ир, который приходится сыном еще более ужасному диктатору, «великому вождю» Ким Ир Сену. Ким Чен Ир хочет теперь передать свои полномочия одному из сыновей. По мне, так этих людей стоит поставить к стенке и расстрелять. Поэтому я показал сына Хусейна так, чтобы он вызывал отвращение. Чтобы кто-то поднял революцию и всех их убил.
— Вы ездили в Ирак для подготовки к фильму?
— Я очень хотел, но ничего не вышло. Мне просто не позволили этого сделать из-за страховки. Нас там могли убить или похитить, а страховка такого не покрывала. Я бы и снимал там, но это, к сожалению, почти невозможно. В итоге мы снимали в Иордании.
— Вы работали в Голливуде, а тут сделали относительно малобюджетный фильм на деньги бельгийских продюсеров. Почему?
— Никто в Америке не стал бы финансировать подобное кино. Во-первых, они нашли бы историю слишком ужасной. Во-вторых, в Штатах не любят все, что связано со словом Ирак, поскольку оно подразумевает смерть. Да и американские зрители не хотят смотреть фильмы об Ираке. Все это можно понять, но в моем фильме рассказано о периоде, который не имеет никакого отношения к США. Все, что было связано с американцами, я из фильма выкинул. Это ему навредило бы, особенно в Штатах. Понимаете, даже вторжение Буша в Ирак мало что изменило в жизни этой страны, там так же устраивают безумные вечеринки и похищают невест на свадьбах.
— Ваше мнение насчет вторжения Буша в Ирак изменилось после этого фильма?
— Оно никогда не менялось — вторжение американских войск в Ирак было абсолютно противозаконным. Не только нынешнее, но и то, что произошло в начале 1991 года, во время войны в Заливе. Американцы рассматривали это как гуманитарную интервенцию, но люди должны понимать, что Кувейт всегда был частью Ирака. К его отделению иракцы относятся болезненно. А вы поставьте себя на их место и представьте, что кто-то украл часть российской территории и передал ее другому государству. Я испытываю симпатию не к режиму Хусейна, а к обычным иракцам. Можно по-разному относиться к действиям американцев, но ведь истинная цель сводилась к тому, чтобы подобраться поближе к нефти. Если же говорить о 2003 годе, когда в Ирак вторгся Джордж Буш, то это уже самое настоящее военное преступление. Пока я делал «Двойника дьявола», мое мнение только укрепилось. Но я не хотел, чтобы оно как-либо отразилось на фильме. Потому что...
— ...фильм совсем о другом.
— Да, я не хотел делать политический фильм. Такой, как, например, «Не брать живым» Пола Гринграсса. Гринграсс хотел рассказать о нелегальном вторжении войск США в Ирак. А студии нужен был экшн-фильм. В итоге получилось нечто среднее — и экшн там хватает, и политики, и Мэтт Дэймон в главной роли. Гринграсс боролся, чтобы снять фильм о том, о чем хотел, но ему толком не дали. На такие темы никто не хочет давать бюджет.
— А «5 дней в августе» Ренни Харлина вы видели?
— Тот, что рассказывает о событиях в Грузии? Еще нет, но хочу. Харлин же родом из Грузии?
— Мне всегда казалось, что он родился в Финляндии.
— Да, я знаю. Но я где-то читал, что у него есть корни в Грузии… Я бы не стал доверять Михаилу Саакашвили и довольно скептично отношусь к его режиму. Не знаю, что так вдохновило Харлина, но его «5 дней в августе» — хороший пиар для Грузии. Не могу судить, пока не посмотрю фильм, но с точки зрения политики… Вот если бы Харлин снял фильм о событиях в Грузии на европейские деньги, да еще в Румынии, к нему сложно было бы придраться. А так, насколько я понимаю, «5 дней в августе» сняты в самой Грузии, да еще на государственные деньги, поэтому очевидно, что в картине показан взгляд на конфликт с грузинской точки зрения.
— Как в вашей фильмографии соседствуют такие разные фильмы, как коммерческий «Пророк» и «Двойник дьявола»?
— Мне нравится снимать драмы с экшн. Это не значит, что мне наиболее интересны погони и взрывы, но экшн кинематографу идет на пользу — ведь зритель, сознательно или нет, всегда приходит в кино за адреналином. И мне нравятся фильмы о людях, подвергшихся сильному стрессу. И о том, как они на него реагируют. Будь то человек, заброшенный в дикий лес, или человек, который вынужден стать двойником маньяка. Тогда сюжет может развиваться стремительно, а я не люблю, когда он буксует. При этом мои фильмы всегда довольно реалистичны, даже если речь идет о Джеймсе Бонде. Антон Сазонов

В последнее воскресенье июля в России по традиции отмечается День Военно-морского флота. Этот год стал знаменательным для российского военного флота по нескольким причинам: покупка во Франции "Мистралей", принятие на вооружение головных подводных атомоходов "Юрий Долгорукий", "Северодвинск", а также ракеты "Булава".
Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Высоцкий накануне главного профессионального праздника военных моряков согласился ответить на некоторые вопросы нашего специального корреспондента Сергея Сафронова.
- Товарищ главнокомандующий ВМФ, в этом году еще и исполняется 10 лет с момента принятия Морской доктрины государства. Как сегодня должны применяться доктринальные положения в сфере защиты интересов государства в Мировом океане? Каковы эти интересы сейчас?
- Очевидно, что военно-морская деятельность должна быть достаточной для обеспечения военной безопасности и устойчивого экономического развития страны.
Россия обладает широким спектром национальных интересов в военной, экономической, международной, информационной, пограничной, экологической и других сферах, защита которых связана с применением флота в Мировом океане.
Это, прежде всего, обеспечение гарантированного доступа России к ресурсам и пространствам Мирового океана, освоение и рациональное использование этих природных ресурсов в целях социально-экономического развития страны, а также недопущение доминирования каких-либо государств или военно-политических блоков. Последнее имеет важное значение для реализации национальных интересов России, особенно в прилегающих морях.
- Может ли флот применять свой боевой потенциал и арсенал в мирное время?
- Для реализации и защиты государственных интересов в Мировом океане Концепцией применения ВМФ, утвержденной министром обороны в январе 2007 года, предусмотрено применение флота по трем периодам: в мирное время, при возникновении кризисной ситуации и в военное время.
Основной формой применения флота в мирное время является его присутствие в оперативно важных районах для выполнения задач в области военно-морской деятельности. Это действия сил ВМФ по созданию и поддержанию благоприятной обстановки для реализации приоритетов внешней политики России по решению проблем в политической, экономической и других сферах, а также безопасной морской деятельности.
При возникновении кризисной ситуации стратегическая цель применения ВМФ мирного времени по созданию и поддержанию в океанских районах надлежащей обстановки, надежно обеспечивающей безопасность и защиту национальных интересов РФ во всех сферах, сохраняется.
В военное время стратегической целью применения ВМФ будет участие в действиях Вооруженных сил и ее союзников, в том числе и с применением нестратегического и стратегического ядерного оружия разнородными группировками ВМФ в составе межвидовых группировок.
- Владимир Сергеевич, труднейшие переговоры с французами по закупке "Мистралей" завершены. Какое место им отводится в российском ВМФ, зачем мы их все-таки купили?
- Помимо решения конкретных задач на море в качестве десантного корабля, штабного корабля, корабля управления, вертолетоносца, "Мистрали" нам нужны для получения технологий, которые помогут России освоить строительство современных многоцелевых крупнотоннажных кораблей.
- А где "Мистрали" будут базироваться?
- Окончательное решение о местах базирования первых двух "Мистралей" будет принимать министр обороны РФ и высшее военно-политическое руководство страны.
- Там же на ТОФе проходит подготовку индийский экипаж АПЛ "Нерпа", которая готовится к передаче в лизинг Индии. Насколько успешно проходит эта работа и когда она будет передана?
- Лодка обязательна будет передана Индии в этом году. Индийский экипаж прошел подготовку. Никаких крупных проблем с передачей лодки заказчику нет. В настоящее время идет подготовка к приемопередаточным испытаниям.
- Какова перспектива принятия на вооружение ракеты "Булава", точнее, всего комплекса АПЛ+ракета (АПЛ "Юрий Долгорукий" и ракета "Булава")?
- До конца года мы планируем провести до четырех пусков. Причем это будут пуски не только с борта АПЛ "Юрий Долгорукий". Мы планируем провести пуски и со второго штатного носителя "Александр Невский", который также спущен на воду и проходит последние испытания. В случае проведения удачных пусков вопрос о принятии на вооружение "Булавы" будет снят.
- Сколько лодок будет принято на вооружение флота в этом году? Звучат цифры три, четыре...
- Мы планируем, как минимум, завершить испытания двух, а третью АПЛ вывести на испытания. Все необходимые условия для этого созданы.
- Какова готовность на сегодня многоцелевой АПЛ "Северодвинск"?
- В августе месяце АПЛ "Северодвинск" выйдет на ходовые испытания.
- Известно, что планируется принять на вооружение восемь АПЛ класса "Борей", а сколько планируется закупить АПЛ типа "Северодвинск"?
- Не менее восьми АПЛ этого проекта до 2020 года.
- Столько подводных лодок мы намерены построить для вооружения Черноморского флота?
- В течение нескольких лет для Черноморского флота будет построено шесть дизель-электрических подводных лодок проекта 636.
- Вы упомянули новый эсминец океанской зоны. Когда он появится на флоте? Правда ли, что он будет атомным?
- Работа по созданию нового эсминца может быть начата в 2012 году.
- В последние годы ведется много разговоров об освоении Россией Арктики. Какие задачи в этой связи поставлены перед ВМФ России?
- В настоящее время в Арктике концентрируется широкий спектр вызовов и угроз, которые могут негативно повлиять на экономические интересы нашей страны. Политика РФ направлена на мирное урегулирование спорных вопросов в Арктике и сотрудничество в этом регионе.
Задачу обеспечения экономической деятельности России в море с повестки дня никто не снимал. Обстановка требует развивать и модернизировать боевой потенциал Тихоокеанского и Северного флотов.
В целом министерство обороны полагает, что целенаправленное выполнение основ государственной политики в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу будет способствовать укреплению статуса России, как ведущей арктической державы, укреплению ее безопасности и поступательному экономическому развитию.
- Какие действия в этом вопросе можно назвать достаточными ?
- Прежде всего, нужны новые корабли и мы их уже начали строить. Свои интересы надо уметь защищать. Кроме того, я недавно просил Морскую коллегию принять решение об обеспечении базирования сил ВМФ в ряде арктических портов, таких как Диксон, Дикси и Певек.
Вы уже знаете, что принято решение создать две бригады для защиты интересов России в Арктике. При создании этих бригад будет учитываться опыт вооруженных сил Финляндии, Норвегии и Швеции, где подобные соединения существуют давно.
- Какие шаги предпринимаются военным руководством по развитию системы навигационно-гидрографического обеспечения в Арктике?
- В настоящее время для навигационного обеспечения в Арктическом бассейне на всем протяжении трассы Северного морского пути используется радионавигационная система РСДН-20 сверхдальнего действия - до 10 000 километров. Она покрывает 70% земной поверхности, в том числе Арктическую часть, и позволяет определять местоположение кораблей и судов с погрешностью от трех до 15 километров. Для повышения точности определения места кораблей предполагается интеграция этой системы со спутниковой навигационной системой, что позволит определять местоположение потребителей с точностью до одного - пяти километров.
Большое внимание уделяется созданию условий по использованию спутниковой навигационной системы "ГЛОНАСС". С этой целью разворачиваются береговые контрольно-корректирующие станции, обеспечивающие работу глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS в дифференциальном режиме.
Существенно повысит эффективность исследований Арктики многоцелевая гидрометеорологическая космическая система "Арктика", предназначенная для мониторинга состояния атмосферы и поверхности Земли в арктическом регионе.
В соответствии с федеральной целевой программой "Глобальная навигационная система" по линии Минобороны России введены в опытную эксплуатацию контрольно-корректирующие станции в Белом и Баренцевом морях соответственно на маяках Мудьюгский и Цып-Наволокский.
В 2011 году проводятся работы по развертыванию станции на маяке Канин Нос.
В 2010 году Минобороны России в проект ФЦП "ГЛОНАСС" до 2020 года представило предложения по развертыванию контрольно-корректирующей станции в поселке Гремиха Северного флота.
- Много обвинений в адрес Минобороны было по поводу задержки с заключением контрактов с промышленностью... Чем это объясняется?
- Думаю, что Ваш вопрос несколько запоздал. Четкий анализ этих проблем, оценка выполнения Гособоронзаказа прозвучали в выступлениях президента РФ и председателя правительства РФ.
- На Международном Военно-морском салоне у стенда российского предприятия ТЕТИС ПРО Вы говорили об испытаниях новых технических средств для поисково-спасательного комплекса ВМФ. Какие испытания Вы имели в виду?
- Испытания новых технических средств для поисково-спасательного комплекса ВМФ России пройдут на Севере и Дальнем Востоке страны, причем подготовка начнется уже в этом году. В испытаниях примет участие автономный необитаемый подводный аппарат, который позволяет решать задачи поиска и обследования объектов на глубине более 1000 метров и подо льдом. Также вместе с этим аппаратом будет испытан мобильный декомпрессионный комплекс и телеуправляемый спасательный подводный аппарат.
Перед разработчиками поставлена задача увеличения времени работы подобных систем в подводной среде, так как сегодняшние 6-7 часов - это маловато.
Поставлена задача в дальнейшем увеличить глубину погружения, объем передаваемой информации по радио- и гидроакустическому каналам и интеграция комплекса в систему поисково-спасательных сил ВМФ. Для этого Центру перспективных программ поручено включить предложения по внедрению нового подводно-технического оборудования в концепцию совершенствования системы поисково-спасательного комплекса ВМФ.
Корабли и вертолеты на военно-морском салоне в Санкт-Петербурге. Фото >>
- Товарищ главнокомандующий ВМФ, что бы Вы хотели пожелать своим подчиненным и ветеранам ВМФ в преддверии праздника?
- Всем, кто выполняет задачи в море, кто посвятил свою жизнь флоту, хочу пожелать, прежде всего, успехов в нелегкой, но почетной службе, крепкого здоровья, счастья и уверенности в том, что Россия будет иметь сильный и современный Военно-морской флот.

«Мы слышим старые запевы о безальтернативности АЭС»
О том, какие уроки из трагедии в Японии вынес мировой «атомный» клуб, как будет развиваться атомная энергетика в будущем и о неоправданном пренебрежении российских властей к альтернативной энергетике «Энергии Европы», рассказал сопредседатель международной экологической группы «Экозащита» Владимир СЛИВЯК.
— Что ждет мировую атомную энергетику после катастрофы на «Фукусиме-1»?
— Чтобы оценить Чернобыль и его последствия, потребовалось два десятка лет, а после «Фукусимы» прошло всего лишь несколько месяцев. Но очевидно, что Европа для атомной энергетики будет неприятным местом. Хотя пауза в строительстве новых реакторов в Европе длится уже довольно давно, события на «Фукусиме» ускорили процесс замораживания европейских атомных программ. Сформировался очень мощный альянс «антиатомных» государств: в него входят Германия, Италия, Австрия, Греция, Швейцария, Испания, вскоре к этим странам может присоединиться Бельгия. Движения в сторону отказа от атома наблюдаются во Франции — самой атомной европейской стране. При этом непонятно, что будет после «Фукусимы» с теми немногочисленными европейскими реакторами, которые находятся в стадии строительства, — во Франции и Финляндии. Я не исключаю, что они будут достроены, но это не значит, что можно говорить о реализации масштабных атомных программ. В Европе довольно старый флот атомных реакторов, и для того, чтобы поддерживать сегодняшнюю норму выработки энергии, нужно за десять лет построить очень большое количество АЭС, которые бы заменили станции, выходящие из строя. Но это невозможно ни экономически, ни технически. Во-первых, новая АЭС — неоправданно дорогое удовольствие. А во-вторых, в мире уже давно наблюдается серьезный дефицит машиностроительных мощностей.
— Не является ли маховик отказов от развития атомной энергетики последствием шока? Может ли быть такое, что, «переболев» «Фукусиму», Европа вернется к мирному атому?
— Думаю, что не вернется. Я не могу назвать ни одну влиятельную европейскую страну, которая могла бы, скажем так, «отрезвить» соседей. Во Франции все далеко не однозначно, да и Великобритания, где истерии тоже не наблюдалось, давно отказалась от госсубсидий в атомную энергетику, отдав все на откуп бизнесу. Что в условиях Британии означает курс на постепенный отказ от мирного атома.
— Но если с Европой все более или менее ясно, то страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) последовательно развивают атомные программы.
— Когда заходит речь о развивающихся странах применительно к атомной отрасли, в первую очередь стоит говорить о Китае. Китай до «Фукусимы» обеспечивал мировой рост атомной отрасли. До катастрофы там было 20 строящихся реакторов. Причем строились они в основном своими силами, с использованием местных технологий. По своей конструкции китайские АЭС намного более отсталые, чем европейские, и, соответственно, гораздо менее безопасные. Я сомневаюсь, что «Фукусима» заставит китайские власти кардинально пересмотреть свои представления о том, как им развивать атомную отрасль. Но не исключено, что денег на мирный атом там станут выделять поменьше. После «Фукусимы» в Китае начались масштабные проверки всех строящихся АЭС.
Правда, нельзя упускать из виду тот факт, что доля «мирного» атома в энергетическом балансе Китая, несмотря на благоприятную почву для развития отрасли, составляет немногим более 2%. Больше всего в стране используется уголь. При этом в Китае активно развиваются все известные источники энергии, в том числе и возобновляемые. В 2010 году в Китае возводили примерно по одной ветротурбине в час. Каждые восемь часов Китай вводит столько же мощностей в ветроэнергетике, сколько есть во всей России, — 15 МВт. В Китае также развивается солнечная энергетика, причем при государственном участии в виде налоговых и прочих льгот. В Китае уже поняли, что экономический и практический эффект от альтернативной энергетики несопоставим с атомной — политика в области развития энергетики предусматривает, что к 2050 году возобновляемые источники энергии будут обеспечивать большинство энергии.
— Если говорить о возобновляемых источниках энергии, какие из них могут стать адекватной заменой мирному атому?
— В перспективе — солнечная энергетика, а также ветровая. Наиболее эффективно использовать не какой-то один, а как можно более широкий набор возобновляемых источников, комбинировать, исходя из особенностей того или иного региона.
— В ближайшей перспективе?
— Все зависит от желания. Если взять в пример Китай, то там есть четкая государственная стратегия развития энергетической отрасли: разрабатывать все источники энергии, но приоритет в будущем отдается возобновляемой энергетике. При правильном подходе возобновляемые источники дешевеют и успешно конкурируют с традиционными. Атомная энергетика, к слову, не смогла существенно увеличить свою долю в мировом энергобалансе за полвека постоянных субсидий. По данным за 2010 год, в балансе первичной энергии атомная энергия составляет всего 2%. Смешно говорить, что без этой технологии нельзя обойтись — мир от нее не зависит. В остальном с возобновляемыми источниками такая же ситуация, как и с другими источниками энергии на стадии развития, — отрасль будет развиваться, если ей помогать. Достаточно посмотреть на Германию, которая увеличила долю альтернативной энергии с 4% в 2000 году до 18% в этом.
— Россия относится к числу тех стран, на которые события в Японии никак не повлияли. Насколько оправданна принципиальность российских властей, заявивших после трагедии на «Фукусиме», что в России альтернативы мирному атому не существует?
— Неоправданна. У нас просто не хотят ничего делать. России сейчас выгодно делать вид, что все в порядке, даже если известно, что все очень плохо. Однако это может очень плохо кончиться. В Японии атомные проблемы тоже долгое время замалчивались, и теперь мы видим результат этого молчания. Вообще старые предрассудки о том, какой должна быть энергетика, нужно искоренять на государственном уровне. У нас еще при премьере Касьянове была федеральная программа по развитию возобновляемых источников энергии, но ее просто не стали финансировать и закрыли. Вместо этого мы слышим старые запевы о безальтернативности АЭС и значении газа.
— Насколько безопасны российские реакторы? Дмитрий Медведев, выступая на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, заверил, что сегодня Россия строит атомные станции по технологиям, которые соответствуют уже постфукусимским требованиям, то есть требованиям повышенной безопасности.
— Во-первых, новые реакторы в несколько раз дороже, чем старые. Чтобы заменить старые на новые, потребуется не одно десятилетие и колоссальные финансовые ресурсы. Из-за дороговизны замена всех старых реакторов на новые очень маловероятна. Более того, возможность тяжелой аварии с расплавлением активной зоны не исключена на 100% и в новом реакторе.
В любом случае, первые несколько блоков только начали строить, они далеки от завершения. На практике безопасность новых реакторов не подтверждена, а к теоретическим заявлениям не стоит относиться серьезно. В отношении чернобыльских блоков РБМК тоже говорили, что они абсолютно безопасны, что их можно строить на Красной площади.
Еще не одно десятилетие нам придется жить со старыми и опасными атомными блоками, если, конечно, российские власти не начнут применять европейские стандарты безопасности, и несколько новых ситуации не изменят. Вячеслав Козлов

Нелинейное примирение
Армяно-турецкая нормализация в прошлом и будущем
Резюме: Кризис и спад армяно-турецкого процесса не привел к его политической смерти. Идеи нормализации и примирения с соседом стали частью внутреннего дискурса и в Армении, и в Турции. Сближение перешло в плоскость сложных согласований и торга как внутри самих «мирящихся» стран, так и между «большими державами», от которых зависит внешний контекст.
Геополитические перспективы Южного Кавказа (Закавказья) во многом зависят от динамики армяно-турецких отношений. После распада Советского Союза взаимные конфронтационные настроения, распространенные в двух этих государствах, существенно затрудняют превращение Кавказского региона (и без того начиненного неразрешенными этнополитическими конфликтами) в территорию мира и поступательного развития. Армяно-турецкая нормализация создала бы дополнительные предпосылки для урегулирования застарелого конфликта между Арменией и Азербайджаном (стратегическим союзником Турецкой Республики) из-за Нагорного Карабаха. Открытие армяно-турецкой границы позволит Армении вырваться из региональной изоляции (сегодня две из четырех межгосударственных границ страны закрыты), стать транзитным государством и получить выход в Европу.
Для Турции же налаживание связей с Арменией способствовало бы движению к трем стратегическим целям ее внешней политики: сближению с Европейским союзом, широкому проникновению на Кавказ (не ограничиваясь кооперацией с Азербайджаном) и превращению в самостоятельный (менее зависимый от США и НАТО) центр в Евразии. Однако за два десятилетия, прошедших после распада Советского Союза и появления на карте мира Республики Армения, продвинуться от конфронтации к добрососедству не удалось.
Армяно-турецкая нормализация востребована и из-за внешних обстоятельств. Революционные потрясения в странах Ближнего Востока чреваты непредсказуемыми сценариями (рост политического исламизма, более активное вовлечение Ирана в ближневосточную геополитику, эскалация напряженности между Тегераном и Вашингтоном, ухудшение ирано-израильских и турецко-израильских отношений). Все эти «фоновые» факторы могут коснуться и Южного Кавказа. Перед лицом возможных угроз урегулирование старых конфликтов (или как минимум серьезное продвижение в этом направлении) позволило бы и Анкаре, и Еревану сосредоточиться на разрешении и предотвращении новых рисков и кризисов.
1990-е годы: первые шаги навстречу друг другу
По справедливому замечанию турецкого исследователя Мустафы Айдына, «отношения с Арменией были для Турции особенно сложным вопросом из-за наследия взаимного недоверия между обеими странами и народами, а также исторического багажа, от которого они не сумели освободиться». Однако изначально и Анкара, и Ереван проявили интерес к политике добрососедства. Турецкая Республика признала независимость Армении уже 16 декабря 1991 г. (через восемь дней после подписания Беловежских соглашений и за пять дней до принятия Алма-Атинской декларации, зафиксировавшей основные принципы Содружества независимых государств). Схожим образом армянская элита пыталась начать политический диалог «с чистого листа».
Еще в конце 1989 г. будущий первый президент Армении Левон Тер-Петросян говорил о пантюркизме как «об окончательно перевернутой странице в истории Турции». Первое постсоветское правительство, состоявшее из представителей Армянского общенационального движения (АОД), начало проводить в жизнь курс на «историческое примирение» с соседом. В июне 1992 г. Тер-Петросян встретился с тогдашним турецким премьер-министром Сулейманом Демирелем. Это произошло в рамках Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), инициированного Анкарой проекта по экономической интеграции стран Кавказа и Черноморского бассейна. Затем лидеры провели двустороннюю встречу. В апреле 1992 г. Ереван посетил посол Турции в России Волкан Вурал, а в августе 1992 г. делегация турецкого МИДа. Именно через Турцию в Армению (уже блокированную со стороны Азербайджана) было поставлено 100 тысяч тонн пшеницы, оттуда начались поставки электроэнергии.
Однако практически сразу же после распада СССР в армяно-турецких отношениях остро встал вопрос о границах. Ереван всегда испытывал неоднозначные чувства по поводу границы, определенной мирным договором 1921 года. Депутаты национального парламента вновь независимой Армении заявили об отказе от признания границ, установленных не Ереваном, а Москвой. В итоге уже весной 1992 г. Анкара заявила, что будущие дипломатические отношения возможны только после снятия всех пограничных споров и формально-правового признания Ереваном границ, сложившихся на 1991 год.
Помимо проблемы разграничительных линий напряженность между двумя странами усиливалась вследствие разных трактовок событий 1915 г. в Османской империи. В пункте 11 Декларации о независимости Армении (принята 23 августа 1990 г.) целью провозглашалось «международное признание геноцида армян 1915 г. в Османской Турции и Западной Армении». Таким образом, помимо гуманитарного аспекта (необходимость признания понесенных армянским народом жертв) в документе содержалось определение части территории современной Турецкой Республики как «Западной Армении».
Жирный крест на первой попытке нормализации поставила эскалация конфликта между Арменией, де-факто государством Нагорно-Карабахской Республикой (провозглашена в сентябре 1991 г.), с одной стороны, и Азербайджаном, с другой. После того как в 1993 г. попытки Баку подавить армянское вооруженное сопротивление в Нагорном Карабахе закончились неудачей (пиком военных успехов азербайджанской армии стало лето 1992 г.), формирования НКР при поддержке регулярной армии Армении предприняли ряд эффективных военных операций. Армянские силы вышли за пределы территории бывшей НКАО (Нагорно-Карабахской Автономной области в составе Азербайджанской ССР), занимая поочередно Кельбаджарский (апрель 1993 г.), Физулинский и Джебраильский (август 1993 г.), Кубатлинский (август-сентябрь 1993 г.), Зангеланский (ноябрь 1993 г.) районы. Все эти операции сопровождались эксцессами и преследованиями этнических азербайджанцев.
Наращивание вооруженного противостояния спровоцировало открытое выступление Турции на стороне тюркоязычного Азербайджана, связи с которым в Анкаре рассматривались как приоритетные. В апреле 1993 г. Турция закрыла сухопутную границу с Арменией (чуть более 300 км). Но хотя общественное мнение Турции требовало применить к Армении более жесткие меры и активнее поддержать Азербайджан, официальная Анкара ушла от прямого вовлечения в военное противоборство. Турецкая дипломатия прибегла по большей части к «мягкой силе», стремясь мобилизовать международное общественное мнение против действий Еревана. Именно тогда в широкий оборот были запущены такие понятия, как «армянское вторжение», «армянская агрессия» или «оккупация». В Турции также велась информационная кампания по обличению Армении, якобы оказывающей помощь Рабочей партии Курдистана (организации, которую в Турции рассматривают как террористическую).
После того как 12 мая 1994 г. вошло в силу Соглашение о бессрочном прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, Анкара выступила с инициативой разместить в регионе международные миротворческие силы. Идея до сих пор не реализована. Нагорный Карабах представляет собой уникальную «горячую точку» постсоветского пространства, где противников не разделяют миротворцы, а перемирие держится на одном юридически обязывающем документе (хотя периодически и нарушается мелкими стычками и перестрелками). В итоге, по справедливому замечанию ереванских политологов Александра Искандаряна и Сергея Минасяна, армяно-турецкие отношения перешли в фазу «статики».
15 лет «застоя»
В 1993–2008 гг. в процессе армяно-турецкой нормализации наступила продолжительная пауза. Армения осталась единственным государством Южного Кавказа, с которым у Турции не было дипломатических отношений. Закрытием сухопутной границы с Арменией Анкара пыталась усилить геополитическую изоляцию последней (к этому времени сухопутная граница с Азербайджаном была уже закрыта). Изоляция усугубилась после того, как с помощью нефтепровода Баку–Тбилиси–Джейхан (открыт 13 июля 2006 г., общая протяженность 1773 км) и газопровода Баку–Тбилиси–Эрзерум (открыт 25 марта 2007 г., общая протяженность 970 км) Турция укрепила коммуникационные связи с двумя другими кавказскими республиками – Грузией и Азербайджаном. Эту же линию по углублению региональной изоляции Армении должен был продолжить и железнодорожный проект Баку–Ахалкалаки–Тбилиси–Карс (его реализация началась в 2007 г. при решающей финансовой роли Турции). Еще в 1996 г. турецкий МИД заявил, что «до тех пор, пока Армения не предпримет шаги в направлении достижения соглашений с Азербайджаном, решение держать на замке границу останется в силе».
Практически в течение всех лет «застоя» этот подход в той или иной мере воспроизводился. Позиция же Армении значительно ужесточилась, когда президентское кресло занял Роберт Кочарян (1998–2008 гг.). Как утверждают ереванские политологи, именно тогда тема международного признания геноцида армян стала рассматриваться как «неконвенциональное оружие» против Турции. Выступая на 53-й сессии ООН, Кочарян попытался вернуть в сферу международной политики «армянский вопрос». Позиция второго президента Армении по всему комплексу армяно-турецких отношений была в целом гораздо более жесткой. На саммит ОЧЭС, прошедший в Стамбуле в июне 2007 г., Кочарян не поехал, мотивировав свой отказ отсутствием дипломатических отношений между странами.
Между тем, даже резкое ухудшение двустороннего армяно-турецкого диалога не привело к его полной и окончательной «заморозке». В Турции звучали мнения о том, что сухопутная блокада не достигает своей цели. Об этом, в частности, говорили представители администрации пограничных с Арменией регионов. Так, губернатор Карса заявлял в одном из своих выступлений: «Жизнь в нашей провинции умирает на глазах из-за того, что нет прямого выхода за рубеж». В 1996 г. открылось авиационное сообщение Ереван–Стамбул (позже к нему добавится рейс Ереван–Анталия). В 1995 г. Стамбул посетил спикер национального парламента Армении Бабкен Араркцян. Заметим, что этот визит состоялся в год, который не только Армения, но и армяне диаспоры отмечали как восьмидесятилетие геноцида армян в Османской империи.
Несмотря на закрытие сухопутной границы в течение всего «застойного периода», регулярно осуществлялся торговый оборот (как правило, через третьи страны). По словам сопредседателя Турецко-Армянского делового Совета Каана Сояка (апрель 2009 г.), товарооборот между Турцией и Арменией в нынешних условиях (отсутствие дипломатических отношений и закрытая сухопутная граница) составляет 150 млн долларов, а в случае открытия границы может вырасти до 300 миллионов. В 2001–2004 гг. функционировала Турецко-Армянская комиссия по примирению, в процессе работы которой на уровне экспертов высказывалась идея о желательности нормализации двусторонних отношений (а в перспективе и исторического примирения). Все эти факты сами по себе и вместе взятые создавали предпосылки для выхода из застоя и перехода к новой попытке преодоления конфронтационного сценария.
2008–2009 годы: ветер перемен
9 июля 2008 г. во влиятельном издании The Wall Street Journal Europe вышла статья третьего президента Армении Сержа Саргсяна под заголовком «Мы готовы разговаривать с Турцией». Армянский лидер справедливо констатировал, что и турки, и армяне пытаются разными способами преодолевать закрытую сухопутную границу: «Они получают выгоду от регулярных рейсов из Еревана в Стамбул и Анталию. Есть многочисленные автобусные маршруты и такси через Грузию, и даже грузовики предпринимают долгие объезды, таким способом помогая торговле между нашими странами».
Статья привлекала к себе интерес не только потому, что глава Республики Армения призывал соседнюю страну к пересмотру внешнеполитических приоритетов. Автор – человек, никогда не принадлежавший к «либеральному лагерю» внутри Армении и ранее не замеченный в стремлениях к улучшению двусторонних отношений с Турцией. Напомним, что Серж Саргсян до своего президентства занимал ключевые позиции в силовых структурах Армении (то есть по определению более консервативной части республиканского истеблишмента, привыкшего хотя бы в силу профессии с подозрением смотреть на соседнюю державу). Впрочем, экспромт 9 июля был хорошо подготовлен. Двумя неделями ранее Саргсян пригласил своего турецкого коллегу Абдуллу Гюля посетить футбольный матч между командами двух стран в рамках отборочного цикла чемпионата мира. А это приглашение стало, в свою очередь, результатом начавшегося непубличного переговорного процесса между Ереваном и Анкарой.
Что же заставило третьего президента Армении констатировать: «Не существует альтернативы установлению нормальных отношений между нашими двумя странами. Я надеюсь, что наши правительства смогут пройти через порог новой открытой двери»? Существовало несколько причин для такой «смены вех». Одним из главных последствий нагорно-карабахского конфликта стала экономическая и геополитическая изоляция Армении. Республика имеет только два окна в мир через Иран и Грузию. И оба ненадежны. Первое слишком зависит от глобальной политической ситуации, которая все менее предсказуема, политики Соединенных Штатов и других ведущих держав в отношении Тегерана. Второе делает Ереван заложником российско-грузинских отношений. «Пятидневная война» в Грузии в августе 2008 г. воочию продемонстрировала эту зависимость (а также уязвимость позиций Армении). В этом плане определенное потепление армяно-турецких отношений могло бы оторвать весь комплекс связей между Анкарой и Ереваном от разрешения нагорно-карабахского конфликта. И Вашингтон, и Москва обозначили свою заинтересованность в таком развитии событий в 2007–2008 годах.
Что касается Турции, то, во-первых, попытки нормализации контактов с Арменией стали важной частью кавказской стратегии Анкары. В отличие от США и Евросоюза, Турция не новичок в кавказской «большой игре». В XVI–XVIII веках исторический предшественник Турецкой Республики – Османская империя – вела борьбу за доминирование на Кавказе с Персией, а в XVIII – начале ХХ века – с Российской империей. Значительная часть территорий нынешних государств Южного Кавказа в различные периоды входили в состав Турции.
В начале 1920-х гг. основатели современной Турецкой Республики и лидеры Советской России договорились о статус-кво в регионе. Турецкая Республика фактически выступала в роли гаранта автономии Нахичевани в составе Азербайджана и Аджарской АССР в составе Грузии. Однако в годы холодной войны Турцию оттеснили от разрешения этнополитических проблем Кавказа. Она играла роль главного партнера США и натовского плацдарма на Юге. Между тем относительная пассивность Анкары определялась не только геополитическими соображениями. Создатели республиканского строя Турции – кемалисты – стремились оборвать все связи с наследием Османской империи (включая и исторический нарратив, и представления об «османском геополитическом пространстве», которое включало Балканы и Кавказ). Отсюда и акцент на «национальных» началах в противовес региональным (в которых, как считали отцы-основатели республики и хранители ее идеалов, рисковала раствориться турецкая национальная «самость»).
После распада СССР в 1991 г. Турция вернулась в кавказскую геополитику. Этому способствовало, во-первых, образование тюркоязычного независимого государства – Азербайджанской Республики (Турция признала его 9 декабря 1991 г.) и этнонациональное самоопределение тюркских народов Северного Кавказа, а во-вторых, наличие многочисленной «кавказской диаспоры» в самой Турции. По различным оценкам, на территории Турецкой республики проживает сегодня от 2,5 до 7 млн выходцев из Кавказского региона. Для установления точной цифры существуют объективные трудности. В XIX веке (период массового наплыва выходцев из Кавказа в Турцию) иммигрантов называли «черкесами», хотя помимо адыгов в Османскую империю переселялись и чеченцы, и представители дагестанских этнических групп, и осетины. В-третьих, с окончанием холодной войны и распадом биполярного мира Турция столкнулась с многочисленными новыми вызовами. Региональные конфликты в Нагорном Карабахе, Южной Осетии, Абхазии, Чечне происходили в непосредственной близости от ее государственных границ. В-четвертых, значительную роль в активизации турецкой внешней политики на кавказском направлении сыграло политико-философское осмысление места и роли Турции в глобальном мире.
По мнению историка и журналиста Игоря Торбакова, новое внешнеполитическое освоение Кавказа Анкарой базируется на идеологии «неоосманизма»: «Его истоки уходят в начало 1990-х гг. – эпоху президента Тургута Озала. Однако подлинный расцвет течения совпадает с приходом к власти в Турции умеренно-исламистской ПСР (Партии справедливости и развития. – Ред.). Одним из основных идеологов неоосманизма является главный внешнеполитический советник Гюля и Эрдогана профессор Ахмет Давутоглу… В отличие от кемалистов, неоосманисты с готовностью включают в турецкое наследие и османское прошлое, и османское геополитическое пространство… По мнению Давутоглу и его последователей, Турция отнюдь не находится на обочине НАТО, Европейского союза или Азии. Турция, утверждают неоосманисты, расположена в самом центре Евразии и непосредственно – исторически и географически – связана с такими стратегически важными регионами, как Балканы, Ближний Восток и Кавказ. Неудивительно поэтому, что неоосманисты являются сторонниками гораздо более активной внешней политики – особенно на территориях, относящихся к османскому геополитическому пространству».
Эта стратегия уже принесла свои плоды на ближневосточном направлении турецкой политики. «Турция заново открывает Ближний Восток». С помощью этой метафоры аналитик RAND Corporation Стив Ларраби пытается описать усилия, которые в последние годы предпринимает Анкара в этом крайне сложном для глобальной повестки дня регионе. В последние пять лет Турция сделала серьезнейший прорыв в развитии двусторонних отношений с Сирией, хотя еще в начале 2000-х гг. Анкару и Дамаск было трудно заподозрить во взаимных симпатиях, а эксперты даже предполагали возможность осуществления военных сценариев. В 2004 г. впервые в истории сирийский президент посетил Турцию. Сегодня же дипломаты двух стран в конструктивном ключе обсуждают такие вопросы, как разделение водных ресурсов Евфрата или противодействие курдскому движению. Это, среди прочего, сделало Дамаск намного более осторожным в подходах к признанию геноцида армян. И последнее соображение (по порядку, но не по важности) – интерес Турции к Европе, который посредством «обнуления отношений с соседом» только усиливается, пишет Ларраби. Анкара пыталась (правда, без особого успеха) участвовать в урегулировании острого внутреннего кризиса в Сирии весной 2011 года.
В 2008–2009 гг. Армения и Турция пытались стремительно наверстать упущенные за 15 лет возможности. 6 сентября 2008 г. президент Турции Абдулла Гюль впервые посетил Ереван (его визит назвали «футбольной дипломатией»), а 22 апреля 2009 г. при посредничестве швейцарских дипломатов Ереван и Анкара подписали «Дорожную карту» конкретных мероприятий по нормализации отношений. Однако наибольшего продвижения в процессе нормализации Армения и Турция достигли 10 октября 2009 г., подписав в Цюрихе «Протокол о развитии двусторонних отношений» и «Протокол об установлении дипломатических отношений».
Подписание этих документов – не просто значительный шаг вперед в процессе примирения Армении и Турции, хотя бы потому, что две страны взяли на себя и политические, и юридические обязательства. Названы конкретные сроки реализации объявленных инициатив. Так, в «Протоколе о развитии двусторонних отношений» Анкара и Ереван «договорились открыть общую границу в течение двух месяцев после вступления в силу данного Протокола». В «Протоколе об установлении дипломатических отношений» стороны «договорились установить дипломатические отношения со дня подписания данного Протокола в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях от 1961 года, обменяться дипломатическими представительствами». Оба документа могли вступить в силу «в один и тот же день – в первый день месяца, следующего за обменом инструментами ратификации». Создание же рабочей группы под руководством двух министров иностранных дел с целью разработки механизмов функционирования межправительственной комиссии (и подкомиссий в ее составе) планировалось через два месяца после вступления в силу «Протокола о развитии двусторонних отношений между Республикой Армения и Турецкой Республикой». Таким образом, в разговоре Еревана и Анкары изменился не только тон, но само содержание, от слов перешли к делу. Оба протокола дали свою интерпретацию такого критически важного для двусторонних отношений сюжета, как геноцид армян в Османской империи. Это – «диалог в исторической плоскости между двумя народами, направленный на восстановление взаимного доверия, в том числе с помощью научного беспристрастного изучения исторических документов и архивов для уточнения имеющихся проблем и формулирования предложений». Диалог планировалось развивать в формате «подкомиссии, занимающейся исторической плоскостью» (она будет работать внутри армяно-турецкой межправительственной комиссии).
От прогресса к новому «застою»?
Однако эти два юридически обязывающих документа не прошли фазу ратификации в национальных парламентах Армении и Турции. Парламент Турецкой Республики начал рассмотрение обоих протоколов практически сразу после их подписания 21 октября 2009 года. Оппозиция в знак протеста покинула зал заседаний, а многие представители правящей Партии справедливости и развития вели себя весьма сдержанно. Создалось впечатление, что немедленная ратификация документов не входит в число их приоритетов.
Естественно, снова зазвучал «карабахский фактор». Тема, которая была проигнорирована Турцией во время подписания двух протоколов, получила второе рождение после цюрихской церемонии. О необходимости совместить два мирных процесса турецкий премьер Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе своих встреч с американским президентом Бараком Обамой (7 декабря 2009 г.) и главой российского правительства Владимиром Путиным (13 января 2010 года). По справедливому замечанию турецкого эксперта Митата Челикпала, «Эрдоган слишком сильно связал себя с этой проблемой (нагорно-карабахской. – Ред.), и люди, принимающие решения в Анкаре, возлагают всю ответственность на армянскую сторону».
В Армении же вхождение в фазу «застоя» также сопровождалось жесткими спорами и массовыми проявлениями публичного недовольства. Как бы то ни было, 12 января 2010 г. Конституционный суд (высшая судебная инстанция Армении) признал: два армяно-турецких протокола соответствуют Основному закону страны. Казалось бы, вот он, долгожданный шаг к укоренению армяно-турецкого примирения в массовом сознании граждан Армении. И этот шаг приветствовал Госдепартамент США. Однако это решение вызвало жесткую реакцию Турции. Все дело в том, что Декларация о независимости Армении (считающаяся составной частью Основного закона страны) содержит пункты о необходимости международного признания геноцида армян и упоминание «Западной Армении». Таким образом, получалось, что подписанные Анкарой и Ереваном документы соответствуют требованиям не просто признания геноцида, но и определенного признания «Западной Армении», то есть территориальной проблемы.
В обеих странах далеко не все оказались готовы к быстрому пересмотру сложившихся мифов, стереотипов, подходов. И Анкара, и Ереван не смогли реализовать задачи, которые ставились ими при запуске процесса «перезагрузки». Наивно полагать, что армянские и турецкие дипломаты начали примирение ради абстракций. Каждая сторона преследовала вполне конкретные прагматические цели. Армения пыталась вбить клин между Баку и Анкарой. Турция надеялась на отдаление Еревана от армянской диаспоры, которую демонизируют и в Анкаре, и в Баку. Турецкие дипломаты также просчитались, надеясь на то, что изоляция их визави сделает собеседников сговорчивее. По мере отдаления от поставленных целей обе стороны теряли интерес к мирному процессу. Как результат, замедление темпов ратификации и многократное воспроизведение на новом витке старых претензий и упреков.
Однако армяно-турецкое примирение никогда не было исключительно внутриполитической проблемой двух соседних республик, его нельзя свести к формату взаимоотношений Еревана и Анкары. Это – часть большой кавказской игры, в которой у «больших игроков» есть собственные соображения. И в Соединенных Штатах, и в России существовали свои резоны для участия в армяно-турецкой перезагрузке. В отличие от грузинской темы здесь позиции Москвы и Вашингтона полярно не отличаются друг от друга, каждый по-своему заинтересован в сотрудничестве с Турцией. Если у США налажен высочайший уровень кооперации с Турцией в сфере безопасности (от него весьма сложно отказаться), то у России имеются серьезные интересы в развитии совместных энергетических проектов («Южный поток» – наглядный тому пример). При этом Армения – важный партнер и Вашингтона, и Москвы. И в первом, и во втором случае нельзя сбрасывать со счета позиции армянского лобби.
Что же получилось в «сухом остатке»? Активизация поисков возможных схем по разменам. Как следствие, чем больше американские и российские политики говорили о невозможности сочетать армяно-турецкое примирение и нагорно-карабахское урегулирование, тем сильнее эти два процесса сближались и влияли один на другой. Точнее сказать, они мультиплицировали сложности, которых и без того хватает в каждом из них.
В итоге 22 апреля 2010 г. в преддверии девяносто пятой годовщины геноцида армян в Османской империи президент Армении Серж Саргсян выступил с обращением к нации. В этом обращении он заявил о необходимости приостановки двух протоколов об установлении дипломатических отношений и развитии двусторонних связей, подписанных его страной и Турцией в октябре 2009 г. в Цюрихе. По мнению армянского тюрколога Рубена Мелконяна, президент Армении лишь формализовал фактический кризис процесса нормализации.
Однако, констатируя спад в сложной динамике армяно-турецкой нормализации, нельзя говорить о ее полной остановке. Армянский лидер приостановил ратификацию протоколов, но так и не вышел из мирного процесса окончательно. Два цюрихских документа не аннулированы, а глава Армении готов к продолжению диалога. В конце концов, мирные процессы никогда не развиваются линейно. Для того чтобы идеи добрососедства, высказанные еще харизматическим президентом Турции Тургутом Озалом, сработали (например, в отношениях с Сирией или в меньшем объеме с Ираном и Грецией), потребовался не один год. Что же касается кипрского конфликта, прорыва так и не произошло, несмотря на определенную позитивную динамику начала 2000-х годов. Прошлогодняя победа на президентских выборах в непризнанной Турецкой Республике Северного Кипра Дервиша Эроглу, последовательного противника объединения острова, – яркое тому доказательство.
С армяно-турецким процессом та же история. Кризис и спад не означают политическую смерть. Идеи нормализации и примирения с соседом стали частью внутреннего дискурса и в Армении, и в Турции. Сегодня уже не турки с армянами, а армяне между собой и турки между собой спорят о том, что надо сделать, чтобы помириться. С меньшими издержками и затратами для себя, конечно же. Но в любом случае взаимоотношения вышли на иной уровень. Процесс нормализации перешел в плоскость сложных согласований и торга как внутри самих «мирящихся» стран, так и за их пределами между «большими державами». Однако примирение двух исторических противников уже не раз случалось, Армения с Турцией не открывают здесь ничего принципиально нового. Существует опыт и греко-турецких отношений, и болгаро-турецких, и польско-украинских, и польско-литовских, и германо-российских, и венгерско-румынских, не говоря уже об израильско-германском примирении, и превращении в ближайших союзников таких исторических противников, как Германия и Франция. Естественно, историческое примирение должно прежде всего соответствовать национальным интересам примиряющихся сторон, а также быть политически рентабельным. В противном случае ожидать нового «ветра перемен» придется еще долго.
С.М. Маркедонов – приглашенный исследователь Центра стратегических и международных исследований (CSIS, г. Вашингтон).

Вид из Смольного
Валентина Матвиенко: «Молва уже восемь лет пытается пристроить меня куда-нибудь, давно не обращаю внимания на слухи. Их ведь и распускают, чтобы выбить из колеи, внести смятение в душу, но я опытный боец, на провокации не поддаюсь»
Который год кряду у ведущих экономистов и политиков появляется повод посетить Санкт-Петербург не только ради белых ночей, но и для участия в ставшем традиционным Петербургском международном экономическом форуме. На правах хозяйки губернатор города Валентина Матвиенко рассказывает об особенностях открывающегося 16 июня ПМЭФ-2011 и даже заглядывает на семь лет вперед.
— Какой это по счету форум для вас, Валентина Ивановна?
— Порядковый номер у него пятнадцатый, можно сказать, юбилейный, но персонально для меня — восьмой.
— У китайцев это счастливое число.
— Пожалуй, соглашусь с нашими восточными соседями. Форум давно утвердился в качестве площадки, где принимаются определяющие экономические решения, с каждым годом его статус становится все весомее. Количество участников, гостей и аккредитованных журналистов постоянно растет, содержание и качество дискуссий на пленарных заседаниях и круглых столах повышается, к нам едут главы государств и правительств, руководители крупнейших международных компаний и корпораций...
— Город участвует в формировании повестки дня ПМЭФ?
— Разумеется. Представители Смольного входят в состав оргкомитета. На нас лежит обязанность принять гостей, разместить их. За последние пять лет номерной фонд гостиниц Петербурга увеличен вдвое, иначе мы не справились бы с наплывом желающих приехать. Традиционно уделяем большое внимание культурной программе ПМЭФ, на этот раз на Дворцовой площади с концертом выступит Стинг.
— Девиз нынешнего форума — «Лидеры для новой эры». О ком, на ваш взгляд, речь?
— О людях эпохи Facebook. Определение не мое, но мне оно нравится.
— Вы, к слову, зарегистрированы в этой сети, Валентина Ивановна?
— Личной страничкой пока не обзавелась. У самой, честно говоря, руки не доходят, а передоверять ее кому-то было бы неправильно. Хотя уже не мыслю жизнь без Интернета, утро начинаю с просмотра новостей на сайтах, отслеживаю отклики на события в городе.
— Слышал, даже ваша двухлетняя внучка увлеклась iPad?
— Поразительно, но Арина прекрасно с ним управляется! Если нужно чем-то занять ребенка, достаточно дать эту электронную игрушку. Правда, родители разрешают брать планшетник на полчаса в день, не более... Но вернемся к вопросу о лидерах. Для меня это современно мыслящие, идущие вперед и способные повести за собой люди. Новое время требует новых идей и решений.
— А конкретно?
— Если говорить о бизнесе, то на смену персонажам из 90-х, многие из которых стремились любой ценой получить прибыль и поскорее вывести ее в офшор, приходит поколение, ставящее перед собой иные цели. К примеру, в прошлом году в Петербурге открылся крупнейший в Восточной Европе завод по выпуску энергосберегающих светодиодных ламп. Авторы проекта — наши земляки, ученики нобелевского лауреата Жореса Алферова. Трое талантливых ученых, что называется, на коленке, в двухкомнатной квартире в Купчине, разработали ноу-хау, но внедрить его на родине сразу не смогли и открыли производство в Германии и Финляндии. Сейчас вернулись в Россию, поняв, что времена изменились и созданный ими инновационный продукт будет востребован здесь. И это не единичный случай. В бизнес все чаще идут люди, думающие не о том, как бы побольше урвать, а понимающие, что нужны высокотехнологичные отечественные разработки на уровне лучших зарубежных образцов. Это единственно возможный путь для нашей страны.
— Завод по выпуску «ё-мобилей» вписывается в предложенную схему?
— Безусловно. 8 июня мы закладываем первый камень в фундамент будущего производства. То, что Михаил Прохоров выбрал площадку для строительства в Петербурге, легко объяснимо. За последние годы в городе сформировался настоящий автомобильный кластер, включающий в себя восемь заводов ведущих мировых автоконцернов плюс сеть предприятий по выпуску комплектующих. Это Toyota, Nissan, Hyundai, Magna, Scania, MAN... Так что у «ё-мобиля» будет хорошая компания.
— Как вам, к слову, название?
— Хулиганистое, но ставка ведь делается на молодежь, а она любит игру на грани фола. Важно удержаться в рамках заявленной ценовой политики.
— Сколько времени пройдет от закладки первого камня до возведенных стен?
— В соответствии с подписанным нами соглашением в 2013 году должен начаться выпуск машин. Но, кстати, «ё-мобилем» новые проекты не ограничатся. Буквально накануне открытия форума мы заложим камень и в основание завода по производству медикаментов крупнейшей транснациональной фармацевтической корпорации Novartis, имеющей представительства в 140 странах мира. Теперь она приходит и в Россию, инвестируя в экономику города более ста миллионов долларов. Но мы сразу поставили условие: Петербург не будет расфасовочным цехом для привозимых откуда-то из-за границы лекарств. Нам нужна и собственная научно-исследовательская составляющая, позволяющая заниматься разработкой современных медикаментов. Для этого в городе есть все условия. На основе подписанных на прошлогоднем форуме соглашений в ближайшее время в Петербурге планируем создать девять новых фармацевтических предприятий. Это наш вклад в реализацию правительственной программы «Фарма-2020». Если же говорить о других инвестиционных проектах ПМЭФ-2011, мы вышли на следующий этап соглашения с Объединенной судостроительной корпорацией. Речь о строительстве новой судоверфи в Кронштадте, она постепенно заменит устаревшие Адмиралтейские верфи, которые верой и правдой служат городу со времен Петра.
— По-вашему, Валентина Ивановна, стоит ждать громких политических сенсаций от форума? Он хоть и экономический, но проходит под патронажем президента России... Вы понимаете, о чем я.
— Пока не совсем.
— Ну как... На первый-второй рассчитайся! С прицелом на 2012-й.
— Не думаю, что подобные заявления должны делаться на мероприятиях типа ПМЭФ. Не тот повод. На форуме идут иные дискуссии, для политических манифестов есть другие форматы.
— Поводы появляются и отпадают, а решающее слово не произносится. Это и на бизнесе, и на управляемости государством начинает сказываться сильнее и сильнее. Разве нет?
— Не соглашусь. Меня эта тема абсолютно не беспокоит. В стране идет нормальная работа, каждый должен заниматься своим делом и не бежать впереди паровоза. Понятно, интерес к президентским выборам не праздный, но давайте поэтапно решать задачи, сначала пройдем думскую кампанию, спокойно и цивилизованно изберем новый парламент.
— Полагаете, это возможно? Я о спокойствии.
— Борьба будет обостряться, это ясно. Общей культуры оппонентам порой не хватает. Партии, сознающие, что проиграют и не попадут в Госдуму, вместо того чтобы думать над программами, работать с избирателями, разъясняя свою позицию и платформу, уже сегодня начинают кричать о фальсификациях и подтасовках. Заранее готовят общественное мнение в нужном им ключе.
— Что бедолагам делать, если партия, идентифицирующая себя с властью, торпедирует оппонентов, используя имеющиеся у нее ресурсы?
— И в этом случае не могу разделить вашу точку зрения. Демократия в нашей стране молодая, так сложилось, что «Единая Россия» является партией парламентского большинства.
— Пока!
— Абсолютно убеждена, что на нынешнем этапе развития это единственная сила, которая готова взять на себя ответственность за будущее страны и обеспечить поступательное движение вперед. Понятно, что к партии власти всегда есть претензии и она уязвима со стороны оппозиции. Проще критиковать и обещать золотые горы, не выполняя свои слова, нежели заниматься конкретными делами и держать ответ перед избирателями. Да, может наступить усталость от примелькавшихся лиц, да, «Единая Россия» должна меняться, но она это сейчас и делает, в том числе с помощью Общероссийского народного фронта. Идея его создания, на мой взгляд, очень своевременна и важна...
— Значит, вы уже записались добровольцем, Валентина Ивановна?
— Я состою в партии, мне не нужно куда-то дополнительно вступать. К фронту присоединяются те, кто готов поддержать «Единую Россию» конструктивными идеями и хочет реализовать их. Но мы в Петербурге не стараемся затащить в Народный фронт всех подряд, лишь бы отчитаться о выполненной работе. Боже упаси! Пусть по факту и бумагам у нас окажется не так много союзников, зато придут убежденные сторонники и единомышленники.
— Как говорил незабвенный Владимир Ильич, работавший здесь, в Смольном: лучше меньше, да лучше.
— Полагаю, эта формула применима к Народному фронту. Важно аккумулировать реально болеющих за страну людей.
— Когда будут готовы региональные списки кандидатов на выборы в Госдуму?
— Это определяется законодательством. Я думаю, в сентябре.
— Пока, получается, идет зачистка поляны? Вот Сергея Миронова вывели из игры, дав под дых «Справедливой России».
— Для меня сразу было очевидно: глава представляющей регионы палаты Федерального собрания не может руководить оппозиционной партией. Тут уж или одно, или другое. В медицине раздвоение сознания — диагноз, а в политике — нежизнеспособная конструкция.
— Тем не менее она благополучно простояла несколько лет, а за полгода до выборов вдруг рухнула.
— Ситуация обострилась не по нашей вине. Сергею Михайловичу пришлось проявлять активность, дабы напомнить о себе как об оппозиционере. Но крики «Долой «Единую Россию!» и «Позор губернатору Матвиенко!» — это ведь не позиция. На кликушестве и голом популизме второй раз голоса избирателей не завоюешь. На прошлых выборах «Справедливая Россия» много чего посулила людям, а что сделала в действительности? Когда Миронов говорит о гонении из-за политических взглядов, мне становится смешно. Сначала надо эти взгляды иметь... В принципе огорчение «Справедливой России» объяснимо: партия лишилась возможности эксплуатировать административный ресурс третьего лица в государстве.
— Зато у «Единой России», похоже, никто не отнимет право использовать и первое, и второе.
— Если только в качестве моральных авторитетов.
— Ну да, поэтому Вячеслав Володин, оставаясь руководителем аппарата правительства, видимо, в свободное от работы время укрепляет Народный фронт...
— Мы ведь с вами уже обсудили, с какой целью создается движение...
— Чтобы закрыть тему: после ухода Миронова из спикеров Совета Федерации на эту должность стали сватать вас.
— Молва уже восемь лет пытается пристроить меня куда-нибудь, давно не обращаю внимания на слухи. Их ведь и распускают, чтобы выбить из колеи, внести смятение в душу, но я опытный боец, на провокации не поддаюсь...
— Как сказалось на вашем рейтинге решение зарубить строительство «Охта центра», Валентина Ивановна?
— Честно скажу, что меньше всего думала об этих цифрах, хотя мне приносили данные социологических замеров. Отношение к «Охте» в Питере было неоднозначным, проект имел и сторонников, и противников.
— Вы долго его поддерживали.
— Да, поскольку понимала, как он важен для развития города. Но мы не стали ломать ситуацию через колено, в итоге проект остался, лишь место для него нашли иное, устроившее практически всех, в том числе руководство «Газпрома». «Лахта центр» даст толчок развитию еще одного района Петербурга. Да и построить высотку там будет проще и дешевле. Как говорится, нет худа без добра.
— Много копий наломали и вокруг границ охранной зоны города, планов сузить исторический центр.
— Наглая ложь! Никто ничего волюнтаристски сокращать не собирается. В Список всемирного наследия ЮНЕСКО Петербург внесли еще в 1990 году, но границы тогда обозначили неточно, поспешно. Одним махом нарисовали четыре с половиной тысячи гектаров без буферных зон. Для понимания: в Риме исторический центр ограничен полутора тысячами гектаров, в Париже и Вене и близко до этого рубежа недотягивает. Словом, двадцать лет назад сделали, по сути, жест доброй воли. Необходимость корректировки и профессиональной инвентаризации признают и международные эксперты, недавно приезжавшие в город. Питер должен развиваться, это живой, растущий организм. Есть несколько вариантов и подходов, решение пока не принято, процесс лишь начался, поэтому политические спекуляции совершенно не уместны. Проработка предложений займет минимум год. Давайте наберемся терпения.
— Но вы, кажется, готовы заглянуть и на семь лет вперед, коль согласились возглавить городской оргкомитет по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года.
— А как иначе? Мы рады, что сможем принять соревнование планетарного масштаба. Для этого строим суперсовременный стадион, где, надеемся, пройдут матчи рангом не ниже полуфинальных. Это не амбиции, а реальные возможности. В России пока нет арен с выдвижным полем и закрывающейся над 65-тысячными трибунами крышей.
— Тут все понятно, хочу о другом спросить. Выходит, вы планируете все это время рулить в Петербурге?
— Не сомневалась, что спросите... Вот сколько буду губернатором, столько и останусь председателем оргкомитета. Каков вопрос, таков ответ!
Андрей Ванденко

Александр Аузан: «Каждый раз нам будет все труднее влезть в окно»
— Вы входите в правление Института современного развития (ИНСОР), подготовившего доклад «Обретение будущего. Стратегия-2012». А еще в экспертную группу, работающую над «Стратегией-2020», которую считают консервативной альтернативой либеральной инсоровской программе. Нет ли здесь противоречия?
— Инсоровский документ — это не программа, это политическое заявление с некоторыми экспертными позициями. Оно начинается с вопросов, о которых не очень принято говорить в правительственных программах. Оно провоцирует, заставляет дискутировать. Представление документа — еще не программа. Но вопрос о втором президентском сроке публично поставлен. И это правильно. Ведь если документы пишутся непонятно для кого и для какого времени — очень тяжело.
— Как «Стратегия-2020», да?
— «2020» — это библиотека идей, набор разных смысловых кубиков, которые могут служить строительным материалом. Это неплохо. Но стратегии, мне кажется, из нее не получится — как только внутри начнется рейтингование, все развалится.
— Стратегия же предполагает выбор из массы сценариев?
— Конечно, но кто выбирать-то будет? Если это делается для правительства России, которое в июне 2012-го приступит к работе, то оно и будет выбирать.
— Четыре года уйдет на выбор кубиков?
— Нет, думаю, к 1 декабря, когда должна закончиться работа над «Стратегией-2020», эти кубики по трем-четырем вариантам будут разложены. И тогда надо будет принимать политическое решение: куда едем?
— Кому принимать?
— Правительству, которое будет назначено по предложению нового президента России и по представлению нового премьера.
— Понятно. Сделаем вид, что мы не знаем их имена.
— А я действительно не знаю. На мой взгляд, неправильно говорить, что в России нет политического цикла. В России нет нормальных выборов, но политический цикл есть. Если бы меня в 1979-м спросили, кто будет генсеком ЦК КПСС после XXVI съезда партии, я бы сказал: Брежнев Леонид Ильич. А после XXVII? Брежнев Леонид Ильич. А сейчас я не знаю, кто станет президентом России, кто премьером, какое будет правительство. Так что работа над будущим идет в условиях некоторой неопределенности.
— Предположим, к 1 декабря удастся все кубики разложить по конструкторам, а каждый конструктор поместить в коробку. Сколько будет коробок и что на них будет написано?
— Если бы я раскладывал, коробок получилось бы три. Одна коробка — продолжение того, что есть. Ведь есть вероятность, что правительство в 2012 году продолжит делать то, что делает нынешнее. У нас это называется «оптимизационный сценарий». Они уже последние пять лет занимаются оптимизацией: поскольку непонятно, куда идти и зачем, давайте вот тут сделаем получше, это подешевле, это эффективнее. На самом деле это, конечно же, инерционный сценарий.
Вторая коробка — либеральный вариант. Его нужно готовить тщательно, здесь потребуются изменения в политической сфере. Понадобится отойти от сложившейся в Думе машины голосования. Придется заниматься судебной системой, ключевой для поддержки частной собственности, которая в либеральном сценарии всегда важна.
Третий вариант конструктора — социально-либеральный. У нас он называется «позитивной реинтеграцией».
— Промежуточный между инерционным и либеральным?
— Не совсем. Либеральный вариант экономической политики мы проходили в первое президентство Путина. Первые три года была чисто либеральная политика — дебюрократизация, снижение барьеров, создание хозяйственного законодательства, ликвидация феодальных препятствий между регионами. Эффект был, рост начался, но нефть в итоге оказалась важнее. А барьеры, которые тогда убирали, в следующий президентский срок стали выше. Нужны и другие варианты, которые учитывают серьезные социальные изменения за последние два года, например накачку пенсионной системы. Мы не можем вернуться в 2000 год по условиям старта. Мы живем в другой стране. Раньше правительство проводило относительно либеральную политику и говорило: по Конституции мы «социальное государство». А потом, в 2008–2009-м, практически все резервы были обращены в деньги пенсионной системы и в повышение зарплат бюджетникам.
— А расплата?
— Хороший вопрос.
— Вот ваши кубики и накрылись.
— Секунду. Посмотрите, сейчас возникает развилка между премьером и президентом. Премьер по-прежнему стоит на позиции (я, кстати, не знаю экономистов, которые ее разделяют), что пенсионная система должна поддерживаться за счет дополнительных налогов на бизнес. А президент огласил свои десять предложений по улучшению инвестиционного климата, и в первом же пункте — прямо противоположная идея: не отказываясь от поддержки пенсионной системы, снижать госрасходы и издержки госкомпаний. То есть фактически спор о том, за чей счет — малого и среднего бизнеса или бюрократии. Это разные вещи, согласитесь. Некоторые развилки рождены уже не идеологией, а реальной экономической ситуацией.
— Прекрасная ситуация. Коллектив или, как это сегодня модно говорить, «облако» всех значимых экспертов в стране создает несколько наборов из кубиков, упаковывает их в разные коробки, дабы отдать их неизвестно какому правительству в 2012 году.
— Да ладно, ситуация обычная. Как работают Think Tanks (мозговые центры) в США? Они работают, не зная, какой будет президент: одни делают программу для демократа, другие — для республиканца. Есть еще странные ребята, которые делают программу независимо от того, кто будет у власти.
— Но там угол развилки несравнимо меньше, чем у нас. Там речь не идет о выборе между инерцией и модернизацией. А кто здесь заказчик вашего облачного коллективного творчества?
— Работы идут по распоряжению главы правительства. И премьер вместе с министрами и вице-премьерами раз в квартал обсуждают промежуточные результаты. Президент раз в квартал получает доклад. И у премьера, и у президента в основной разработке находится план из десяти пунктов по изменению инвестиционного климата. Ракурс прозвучавшего из уст президента в Магнитогорске ясен, это не облако вариантов. Из слов премьера тоже понятно: речь идет о продолжении курса, им же заложенного в 2008–2009 годах.
— Президент, премьер или неизвестные нам лица — зачем все это?
— Могу ответить на вопрос, зачем я участвую в стратегических работах. В принципе если этого не делать, апокалипсис не наступит. Но будет страна, в которой скукота невозможная! Собственники чего-то там обитают в Лондоне. В стране живут охранники и таджики. Детей, проявивших какие-нибудь таланты, немедленно вывозят в Финляндию. Через страну проходит пятирядная дорога из Китая в Европу, которую Владимир Сорокин предсказал.
— Кто кроме вас и нас, то есть кроме небольшой группы, чего уж там, заинтересованных лиц, на самом деле есть субъект модернизации?
— Я бы сказал так: приглашение на танец исходит от президента Медведева. Как глава консультативной группы комиссии по модернизации я изучаю, что говорят по этому поводу в Интернете, в социальных сетях. В России действительно две партии — партия телевидения и партия Интернета, она же партия модернизации. Из Интернета, в частности, мы черпаем содержательные мнения.
— Достаточна ли сильна партия Интернета, чтобы президент Медведев пригласил ее на танец?
— Приглашение-то он сделал. Но чтобы все получилось....
— Я поняла, что это напоминает. Такой интеллигентный мальчик в пионерском лагере. Всю смену он готовится, что на последнем медляке пригласит заветную девочку. И вот медляк. Мальчик краснеет, бледнеет, а девочка просто вышла! И это еще хорошо: а если бы отказала?
— Это главная опасность. Экономист Владимир Мау недавно говорил об этом в Белом доме. Нынешняя ситуация от докризисной отличается тем, что активные группы реализуют экзит-стратегию — они уходят из России. Это самое трагическое, что может произойти со страной. Уходят по-разному: студенты учатся, чтобы обустроиться за границей, большой бизнес перекидывает активы, малый и средний — бежит в Казахстан. Так что вполне может быть и такое, что «девушка выйдет». Поэтому ее сейчас надо хотя бы убедить выслушать мальчика.
— Что нужно, чтобы предложение Дмитрия Медведева, допустим, партии Интернета, не только было услышано и принято, но и чтобы танец состоялся?
— Несколько недель назад на Пермском экономическом форуме была проведена мощная деловая игра по возможным сценариям нового общественного договора. Играли очень сильные люди, за группы «Бизнес», «Федеральная повестка», «Региональная повестка», «Общественный запрос». Были хорошие модераторы. Получилось два варианта. Первый: когда федеральная власть, понимая, что для продления лояльности нужно чем-то платить, а стабильность уже обеспечить нельзя, как раньше, расширяет автономность разных сторон. Например, уходит из каких-то сфер бизнеса, передает какие-то вопросы региональным властям, причем вместе с деньгами, представляете? Во втором варианте активная группа получает право принимать решения. Теперь в отличие от того, как это было в начале 2000-х, когда мы тоже проводили аналогичные игры, игроки поняли, что если они хотят прав на принятие решений, то должны чем-то жертвовать.
Помните, бизнес в начале 2000-х годов говорил: мы платим налоги, отойдите. Между тем платил он в 2000-м гораздо меньше, чем сейчас. Зато теперь бизнес намерен инвестировать в социальный капитал, в человеческий капитал, потому что понял: без этого воспроизводства не будет. Некоммерческие организации, которые раньше говорили: наше дело указывать власти, где она неправа, — сейчас готовы вырабатывать варианты решений. Регионы раньше предлагали задавить муниципалитеты, а теперь готовы выстраивать эффективные обратные связи. Но активные группы не играют, когда у них нет права голоса.
— Что имеется в виду под правом голоса?
— Воздействие на принятие решений. Необязательно голосование, потому как в любой стране представителей активных групп не очень много, но они поводыри для массы менее активных сограждан. Поэтому один из вариантов может быть связан с политической демократизацией. Но есть и другие варианты: например, передача полномочий, предположим, от министерств саморегулируемым организациям. Первое условие партнерства — делиться возможностями участия в принятии решений, без чего ни качественных решений не будет, ни уверенности в том, что что-то можно сделать. Второе — наличие реального спроса на модернизацию у активных групп. А спрос начинается там, где ты готов что-то отдать для того, чтобы достичь желаемого.
— У меня ощущение, что никто уже танец «модернизация России» танцевать не будет. Нет института репутации в стране, нет доверия. Не представляю себе, на основе чего могло бы возникнуть доверие граждан к властям, властей к гражданам и доверие граждан друг к другу.
— Есть очень хороший пример, и даже если я неправ в интерпретации, он заставляет задуматься. Доверие граждан друг к другу в России падало непрерывно с 1989 года, с начала замеров. Тогда 74% опрошенных было готово доверять. А сейчас 88% не готово. Но в бизнесе результат прямо противоположный: три-четыре года назад 82% бизнесменов сказало, что можно доверять контрагенту.
Нормальный путь восстановления доверия — сверять, что было обещано, скажем, год назад, с тем, что реально произошло. Но в России это делать очень не любят. У нас в стране поразительная девичья память.
— У граждан или у властей?
— У всех. Есть сфера, где у нас прогресс за последние 20 лет был необычайный: мы перешли от экономики дефицита к экономике потребления. Когда человека надувают, скажем, в турфирме, он начинает качать права, изучать законодательство. А по отношению к государству не делает того же, хотя вообще-то платит ему налоги. Должен включиться рефлекс, отработанный за эти 20 лет на туристических компаниях. Чем ремонт дорог или школы отличается от ремонта квартиры или садика? Разница лишь в способе платежа. Для многих общая картинка выглядит так: есть нефть и газ, власть, понятное дело, получает оттуда доходы, много ворует, но еще что-то людям дает. А дареному коню в зубы не смотрят. Но это не вполне правильная картинка. Потому что власть берет с вас подоходный налог 13% в месяц. Он невелик в масштабах госбюджета, но подсчитайте, сколько вы заплатили за последние десять лет?
— Мне кажется, что картинка грустнее: даже не допускается, что власть людям что-то дает, — все крадет, отбирает, лжет. И бессмысленно с этим бороться, потому что убьют, сгноят.
— Пессимизм — официальная религия нашего населения, за которой скрывается тщательно спрятанная вера в лучшее будущее. Пусть все так: ничего нельзя, все страшно. Но на авось запрятана вера в то, что чего-нибудь получится. Вот мы и пытаемся эту штуку превратить в рациональное потребительское отношение к власти. Может, и получится.
— Вы, как я понимаю, сторонник точки зрения, что одно «окно возможностей» мы уже пропустили и оно уже закрылось за нашей спиной. Но при этом считаете, что в обозримом будущем откроется еще одно. Когда и надолго ли? И как нам успеть туда запрыгнуть?
— Вот прямо сейчас слышу: ставни скрипят. Экономический кризис закончился. А все серьезные изменения происходят либо в конце политического цикла, либо в начале. То есть 2012-й — рубежный год. Насколько откроется окно, не знаю. Но то, что оно будет приоткрываться, очевидно. Как экономика на это воздействует: ливийская война, конечно, держит цены на уровне, что позволяет расслабиться и закурить.
— А окно-то тут.
— Да. Но хочу заметить, что такая устойчивость возможна при одном допущении: кто-то заключил соглашение с врагом рода человеческого, который периодически будет взрывать атомные станции, устраивать войны в африканских странах с единственной целью — не дать России выбраться с инерционной траектории.
— А если мы не успеем в это окно, еще одно будет?
— Да, только каждый раз нам будет все труднее влезть в него. Потому что страну сносит. Вот что недавно сказал мне один мудрый индус, который 40 лет наблюдает за Россией: «В детстве в Пенджабе я видел, что есть две страны — вы и Америка, которые решают судьбу мира. Потом оказалось, что не две страны решают. Затем стало ясно, что вы не только часть группы стран, а часть группы развивающихся стран. Во время кризиса выяснилось, что вы самая слабая часть в этой части. Господа, ваш корабль, по-моему, тонет. Только очень-очень медленно». Татьяна Малкина

Архангельская область. Сенатор Николай Львов: Региональную долю "лесного" бюджета нужно увеличивать
На 14-17 июня запланировано выездное заседание Комитета Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов, которое пройдет в Архангельске. Тема заседания - "Законодательное обеспечение охраны окружающей среды, сохранения и использования природных ресурсов, развития туризма в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (на примере Архангельской области)". С первым заместителем председателя комитета Николаем Львовым мы говорим о том, что нужно сделать с федеральным лесным законодательством, чтобы всем в лесу стало хорошо.
- Николай Питиримович, месяц назад в Архангельске прошел международный Лесной форум, очень запомнилось ваше выступление на нем - такое непричесанное, непарадное...
- А к чему лукавить? Все присутствовавшие на форуме специалисты хорошо знают, каково реальное положение дел во всех этих вопросах. Взять хотя бы экономическую составляющую: вклад лесного сектора в экономику нашей страны совершенно не соответствует ресурсному потенциалу лесов. На долю России приходится всего немногим более трех процентов мировой лесной продукции, и столько же лесная продукция составляет в валовом внутреннем продукте страны.
У нас самая низкая среди развитых стран эффективность лесопользования, с одного гектара леса собирается намного меньше древесины, чем, например, в Финляндии и Швеции. Менее двадцати процентов добываемой древесины идет на глубокую переработку, тогда как в скандинавских странах этот показатель достигает восьмидесяти пяти процентов. Значительную часть экспорта лесных товаров составляет необработанный круглый лес.
- Можете выделить коренную причину проблем?
- В числе важнейших причин я бы назвал несовершенства лесного законодательства. На недостатки Лесного кодекса как основополагающего для отрасли законодательного акта многие эксперты и специалисты лесного хозяйства указывали еще во время его принятия. И, как показывает правоприменительная практика последних лет, многие положения лесного законодательства требуют значительной корректировки.
Достаточно сказать, что практически на каждом заседании нашего комитета, а они проводятся два, иногда три раза в месяц, мы рассматриваем один или два законопроекта о внесении изменений в Лесной кодекс. Большинство из них разработано в регионах, а это значит, что они направлены на решение конкретных возникших проблем. Большим недостатком лесного законодательства, по нашему мнению, является то, что в нем практически не учитываются региональные особенности ведения лесного хозяйства.
- Если говорить о нашей области - что здесь?
- Во-первых, отсутствует правовой механизм определения северной границы лесов, в результате чего большие территории залесеных притундровых земель не входят в лесной фонд, и возникают трудности с правовым регулированием лесопользования на таких землях. В то же время большая часть притундровых лесов отнесена к категории защитных лесов, что обусловливает ограниченный режим их использования.
Во-вторых, положения Лесного кодекса об обязательной аренде лесных участков не учитывают особенности традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Севера в местах их компактного проживания, не позволяют установить ограничения или запреты на другие виды использования лесов, наносящие ущерб исконной среде обитания коренных народов и препятствующие ведению традиционного образа жизни.
Кроме того, необходимость аренды оленьих пастбищ не соответствует самой природе осуществления северного оленеводства. Это приводит к множественным злоупотреблениям и ограничению доступа коренного населения к оленьим пастбищам. Нуждаются в корректировке и экономическом обосновании размеры ставок платы за использование лесных площадей для целей оленеводства.
Неоднократно уже говорилось о том, что при расчете размеров субвенций, которые выдаются регионам на осуществление передаваемых федеральных полномочий, связанных с ведением лесного хозяйства, не учитывается тот факт, что на северных территориях затраты более высокие. Также не учитываются площади резервных лесов, на значительной части которых в районах Севера ведется интенсивная хозяйственная деятельность.
Уровень финансирования мероприятий, направленных на защиту и воспроизводство лесов, остается низким. В этой связи мы считаем целесообразным предусмотреть коэффициент, увеличивающий размер субвенций с учетом природно-климатических условий северных территорий.
- На прошлой неделе в областном правительстве прошло экстренное селекторное совещание по подготовке к пожароопасному сезону. На ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы противопожарные меры стали реально действенными?
- Как вы знаете, после жаркого лета 2010 года и лесных пожаров в средней полосе России в Лесной кодекс и ряд других федеральных законов внесены изменения, регламентирующие вопросы охраны лесов от пожаров. В том числе пересмотрены полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления по осуществлению мер пожарной безопасности и тушению пожаров.
Но при передаче полномочий регионам не учитывается, что в настоящее время у органов исполнительной власти субъектов РФ нет в подчинении специализированных лесопожарных, аварийно-спасательных формирований или лесной пожарной охраны. Не закладывается финансовая основа для создания и содержания региональных государственных специализированных бюджетных учреждений, которые могут создаваться для работы по тушению пожаров.
Неэффективным и нецелесообразным также мы считаем порядок организации работы по тушению лесных пожаров, который предлагает федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Приближается лето, и, честно говоря, может получиться так, что на многих территориях, прежде всего дотационных, так и не будут созданы необходимые условия для преодоления возможных природных катаклизмов.
- Какие меры вы предлагаете?
- Необходимо создать жизнеспособные лесохозяйственные организации, которые смогут эффективно выполнять лесные работы для государственных нужд, в том числе при тушении лесных пожаров.
Кроме того, требует решения проблема "бесхозных лесов", на которые не распространяется в явном виде действие лесного законодательства. Это леса и защитные лесные полосы на землях сельскохозяйственного назначения, а также леса на землях поселений. По оценке экспертов, на "бесхозные" леса приходится до пяти процентов лесов Российской Федерации, причем основная площадь этих лесов сосредоточена в густонаселенных районах и около населенных пунктов, где наибольшая опасность возникновения пожаров.
- Наверное, есть еще такая проблема: на регионах - большая ответственность, а денег, чтобы оправдывать эту ответственность, у них нет...
- Я бы сформулировал так: сложившееся положение в лесном комплексе страны в значительной степени следствие того, что система государственного управления лесами длительное время подвергается постоянным преобразованиям. И вот в существующей на данный момент системе управления существенно возросла роль регионов. При этом основная часть доходов от платы за лесные ресурсы поступает не в региональный, а в федеральный бюджет. Поэтому назрела необходимость пересмотреть распределение этого вида бюджетных доходов между уровнями бюджетной системы в сторону увеличения доли, которая направляется в бюджеты регионов - ведь именно на них сегодня возложена основная забота о лесах.

Азия как единый организм
Арабское пробуждение – залог интеграции от Красного моря до Желтого
Резюме: Революции в западной части огромного азиатского континента способствуют ее сближению с Востоком Азии. В XX веке человечество было вынуждено приспосабливаться к доминированию Америки в мировой экономике. Сегодня американцам приходится мириться с тем, что глобальному хозяйству становятся присущи азиатские черты.
Во всем виноваты греки, предложившие нелепое понятие «Азия». Тысячелетия существования этой евроцентричной концепции многие неевропейские народы, населявшие огромный евразийский континент, пребывали в блаженном неведении, что на них навесили общий ярлык «азиатов». Ведь, если не считать попытку монголов объединить азиатские просторы, у населявших их людей всегда было мало общего. Арабы и китайцы, индусы и японцы, малайцы и персы, русские и турки – все эти и другие нации обладали самобытной культурой, богатой историей, у каждой свой язык, свое религиозное наследие и собственные политические традиции. Их экономические связи держались лишь на тонкой паутине Шелкового пути и его морского аналога.
Но сегодня все меняется. «Азия» перестает быть греческим мифом и становится реальностью. Богатство и сила все больше сближают жителей этой части света. Деятельность их компаний и влияние в целом выходят далеко за пределы континента. В XX веке человечество было вынуждено приспосабливаться к доминированию Америки в мировой экономике. Сегодня американцам приходится мириться с тем, что глобальному хозяйству становятся присущи азиатские черты.
Медленное освобождение Азии
В последние десятилетия прошлого столетия пережитки колониального наследия в большинстве стран Азии подчас окрашивали политику в черно-белые тона приязни либо ненависти, что мешало строить нормальные отношения с Западом. Колониализм унизил национальные армии, растоптал самоуважение, подавлял ценности и политические традиции самых разных азиатских обществ – от Турции до Китая.
В Передней Азии турки, арабы и персы в угоду европейским хищникам шаг за шагом расставались со своим суверенитетом, территорией и национальным достоинством. В Индии англичане, опрокинув владычество мусульман, ввели единоличное правление и втянули некогда изолированный субконтинент в европейские распри. Страны Южной Азии, которые долгое время обеспечивали около 20% мирового ВВП, оказались под пятой британского меркантилизма и покорились Лондону.
Ост-Индию и Индокитай также поработил европейский империализм. В Восточной Азии только Таиланд и Япония восприняли ключевые элементы западной культуры, одновременно проявив достаточную жизнеспособность, чтобы держаться на почтительном расстоянии от Запада. Японии к тому же хватило энергии и самодисциплины, чтобы вскоре навязать колониальное правление Корее и отчасти Китаю. Русско-японская и Вторая мировая войны показали, что национальные боевые традиции в сочетании с современной технологией позволяют Японии реально выступать в значительно более крупном военно-экономическом весе.
Россия поглотила Среднюю Азию и «вгрызлась» с севера в Китай, тогда как западные державы начали «отщипывать» кусочки южных и восточных китайских территорий. Иностранные державы поделили Поднебесную на сферы влияния, частично аннексировав ее территорию и подчинив остатки своей экстерриториальной юрисдикции. Европа и Америка сделали это, как мы тогда говорили, чтобы воспользоваться своим правом на беспрепятственный сбыт наркотиков и прививать китайцам чуждую им религиозную философию, несмотря на энергичный протест их правителей.
Колониальный порядок в Азии рухнул после Второй мировой войны. И в то время как страны континента в основном отвергли чужеземный протекторат, Япония подчинилась оккупации Соединенных Штатов, взявших ее под свою опеку и покровительство. Китай бросил открытый вызов внешним державам, изгнав со своей земли иностранцев и избавившись от их влияния. Юго-Восточная Азия восстала против европейских колонизаторов и их американских союзников. Пути Индии и Пакистана резко разошлись после того, как обе страны освободились от британского колониального владычества. Иран заявил об амбициях стать региональной державой. Турция стала активным участником евро-атлантического альянса, оплота Запада против экспансионизма советской империи.
И только в Западной Азии, где встречаются Африка, Азия и Европа, где родились такие мировые религии как иудаизм и христианство, где находятся главные святыни ислама и сосредоточены мировые энергетические ресурсы, сохранились основные элементы довоенного порядка. На закате эпохи колониализма европейские евреи захватили и колонизировали 80% территории Святой Земли, изгнав многих коренных жителей. Палестинские арабы и другие жители региона испытали страх и ужас, захваченные врасплох всплеском европейского антисемитизма и неожиданным возвратом эпохи империализма. Ни израильской, ни западной дипломатии до сих пор так и не удалось избавить регион от этого шока.
Холодная война ввергла страны Ближнего Востока в непростую зависимость от конкурирующих сверхдержав, которые рассматривали любые локальные конфликты там как опосредованные войны друг с другом. Если не считать Израиль, региональные лидеры отличались фаталистической приверженностью могущественным зарубежным покровителям и тщетными потугами приспособиться к пренебрежительному отношению европейских, советских и американских хозяев, попирающих суверенитет, независимость и культуру местных народов. Первая прореха в неоколониальном порядке образовалась в результате исламской революции в Иране в 1979 году. Тем самым был положен конец роли Тегерана как «жандарма Америки» на Ближнем Востоке. Соединенным Штатам пришлось переключиться на военный альянс с Саудовской Аравией и Египтом. Почти одновременно мирный договор между Египтом и Израилем при посредничестве США сделал сохранение автократического статус-кво в регионе главным приоритетом американской политики.
Даже при беглом прочтении Кемп-Дэвидских договоренностей бросается в глаза, что главной предпосылкой мирного урегулирования явилось недвусмысленное обещание Израиля прекратить оккупацию Западного берега Иордана и сектора Газа и облегчить палестинцам процесс самоопределения. Невыполнение обязательства способствовало тому, что мир между Израилем и Египтом оставался зыбким, не сулившим перспектив на потепление в отношениях. Палестинцы так и не избавились от чувства унижения и несправедливости. С ними стали обращаться еще хуже. Мир с Израилем утратил все шансы на легитимность в Египте и других странах. Во многом по этой же причине жители Египта, других арабских стран и мусульманский мир в целом стали питать глубокое отвращение к Израилю и Соединенным Штатам.
Готовность Америки оказать финансовую, военную и моральную поддержку диктатуре Хосни Мубарака и Хашимитской монархии в Иордании придало рамочным Кемп-Дэвидским соглашениям по крайней мере видимость прочности. Однако умение США подменять реальные усилия по умиротворению сторон политическим лавированием и уходом от конфликта, возможно, останется в прошлом вместе с режимом Мубарака. Поскольку Израиль упорно предпочитает миру с палестинцами или своими соседями дальнейшую экспансию и расширение границ, а сколько-нибудь серьезного «мирного процесса» на Ближнем Востоке не наблюдается уже более десяти лет, неясно, как Вашингтон собирается в дальнейшем сдерживать конфликт между израильтянами и палестинцами и добиваться стабильности. Нет полной ясности, сможет ли Америка вообще сохранить какое-либо влияние в этом регионе.
Мятежи арабов против своих правителей ознаменовали тот факт, что в мусульманских странах покончено с фаталистической психологией собственного бессилия и раболепной почтительности к иностранным державам, которая долгое время сковывала их. Эти революции не были направлены непосредственно против израильтян и американцев, но решение египтян и других арабских народов взять под контроль собственное будущее не сулит ни Израилю, ни Америке ничего хорошего. Через тридцать лет после иранского восстания постколониальный порядок на Ближнем Востоке наконец-то рушится.
Беспорядки в Западной Азии получили столь широкое распространение вследствие того, что за последние десять лет США дискредитировали себя как в политическом, так и в военном отношении, вольно или невольно усилив влияние Ирана в Ираке, Ливане, Газе и Сирии. Регион пришел в движение в тот момент, когда Америка уходит из Ирака, оставляя за собой разоренную страну, раздираемую противоречиями и лишенную определенной стратегической ориентации. Следствием действий американских вооруженных сил явилось то, что ряды террористов пополняются быстрее, чем их уничтожают в Афганистане и Пакистане. Это тот контекст, для некоторых – весьма зловещий, в котором усиливаются связи запада Азии с другими частями континента.
Эмансипация арабского мира
2011 г. начался с восстаний в Рабате и Каире, народного бунта и гражданской войны в Ливии и беспорядков во многих других странах арабского мира, где вышедшие на улицы манифестанты требовали реформ. Управляемые массы обнаружили, что способны, если понадобится, отозвать свое согласие быть управляемыми и тем самым осуществить смену режима. Век иностранных протекторатов в этом регионе завершен.
Ближайшими последствиями беспорядков станут растущие и нестабильные цены на углеводороды, затормозившееся экономическое восстановление Америки и еще более медленное – Европы и Японии. Ускорится смещение мирового богатства к усиливающимся державам на Востоке и Юге Азии, а также к странам – поставщикам энергоресурсов в Западной Азии. Долгосрочные последствия нынешних событий прогнозировать труднее. Наиболее вероятными представляются следующие тенденции:
Более либеральная и самоуверенная национальная политика арабских государств в сочетании с экономической самодостаточностью и большей независимостью в сфере региональной политики. Заметное сокращение возможностей внешних держав – в первую очередь, Соединенных Штатов – определять тенденции и события в Западной Азии и Северной Африке. Углубление изоляции Израиля. Возрождение Каира, Багдада и Дамаска в качестве ведущих игроков на политической авансцене арабского Востока, выступающих в этой роли наравне с Эр-Риядом. Утрата Ираном недавно приобретенных преимуществ в виде роста престижа и влияния в арабском мире – в связи со всплеском активности в арабских странах. Возможное усиление Турции благодаря новому для нее статусу регионального лидера. Ускоренное сближение между арабскими странами и государствами Востока и Юга Азии (и, возможно, Россией), чтобы избавиться от былой зависимости от США, Великобритании и Франции. Ослабление джихадистской угрозы арабским обществам в связи с тем, что более мягкие формы ислама будут играть все более заметную роль в политическом руководстве арабских стран. Возможное формирование новых моделей консультационного управления в арабском мире, которые распространятся и на неарабские страны мусульманского сообщества.
Одной из самых удивительных особенностей революций стало нарочитое избегание религиозной, классовой или внешнеполитической повестки дня. К разочарованию Ирана и «Аль-Каиды», в восстаниях почти незаметно влияние исламистских или джихадистских элементов. Полностью отсутствуют лозунги в духе панарабизма. Правда, многие протестующие инкриминировали непопулярным лидерам политику угодничества перед американцами или соглашательство с Израилем, но за редким исключением их ярость не была направлена непосредственно против Америки или Израиля.
Эти революции – дело рук тех, кто стремится сделать общество более свободным и выступает за приход к власти такого правительства, которое будет выражать волю народа, а не служить иностранной марионеткой. Повстанцы недовольны жизнью в собственной стране. Гораздо проще понять, против чего они ведут борьбу, нежели найти какую-то положительную программу. Пока рано говорить о том, будет ли их стремление к демократии полностью удовлетворено военными властями, которые в настоящее время принимают решения. Трудно предугадать, какое соотношение сил установится между приверженцами светской и исламистской политики. Мусульманское понятие «шура» – консультационное правительство – не противоречит демократии, но имеет ряд отличий. Страны, настроенные на конституционную реформу, совместимую с исламом, располагают широким выбором демократических форм правления – от турецкой модели до Палестины, управляемой движением ХАМАС.
Независимо от того, какая судьба ожидает демократию в этих странах, арабские правительства, включая те, что избежали беспорядков или пережили их, теперь будут более уважительно относиться к волеизъявлению граждан. В результате следует ожидать подъема исламских настроений в той или иной форме. Для многих мусульман легитимность правителей измеряется тем, в какой мере они олицетворяют нравственные устои, управляя «уммой» или сообществом правоверных. В новых обстоятельствах этот критерий будет иметь гораздо большее значение, чем прежде.
Повсюду в арабском мире могут быть созданы новые мусульманско-демократические партии наподобие христианско-демократических партий Европы в конце XIX – начале ХХ веков. Появление их следует приветствовать. Этот процесс еще больше отодвинет «Аль-Каиду» на обочину мусульманской цивилизации. Ей и без того уготована роль пассивного наблюдателя за развитием революций. Скорее всего, волна террора против арабских правительств ослабеет. К несчастью, политически мотивированное насилие, направленное против Израиля и Америки, грозит лишь усилиться. Оккупационные и колонизационные усилия Израиля на Западном берегу, а также жесткая осада Газы преградили палестинцам мирный путь к самоопределению, а арабов в целом лишили стимула мириться с существованием еврейского государства в мусульманском мире.
Арабская молодежь остается лояльной своим государствам, одновременно принимая активное участие в жизни виртуального пространства стран Ближнего Востока и Магриба. Местные лидеры, игнорирующие настоятельную потребность в реформе, больше не могут чувствовать себя в безопасности. Через год или два ни одна страна этого региона не будет проводить ту внутреннюю и внешнюю политику, которую проводит сегодня.
Так, если египтяне изберут эффективных лидеров, они снова будут играть ключевую роль в политике своего региона. В их силах выработать идеологию, способную завоевать популярность в арабском мире и за его пределами. Почти наверняка следует ожидать возрождения египетской дипломатии, которая отражала бы мнение и ценности рядовых граждан, а не отдельных политических деятелей. В результате ни Соединенные Штаты, ни Израиль не смогут рассчитывать на сотрудничество Египта по поддержке той политики, которая ненавистна арабской улице.
Воспрянувший Египет уравновесит влияние Ирана. Освободившись от бремени тесного сотрудничества с Госдепартаментом США, Каир, скорее всего, преуспеет в сдерживании Тегерана гораздо больше, чем в прошедшее десятилетие. Ведь Ирану удалось усилить свое влияние в Ираке, Ливане и Палестине во многом благодаря грубым просчетам американской дипломатии, вялости и апатии египетских правителей и политике вытеснения на периферию большинства арабских стран, за исключением Саудовской Аравии. Теперь Египет почти наверняка восстановит утраченные позиции грозного конкурента Ирана за лидерство в арабском и мусульманском мире, что повлечет за собой корректировку во внутриарабских отношениях.
Ирак, откуда уходят американцы, не способен играть историческую роль участника арабской коалиции по сдерживанию гегемонистских устремлений персов в Западной Азии. Необходимость оказывать противодействие Ирану с неизбежностью предполагает продолжение военного присутствия Соединенных Штатов в Персидском заливе для сохранения баланса сил. Однако недавние события стоили Вашингтону того небольшого доверия и престижа в арабском мире, которые он еще сохранял.
Неторопливое, двусмысленное и неэффективное одобрение Америкой смены режима в Тунисе и Египте нисколько не убедило людей на арабской улице в том, что американцы искренне поддерживают их требования демократизации. Им будет трудно вычеркнуть из памяти тот факт, что США десятилетиями братались с диктаторскими режимами. А запоздалые требования Америки к своим стародавним протеже немедленно отказаться от власти приводят правителей региона к мысли о том, что на Вашингтон нельзя положиться, поскольку он не хранит верности друзьям и отказывается защищать их. В итоге арабы, турки и даже израильтяне больше не верят (если когда-либо верили) в мудрость и добросовестность Соединенных Штатов. Даже запоздалое согласие американцев с требованиями Лиги арабских стран и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива создать в Ливии «зону, запрещенную для полетов военной авиации» скорее ударило по Вашингтону. Бомбежки Ливии лишь закрепили за американцами репутацию безжалостных истребителей гражданского населения мусульманских стран вместо того, чтобы убедить арабов в том, что Америка на их стороне.
Но если народные антипатии в арабских странах Персидского залива или финансовый кризис в самих США приведут к существенному сокращению американского присутствия в Ближневосточном регионе, это еще больше дестабилизирует обстановку. Оказавшись не в состоянии по-прежнему обеспечивать противовес Ирану, Ирак и страны Персидского залива окажутся перед выбором: умиротворение Тегерана или создание новой коалиции для его сдерживания. Едва ли есть основания рассчитывать на то, что нынешний Ирак не солидаризируется с Ираном. Не приходится серьезно говорить и о том, чтобы когда-либо был положен конец извечному соперничеству между персами и арабами.
Пока даже на горизонте не маячит возможность появления какой-либо иной великой державы, кроме Соединенных Штатов, которая была бы способна проецировать силу в регионе Персидского залива. Несмотря на выдающуюся способность многочисленных европейских министров обороны торговаться, Европе недостает сплоченности и последовательности, чтобы прийти на смену Америке. Россия имеет ограниченные возможности для того, чтобы откликнуться на призывы арабов: с одной стороны, сложности во взаимоотношениях с Европой, с другой – внутренние проблемы. Индия накапливает потенциал, и Дели мог бы играть заметную военно-политическую роль в этом регионе, но пока не готов к этому, поскольку поглощен стратегическим соперничеством с Китаем и Пакистаном. В долгосрочной перспективе КНР и другие страны Восточной Азии могли бы взять на себя бремя защиты своих и мировых интересов в Западной Азии. Но в скором будущем они вряд ли способны мобилизовать для этого политическую волю и военные ресурсы.
Получается, что в отсутствии США любая коалиция, созданная для обеспечения безопасности в данном регионе, будет вынуждена опираться на военную силу близлежащих стран, не имеющих превосходящей военной мощи – Турцию, Египет, Пакистан и государства Персидского залива. Но создание подобной коалиции, весьма громоздкой и поэтому не особенно эффективной, потребует больших усилий, затрат времени и денежных средств.
Пакистан мог бы быть особенно полезен для обеспечения ядерного сдерживания Ирана и Израиля, но его интересы всегда будут скорее направлены в сторону Индии, Кашмира и Афганистана, нежели Персидского залива. В зависимости от того, как будут развиваться события в оккупированной Палестине, нынешний «холодный мир» между Египтом и Израилем может вполне уступить место холодной войне. Тем самым египтяне озаботятся пробелами в собственной обороноспособности и способами ее укрепления. А Турция пока, похоже, больше настроена на умиротворение Ирана, нежели на участие в коалиции по его сдерживанию.
Как бы сильно страны Западной Азии ни сомневались в надежности Америки, на практике они не в состоянии полностью отказаться от опеки. Ирония состоит в том, что ужасающее состояние американских финансов, скорее всего, не позволит наращивать военную мощь в регионе. Неотложная необходимость для Вашингтона сокращать бюджетные расходы и отчаянные усилия арабских стран Персидского залива как можно больше снизить зависимость от Соединенных Штатов будут катализировать друг друга. В грядущее десятилетие ближневосточные государства попытаются гарантировать стабильность с помощью новых партнерств в области безопасности. Странам Восточной и Южной Азии, заинтересованным в энергетических ресурсах данного региона, придется гораздо быстрее разделить бремя защиты своих интересов на Ближнем Востоке, чем они предполагают.
Арабские государства, скорее всего, добьются (на самом деле они на это обречены) большей самодостаточности и независимости во внутренней политике, к чему так стремятся нынешние революционеры. От того, что будет представлять собой новый курс, зависят судьбы всего мира.
Интеграция Азии: запад встречается с востоком
Арабы, турки и представители других родов Западной Азии пытались ослабить зависимость от Америки задолго до того, как текущие события наглядно показали, как глубоко они презирают наше лицемерие и сколь легковесно по их мнению слово американцев. Конечно, они хорошо сознают, что не могут полностью разорвать связь с Вашингтоном. США остаются единственной военной державой, способной осуществить интервенцию в любой части земного шара. На них приходится более одной пятой общего потребления, и они являются самым крупным должником в мире. Соединенные Штаты не могут оставаться единственным источником новых идей в том, что касается глобального управления и региональной политики, но в состоянии воспрепятствовать реформам, инициируемым другими странами. Поэтому, как и вся Азия, государства Ближнего Востока связаны с Америкой узами вселенского брака. Как бы сильно некоторые из них – например, иранцы – ни желали, чтобы янки собрали «вещички» и убрались из их дома, развод невозможен. Но жители региона в большинстве своем мусульмане, и их ничуть не смущает многоженство. Поэтому они заняты налаживанием новых отношений, призванных ослабить зависимость от Вашингтона.
Китай и Индия наготове. Это не только самые быстроразвивающиеся экономики мира, но и самые быстрорастущие рынки нефти и газа. Ожидается, что в предстоящее десятилетие более половины прироста мировых потребностей в энергоносителях придется на эти две страны. Впечатляющее усиление предприимчивого Востока и Юга Азии порождает бум на западе Азии, богатом месторождениями углеводородов. Доказав способность осуществлять колоссальные инфраструктурные проекты у себя дома, китайские строительные компании берутся за крупные начинания по всей Азии от Мекки до Тегерана. Если символами присутствия Соединенных Штатов в регионе являются бомбардировщики, сухопутные войска и атомные подводные лодки со смертоносным оружием на борту, то Поднебесная все больше ассоциируется с башенными и портальными кранами, инженерами и контейнерами, доверху набитыми потребительскими товарами.
Китайцы наращивают влияние и присутствие в регионе по тем же причинам, которые когда-то побуждали это делать американцев. Они платят наличными, обеспечивают адекватное соотношение цены и качества и не навязывают деловым партнерам или принимающей стороне своих ценностей и политических предпочтений, не требуют от них помощи в реализации своих империалистических замыслов. В этом плане Америка получила серьезного соперника, который напоминает ее саму в недавнем прошлом. Но если Китаем восхищаются за его скромность и компетентность, никто на Ближнем Востоке, и тем более в других регионах Азии, не принимает КНР за политический идеал, каким многие (если не большинство) когда-то считали Соединенные Штаты.
В этом главная особенность азиатской интеграции – ею движут финансово-экономические факторы, а не политика или идеология. Торговля между странами Персидского залива, Китаем и Индией в последнее десятилетие росла на 30–40% ежегодно. За тот же период китайская экономика выросла с 10% до 40% относительно американской. Менее чем через 40 лет, к 2050 г., экономика Китая может в два раза превысить по размерам американскую, а экономика Индии с ней сравняется. Мы говорим о серьезных экономических сдвигах в Азии, которые возымеют фундаментальные геостратегические последствия.
У арабских инвесторов карманы набиты наличностью, и когда-то они очень стремились к тому, чтобы их деньги работали в Соединенных Штатах. Однако американская исламофобия, а также возобновление старинных связей мусульманских стран с Китаем и странами Центральной и Юго-Восточной Азии быстро избавляют их от прежних предпочтений. Государственные и частные арабские инвестиции в нефтехимическую промышленность Китая, а также в сферу услуг, банки, телекоммуникации и недвижимость Поднебесной растут лавинообразно. Та же тенденция наблюдается и во взаимоотношениях арабов с Индией, хотя на пути сотрудничества то и дело возникают коррупционные скандалы и внутрииндийские политические трения.
Мусульманское банковское дело, в котором нет места заемному капиталу и производным финансовым инструментам, что кажется привлекательной практикой в нынешних условиях, строится по одним и тем же принципам и в Малайзии, и в странах Персидского залива. Этот опыт также перенимается в Китае и других государствах. Туризм, духовное паломничество, обмен студентами и изучение языков – все эти сферы быстро развиваются в отношениях между КНР, Индией, Южной Кореей, арабскими странами. Знание языков заметно подхлестывают деловую активность.
Хотя Индия считает Китай своим главным стратегическим соперником в Азии, взаимная торговля выросла с 200 млн в 1989 г. до 60 млрд в 2010 году. В 2007 г. Китай опередил Соединенные Штаты, став главным торговым партнером Индии. А к 2015 г. Китай и Индия собираются увеличить ежегодный торговый оборот до 100 млрд долларов. Экономики двух стран прекрасно дополняют друг друга, что стимулирует взаимные инвестиции. Индии нет равных в сфере услуг, а Китаю – в сфере промышленного производства. Визит в Южную Азию премьер-министра Китая Вэнь Цзябао в конце прошлого года стал поводом для новых обязательств Пекина, который собирается инвестировать по 16 млрд долларов в экономику Индии и Пакистана.
Несмотря на общую заинтересованность в обеспечении безопасных морских путей и способов транспортировки сырья, перспективы военного сотрудничества сомнительны. В настоящее время граница с Индией – единственный сухопутный участок, где Китаю не удалось провести демаркацию путем мирных переговоров. В 1962 г. между двумя странами вспыхнула короткая пограничная война, и до сих пор нередки вооруженные столкновения между боевыми патрульными подразделениями. Опасения Индии в связи с растущей военной мощью КНР – не менее сильный стимул для модернизации вооруженных сил, чем враждебные отношения с Пакистаном и конфликт в Кашмире.
Обеспокоенность Индии усилением военной мощи Китая заставляет ее укреплять военные связи с Соединенными Штатами, вести диалог в сфере безопасности с не менее встревоженными соседями, такими как Вьетнам и Япония. Со времени Реставрации Мэйдзи в 1868 г. Токио привык быть «первым номером» в Азии, но в прошлом году экономика Поднебесной обогнала японскую, став второй в мире. Усиление КНР вывело Японию из психического равновесия, поставив ее перед нелегкой задачей смены места в неофициальной иерархии азиатских стран. Некоторые политики в Токио считают оборонный союз с Дели и укрепление военного сотрудничества с Сеулом (несмотря на глубокую историческую неприязнь) полезной защитой от Китая, поскольку лидерство Америки в мировой политике и экономике продолжает ослабевать. Тем не менее, многие факторы, включая растущую зависимость будущего процветания Японии от роста китайской экономики, по-прежнему вынуждают Токио искать сближения с Пекином. В настоящее время на его долю приходится 20% всего внешнеторгового оборота Японии, это главный экономический и торговый партнер. Еще больше от КНР зависит Южная Корея, четверть внешнеторгового оборота которой приходится на Поднебесную.
Всю Восточную Азию (включая японские и корейские компании, а также корпорации Китая и стран Юго-Восточной Азии) сегодня неразрывно связывает система снабжения и поставок. Индия также начинает втягиваться в эту систему и другие отношения с Восточной Азией. Трудно переоценить значение Юго-Восточной Азии как горнила азиатской экономической интеграции. Китайские общины в регионе сыграли ключевую роль в выковывании капиталистических кадров КНР, которые заимствовали многие элементы финансовой и коммерческой культуры китайской диаспоры. Всекитайский консенсус состоит в том, что «дело Китая и его народа – делать бизнес», если перефразировать саркастическое описание Америки начала XX века, предложенное Кальвином Кулиджем. Этот лозунг помог Китаю отказаться от территориальных претензий и других потенциальных конфликтов, чтобы дать возможность своим жителям зарабатывать деньги вместо того, чтобы вести войны.
Как и надеялся Дэн Сяопин, его лозунг «Быть богатым – это почетно» породил Большой Китай. Эта концепция ликвидировала пропасть между китайцами по обе стороны Тайваньского пролива. Большой Китай объединяет многочисленные политэкономии континентального Китая, Гонконга, Макао и Тайваня с их системными различиями. Его идеологию в той мере, в какой она здесь присутствует, лучше всего выражает упорядоченная меритократия и прагматичное использование промышленной политики в Сингапуре. Экономики Большого Китая, стран – членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и, в меньшей степени, традиционно протекционистских Японии и Южной Кореи в настоящее время далеко продвинулись по пути создания гигантской зоны свободной торговли, в присоединении к которой заинтересованы Индия и страны Южной Азии.
Еще одна крупная держава Азии – Россия – пока держится в стороне от процессов интеграции. Она остается главным источником вооружений и военных технологий, экспортируемых в Индию и Китай, и начинает играть роль крупного поставщика энергоносителей в КНР, уже на протяжении долгого времени являясь таковым для Европы. Пляжи китайского острова Хайнань, Вьетнама и Индии российский средний класс облюбовал в качестве мест для зимнего отдыха. Множество россиян учатся и работают в Китае и других странах Азии.
Вместе с КНР и странами Центральной Азии Россия создала Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). В сфере своего влияния ШОС стремится пресекать соперничество великих держав, мусульманский экстремизм и китайский этнический сепаратизм. Но Москву, похоже, больше интересуют отношения с Европой, чем с Азией. Поставки энергоресурсов из Центральной Азии в Китай и создание соответствующих транспортных коридоров подрывают традиционное доминирование России в этом регионе. Богатый полезными ископаемыми, но малонаселенный российский Дальний Восток втягивается в экономические орбиты Китая, Японии и Кореи. Сельское хозяйство Сибири все больше зависит от труда китайских мигрантов. Будущие отношения России со странами Азии остаются такими же непредсказуемыми и неопределенными, как и ее политическая ориентация и политический строй. То же можно сказать и о роли Москвы в Европе и на Ближнем Востоке.
Вероятно, определять облик нынешнего столетия наряду с глобализацией предстоит «азиатизации». Уже очевидны проявления единой азиатской логистики как сердца и кровеносной системы мировой торговли. Большинство финансовых аналитиков предполагают, что азиатские валюты, такие как китайский юань, со временем потеснят пока еще всесильный доллар в качестве резервной мировой валюты и платежного средства в мировой торговле. Многообразие людских и природных ресурсов Азии с ее усиливающейся интеграцией создают все предпосылки для продолжения экономического подъема на фоне быстрорастущей производительности труда на этом континенте.
Наши лучшие банкиры и экономисты утверждают, что менее чем через четыре десятилетия (в 2050 г.) ВВП Китая достигнет 70 трлн нынешних долларов США (для сравнения, на сегодня ВВП Соединенных Штатов – 14 трлн долларов, а к 2050 г. он может вырасти до 35 трлн долларов). В том же году ВВП Индии, говорят нам, должен сравняться с ВВП США или даже превзойти его. Пропорционально вырастут и другие азиатские экономики – например, экономика Индонезии. Цифры можно оспаривать, но не приходится сомневаться в том, что к середине века экономический центр тяжести мира будет находиться в Азии – где-то между Пекином и Дели. Арабы и индонезийцы, турки и японцы, индусы и американцы, европейцы, африканцы, латиноамериканцы и другие народы будут тянуться за китайцами. Усиливающиеся Китай и Индия поднимут всю Азию, а Азия уже начала поднимать всю мировую экономику.
Три столетия тому назад Европа, а затем и Америка отняли у Азии первенство в научно-техническом прогрессе и инновациях. Изобретение нуля, компаса, ракеты, бумажных денег, типографского шрифта из подвижных литер, химии, салона красоты и банковского чека – это вклад индусов, китайцев, корейцев, арабов и других мусульман в современную цивилизацию. Сегодня ряды образованных азиатов растут, множатся учреждения, в которых идеи превращаются в готовые изделия – речь идет об исследовательских институтах и венчурном капитале. Не следует удивляться, что в середине и конце XXI века Азия может вернуть себе лавры главного двигателя мирового научного прогресса.
Мы редко задумываемся, до какой степени азиатский образ жизни уже стал частью нашего быта. Прежнее поколение американцев было бы крайне удивлено восхищением наших современников такими блюдами, как суши и сашими («Рис, обернутый в морские водоросли, и сырая рыба на обед – вы шутите?»). Пирсинг, булавки на лице и свисающие украшения в индийском стиле, когда-то считавшиеся варварством и экзотикой, теперь украшают или (если вам так больше угодно) обезображивают многих американцев, молодых и старых. Кальян проник в наши городские салоны. Судоку – последний писк моды. Люди интересуются системой фэн-шуй, а дети изучают восточные боевые искусства. Что еще мы позаимствуем у Азии? Вне всякого сомнения, кое-что из того, что сейчас кажется невероятным. Но пройдет совсем немного времени, и эти вещи прочно войдут в нашу жизнь и быт, мы станем воспринимать их как нечто само собой разумеющееся и забудем о том, что они пришли к нам из Азии.
Америка в поисках врага
Любимая всеми американцами тема – поиск вероятных противников, которые могли бы заменить канувший в Лету Советский Союз. Созданная русскими империя крайне безответственно самоустранилась из гонки за мировое господство, предоставив нам пальму первенства, но при этом лишив нас привычного образа врага. Поиск врага стал навязчивой идеей американских политиков. Нужна экзистенциальная угроза, чтобы оправдать растущие военные расходы, которые превышают совокупный оборонный бюджет всех остальных стран мира вместе взятых, и нежелание идти на их сокращение – даже во имя избежания надвигающегося банкротства. Россия уже не годится, поэтому мы переключились на двух альтернативных кандидатов – один находится в Западной Азии, а другой в Восточной, ислам и Китай. Но и эти два кандидата не дотягивают до роли системного «супостата».
Мусульмане просто хотят вернуть себе достоинство в мировой политике. В странах шариата нарастает ожесточенный спор, переходящий порой в вооруженные столкновения, о том, как навести порядок в обществе. Иногда проявляется сопротивление влиянию западной культуры и попытки полностью исключить его. В иных случаях, как это видно на примере Туниса и Египта, принимаются отдельные идеалы, на которых основано современное политическое устройство стран Запада, но отвергается сама модель государственного устройства или наши обычаи и нравственные устои.
Большинство хочет, чтобы мы ушли с Ближнего Востока, надеясь самостоятельно уладить все существующие разногласия. Мало кто из них испытывает желание обратить нас в свою веру. Никто из них не способен противостоять нам. От ислама не исходит экзистенциальная угроза. Его не устраивает наше военное доминирование в соответствующих странах, но он и не является вызовом для независимости, ценностей или безопасности светской Америки.
Что касается Китая, то больше всего пугает возможность того, что он станет похожим на нас – державу, которую воодушевляет агрессивная миссионерская деятельность, подкрепляемая вооруженными силами, готовыми к броску в любую точку земного шара для навязывания своих ценностей. Слово «Китай» состоит из двух иероглифов, которые дословно означают «центральная страна». В XXI веке Китай, скорее всего, снова будет в полной мере соответствовать этому названию во многих сферах деятельности.
Поднебесная находится в центре и еще в одном смысле. Со всех сторон ее окружают могущественные в военном отношении соседи – Россия, Индия, Япония, Корея, Вьетнам и, конечно, Соединенные Штаты, наращивающие грозный военно-морской потенциал в непосредственной близости от территориальных вод КНР, ширина которых не превышает 12 морских миль. Кроме того, США держат внушительные контингенты сухопутных войск и ВВС в Афганистане и других местах. Китаю приходится отвечать на многочисленные вызовы своей национальной безопасности, лишь некоторые из которых касаются Соединенных Штатов. И все они возникают в непосредственной близости от китайских границ.
Словом, перед Китаем стоит слишком много сиюминутных военных и социально-экономических проблем, которые не дадут ему возможности подражать Америке, даже если бы у китайских лидеров появилось искушение поиграть в доминирование. Мировой ландшафт XXI века в сфере безопасности будет отражать меняющийся баланс сил и постоянную перетасовку состава коалиций «за» и «против» Китая. В этом отношении Азия все больше напоминает Европу XIX века. Наверняка появятся возможности для дистанционной корректировки баланса сил на азиатском континенте, если только Америка пожелает воспользоваться тогдашним опытом Великобритании. Англичане поддерживали тех или иных игроков на континенте там и тогда, когда и где им нужно было усилить свои позиции, чтобы остудить пыл честолюбивых соседей, но они редко осуществляли прямые интервенции – неплохая работа правительства.
Наконец, чтобы проиллюстрировать неоднозначность формирующихся на азиатском континенте военных реалий, стоит проанализировать ядерное измерение военного баланса сил. Если не считать США (которые развернули ядерные силы с трех сторон азиатского континента), в Азии уже находятся шесть из девяти ядерных стран мира. Многие подозревают, что со временем Иран станет седьмой из 10 держав ядерного клуба. Но даже без Ирана ядерная геометрия в Азии уже достаточно сложна. Китай, Россия и Америка нацеливают боеголовки друг против друга. Для Северной Кореи мишенью служат Япония и Южная Корея; если бы ей было это по зубам, она бы целилась и в Соединенные Штаты. Для Пакистана и Китая объектом также является Индия. Пока ни одна из ядерных стран Азии с ядерным оружием не направляет его против Израиля, но Израиль развивает свой ядерный арсенал с учетом всех своих соседей. Ни Индия, ни Израиль, ни Пакистан не подписывали и не ратифицировали Договор о нераспространении ядерного оружия. Северная Корея игнорирует режим нераспространения. Это одна из причин, по которой странными и нелепыми кажутся титанические усилия США по недопущению расползания ядерных вооружений. Тигров уже выпустили из клетки. Теория ядерного сдерживания проходит последний экзамен именно в Азии. В этом контексте гротескно избыточные ядерные арсеналы, унаследованные Россией и Соединенными Штатами от эпохи холодной войны с ее взаимно гарантированным уничтожением, сегодня совершенно неадекватны и представляются напрасной тратой огромных средств.
То же самое, но с некоторыми оговорками, можно сказать и о давно развернутой в Америке истерии в связи с вероятным нанесением ядерных ударов негосударственными группами или организациями. Все государства, имеющие на вооружении атомные бомбы, вложили немалые суммы в их создание, и сделали это для того, чтобы решить конкретную проблему национальной безопасности. Ни одна из этих стран не собирается отдавать столь дорогостоящую вещь каким-то непонятным группам лиц. Опасения по поводу умышленной передачи ядерного оружия террористам представляются сильно преувеличенными, если не сказать бредовыми.
Однако сохраняется вероятность того, что ядерная держава, охваченная общественными беспорядками, с ослабленной государственной властью подвержена риску, при котором повстанцы или террористы могут организовать похищение одной-двух бомб. В этой связи на ум невольно приходят пакистанские боевики или израильские переселенцы. В предстоящие десятилетия могут возникнуть другие подобные ситуации, если только не будут искоренены источники возможных конфликтов, которые служат питательной средой для фанатизма. Поэтому бдительность нельзя терять ни на минуту. Нужно также уделять повышенное внимание разрешению цивилизационных конфликтов, покончить со случаями социального угнетения, всемерно способствовать развитию мирного процесса, торжеству справедливости и процветания и в Азии и на других континентах.
Мы ничего не выиграем, если не признаем, что Азия вернулась на мировую авансцену после двух неудачных для нее тысячелетий. На наших глазах фактически формируется «большой организм». Если провести зоологическую аналогию и сравнить его со слоном, то нам не удастся управлять им, если мы сосредоточимся на его задних конечностях, но не будем обращать внимания на хобот, голову, ноги или живот. Каждая часть этого огромного азиатского организма имеет свои проблемы и требует особого подхода, но главный вызов сегодня – рассматривать азиатский континент как единое целое и соответствующим образом строить свою стратегию. Ни современные академии и государственные структуры, ни прошлый опыт не помогут нам в этом деликатном вопросе, на который, тем не менее, необходимо найти ответ.
Чез Фримен – президент Совета по ближневосточной политике (г. Вашингтон), председатель Projects International, в течение многих лет работал на ответственных должностях в Государственном департаменте США и Пентагоне, занимался проблемами Африки, Ближнего Востока, Китая, Южной Азии и европейской безопасности.

Мирное сосуществование XXI века
Закат вульгарного мультикультурализма как возрождение культуры модерна
Резюме: Мультикультурализм появился лишь как исторический эпизод, как проявление кратковременной «обратной волны», завершающей цикл индустриальной модернизации. Эта волна была вызвана внешними по отношению к культуре импульсами, сила которых ныне слабеет. Необходима новая модель.
Критика мультикультурализма становится модной политической тенденцией в Европе, но вызывает разноречивые отклики в России. При этом само значение этого понятия не вполне прояснено, дискуссии же носят исключительно политический характер. В данной статье я излагаю свою гипотезу о том, что ослабление позиций сугубо традиционалистской идеологии, выраженной в концепции вульгарного (упрощенного, выхолощенного) мультикультурализма, обусловлено фундаментальными историческими тенденциями – приливами и отливами модернизации.
Концепция «обратной волны»
В 1990-е гг. Самьюэл Хантингтон предложил модель глобального распространения демократизации, в которой использовал образ морских приливов и отливов. Он ввел в научный оборот понятие «обратной волны» (rеverse wave) демократизации, обосновав почти неизбежные, но временные отступления ранней демократии под напором традиционных и более укорененных в жизни народов недемократических режимов. Концепция «обратной волны» хорошо объясняет не только трудный и извилистый путь демократизации, но и более широкий круг процессов, объединяемых понятием «модернизация». Эта концепция позволяет лучше понять и природу одного из парадоксов глобализации.
Речь идет об одновременном проявлении с конца XX века двух, казалось бы, взаимоисключающих тенденций. С одной стороны, рост взаимосвязи стран мира и определенная стандартизация их культур. С другой – нарастание культурной дифференциации и дезинтеграции, связанное с феноменом так называемого «этнического и религиозного возрождения». Рост традиционных групповых форм идентичности (этнической, религиозной, расовой) стал активно проявляться с конца 1960-х и усилился в 1980–1990-х годах. Эта тенденция охватила большинство стран мира, что и обусловило глобальный кризис модерна, затянувшийся почти на полвека. Глубокой эрозии подверглись в это время основополагающие ценности культуры модерна, прежде всего ценности индивидуальной свободы, рационального сознания и прав человека. Эти процессы сопровождались обострением конфликтов между этническими и религиозными группами не только в постколониальных странах с незавершенной национальной консолидацией общества, но и в давно сложившихся государствах-нациях Европы и в США.
Чаще всего отмеченный парадокс глобализации объясняют естественным сопротивлением незападных культур модернизационным переменам, процессам стандартизации и унификации человеческой деятельности. Но основным фактором, подтолкнувшим волну традиционализма, стали, вероятнее всего, внешние по отношению к культуре импульсы, а именно – совокупность радикальных перемен в экономической, интеллектуальной и политической жизни мира, произошедших в конце 1960-х – начале 1970-х годов.
Экономические перемены. Начала радикально меняться глобальная экономическая стратегия, обусловившая в немалой мере и изменения в культурной политике. С конца 1960-х гг. стремление к сокращению издержек на рабочую силу, затрат на развитие социальной инфраструктуры, на обеспечение экологической безопасности и других требований индустриального и демократического общества стимулировали вывоз капитала и перенос промышленных мощностей из развитого мира в развивающийся. Эта стратегия побуждала корпорации приспосабливать как индустриальные технологии, так и управленческие идеологии к культурным особенностям соответствующих стран. Простота применения новых технологий сделала их доступными для использования в разных культурных и социальных условиях. Внедрение этих технологий не потребовало столь значительных изменений в традиционной культуре, какие произошли в предшествующие эпохи при появлении первых гидравлических и паровых машин, а затем и механизмов на дизельной и электрической тяге. Поэтому вместо прежних западных стратегий слома традиционных культур возникала политика адаптации западной экономики к традиционным культурам.
Она проводилась и в самих западных странах в связи с массовой заменой местной рабочей силы на более дешевую, рекрутируемую из среды иммигрантов. Эта новая стратегия не только уменьшила стандартизирующие функции индустриализации по отношению к традиционным культурам, но и стимулировала рост традиционализма, легитимировала его. Бизнес перестал играть роль основного защитника и проводника модернизации и идей культурного универсализма, что, в свою очередь, повлияло на развитие мирового интеллектуального климата в последней трети XX века.
Изменение общественных настроений. Господствовавшая с XIX века идея модернизации как универсального прогресса подверглась в конце 1960-х и в 1970-х гг. сокрушительной критике. В этот период (времена деколонизации) модернизацию все чаще стали называть «насильственным цивилизаторством и орудием колониализма», а также «имплицитным тоталитаризмом». Левый европейский постмодернизм в лице Ролана Барта, Мишеля Фуко, Жиля Делеза, Герберта Маркузе и ряда других философов-шестидесятников буквально бомбардировал классическую теорию модернизации упреками в антигуманизме и подавлении прав народов на культурную самобытность.
Одним из поводов для сокрушительной критики модернизации послужили проблемы (реальные и мнимые) в ряде стран «третьего мира», подвергшихся модернизации в значительной мере под давлением внешних сил. В некоторых из этих государств, прежде всего африканских, она сопровождалась разрушением традиционных институтов и жизненных укладов, повлекших рост социальной дезорганизации.
Однако в те годы еще рано было оценивать результаты индустриальной модернизации, позитивные последствия которой проявились лишь к началу нового века. Только ныне они стали заметными как раз там, где процесс оказался наиболее полным и последовательным. Например, ряд стран преодолели или существенно смягчили основное бедствие африканского континента – высокую детскую смертность. В период с 1995 по 2007 гг. Бенин, Ботсвана, Намибия, Нигер, Лесото, Маврикий, Мали, Мадагаскар, Сейшелы, Сенегал и некоторые другие (всего около 25% африканских государств) сумели обеспечить сокращение детской смертности в среднем на 18%. Здесь же сложились и сравнительно стабильные демократические режимы, достигнут 15-процентный совокупный рост доходов на душу населения. В большинстве же из 24 автократических государств континента, элиты которых боролись не столько с накопившимися веками внутренними проблемами, сколько с так называемым «экспортом модернизации», с 1995 г. наблюдается отрицательная динамика экономических и социальных показателей.
Но все это стало известно лишь в начале XXI века, а в 1970-е гг. большинство западных интеллектуалов демонизировали модернизацию в «третьем мире», описывая ее исключительно как форму колониализма, и одновременно идеализировали подъем национальных движений, возвращение народов к традиционным социальным практикам и образу жизни. Эти идеи были подхвачены в странах Востока, где послужили основой для формирования разнообразных фронтов сопротивления «новым западным крестоносцам». Многие исследователи давно обращают внимание на то, что политическая философия исламского фундаментализма представляет собой коллаж из идей левого европейского постмодернизма и антиглобализма.
Таким образом, в 1960–1970-е гг. западные интеллектуалы оказали существенное влияние на изменение глобальных политических стратегий, подстегнув волну традиционализации. По отношению к модернизации это была «обратная волна», отступление от идеи органического и целенаправленного обновления общества.
От гражданской интеграции к общинному строю
Одним из важных проявлений кризиса культуры модерна стало изменение в 1970-х гг. западных концепций национальной и культурной политики. До этого на протяжении нескольких веков процесс трансформации империй и становления национальных государств сопровождался политикой поощрения культурной однородности. Георг Фридрих Гегель и Франсуа Гизо, Эдуард Тейлор и Алексис де Токвиль, Жан Жорес и Макс Вебер при всех различиях в их политических предпочтениях твердо поддерживали принцип культурной однородности национального государства.
При этом в его истолковании и способах воплощения в жизнь единства не наблюдалось. Различались представления о мере культурной однородности, для одних она выражалась в формуле французской революции: «Одна страна, один народ, один язык», а для других – только в однородности политической и правой культуры при допущении разнообразия этнического и религиозного самосознания. В последнем случае можно было говорить о переходе страны от политики культурной ассимиляции к политике интеграции разных культур в единую гражданскую общность. Со временем идея национально-гражданской интеграции вытеснила доктрину культурной ассимиляции и после Второй мировой войны стала на Западе основой национально-культурной политики.
Культурная ассимиляция в XVIII–XIX веках достигалась преимущественно за счет навязывания населению страны единого языка, насильственного подавления местных или привнесенных языков, жестких запретов на функционирование локальных культур. На совершенно иных основах утверждалась гражданская интеграция. Она базировалась на идее дополнения множества культур единой гражданской и поощрения такой дополнительной культурной однородности косвенными методами. Так, американская политика «плавильного котла» (melting pot) переплавляла культуру иммигрантских групп, используя социально-экономические рычаги, преимущественно систему льгот. Такая политика не запрещала национальные культуры в быту и вместе с тем поощряла освоение иммигрантами единых гражданских норм на основе усвоения ими английского языка, а также совокупных норм культуры так называемого «белого протестантского большинства». Эта политика показала, что гражданская культура развивается не вместо национальных культур, а вместе с ними.
С конца 1940-х гг. политика «плавильного котла» и гражданской интеграции (в различных модификациях) стала доминирующей в Соединенных Штатах и в Европе. Однако уже в 1960-х гг. под давлением постмодернизма такая политика постепенно стала все более негативно восприниматься западным общественным мнением, которое тогда не умело отличить насильственную ассимиляцию от добровольной гражданской интеграции. Кроме того, интеграция тогда была еще непоследовательной и неполной, например, в США она ограничивалась расовой сегрегацией. Эти ограничения должны были быть сняты, однако вместо совершенствования интеграционной политики ее просто отбросили. Такое часто бывало в истории.
С 1970-х гг. началось победное шествие другой концепции, «мультикультурализма», отказавшейся от идеи гражданской интеграции и направленной на поощрение группового культурного разнообразия и простого соседства общин в рамках единого государства. В 1971 г. принципы мультикультурализма были включены в Конституцию Канады, в 1973 г. ее примеру последовала Австралия, в 1975 г. – Швеция. С начала 1980-х гг. эти принципы вошли в политическую практику большинства стран Запада и стали нормой, своего рода кредо для международных организаций.
Почти четыре десятилетия наблюдения за последствиями внедрения в жизнь этой политической доктрины дают основания для вывода о том, что она, решая одни проблемы, например, обеспечивая привыкание людей к неизбежному и растущему в современном мире культурному разнообразию, порождает другие, усиливая межобщинный раскол общества и провоцируя межгрупповые конфликты. Однако значительные сложности в оценке последствий этого феномена проявляются не только в силу этой двойственности.
Мультикультурализм и его трактовки
Мультикультурализм до сих пор является одним из наиболее расплывчатых терминов политического лексикона, означающим лишь то, что в него вкладывает каждый говорящий. Защитники мультикультурализма рассматривают его как характеристику современного общества, представленного многообразием культур, и как сугубо культурологический принцип, заключающийся в том, что люди разной этничности, религии, расы должны научиться жить бок о бок друг с другом, не отказываясь от своего культурного своеобразия. Такой подход, как правило, не встречает возражений среди серьезных европейских политиков. Они выступают против других сторон мультикультурализма, рассматривая его сквозь призму государственной политики.
Поскольку сторонники и противники мультикультурализма оценивают его с различных позиций, то порой дискуссии на эту тему превращаются в сплошное недоразумение, как если бы люди серьезно спорили о том, шел дождь или студент? Примерно такая коллизия возникла при обсуждении политических заявлений, сделанных в конце 2010 – начале 2011 г. лидерами трех стран – Германии, Великобритании и Франции – по поводу «провала» политики мультикультурализма.
О чем шла речь? Ни один из трех лидеров не подверг сомнению саму необходимость мирного сожительства представителей разных культур в одном государстве. Все они использовали слово «провал», оценивая мультикультурализм исключительно как особую политическую стратегию, т. е. говоря об ошибочном, неверно выбранном государственными деятелями, принципе организации взаимодействия разных этнических, расовых и религиозных общин в единой стране. По сути, три европейских политика говорили только о мультикультурной дезинтеграции.
Первой на эту тему высказалась Ангела Меркель 18 ноября 2010 года. В речи канцлера ФРГ содержалось как признание в качестве общепринятого факта сосуществования в Германии разных культур (по словам Меркель, «ислам уже стал неотъемлемой частью Германии»), так и критика вульгарного мультикультурализма, т.е. такой политической практики, которая привела к раздельному и замкнутому существованию общин в составе одного государства. Именно эту замкнутость («живут бок о бок, но не взаимодействуют») канцлер определила как «абсолютный крах» политики мультикультурализма.
Эту же мысль повторил и британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, внеся важное уточнение. Выступая в Мюнхене на международной конференции по безопасности (5 февраля 2011 г.), он подчеркнул, что проблему мультикультурализма составляет не столько специфичность разных религиозных культур, представленных в современной Великобритании, сколько отсутствие у новых британцев единой гражданской, общей британской идентичности. В 2007 г. было проведено социологическое исследование, которые выявило: треть британских мусульман считает, что им ближе мусульмане из других стран, нежели их сограждане-англичане. Эти и другие факты дали Кэмерону основание для вывода о том, что «отсутствие у молодых людей, выходцев из мусульманских стран, других идентичностей, кроме соотнесения себя с общиной, заставляет их придерживаться извращенных интерпретаций ислама и сочувствовать террористам». В целях преодоления культурного раскола общества и установления позитивного плюрализма британский премьер предложил особую либерально-гражданскую концепцию, названную им «мускулистый либерализм». На его взгляд, интеграция произойдет, если люди, принадлежащие к разным культурным сообществам, «освободившись от государственного гнета, обретут общую цель», например, в виде общей гражданской заботы о своей стране как едином доме.
В феврале 2011 г., последним из лидеров стран ЕС, тему мультикультурализма затронул президент Франции Николя Саркози, сам являющийся живым воплощением этого феномена современной Европы. Ведь история рода Саркози – пример переплетения по крайней мере трех традиций: французской, венгерской и еврейской. Понятно, что и претензии к мультикультурализму носят с его стороны не культурологический, а сугубо политический характер. Провал этой стратегии он, как и его коллеги по Евросоюзу, связывает с нарушением принципов гражданской интеграции: «Общество, в котором общины просто сосуществуют рядом друг с другом, нам не нужно, – отметил Саркози 12 февраля 2011 года. Если кто-то приезжает во Францию, то он должен влиться в единое сообщество, являющееся национальным». Напомню, что во Франции уже более двух веков под нацией (национальным сообществом) понимается согражданство и единая гражданская идентичность.
Невольники общин: либеральная критика мультикультурализма
В политических кругах у мультикультурализма есть два вида критиков. Консервативная критика (обозреватели часто называют ее «культурным империализмом» или «новым расизмом») исходит из необходимости замены мультикультурализма монокультурализмом и настаивает на законодательно закрепленном режиме привилегий для доминирующих культурных групп (религиозных и этнических). Апологеты такой позиции (неонацисты в Германии; активисты крайне правой «Английской лиги обороны» в Великобритании или партии Марин Ле Пен во Франции) резко отрицательно оценили выступления нынешних лидеров своих стран, рассматривая их как «беззубые», «пустой пиар», «обман общества» и т.д.
Позиция Меркель, Кэмерона и Саркози ближе к либеральной критике мультикультурализма, которая исходит из того, что сохранение культурного своеобразия является безусловным правом всех граждан. Однако зачастую такое сохранение своеобразия отнюдь не добровольно, оно происходит под давлением общин и вступает в противоречие с правами других людей, с принципом равноправия и с гражданской сущностью современного общества.
Либеральная критика приводит следующие аргументы.
Во-первых, эта политика обеспечивает государственную поддержку не столько культурам, сколько общинам и группам, которые необоснованно берут на себя миссию представительства интересов всего этноса или религии.
Во-вторых, государственное спонсирование общин стимулирует развитие коммунитарной (общинной) идентичности, подавляя индивидуальную. Такая политика закрепляет безраздельную власть общины, группы над индивидом, лишенным возможности выбора.
В-третьих, мультикультурализм искусственно консервирует традиционно-общинные отношения, препятствуя индивидуальной интеграции представителей разных культур в гражданское общество. Во многих странах Европы и в США известны многочисленные случаи, когда люди, утратившие этническую или религиозную идентичность, вынуждены были возвращаться к ней только потому, что правительство спонсирует не культуру, а общины (их школы, клубы, театры, спортивные организации и др.). В России же льготы, предназначенные для «коренных малочисленных народов Севера», вызвали в 1990-е гг. стремительный рост численности таких групп за счет того, что представители иных культур, прежде всего русские, стали причислять себя (разумеется, только по документам) к коренным народам в надежде на получение социальных льгот.
В-четвертых, главным недостатком политики мультикультурализма является то, что она провоцирует сегрегацию, порождая искусственные границы между общинами и формируя своего рода гетто на добровольной основе.
Во многих странах мира возникли замкнутые моноэтнические, монорелигиозные или монорасовые кварталы и учебные заведения. В студенческих столовых возникают столы «только для черных». Появляются «азиатские» общежития или дискотеки для «цветных», вход в которые «белым» практически заказан. В 2002 г. имам небольшого французского города Рубо посчитал недопустимым въезд в этот населенный пункт Мартины Обри, известнейшей политической персоны – мэра города Лилля, бывшего министра труда, впоследствии лидера Социалистической партии и кандидата в президенты Франции. Имам назвал свой городок «мусульманской территорией», на которую распространяется «харам», т.е. запрет для посещения женщины-христианки. Это пример часто встречающейся и парадоксальной ситуации – мультикультурализм на уровне страны оборачивается жесткой сегрегацией на локальном уровне.
Такие же превращения происходят и с иными ценностями, которые в 1970-е гг. лежали в основе самой идеи мультикультурализма. Эта политика, по замыслу ее архитекторов, должна была защищать гуманизм, свободу культурного самовыражения и демократию. Оказалось же, что на практике появление замкнутых поселений и кварталов ведет к возникновению в них альтернативных управленческих институтов, блокирующих деятельность избранных органов власти на уровне города и страны. В таких условиях практически неосуществима защита прав человека. Например, молодые турчанки или пакистанки, привезенные в качестве жен для жителей турецких кварталов Берлина или пакистанских кварталов Лондона, оказываются менее свободными и защищенными, чем на родине. Там от чрезмерного произвола мужа, свекра или свекрови их могла защитить родня. В европейских же городах этих молодых женщин зачастую не спасают ни родственники, ни закон. Карикатурный мультикультурализм, из которого выхолощены ценности гуманизма, способствует возрождению таких архаических черт традиционной культуры, которые уже забыты на родине иммигрантов.
В ряде исламских стран женщины становились не только членами парламента, судьями, министрами, но и главами правительств (Беназир Бхутто в Пакистане, Тансу Чиллер в Турции). А в исламских кварталах европейских городов турецкую, арабскую или пакистанскую женщину могут убить за любое неподчинение в семье мужчине, за подозрение в супружеской неверности, за не надетый платок. Правда, и в Германии турчанка Айгёль Озкан стала министром земельного правительства Нижняя Саксония (апрель 2010 года). Однако как раз она представляет ту, пока небольшую, часть иммигрантов, которая сумела вырваться из локальной общины и индивидуально интегрироваться в немецкое гражданское сообщество.
В замкнутых же исламских кварталах Берлина, Лондона или Парижа молодежь имеет значительно меньшие возможности социализации и адаптации, чем их сверстники, живущие вне добровольных гетто. Уже поэтому невольники общин заведомо не конкурентоспособны на общем уровне страны. К началу 2000-х гг. в Берлине лишь каждый двенадцатый турецкий школьник сдавал экзамены за полный курс средней школы, тогда как из числа немецких школьников такие экзамены сдавал каждый третий выпускник. Понятно, что и безработица затрагивает молодых турок в значительно большей степени, чем немцев. В 2006 г. 47% турчанок в возрасте до 25 лет и 23% молодых турок являлись безработными и жили за счет социальных пособий. При этом сама возможность получения пособий почти без ограничений по времени не стимулирует иммигрантов к интеграции в принимающее сообщество. Более того, социологические исследования показывают, что турецкая молодежь в Германии демонстрирует меньшее стремление к интеграции, чем турки старшего поколения. Вот это и есть реальное выражение краха политики мультикультурализма, точнее – политики культурной дезинтеграции.
Концепция «культурной свободы»: контуры политики нового века
Накапливается все больше доказательств того, что мультикультурализм появился лишь как исторический эпизод, как проявление кратковременной «обратной волны», завершающей цикл индустриальной модернизации. Эта волна была вызвана внешними по отношению к культуре импульсами, сила которых ныне слабеет.
Экономика. В 1970-е гг. мировое разделение труда определялось потребностью экономики в снижении издержек на рабочую силу, при этом ее качество, квалификация работников имели тогда меньшее значение, чем обилие и дешевизна трудовых ресурсов. Индустриальная экономика сама упрощала технологии, адаптируя их к социальным и культурным стандартам, сложившимся в данной местности. Новая же постиндустриальная экономика высоких технологий значительно менее пригодна для адаптации к локальным традиционным культурам. Сама сущность «высокой технологии» исключает возможность ее упрощения, поэтому она более требовательна к качеству трудовых ресурсов, оцениваемому по универсальным и стандартизированным критериям.
Это обстоятельство уже сейчас меняет характер мирового разделения труда. В странах «глобального Севера» уменьшается спрос на рабочую силу низкой квалификации. Большинство этих государств своей миграционной политикой поощряет приток только высококвалифицированных специалистов. Изменяется и отношение к вывозу капитала. Эксперты отмечают, что ныне американские фирмы предпочитают размещать производства первой стадии (высококвалифицированный умственный труд и опытное производство) у себя дома, второй стадии (производство элементов, требующих квалифицированного ручного труда) – в регионах, отличающихся высоким качеством технической культуры и долгой традицией квалифицированного индустриального труда (например, в Шотландии). Наконец, производства третьей стадии, требующие рутинной, трудоемкой, малоквалифицированной деятельности (скажем, изготовление элементов электронных изделий и сборка) – в таких странах, как Китай (Гонконг), Филиппины, Индонезия.
Странам, сохраняющим значительные пласты традиционной культуры, присущей неурбанизированным обществам, в современном разделении труда достаются лишь трудоемкие производства, требующие рутинного и малоквалифицированного труда. По мере того как эти государства или некоторые из них будут втягиваться в развитие собственного постиндустриального производства, им придется существенно изменять сложившийся в стране культурный климат. Экономика вновь воспроизводит креативную функцию по отношению к традиционной культуре, которую она частично утратила в эпоху ее адаптации к локальным традициям.
Политика. Индустриальная фаза модернизации могла осуществляться при разных политических режимах: демократических, авторитарных и тоталитарных. На постиндустриальном этапе модернизации возрастают требования к индивидуальной активности и творчеству работника. А это, в свою очередь, требует сравнительно радикальных изменений в обществе. Экономическая модернизация рано или поздно подталкивает модернизацию социально-политическую. Не случайно переход ряда стран Азии (прежде всего, Японии и Южной Кореи) к инновационному этапу модернизации сопровождался процессом их демократизации. Аналогичные процессы происходили в Латинской Америке (например, в Бразилии), а еще раньше – в странах Южной Европы (Испания, Португалия и Греция). Да и в России политический истеблишмент все яснее осознает, что экономические успехи будут все больше зависеть от «честных выборов». А факт того, что они уже и сегодня невозможны без справедливого суда, осознан уже давно.
Культурное развитие. Волна традиционализма в немалой мере породила архаичную политику мультикультурализма, возродившую и усилившую разобщенность. Ныне этот факт признается не только большинством экспертов, но и политическими кругами. В «Белой книге по межкультурному диалогу», выпущенной Советом Европы (2009), равно негативно оценены как концепция «культурной ассимиляции», так и «мультикультурализма» в его нынешнем виде. Международные организации и практически все демократические страны перешли к новой стратегии.
Во-первых, это поощрение интеграции иммигрантских групп в принимающее сообщество с использованием системы льгот и санкций. Во-вторых, «разделение сфер культуры». В публичной сфере поощряется культурная однородность, основанная на принятии единых формальных норм, контролируемых гражданским обществом. В приватной же области, также как и в духовной жизни, гарантируется возможность культурного разнообразия. Например, место для отправления специфических культов – это храм, тогда как улица – сфера общего светского пользования. Исходя из такого подхода, Саркози заявляет: «Мы не хотим, чтобы во Франции устраивали показательные уличные молитвы, но мечети – это нормально». Предполагается, что такая компромиссная модель позволяет обеспечить соблюдение прав человека вне зависимости от его культурных особенностей при сохранении разнообразия мультикультурного общества.
Модель «разделения сфер культуры», несомненно, отражает назревшие изменения общественных настроений, хотя и остается теоретически весьма несовершенной. В реальной жизни невозможно провести демаркационную линию между приватной и публичной жизнью. Например, воспитание детей в семье, казалось бы, относится к сугубо приватной сфере. Тогда как же оценить принятые в ряде европейских стран запреты на использование физических наказаний при воспитании детей? Таким же фактическим вторжением в личную жизнь являются законы, обязывающие родителей выплачивать алименты на поддержание детей при разводах. Да и сами защитники интересов той или иной культурной группы в приватной сфере неизбежно апеллируют к публичности. Само существование этнических или религиозных общин сегодня невозможно без общественных собраний, собственных изданий, системы просвещения и другой публичности.
Несомненно, новая концепция чрезвычайно противоречива. Вместе с тем, такая противоречивость характерна для большинства принципов, на которых держится современное политическое устройство государства-нации. Так права человека могут вступать в противоречие с принципом защиты национальной безопасности. И в случае роста угроз в любой стране вводятся ограничения прав человека, начиная с личного досмотра в аэропортах и заканчивая – в крайних случаях – установлением режима чрезвычайного положения. На практике противоречия между базовыми принципами политики всегда разрешаются за счет установления системы приоритетов. Они действовали во все времена и во всех сферах общественной жизни, в том числе и в национально-культурной.
Даже в период расцвета политика мультикультурализма имела ограничения. Так, ни одна европейская страна, допустившая на свою территорию ислам, не разрешала многоженства, принятого в мусульманской традиции, вначале потому, что этот принцип был способен разрушить всю систему европейского семейно-имущественного права, созданного для моногамной семьи. Затем этот принцип отвергался как безусловно дискриминационный по отношению к женщине. Ныне, в связи с ростом критики мультикультурализма, общегражданские нормы становятся еще более приоритетными по сравнению с нормами групповыми.
В мире не прекращаются поиски новых стратегий культурной политики. Одним из наиболее перспективных направлений является модель «индивидуальной свободы и культурного выбора», базовые принципы которой изложил Амартия Сен – известный мыслитель и ученый, лауреат Нобелевской премии по экономике. Главная его идея состоит в постепенном ослаблении групповых форм идентификации и переходе к индивидуальному выбору. «Культурная свобода, – объясняет Сен, – это предоставление индивидам права жить и существовать в соответствии с собственным выбором, имея реальную возможность оценить другие варианты». Амартия Сен подчеркивает, что «множество существующих в мире несправедливостей сохраняется и процветает как раз потому, что они превращают своих жертв в союзников, лишая их возможности выбрать другую жизнь, и даже препятствуют тому, чтобы они узнали о существовании этой другой жизни». Вот и этнические, религиозные и другие групповые культурные традиции по большей части не добровольны, они «аскриптивны», т.е. предписаны индивиду от рождения. Поэтому основная цель политики поощрения культурной свободы состоит в ослаблении этой предопределенности, в развитии индивидуального мультикультурализма.
Концепция «культурной свободы» была с энтузиазмом встречена многими специалистами в области изучения культурной политики. Однако она пока не стала нормой и в западных странах. Что касается возможности ее применения в российских условиях, то это представляется крайне маловероятным в обозримой перспективе. И вовсе не потому, что этому будет препятствовать российский народ. Наиболее труднопроходимым для инноваций слоем культурной почвы является тот, который принято называть «российской элитой».
Россия: возможно ли продвижение к мультикультурной интеграции?
На февральском (2011) заседании Госсовета России, обсуждавшем проблемы межнационального общения, президент Дмитрий Медведев попытался реабилитировать слово «мультикультурализм», заметив, что новомодные лозунги о его провале неприменимы к России. На мой взгляд, такая оценка – результат недоразумения, «эффекта Журдена», не знавшего, что он тоже говорит прозой. Дело в том, что российский лидер сам неоднократно критиковал те же стороны мультикультурализма, что и его европейские коллеги. Особенно часто он это делал, говоря о ситуации на Северном Кавказе, где мультикультурная дезинтеграция чрезвычайно ярко проявляется в клановости, в этническом сепаратизме и в религиозном радикализме. Все это порождает почти непреодолимые преграды для управляемости региона, формирует беспрецедентную волну терроризма, не говоря уже о проблемах модернизации этой территории. Президент России, как и европейские лидеры, неоднократно связывал проблему преодоления такой раздробленности с гражданской интеграцией, которую он определял по-разному. На декабрьском (2010) Госсовете, посвященном взрыву русского национализма, Медведев назвал интеграцию развитием «общероссийского патриотизма», а на февральском Госсовете в Уфе – задачей становления «российской нации».
Российская версия политики мультикультурализма древнее и намного сложнее по своим последствиям, чем европейская. Мультикультурализм как форма поощрения групповой, общинной идентичности был неотъемлемой частью сталинской политики создания национальных республик (союзных и автономных), а также национальных округов и областей. Однако в советское время дезинтеграционные последствия такой политики частично снималась имитационным характером всей системы автономий, за фасадом которой скрывалось единое территориально-партийное управление. Проблема обострилась в постсоветское время, когда местные элиты попытались наполнить реальным содержанием формальный и мнимый суверенитет своих республик.
Девяностые годы прошли под знаком мобилизации представителей так называемых титульных национальностей в республиках России, поднимаемых местными элитами на борьбу за суверенитет. В ряде случаев такая мобилизация приводила к открытым вооруженным столкновениям больших групп населения с федеральной властью, как это было в Чеченской Республике. В 2000-е гг. ситуация изменилась, ее фокусом стали другие проблемы, а именно: отторжение иноэтнических мигрантов принимающим сообществом, прежде всего жителями крупнейших городов России.
Эта проблема породила столкновения между разными группами населения, вроде того, что произошло в Кондопоге в 2006 году. Вместе с тем, этнополитическая ситуация в России стала напоминать проблематику стран «глобального Севера». Это, казалось бы, позволяет в большей мере использовать зарубежные концепции и практики культурной, миграционной и этнической политики. Однако в реальности возможность прямой имплементации позитивных концепций и практик весьма ограничена.
Проблема объекта политики. На Западе ксенофобия принимающих сообществ направлена в основном на иммигрантов, т.е. иностранных граждан, прибывших из-за рубежа. В России же основным объектом ксенофобии выступают внутренние мигранты, граждане Российской Федерации, жители республик Северного Кавказа. Уже одно это показывает, что применяемая на Западе политика ослабления миграционных проблем за счет ограничений въезда иностранных граждан и изменений условий предоставления им гражданства или вида на жительство не может быть использована в качестве инструмента решения межэтнической и религиозной напряженности в России.
Проблема раздробленности политического менеджмента в сфере миграционной и этнической политики. В странах Европейского союза направленность развития законодательства и политических практик в сфере регулирования миграции, защиты прав человека и обеспечения прав национальных меньшинств взаимоувязаны как институционально (входят в единый блок управления), так и идеологически (опираются на единые ценности). В России же нет не только единого идеологического основания для интеграционной политики, но разорваны и само управление, и законодательные практики. Так, миграционная политика в 2000-х гг. претерпела изменения. Этническая же («национальная») политика России застыла в том положении, в каком она сформировалась в 1990-е годы. Концепция государственной национальной политики, принятая в 1996 г., не пересматривается. В 2000–2010 гг. законодательная активность Государственной думы в сфере этнической («национальной») политики была парализована, а министерство, которое в 1990-е гг. под разными названиями отвечало за проведение такой политики, ликвидировано.
Проблема фундаментальных особенностей функционирования государственной власти. На Западе основные новации в сфере этнической и миграционной политики формируются политическими партиями и институтами гражданского общества, проходят общественное обсуждение, затем принимаются и кодифицируются законодательной властью, становясь нормой для власти исполнительной. В России же принципиально иной способ формирования политики во всех сферах жизни. Ее принципы и нормы создаются исполнительной властью и затем одобряются партиями, представленными в Федеральном собрании. При таком способе функционирования политики участие экспертного сообщества и широкой общественности в ее выработке и реализации весьма ограничено, а возможность принятия контрпродуктивных политических решений, напротив, чрезвычайно велика. Кроме того, партии, отчужденные от реального участия в выработке политики и не обремененные ответственностью за ее проведение, склонны к популизму. Не случайно практически все партии, представленные в Государственной думе, эксплуатируют этнофобии и мигрантофобии, тогда как в крупнейших странах Евросоюза такие партии либо не попадают в парламент (как в Германии и Великобритании), либо находятся там в меньшинстве, как во Франции. Россия в числе европейских лидеров и по уровню массовой мигрантофобии, хотя и не опережает такие страны ЕС, как Венгрия, Латвия, Греция и Португалия.
В странах Европейского союза основным механизмом реализации этнокультурной и миграционной политики выступает взаимодействие органов исполнительной власти с институтами гражданского общества. Такое взаимодействие делает участие граждан в политике непрерывным, не ограниченным только временем очередных выборов. В России же институты гражданского общества крайне слабы. Более того, наша страна, судя по материалам международных исследований, отличается от 28 стран ЕС самым низким уровнем ценности гражданской солидарности и взаимного («горизонтального») доверия. При этом подстегнуть процесс гражданской интеграции одними лишь информационными манипуляциями по развитию «общероссийского патриотизма» не удастся. Все это делает маловероятной активизацию процесса гражданской интеграции в нашей стране в ближайшие годы.
И все же я верю, что движение России от мультикультурного раскола к мультикультурной интеграции стратегически неизбежно. Наша страна вступила на путь инновационной модернизации, и это не лозунг очередного лидера, а жизненная необходимость для государства с великой историей и великой культурой. Сама же инновационная экономика настолько же неизбежно требует модернизации политико-правовой и социально-культурной, насколько вдох требует выдоха.
Э.А. Паин – доктор политических наук, профессор Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики, генеральный директор Центра этнополитических исследований.

Human Rights, Perestroika, and the End of the Cold War
Human Rights, Perestroika, and the End of the Cold War. Anatoly Adamishin and Richard Shifter. United States Institute of Peace Press. Washington, D.C., 2009
А.С. Грачёв – председатель научно-консультативного совета Форума новой политики.
Резюме Эта книга выделяется из потока политической, аналитической и мемуарной литературы, порожденной мировым геополитическим сдвигом, который привел к распаду СССР
Из потока политической, аналитической и мемуарной литературы, порожденной мировым геополитическим сдвигом, который привел к распаду СССР, книга Ричарда Шифтера и Анатолия Адамишина «Права человека, перестройка и конец холодной войны» выделяется по нескольким причинам.
Во-первых, из-за уникальности ее «авторского коллектива». Она написана бывшими высокопоставленными чиновниками, представлявшими правящую элиту двух враждующих сверхдержав – заместителями госсекретаря США и советского министра иностранных дел. Авторы не стесняются признаться читателю в личной дружбе, хотя в эпоху холодной войны уже в силу служебных обязанностей были обречены на то, чтобы смотреть друг на друга через «амбразуры» антагонистических идеологий и непримиримых политических разногласий.
Хочу при этом успокоить (или разочаровать) читателей, настроившихся на сенсационную волну – речь не идет о признаниях «перебежчиков». Авторы подробно и убедительно объясняют, каким образом их личные судьбы и во многом противоположные изначально идейные позиции помогли им пройти путь от встречи на поле банальных дипломатических торгов к сотрудничеству, временами перераставшему в политическое «сообщничество», не изменяя при этом ни патриотическим чувствам, ни убеждениям.
Второй и, разумеется, главный аспект, из-за которого книга заслуживает внимания, – это тема прав человека. В течение 70-летней истории советского государства, прожившего большую часть этого периода «во враждебном капиталистическом окружении», вопрос о «так называемых правах человека» – термине, практически всегда заключавшемся в кавычки официальной советской пропагандой, – был предметом скорее идеологических баталий, чем дипломатических переговоров.
Советская дипломатия долгое время вообще отвергала возможность каких-либо дискуссий о правах человека с зарубежными партнерами. Поначалу потому, что относила эту тему к разряду сюжетов антагонистических и, следовательно, не предназначенных для обсуждения с «классовыми противниками». Позднее – к неприкосновенной категории суверенных прерогатив независимых государств, обращение к которым трактовалось как недопустимое вмешательство во внутренние дела.
Конечно, иногда, под нажимом западной дипломатии или особенно шумных пропагандистских кампаний, иногда в интересах косметического ретуширования облика советской системы (особенно в канун важных зарубежных поездок советских руководителей), а порой и в рамках циничных разменов жертв коммунистического режима на западные кредиты или контракты, кремлевские боссы шли на точечные уступки Западу. Увеличивались квоты еврейской эмиграции, выпускались пациенты из психиатрических клиник, пересматривались дела некоторых «отказников», а отдельные диссиденты получали возможность выехать на Запад (или высылались туда без их согласия).
При этом не столько для внешнего мира, который на этот счет не обманывался, сколько для внутреннего общественного мнения политическое и идеологическое «целомудрие» системы неукоснительно оберегалось. Подобные решения преподносились как строго суверенные проявления либо гуманного характера советской власти, либо свидетельства торжества социалистической законности, не имевшие никакой связи с давлением извне.
Тем не менее, в середине 70-х гг. прошлого века под давлением экономических и дипломатических императивов советской дипломатии пришлось распрощаться с идеологической «девственностью» и допустить – в рамках Хельсинкского процесса – чтобы комплекс вопросов, деликатно названных «гуманитарными», был включен в официальную международную повестку дня и тем самым открыт для публичного обсуждения.
Понадобилось, однако, 10 лет после подписания Заключительного акта в Хельсинки и, главное, смена политического руководства в СССР, для того чтобы права человека были упомянуты в выступлении нового Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва без привычной приставки «так называемые».
Начиная с женевской встречи Рональда Рейгана и Горбачёва в ноябре 1985 г., вопрос о соблюдении прав человека стал частью официальной повестки дня советско-американских саммитов. Споры между готовившими их «шерпами» велись лишь насчет того, под каким номером – первым, как настаивали американцы, или четвертым, как этого хотели советские представители, – он будет фигурировать. Закономерно, что в недрах дипломатических ведомств Советского Союза и Соединенных Штатов «курирование» соответствующих направлений было поручено заместителям их глав – Джорджа Шульца и Эдуарда Шеварднадзе. Ответственными за деликатную «саперную» работу в этой «серой зоне» между внутренней и внешней политикой были назначены наши авторы – Ричард Шифтер и Анатолий Адамишин.
Тот факт, что оба они имели привилегированный доступ к своим боссам, были облечены их безусловным политическим и личным доверием и в силу этого имели весьма широкие полномочия, конечно, во многом облегчал их работу и помогал распутывать подчас даже самые запутанные и деликатные дипломатические и политические коллизии. В книге приводится немало интересных подробностей относительно того, как прямой выход на Шульца и Шеварднадзе, а через них, при необходимости, на Рейгана и Горбачёва, позволял преодолевать не только инерцию бюрократических структур, но и подспудное, а порой и открытое сопротивление консервативных сил обеих стран.
Оказавшись как бы в одном политическом «окопе» – лагере «реформистов», по определению Адамишина, или «идеалистов», к которым относил себя Шифтер, – оба дипломата нередко обнаруживали больше понимания друг у друга, чем у многих своих коллег, и вырабатывали совместные сценарии преодоления препятствий, которые создавались их оппонентами в собственных политических «тылах».
Однако даже такой уникальный опыт политического «дуэта» вряд ли вышел бы за рамки дипломатического упражнения в поиске компромиссов, если бы его участники не оказались вовлечены в масштабный политический процесс, разворачивавшийся в Советском Союзе. Именно с тех пор, как вопрос о демократических и гражданских правах стал частью внутренней политической повестки дня и одним из приоритетов перестройки, он перестал быть для Шифтера и Адамишина классической дипломатической «игрой с нулевой суммой», а консультации и переговоры вышли за рамки профессиональной дуэли.
Достигнутый уровень взаимопонимания не только содействовал решению практических вопросов в сфере соблюдения прав человека в СССР и облегчению сотен человеческих судеб, но и превратился в важный политический фактор. Он помогал руководству США избавляться от привычных стереотипов и штампов в отношении Москвы, точнее понимать характер и направление перемен, происходивших в эти годы в Советском Союзе.
Американцам, например, еще предстояло понять, что телефонный звонок Горбачёва Андрею Сахарову с предложением вернуться из горьковской ссылки в Москву не является, как это могло быть в брежневские времена, реакцией на заступничество Рейгана за опального академика. Так же как разработка в СССР новых законов о свободе печати и выезде за рубеж советских граждан не должны воприниматься как подарок Вашингтону. И то и другое стало частью политической динамики перестройки и отражением внутренней потребности страны, освобождавшейся от тоталитарного режима.
В этих условиях, как пишет Ричард Шифтер, перед американской дипломатией встала неожиданная и немыслимая прежде задача: не подталкивать, а «догонять» политический процесс, развертывавшийся в Советском Союзе, помогая по мере возможности советским партнерам своим опытом, советами и экспертной помощью.
Совместная работа авторов в области прав человека внесла огромный вклад в окончание холодной войны. Очевидно, что острая полемика по такому чувствительному и болезненному сюжету, которая была одним из самых ярких внешних проявлений холодной войны между Востоком и Западом, по логике должна была затухать по мере ослабления политического и стратегического противостояния. Однако в данном случае формальная логика была перевернута. Именно результативные действия обеих сторон в вопросах улучшения положения с соблюдением прав человека и убедительные свидетельства демократических перемен в Советском Союзе в значительной степени способствовали достижению такого уровня доверия между руководителями, который открыл дорогу для качественного прорыва и в переговорах по ядерному разоружению, и по другим стратегическим проблемам.
Сейчас, по прошествии более чем двадцати лет со времени той революции и невзирая на контрастные оценки, которые перестройка продолжает вызывать, именно перемены в сфере соблюдения гражданских прав и индивидуальных политических свобод остаются ее главным, если не единственным завоеванием и наследием.
Резюмируя важнейшие, с его точки зрения, итоги того заключительного периода советской истории, Ричард Шифтер пишет: «С точки зрения одних, Горбачёв и его окружение продвигались вперед слишком медленно, по мнению других, наоборот – предложили обществу слишком быстрый темп и объем перемен. Бесспорным фактом остается то, что они добились решающего успеха в устранении тоталитарного контроля государства над жизнью советских людей» (с. 267). Шифтер и Адамишин внесли достойный вклад в этот успех, по крайней мере в той области, в которой они оба трудились.

Революция и демократия в исламском мире
Резюме: Падающее воздействие великих держав создает политический вакуум на Ближнем и Среднем Востоке. Часть его заполнит Индия (в Афганистане), но в основном – на всей территории – усилится Китай. С учетом роста влияния Турции и Ирана состав игроков этого огромного региона и распределение сил будет в XXI веке больше напоминать XVII, чем ХХ столетие.
События в Тунисе и Египте продемонстрировали удивительный парадокс. Революции, вызвавшие эффект домино и поставившие на грань существования всю систему сдержек и противовесов в арабском мире, приветствовали не только Иран и «Аль-Каида», но и ряд западных политиков, первыми из которых должны быть названы президент и госсекретарь Соединенных Штатов. Отказ Николя Саркози предоставить убежище бежавшему из Туниса президенту Зин эль-Абидину Бен Али, который на протяжении десятилетий был оплотом интересов Парижа в Магрибе, еще можно было списать на растерянность или неизвестные широкой публике «старые счеты». Но призывы Барака Обамы и Хиллари Клинтон, которые в разгар охвативших Египет бунтов, погромов и антиправительственных выступлений требовали от египетского президента Хосни Мубарака немедленно включить Интернет, обеспечить бесперебойную работу иностранных СМИ, вступить в диалог с оппозицией и начать передачу ей власти, вышли за пределы не только разумного, но и допустимого. Вашингтон в очередной раз продемонстрировал, что в регионе у него нет не только союзников, но даже сколь бы то ни было ясно понимаемых интересов.
Непоправимые ошибки Америки
Откровенное до бесхитростности предательство главного партнера США в арабском мире, каким до недавнего времени полагал себя Мубарак, никак не может быть оправдано с практической точки зрения. «Либеральная оппозиция» во главе с экстренно прибывшим в Египет «брать власть» Мохаммедом эль-Барадеи, влияние которого в стране равно нулю, не имеет никаких шансов. Если, конечно, не считать таковыми возможное использование экс-главы МАГАТЭ в качестве ширмы, ликвидируемой немедленно после того, как в ней отпадет надобность. Заявления «Братьев-мусульман» о том, что, придя во власть, они первым делом пересмотрят Кэмп-Дэвидский договор, и сама их история не дают оснований для оптимизма. Амбиции еще одного потенциального претендента на египетское президентство, Генерального секретаря Лиги арабских государств Амра Мусы, несопоставимы с возможностями генерала Омара Сулеймана, которого Мубарак назначил вице-президентом. А переход власти к высшему военному командованию хотя бы оставляет надежду на управляемый процесс.
Ближний Восток: история проблемы
Георгий Мирский. Шииты в современном мире
Евгений Сатановский. Новый Ближний Восток
Усмотреть смысл в «выстреле в собственную ногу», произведенном американским руководством, очень трудно. Разве что начать всерьез воспринимать теорию заговора, в рамках которого Соединенные Штаты стремятся установить в мире «управляемый хаос», для чего готовы поддерживать любые протестные движения и организовывать какие угодно «цветные» революции, не важно, за или против кого они направлены. Альтернатива – полагать, что руководство США и ряда стран Европы охватила эпидемия кратковременного помешательства (кратковременного – потому что через несколько дней риторика все-таки стала меняться). Такое впечатление, что в критических ситуациях лидеры Запада следуют не голосу рассудка, государственным или личным обязательствам, но некоему инстинкту. Тому, который заставляет их во вред себе, своим странам и миропорядку в целом приветствовать любое неустроение под лозунгом «стремления к свободе и демократии», где бы оно ни происходило и кого бы из союзников ни касалось.
Какие выводы сделаны из этого всеми без исключения лидерами стран региона от Марокко до Пакистана – не стоит и говорить. Во всяком случае, израильтяне, которые до сих пор полагали, что в основе предвзятого отношения администрации Обамы к правительству Биньямина Нетаньяху лежат столкновение популистских американских теорий с торпедировавшей их ближневосточной реальностью, антиизраильское лоббирование и личная неприязнь, внезапно начали осознавать: дело гораздо хуже, это работает система.
В рамках этой системы исторически непоправимых ошибок, последовательно совершаемых президентами Соединенных Штатов, Джимми Картер в 1979 г. заставил шаха Ирана Мохаммеда Резу Пехлеви отказаться от противостояния с аятоллой Хомейни. Исламская революция в Иране, не встретив сопротивления, победила со всеми вытекающими для этой страны, региона и мира последствиями, одним из которых было введение советских войск в Афганистан.
Сменивший Картера Рональд Рейган поддержал не только фанатиков-моджахедов, но и создание «Аль-Каиды» во главе с Усамой бен Ладеном. Можно только вспоминать генерала ХАД (аналог КГБ в Демократической республике Афганистан) Наджибуллу, который при поддержке Запада мог стать в Афганистане не худшим руководителем, чем генералы КГБ и МВД СССР Алиев и Шеварднадзе в Азербайджане и Грузии. Вместо этого шиитский политический ислам в Иране получил достойного соседа и конкурента в лице террористического суннитского «зеленого Интернационала». Джордж Буш-старший в связи с краткосрочностью пребывания на президентском посту свой вклад в дело укрепления радикального политического ислама не внес. Он лишь провел «Войну в Заливе», ослабив режим Саддама Хусейна, но не уничтожив его в тот непродолжительный исторический момент, когда это могло быть поддержано всеми региональными игроками с минимальной выгодой для экстремистских организаций.
Зато Билл Клинтон, смотревший сквозь пальцы на появление ядерного оружия у Пакистана и проворонивший «черный ядерный рынок», организованный отцом пакистанской бомбы Абдулом Кадыр Ханом, поддержал авантюру израильских левых, приведшую Ясира Арафата на палестинские территории, и операцию пакистанских спецслужб по внедрению движения «Талибан» в качестве ведущей военно-политической силы Афганистана. Именно ближневосточный курс Клинтона привел к «интифаде Аль-Акса» в Израиле и мегатеракту 11 сентября 2001 г. в Соединенных Штатах.
Президент Джордж Буш-младший, пытаясь привести в порядок тяжелое ближневосточное наследство Клинтона, расчистил в Ираке плацдарм для деятельности не только «Аль-Каиды» и других суннитских радикалов, но и таких шиитских радикальных групп, как поддерживаемая Ираном Армия Махди. Иран, лишившийся в лице свергнутого и повешенного Саддама Хусейна опасного соседа, получил свободу рук для реализации имперских амбиций, в том числе ядерных, стремительно превращаясь в региональную сверхдержаву. Попытка иранского президента-либерала Мохаммеда Хатами наладить отношения с Вашингтоном после взятия американской армией Багдада была отвергнута, что открыло дорогу к власти иранским «неоконам» во главе с президентом Махмудом Ахмадинежадом. В Афганистане не были разгромлены ни талибы, ни «Аль-Каида», их лидеры мулла Омар и Усама бен Ладен остались на свободе, зато администрация, ведомая госсекретарем Кондолизой Райс, всерьез занялась демократизацией региона.
В итоге ХАМАС стал ведущей военно-политической силой в Палестине и, развязав гражданскую войну, захватил сектор Газа. Проиранская «Хезболла» укрепила позиции в Ливане, «Братья-мусульмане» заняли около 20% мест в парламенте Египта, а успешно боровшийся с исламистами пакистанский президент Первез Мушарраф и возглавляемая им армия уступили власть коррумпированным кланам Бхутто-Зардари и Наваза Шарифа. Страна, арсеналы которой насчитывают десятки ядерных зарядов, сегодня управляется людьми, стоявшими у истоков движения «Талибан» и заговора Абдула Кадыр Хана.
Наконец, Барак Обама, «исправляя» политику своего предшественника, принял политически резонное, но стратегически провальное решение о выводе войск из Ирака и Афганистана и смирился с иранской ядерной бомбой, которая, несомненно, обрушит режим нераспространения. Попытки жесткого давления на Израиль, переходящие все «красные линии» в отношениях этой страны с Соединенными Штатами, убедили Иерусалим в том, что в лице действующей администрации он имеет «друга», который опаснее большинства его врагов. Несмотря на беспрецедентное охлаждение отношений с Израилем, заигрывания с исламским миром, стартовавшие с «исторической речи» Обамы в Каире, не принесли ожидаемых дивидендов. Ситуацию с популярностью США под руководством Барака Обамы среди мусульман лучше всего характеризует реакция египетских СМИ на эту речь: «Белая собака, черная собака – все равно собака».
Поддержка американским президентом египетской демократии в варианте, включающем в систему власти исламских радикалов, помимо прочего откроет двери для дехристианизации Египта. Копты, составляющие 10% его населения и без того во многом ограничиваемые властями, несмотря на демонстрацию лояльности к ним, являются легитимной мишенью террористов. Их будущее в новом «демократическом» Египте обещает быть не лучшим, чем у их соседей – христиан Палестины, потерявшей за годы правления Арафата и его преемника большую часть некогда многочисленного христианского населения.
Упорная поддержка коррумпированных и нелегитимных режимов Хамида Карзая в Афганистане и Асифа Али Зардари в Пакистане, неспособность повлиять на правительственные кризисы в Ираке и Ливане, утечки сотен тысяч единиц секретной информации через портал «Викиликс», несогласованность действий Госдепартамента, Пентагона и разведывательных служб, череда отставок высокопоставленных военных и беспрецедентная публичная критика, с которой они обрушились на гражданские власти… Все это заставляет говорить о системном кризисе не только в ближневосточной политике, но и в американской управленческой машине в целом.
Инициативы Обамы по созданию «безъядерной зоны на Ближнем Востоке» и продвижению к «глобальному ядерному нулю», настойчиво поддерживаемые Саудовской Аравией, направлены в равной мере против Ирана, нарушившего Договор о нераспространении (ДНЯО), и Израиля, не являющегося его участником. Проблема не только в том, что эти инициативы не имеют шансов на реализацию, но в том, что они полностью игнорируют Пакистан, хотя опасность передачи части пакистанского ядерного арсенала в распоряжение Саудовской Аравии, а возможно, и не только ее, не менее реальна, чем перспективы появления иранской ядерной бомбы. Активная позиция в поддержку ядерных инициатив Барака Обамы, занятая в конце января с.г. в Давосе принцем Турки аль-Фейсалом, наводит на размышления. Создатель саудовских спецслужб известен не только как архитектор «Аль-Каиды», его подозревают в причастности к организации терактов 11 сентября в США и «Норд-Ост» в России. На этом фоне поспешные непродуманные заявления в адрес Хосни Мубарака только подчеркнули: Америка на Ближнем и Среднем Востоке (БСВ) действует исходя из теории, а не из практики, и, не считаясь с реальностью, строит фантомную «демократию» (как когда-то СССР – фантомный «социализм»), безжалостно и бессмысленно сдавая союзников в угоду теоретическому догматизму.
Демократия с ближневосточной спецификой
Принято считать, что демократия – наилучшая и самая современная форма правления. Соответствующая цитата из Уинстона Черчилля затерта до дыр. Право народа на восстание против тирании, которое легло в основу западного политического обустройства последних веков – это святыня, покушения на которую воспринимаются в Вашингтоне и Брюсселе как ересь, сравнимая с попытками усомниться в непогрешимости папы римского. При этом расхождения между теоретической демократией и ее практическим воплощением в большей части стран современного мира не только не анализируются, но даже не осознаются «мировым сообществом», точнее политиками, политологами, политтехнологами, экспертами и журналистами, которые принадлежат к узкому кругу, не только называющему, но и полагающему себя этим сообществом.
Констатируем несколько аксиом ближневосточной политики. Знаменующий окончательную и бесповоротную победу либеральной демократии «конец истории» Фрэнсиса Фукуямы не состоялся, в отличие от «войны цивилизаций» Самьюэла Хантингтона. Во всяком случае, на Ближнем и Среднем Востоке демократий западного типа нет, и в ближайшие десятилетия не предвидится. В регионе правят монархи, авторитарные диктаторы или военные хунты. Все они апеллируют к традиционным ценностям и исламу до той поры, пока это ислам, не подвергающий сомнению легитимность верховной власти. Республиканские режимы БСВ могут до мелочей копировать западные органы власти, но эта имитация европейского парламентаризма не выдерживает проверки толерантностью. Права этно-конфессиональных меньшинств существуют до той поры, пока верховный лидер или правящая группировка намерены их использовать в собственных целях и в той мере, в которой это позволено «сверху», а права меньшинств сексуальных не существуют даже в теории. В отличие от западного сообщества, права большинства не подразумевают защиту меньшинств, но в отсутствие властного произвола дают большинству возможность притеснять и физически уничтожать их. Политический неосалафизм приветствует это, а ссылки теоретиков на терпимость ислама в корне противоречат практике, в том числе современной.
Любая демократизация и укрепление парламентаризма в регионе, откуда бы они ни инициировались и кем бы ни возглавлялись на начальном этапе, в итоге приводят исключительно к усилению политического ислама. Националистические и либеральные светские партии и движения могут использоваться исламистами только как временные попутчики. Исламизация политической жизни может быть постепенной, с использованием парламентских методов, как в Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, или революционной, как в Иране рахбара Хомейни, но она неизбежна.
Период светских государств, основатели которых воспринимали ислам как историческое обоснование своих претензий на отделение от метрополий, а не как повседневную практику, обязательную для всего населения, завершается на наших глазах. Все это сопровождается большой или малой кровью. Различные группы исламистов апеллируют к ценностям разных эпох, от крайнего варварства до сравнительно умеренных периодов. Некоторые из них готовы поддерживать отношения с Западом – в той мере, в какой они им полезны, другие изначально настроены на разрыв этих отношений. В одних странах исламизация общественной и политической жизни сопровождается сохранением государственных институтов, в других – их ликвидацией. Каждая страна отличается по уровню воздействия на ситуацию племенного фактора или влияния религиозных братств и орденов. Но для всех без исключения движения, которые, взяв власть или присоединившись к ней, будут обустраивать режимы, возникающие в перспективе на Ближнем и Среднем Востоке, характерны общие черты.
Движения эти жестко противостоят укоренению на контролируемой ими территории «западных ценностей» и борются с вестернизацией, распространяя на Западе «ценности исламского мира», в том числе в замкнутых этно-конфессиональных анклавах, растущих в странах Евросоюза, США, Канаде и т.д., под лозунгами теории и практики «мультикультурализма». Наиболее известными итогами сложившейся ситуации являются «парижская интифада», датский «карикатурный скандал», борьба с рождественской символикой в британских муниципалитетах, покушения на «антиисламских» политиков и общественных деятелей и убийства некоторых из них в Голландии, общеевропейская «война минаретов», попытка построить мечеть на месте трагедии 11 сентября в Нью-Йорке. Несмотря на заявления таких политиков, как Ангела Меркель и Дэвид Кэмерон о том, что мультикультурализм исчерпал себя, распространение радикального исламизма на Западе зашло далеко и инерция этого процесса еще не исчерпана. Усиление в среде местного населения Швейцарии, Австрии, Бельгии и других стран Европы консервативных антииммигрантских политических движений – реакция естественная, но запоздавшая. При этом антиглобалистские движения, правозащитные структуры и международные организации, включая ООН, с успехом используются исламистами для реализации их стратегических целей.
Консолидация против Израиля
Одной из главных мишеней современного политического ислама всех толков и направлений является Израиль. Борьба с сионизмом – не только единственный вопрос, объединяющий исламский мир, но и главное достижение этого мира на международной арене. Как следствие – гипертрофированное внимание мирового сообщества, включая политический истеблишмент и СМИ, к проблеме отношений израильтян и палестинцев. Утверждение в умах жителей не только исламского мира, но и Запада идеи исключительности палестинской проблемы – на деле едва ли не наименее острой в череде раздирающих регион конфликтов. Во имя создания палестинского государства многие готовы идти против экономической, политической и демографической реальности, да и просто против здравого смысла, о чем свидетельствует «парад признания» рядом латиноамериканских и европейских государств несуществующего палестинского государства в границах 1967 года.
Израиль пока выжидает и готовится к войне, дистанцируясь от происходящих в регионе событий, чтобы не провоцировать конфликт. Руководство страны осознает, что ситуация с безопасностью в случае ослабления режимов в Каире и Аммане, поддерживающих с Иерусалимом дипломатические отношения, вернется к временам, которые предшествовали Шестидневной войне. Любая эволюция власти в Египте и Иордании возможна только за счет охлаждения отношений с Израилем, поскольку на протяжении десятилетий главным требованием арабской улицы в этих странах был разрыв дипломатических и экономических отношений с еврейским государством. Этот лозунг используют все организованные оппозиционные группы, от «Братьев-мусульман» до профсоюзов и светских либералов.
Не только Амр Муса и эль-Барадеи, известные антиизраильскими настроениями, но и Омар Сулейман, тесно контактировавший на протяжении длительного времени с израильскими политиками и военными, либо другой представитель высшего генералитета будет вынужден (сразу или постепенно) пересмотреть наследие Мубарака в отношениях с Израилем. Как следствие, неизбежно ослабление или прекращение борьбы с антиизраильским террором на Синайском полуострове, поддерживаемым не только суннитскими экстремистскими группами, но и Ираном. Завершение египетской блокады Газы означает возможность доставки туда ракет среднего радиуса действия типа «Зильзаль», способных поразить не только ядерный реактор в Димоне и американский радар в Негеве, контролирующий воздушное пространство Ирана, но и Тель-Авив с Иерусалимом. Поддержка ХАМАС со стороны Сирии и Ирана усилится, а Палестинская национальная администрация (ПНА) на Западном берегу ослабеет. Все это резко повышает вероятность терактов против Израиля и военных действий последнего не только в отношении Ирана, к чему Иерусалим готовился на протяжении ряда лет, но и по всей линии границ, включая Газу и Западный берег.
Военные действия против Ливана и Сирии возможны в случае активизации на северной границе «Хезболлы». Война с Египтом вероятна, лишь если исламисты придут к власти и разорвут мирный договор с Израилем. В зависимости от того, прекратят ли США поставки вооружения и запчастей Египту, возможны любые сценарии боевых действий, включая, в случае катастрофичного для Израиля развития событий, удар по Асуанской плотине. При этом ситуация в Египте резко обострится через 3–5 лет, когда правительство Южного Судана, независимость которого обеспечил проведенный в январе 2011 г. референдум, перекроет верховья Нила, построив гидроузлы. Ввод их в действие снизит сток в Северный Судан и Египет, поставив последний на грань экологической катастрофы, усиленной катастрофой демографической. Физическое выживание населения Египта не гарантировано при превышении предельно допустимой численности жителей, составляющей 86 миллионов человек (в настоящий момент в Египте живет 80,5 миллионов).
Конфликт Израиля с арабским миром может быть спровоцирован кризисом в ПНА. Палестинское государство не состоялось. Улучшения в экономике Западного берега связаны с деятельностью премьер-министра Саляма Файяда, находящегося в глубоком конфликте с президентом Абу Мазеном. Попытка свержения президента бывшим главным силовиком ФАТХа в Газе Мухаммедом Дахланом привела к высылке последнего в Иорданию. Главный переговорщик ПНА Саиб Эрикат обвинен в коррупции. Абу Мазен полностью изолирован в палестинской элите. Агрессивные антиизраильские действия руководства ПНА на международной арене контрастируют с его полной зависимостью от Израиля в экономике и в сфере безопасности. Население Западного берега зависит от возможности получения работы в Израиле или в израильских поселениях Иудеи и Самарии. Без поддержки со стороны израильских силовых ведомств падение режима в Рамалле – вопрос нескольких месяцев.
Иран и другие
Последствия этого для Иордании могут быть самыми тяжелыми. Пока король Абдалла II сдерживает палестинских подданных, опираясь на черкесов, чеченцев и бедуинов. Смена премьер-министра и ряд других мер политического и экономического характера позволяют ему избежать сценария, реализованного его отцом в «черном сентябре» 1970 года (подавление палестинского восстания). Ситуацию в Иордании дополнительно отягощает фактор иракских беженцев (до 700 тысяч человек), а также финансовые и земельные аферы, в которых обвиняются палестинские родственники королевы Рании. В отличие от времен короля Хусейна, Иордании не грозит опасность со стороны Сирии и Саудовской Аравии, однако страна остается мишенью для радикальных суннитских исламистов. Следует отметить сдвиг в отношениях между Иорданией и Ираном.
Последний, наряду с Турцией, является ведущим военно-политическим игроком современного исламского мира, успешно соперничающим за влияние с такими его традиционными лидерами, как Египет, Саудовская Аравия и Марокко. Несмотря на экономические санкции, Иран развивает свою ядерную программу и хотя, по оценке экс-директора «Моссад» Меира Дагана, не сможет изготовить ядерную бомбу до 2015 г., накопил объем расщепляющих материалов, которого хватает для производства пяти зарядов, а к 2020 г., возможно, будет готов к ограниченной ядерной войне. При этом непосредственную опасность Исламская Республика Иран (ИРИ) представляет исключительно для своих соседей по Персидскому заливу и Израиля, который официальный Тегеран последовательно обещает уничтожить.
Предположения о возможности нанесения Ираном удара по Европейскому союзу или Соединенным Штатам представляются несостоятельными. Нанесение ракетно-бомбового удара по ядерным объектам ИРИ со стороны Израиля и США маловероятно. Америка может уничтожить промышленный потенциал Ирана, но не имеет людских ресурсов для проведения сухопутной операции, обязательной, чтобы ликвидировать иранскую ядерную программу. Израиль не обладает необходимым военным потенциалом, хотя поразивший иранские ядерные объекты компьютерный вирус не без основания связывают с противостоянием этих двух стран.
Борьба за власть в Иране завершается в пользу генералов Корпуса стражей исламской революции, оттесняющих на периферию аятолл. «Зеленое движение», объединившее ортодоксов и либералов, потерпело поражение. Сохраняя лозунги исламской революции, ИРИ трансформируется в государство, основой идеологии которого во все возрастающей степени становится великодержавный персидский национализм. Тегеран успешно развивает отношения с КНР, странами Африки, Латинской Америки и Восточной Европы, Индией, Пакистаном и Турцией, фактически поделив с последней сферы влияния в Ираке, правительство которого координирует свои действия не только с США, но и с ИРИ. На территории БСВ интересы Ирана простираются от афганского Герата до мавританского Нуакшота (усиление позиций Тегерана в Мавритании спровоцировало разрыв Марокко дипломатических отношений с ним). Было бы наивным полагать, что закрепление ИРИ на мавританском правобережье реки Сенегал вызвано исключительно желанием вытеснить оттуда Израиль, дипломатические отношения с которым правительство Мавритании прекратило, сближаясь с Тегераном. Скорее захолустную Мавританию можно полагать идеальным транзитным пунктом для переброски оружия, а возможно и чего-либо, связанного с иранской ядерной программой, наиболее близким к латиноамериканским партнерам Ирана – Венесуэле и Бразилии.
Тегеран избегает прямых конфликтов с противниками, предпочитая «войны по доверенности», которые ведут его сателлиты. Ирано-израильскими были Вторая ливанская война, операция «Литой свинец» в Газе, да и за конфликтом йеменских хауситских племен с Саудовской Аравией, по мнению ряда аналитиков, стоял Иран. Агрессивная позиция ИРИ в отношении малых монархий Персидского залива подкрепляется наличием в таких странах, как Бахрейн, Катар, в меньшей степени Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Кувейт шиитских общин. Единственным союзником Ирана в арабском мире по-прежнему является Сирия, которая при поддержке «Хезболлы» постепенно возвращает контроль над ситуацией в Ливане и продолжает курировать ХАМАС, политическое руководство которого дислоцировано в Дамаске. С учетом наложенных на Иран санкций, перспективы его газового экспорта в Евросоюз зависят от кооперации с Турцией, которая будет использовать эту ситуацию в своих интересах, пока они не войдут в противоречие с интересами ИРИ (что в перспективе, несомненно, произойдет).
Турецкое руководство, взяв курс на построение «новой Османской империи», опередило события, приступив к постепенной исламизации политической и общественной жизни в стране. Оттесняя армию от власти под лозунгами демократии и борьбы с коррупцией, правящая партия провела необходимые конституционные изменения парламентским путем, подавив в зародыше очередной военный путч. Экономические успехи Турции позволяют ей действовать без оглядки на Европейский союз и Соединенные Штаты. А участие в НАТО в качестве второй по мощи армии этого блока дает свободу маневра, в том числе в иракском Курдистане и в отношениях с Израилем, значительно охладившихся после инцидента с «Флотилией свободы». При этом страна расколота по национальному признаку (курдский вопрос по-прежнему актуален), светская оппозиция правящей Партии справедливости и развития сильна, а в руководстве армии продолжается брожение. Однако, какие бы факторы (или их сочетание) ни спровоцировали антиправительственные волнения, триумвират премьера, президента и министра иностранных дел сохраняет достаточный ресурс для реализации планов экономической и дипломатической экспансии в Африке, исламском мире и Восточной Европе. Турция с большим основанием, чем Иран, претендует на статус региональной сверхдержавы, имея для этого необходимый потенциал, не отягощенный, в отличие от ИРИ, внешними конфликтами.
Сирийская стабильность опирается на сотрудничество с Турцией и Ираном, при улучшении отношений с США и странами ЕС. Правящая алавитская военная элита во главе с Башаром Асадом балансирует между арабами-суннитами и арабами-христианами, подавляя курдов и используя деловую активность армян. Однако в случае резкого усиления египетских «Братьев-мусульман» в Сирии не исключены волнения, наподобие подавленных большой кровью Хафезом Асадом в 1982 г., которые способны ослабить или обрушить режим. Последний усилил свои позиции в Ливане, но обстановку в самой Сирии осложняет присутствие там иракских (до 1 млн) и в меньшей мере палестинских (до 400 тыс.) беженцев.
Ливан после падения правительства Саада Харири переживает собственный кризис, вызванный противостоянием сирийского и саудовского лобби (последнее, поставив на конфронтацию с Дамаском, проиграло). Не исключено постепенное сползание в гражданскую войну, в качестве ведущей силы в которой будет выступать «Хезболла» шейха Насраллы. Роль детонатора конфликта могут, как и в 1975–1978 гг., сыграть заключенные в лагеря палестинские беженцы (более 400 тыс.).
На Аравийском полуострове катастрофическая ситуация сложилась в Йемене, почти неизбежный распад которого после отстранения от власти президента Али Абдаллы Салеха, правящего в Сане с 1978 г. и контролирующего Южный Йемен с 1990 г., может спровоцировать необратимые процессы в Саудовской Аравии. На территории Йемена столкнулись интересы Ирана и США, Катара и Саудовской Аравии. Эта страна – не только родина многих бойцов «всемирного джихада» (корни Усамы бен Ладена – в Йемене), но настоящий «котел с неприятностями». Конфликт между президентом и племенами, категорически отвергшими попытку передать власть по наследству, напоминает схожую проблему в Египте. Однако противостояние южан-шафиитов и северян-зейдитов, усиленное недовольством отстраненной от власти и обделенной благами бывшей военной элиты юга – местная специфика.
Йемен – первая страна БСВ, которая способна развязать с соседней Саудовской Аравией «водную войну». В ближайшее время Сана рискует стать первой столицей мира с нулевым водным балансом, тем более что ряд исторических йеменских провинций был аннексирован саудовцами в начале ХХ века. Дополнительным фактором риска является нищета поголовно вооруженного населения, которое находится под постоянным воздействием местного наркотика «кат». Не стоит гадать, смогут ли 25,7 млн саудовцев, большая часть которых в жизни не брала в руки оружия, противостоять 23,5 млн йеменцев, большинство которых на протяжении всей жизни оружия из рук не выпускало. Способность саудовской элиты, правящая верхушка которой по возрасту напоминает советское Политбюро 1980-х гг., контролировать ситуацию иначе, чем через подкуп воинственных племен на южных границах и радикалов из «заблудшей секты» внутри страны, сомнительна. С учетом значения пролива Баб-эль-Мандеб воздействие потенциального конфликта между Йеменом и Королевством Саудовская Аравия или гражданской войны в Йемене на мировой рынок энергоносителей сравнимо с перекрытием Суэцкого канала. В отсутствие на президентском посту человека, способного сменить генерала Салеха, а такого человека в Йемене, в отличие от Египта, нет, страна рискует стать такой же пиратской территорией, как Сомали, тем более что сотни тысяч сомалийских беженцев и так уже живут на его территории.
Какие последствия обрушение правящего режима в Йемене вызовет в ибадитском Омане, где правящий страной с 1970 г. султан Кабус бен Саид не имеет наследников, и малых монархиях Персидского залива, предсказать трудно. Балансируя между Соединенными Штатами (военные базы в Кувейте, Катаре и на Бахрейне), Великобританией (присутствие в Омане) и Францией (анонсировавшей строительство военной базы в ОАЭ), с одной стороны, Ираном (конфликт с ОАЭ и Бахрейном), с другой, и Саудовской Аравией – с третьей, все эти страны на случай возможной войны наладили неофициальные отношения с Израилем. Израильские опреснительные установки, агрокомплексы и системы обеспечения безопасности стратегических объектов, без указания страны-производителя или с указанием зарубежных филиалов израильских фирм – столь же обычное явление на южном берегу залива, как иранские суда в местных портах, иранские счета в банках и иранцы в деловых центрах. Оман пребывает в самоизоляции, усиленной раскрытием исламистского заговора, в организации которого Маскат обвинил ОАЭ.
Кувейт не оправился от последствий иракской оккупации 1990–1991 годов. Влияние Бахрейна ограничено нелояльностью шиитского большинства населения суннитской династии. Экономический кризис ослабил ОАЭ, особенно Дубай, обрушив «пирамиду недвижимости», на которой в последние годы было основано его благополучие. Свое политическое влияние укрепляет лишь умеренно ваххабитский Катар, обладатель третьего в мире газового запаса. В качестве медиатора региональных конфликтов он успешно соперничает с такими гигантами арабского мира, как Египет и Саудовская Аравия. Главное оружие катарского эмира в борьбе за доминирование на межарабской политической арене – «Аль-Джазира», эффективность которой доказывает ее запрет в Египте, где телеканал в немалой мере способствовал «раскачиванию лодки». Но этот инструмент может оказаться бесполезным в случае перенесения беспорядков на территорию самого Катара. При этом главным фактором нестабильности в монархиях Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, могут стать иностранные рабочие, в ряде стран многократно превосходящие их граждан по численности.
Еще одним дестабилизирующим фактором для полуострова является его близость к Африканскому Рогу, на побережье которого сосредоточены самые бедные, охваченные междоусобицей и полные беженцев страны: Эритрея, Джибути и пиратское Сомали, распавшееся на анклавы, крупнейшими из которых являются Пунталенд и Сомалиленд. Исламисты из движения «Аш-Шабаб» и других радикальных группировок – единственная сила, способная объединить эту страну, подчинив или уничтожив полевых командиров, подобно тому как талибы в свое время проделали это в Афганистане. Пугающая перспектива, особенно на фоне полнейшего банкротства мирового сообщества в борьбе с пиратами, бесчинствующими на все более широкой акватории Индийского океана. Не стоит забывать и о проблеме границ, обширный передел которых неизбежен после бескровного распада Судана. Север Судана в ближайшей исторической перспективе может объединиться с Египтом, особенно в случае исламизации последнего. Не случайно лидер суданских исламистов Хасан ат-Тураби опять арестован властями.
Волнения в Тунисе и Египте грозят самым прискорбным образом сказаться на ситуации в Алжире, вялотекущая гражданская война в котором идет с 1992 года. Президент Абдулазиз Бутефлика стар, конфликт арабов с берберами так же актуален, как и десятилетия назад, а исламисты никуда не делись. Под угрозой стабильность в Марокко, на территории которого еврейские и христианские святыни являются для «Аль-Каиды» Магриба столь же легитимными объектами атаки, как и иностранные туристы. Мавритания, где число рабов, по некоторым оценкам, достигает 800 тыс., находится в полосе военных путчей и восприимчива к любым революционным призывам.
Не стоит забывать и о том, что экспрессивный Муамар Каддафи в Ливии правит с 1969 г. и легко может стать жертвой «египетского синдрома». Тем более что собственных сыновей в руководство страны он продвигает не менее настойчиво, чем Мубарак и Салех, а поддержкой на Западе и в арабском мире пользуется куда меньшей.
Единственным, хотя и слабым утешением в сложившейся ситуации может служить то, что региональное потрясение основ ничем не угрожает Ираку, Афганистану или Пакистану. Первые два давно уже не столько государства, сколько территории. Последнему же, с исламистами в Северо-Западной провинции и Пенджабе, пуштунскими талибами в зоне племен, сепаратистами Белуджистана и Синда и противостоянием правительства, армии и судебной власти, для развала достаточно и одного Афганистана. После чего его внушительные ядерные арсеналы пойдут на «свободный рынок», а мировое сообщество получит куда более значимый повод для беспокойства, чем судьба палестинского государства или правителя отдельно взятой арабской страны, даже если эта страна – Египет.
Констатируем напоследок, что падающее влияние на БСВ великих держав создает вакуум, часть которого в Афганистане заполнит Дели. На всей прочей территории, включая и Афганистан, усилится влияние Пекина. Как следствие, состав игроков и распределение сил на Ближнем и Среднем Востоке в XXI веке будет более напоминать XVII, чем ХХ столетие. Что соответствует теории циклического развития истории, хотя и несколько обидно, если рассматривать это через призму интересов Парижа, Лондона, Брюсселя или Вашингтона.
Е.Я. Сатановский – президент Института Ближнего Востока.

За тремя зайцами?
О несостоявшемся походе России в НАТО
Резюме: Дискуссия о перспективе членства России в НАТО, хоть и не получила развития, в очередной раз прощупала позиции, зафиксировала определенные изменения в сознании все большего числа политиков, прежде всего в Европе, и побудила обозначить эту тему с предметной точки зрения. Если нет – то почему?
Последние год-полтора были отмечены интересной дискуссией, начавшейся с подачи некоторых западных политиков и ученых. Ее участники спорили о возможности (целесообразности, реальности, желательности и т. п.) присоединения России к Североатлантическому альянсу. На сегодняшний день эту тему можно считать если не закрытой, то уж точно не стоящей на повестке дня. Впрочем, обсуждение изначально носило умозрительный характер. Оно не предполагало практических выводов и не ставило целью выработать «дорожную карту», хотя иногда тональность высказываний и создавала впечатление, будто бы Москва уже подала заявку в НАТО и смиренно ждет своей участи.
И все же просто так в политике не происходит ничего. Иногда какой-то вопрос поднимают только ради того, чтобы он вообще прозвучал, как-то закрепился в умах. Как не вспомнить известное изречение Эрнста Резерфорда о трех стадиях признания научной истины: «первая – “это абсурд”, вторая – “в этом что-то есть”, третья – “это общеизвестно”».
Зачем спорят о членстве в НАТО?
С чем же связан всплеск интереса к этой, казалось бы, непрактичной теме? Резонно предположить, что ее активизация во внутринатовских дискуссиях связана с поиском альянсом собственного места в мире, который формируется сегодня. Для НАТО вопрос об отношениях с Россией – это вопрос самоопределения не в меньшей степени, чем для Москвы, ведь прием России – это не добавление «еще одного» участника, это выбор будущего.
На рубеже столетий западная цивилизация столкнулась с экзистенциальным вызовом – угрозой утраты глобального лидерства на фоне усиления других регионов и наций. В этом контексте Россия, богатая ресурсами, обладающая огромной территорией и одним из двух крупнейших ядерных потенциалов, могла бы очень даже пригодиться. Но тогда нужно прекратить демонизировать Россию во имя сохранения единства собственных рядов и поглощения остальных государств СНГ, и включить ее в собственное геополитическое и цивилизационное пространство. Это значит, помимо прочего, сделать Россию наравне с Западом бенефициаром преимуществ, которыми тот пользуется благодаря своему привилегированному положению контролера мировых ресурсных потоков. Тогда россиянам (причем не только элитам) будет «что терять», встань вопрос о выборе – вместе с Западом или без (тем более против) него.
Для кого-то из евронеофитов наша страна, конечно, по-прежнему является «точкой отсчета», от которой обязательно нужно уйти – иначе ради чего все затевалось? Но для стратегически мыслящих европейцев развитая демократическая Россия – потенциально мощнейший общецивилизационный ресурс будущего, а вовсе не неизбежный конкурент в случае ее дальнейшего усиления.
Однако в Европе считают (и не без оснований), что огромные возможности России не используются в полной мере, прежде всего по сугубо внутренним причинам – ввиду несовершенства экономической и государственной систем. Разумеется, это перекликается с выводами, которое делает и само российское руководство – именно об этом, в частности, говорилось в программной статье Дмитрия Медведева «Россия, вперед!». Разница лишь в том, что в России европейский и демократический выбор считают делом, по сути, решенным, а создание модернизационных альянсов с ведущими западными державами – необходимым рычагом для экономического и социального прорыва. В то время как на самом Западе в этом, по-видимому, пока не очень уверены и хотели бы получить более убедительные доказательства интеграционных намерений Москвы. Иначе до альянсов дело не дойдет. Максимум – отдельные прорывы в отношениях с дружески настроенными европейскими державами, но лишь постольку, поскольку это не наносит ущерба их евро-атлантическим обязательствам и связям.
Однако преждевременно говорить и о презумпции безусловного желания России полноценно интегрироваться в западный мир. То, что еще лет 20 назад для многих было естественным и само собой разумеющимся, как и, скажем, для всех восточноевропейцев, сегодня не столь очевидно. Речь не о принадлежности России к европейской цивилизации – выбор в пользу Европы по-прежнему актуален, хотя глобальное усиление Азии и открывающиеся в связи с этим возможности делают разумным отказ от безоглядной ориентации на Запад. Но России пришлось бы «вступать в Запад» – если бы вопрос встал в практическом смысле – на его нисходящей фазе. Вполне возможны конфликты западных стран с остальным миром, причем исход не гарантирован. Насколько цивилизационные резоны (принадлежность к общей евро-атлантической культуре) перевешивают для России риски возможных столкновений с другими мировыми силами, от отношений с которыми благополучие и спокойствие в нашей стране зависят не меньше (Китай, исламский мир)?
Мы должны трезво оценивать ситуацию как в глобальном масштабе (тенденции в развитии самого Запада), так и в плане собственных перспектив: подразумевает ли культурная и цивилизационная самоидентификация российского народа обязательное институциональное оформление в виде членства в существующих западных структурах? Если россиян тестируют на «европригодность» и «еврозрелость», то и они, в свою очередь, хотят понять вектор эволюции евро-атлантических институтов. В том виде, как они существуют сегодня, России там точно делать нечего, поскольку тень НАТО по-прежнему возникает везде, где зреет какой-то конфликт с Москвой (Косово, Грузия, Украина, Молдавия, энергопоставки в Европу, Арктика и т. п.). Природу этих конфликтных ситуаций в самой НАТО предпочитают видеть в реликтовых антизападных настроениях Москвы, однако невозможно отрицать и собственную, отнюдь не спровоцированную Кремлем активность натовцев.
Возможно, для кого-то инициатива с приглашением России в Североатлантический блок – отвлекающий маневр, который должен сковать активность Москвы по поводу новой архитектуры безопасности и расширения альянса. России делают предложение, отказ от которого подтвердит ее репутацию неинтегрируемой и «вообще подозрительной» (и тем самым дающей основания для дальнейшего существования, расширения и укрепления НАТО). Принципиальное же согласие открывало бы бесконечную перспективу выставления Москве условий и контроля их исполнения. Разумеется, всегда будет к чему придраться.
Как бы то ни было, самым важным является то обстоятельство, что вопрос вообще поднимался столь громко и основательно. Это случилось не впервые, но, пожалуй, в первый раз настолько серьезно, что дело дошло до обсуждения реальности-нереальности, практических последствий и оценки существующих препятствий.
В Европе есть политики, которые не видят особых проблем в том, чтобы существовать в одном военном союзе с Россией. Но немало и тех, для кого это категорически неприемлемо: само вступление в НАТО было для них частью – и глубоко символичной – геополитического ухода от восточного соседа. Дело даже не в том, что России боятся (в рамках единой военной организации, по идее, страхи должны отпадать быстрее, чем в случае продолжения «холодного» конфликта). Суть, скорее, именно в символах: НАТО как пространство «подлинного Запада», куда бывшей метрополии «восточного блока» путь заказан по определению.
Настроения в пользу открытой дискуссии имеются и в России, несмотря на широко распространенное недоверие к альянсу. Часть экспертов и комментаторов искренне видят больше рисков в существовании вне НАТО, нежели внутри организации. Есть и те, кто готов рассматривать более тесные отношения с альянсом сквозь призму следующего вопроса: «Можно ли защититься от НАТО, вступив в нее?».
Как бы то ни было, сегодня мы имеем некую еще не пограничную, но уже не совсем неподвижную ситуацию, когда в исходной диспозиции («вступление России невозможно») возникла некоторая динамика. Процесс направлен пока не столько на поиск конкретных путей сближения, сколько на осмысление самой диспозиции в меняющихся условиях нового века. «Да, невозможно, но почему?».
Раньше ответ на это обусловливался теми или иными качествами визави. Россия представляется на Западе недостаточно демократической и мало интегрированной (либо вовсе неинтегрируемой) в западное сообщество. У нас НАТО во многом по-прежнему воспринимается как блок, «заточенный» исключительно на противостояние с Россией, не распустившийся с окончанием холодной войны и поддерживающий практически «все, что шевелится», если оно «шевелится» против Москвы.
Аргументы в чем-то обоснованные, но имеющие одну слабость: они построены, что называется, от противного. Дескать, пока другая сторона не исправится, вопрос не актуален. Однако чтобы понять, объективные или субъективные причины препятствуют практической интеграции России в Евро-Атлантику (или, напротив, делают ее неизбежной на каком-то этапе?), нужно представлять себе ситуацию во всей полноте. Ибо, как уже говорилось, речь идет о выборе, который определил бы судьбы России и Европы на десятилетия, а то и столетия. И значит, дело не в одном лишь наборе критериев, которым нужно соответствовать.
Источники и составные части отношений
У проблемы отношений России и НАТО есть несколько аспектов.
Во-первых, собственно военно-технический, и его значение нельзя ни недооценивать, ни преувеличивать. Проблема несовместимости есть, но она не станет фатальной при наличии обоюдной воли к сближению.
Во-вторых, ценностный аспект, упор на который обычно делают в странах НАТО. Несогласие, например, Москвы с планами расширения альянса на Украину, Грузию или с навязыванием определенных политических форм Молдавии представляются именно как нестыковка на идеологическом уровне («неприятие Россией ценностей Запада»), хотя очевидно, что речь идет о сугубо геополитических противоречиях.
На самом же деле ценности, исповедуемые Западом, не разделяют нас. Разногласия касаются способов и методов продвижения этих ценностей, которые почему-то на поверку нередко оказываются продвижением военной инфраструктуры НАТО или лояльных Западу политических сил, которые – по странному совпадению – часто весьма отрицательно настроены к России и к сотрудничеству с ней. «Самоопределение» Украины и Грузии (как ранее Балтии, а в перспективе Белоруссии) в виде присоединения к евро-атлантическим структурам предполагается только как эмансипация от Москвы, а значит, тема «ценностного конфликта» и «авторитарной России» будет жить.
Кремль для многих его оппонентов – «комфортный враг», поскольку на деле он никаким врагом быть не собирается и всячески стремится это доказать. Такого «оппонента поневоле» можно заставлять доказывать невраждебность до бесконечности, и все равно находить поводы для подозрений и новые аргументы в пользу различных шагов в сфере вооружений, расширения НАТО, поддержки тех или иных сил в странах СНГ и т. п.
В-третьих, самый существенный – геополитический аспект. С учетом сохраняющихся трений по линии «Восток – Запад» он пока еще активно препятствует реальной интеграции участников главного противостояния «первого» и «второго» миров ХХ века. Но по мере нарастания противоречий Запада с прочими глобальными силами (Азией, мусульманским миром) геополитика может оказаться столь же существенным аргументом уже в пользу сближения с Россией.
Вопрос в том, будет ли по-прежнему приоритетной для Запада линия на «вовлечение через окружение», через создание ситуации геополитического одиночества России, которое должно вынудить ее не столько интегрироваться, сколько капитулировать. Либо, не дожидаясь этого желанного триумфа, начать договариваться (естественно, на иных условиях) уже сейчас, когда Москва имеет влияние на другие страны Евразии.
Не будем забывать, что НАТО – инструмент не столько коллективный, сколько ориентированный на одну ведущую державу (модель ХХ века). Россия не является потребителем услуг Соединенных Штатов в сфере безопасности, зато имеет с Америкой равноправные договоры (что еще раз продемонстрировало заключение нового ДСНВ). Но почему бы тогда России не обсуждать вопросы безопасности с теми, для кого они действительно важны, – с США, а в перспективе и с Китаем, в том числе в трехстороннем формате? С европейцами же говорить на иные темы, имеющие большее отношение не к Евро-Атлантике, а к Европе («четыре пространства» и т. п.)?
В-четвертых, актуально-политический (тактический) аспект отношений с НАТО. С одной стороны, он отягощен проблемами новейшей истории – расширение вопреки договоренностям с последним советским руководством, действия против Югославии вплоть до военных атак и отделения Косово, «перетягивание» Украины, кавказский конфликт августа 2008 г. и проблема «непризнания признания» новых республик. С другой стороны, появился ряд тем, где Россия и НАТО начинают успешно взаимодействовать и дорожат этим позитивным опытом (достаточно вспомнить совместную разработку систем дистанционного обнаружения взрывчатки под одеждой террористов). Потенциал для сближения открывается весьма значительный, однако он постоянно будет упираться в «негативное досье» существующих разногласий. Но можно рассматривать ситуацию как тупик или шлагбаум, а можно – как пока неизбежные тактические разногласия, которые, скорее, родом из прошлого, чем из будущего.
Наконец, не менее важен аспект перспективный (стратегический) – куда дрейфует альянс, сохранит ли он свою однородность, региональную атлантическую привязку? Как он предполагает строить отношения с другими державами – Китаем, Ираном, развивающимися странами? Сведется ли его миссия в будущем преимущественно к защите привычного для западного человека уровня потребления и выгодного Западу глобального распределения ресурсов (хоть и под демократическими лозунгами), что неминуемо приведет к возникновению ситуации «НАТО против остального мира»? Останется ли сам Запад единым в среднесрочной перспективе – во что выльется активное взаимодействие Соединенных Штатов с КНР, устоит ли Евросоюз перед волнами кризисов, не попадут ли азиатские союзники НАТО в геополитическую «воронку» китайской мощи?
Возможны, разумеется, и другие нюансы при рассмотрении всего комплекса взаимоотношений России с альянсом и Западом в целом (экономический, психологический и проч.). Но, как представляется, именно вышеперечисленные вопросы требуют внимательного осмысления, ибо они существенно повлияют на позиции России относительно НАТО настоящего и будущего.
В диалоге с европейцами Москва зачастую исходит из того, что для них темы безопасности (к тому же в их российском понимании) столь же приоритетны, как и для нас. Имеется в виду безопасность европейских государств как самостоятельных субъектов международной политики, которые не хотят выглядеть исключительно потребителями чужих (читай – американских) военных услуг и программ. Поэтому стремление к диалогу с Россией по Договору о европейской безопасности (ДЕБ) или любым иным моделям, по идее, у них должно возникнуть неизбежно.
Но на самом деле нынешняя модель (США тратятся, союзники – демонстрируют лояльность в обмен на экономию военных расходов) ее участников устраивает. Да, в последнее время под нажимом Вашингтона европейцам приходится активнее участвовать в зарубежных операциях, но это лишь минимальная плата за глобальный «зонтик безопасности», который Соединенные Штаты создают, по сути, в одиночку. Тревоги России (как и многих других незападных государств) по поводу того, что одна держава получит опасное превосходство над всеми остальными, для союзников по НАТО актуальны лишь постольку, поскольку они заставляют нервничать и принимать меры остальных внешних партнеров, ту же Москву. Но их самих эта ситуация нисколько не тревожит. Поэтому будь то вопросы национальной ПРО США или космического оружия – проблема здесь для европейцев (или японцев) не в этих планах как таковых, а в возможной реакции на них остального мира, он же видится непредсказуемым, неуправляемым и готовым в любой момент бросить вызов, для ответов на который нет альтернативы НАТО.
Члены организации сознательно поступились своим суверенитетом в пользу альянса (а фактически в пользу главного игрока в нем), по сути, закрыв для себя тему обеспечения собственной безопасности. Для России понятия «суверенитет» и «безопасность» традиционно (и не без причин) находятся в равно приоритетной плоскости, и другой подход европейских стран не всегда понятен и привычен. России трудно принять, что безусловные для нее «священные коровы» – суверенитет и безопасность – для кого-то вторичны по сравнению с некими другими вопросами: экономическими, ценностными, социальными и т. п., и решаются они постольку, поскольку решены именно те самые другие вопросы.
Где-то в соотношении этих величин: «суверенитет», «национальная безопасность», «европейская безопасность», «НАТО», «интересы России» и находится решение для Европы и всей Евро-Атлантики. А оно необходимо, поскольку пока одни считают существующее положение вещей вполне комфортным и не требующим корректировки, а другие – неприемлемым и не решающим проблемы безопасности, сохраняется питательная среда для тех, кому нужны конфликты.
Если не в НАТО, то – как?
Однако если говорить о России и ее интересах, то основное затруднение состоит в том, что, к сожалению, констатацией «Россия в НАТО не идет» проблемы ее безопасности не решаются. Конечно, с точки зрения формальной логики самым простым и быстрым решением было бы вступить в альянс и снять, наконец, самые фундаментальные озабоченности нашего государства в сфере безопасности, которые во многом стали катализатором крупнейшей геополитической катастрофы – крушения СССР, не выдержавшего гонки вооружений.
Но если в силу вышеизложенного этот простой путь для нас закрыт, остаются решения более сложные, которые, что особенно важно подчеркнуть, нужны именно нам, поскольку, как уже говорилось, других существующая ситуация устраивает. Если Россия не может войти в НАТО, значит и альянс, и Россию нужно интегрировать – без обоюдных потерь в эффективности и безопасности – в нечто общее и работающее, что сняло бы существующие противоречия между сторонами.
Мы верим, что само участие в единых надежных механизмах постепенно устранит наши разногласия и приведет к гармоничному решению актуальных проблем, затрагивающих и Россию, и НАТО. Другой взгляд заключается в том, что сначала сторонам нужно перестать конфликтовать, и только тогда можно будет говорить о какой-то интеграции. Иначе перенесение конфликтного потенциала в некие единые структуры сделает сами эти институты либо изначально невозможными, либо формальными и неэффективными, какой на определенном этапе стала ОБСЕ.
Любые международные проблемы, которые Россия решает сегодня, имеют два измерения. Тактическое, которое пока сводится к реагированию на то, что делают Соединенные Штаты, НАТО, Евросоюз: они расширяются, строят ПРО – Москва пытается противодействовать. Но – и это существенный прогресс – теперь она не просто говорит «нет», а предлагает практические и даже смелые выходы. Так, недавние предложения России по созданию ЕвроПРО многим в НАТО показались намного масштабнее ожиданий альянса по этому вопросу. Второе измерение – стратегическое, которое должно предполагать некую цель на горизонте, придающую общий смысл нашим действиям.
Российская инициатива о ДЕБ – одна из очевидных попыток проявить стратегический подход. Мы стараемся убедить наших визави на Западе, что их, как и нас, не должна устраивать сложившаяся ситуация, потому что нынешние системы не работают (вспомним Косово, газово-транзитные конфликты и, разумеется, события на Кавказе в августе 2008 года). Однако нам трудно достучаться, потому что механизмы не работают только вне НАТО и ЕС, зато работают внутри. Разменивать то, что работает, на то, что пока неизвестно, партнеры не спешат. Подспудно сохраняется убеждение, что когда альянс объединит всех, кого можно (за единичными, пусть и значимыми исключениями), то проблемы безопасности решатся именно по причине силы организации: с ней просто никто не рискнет спорить и тем более воевать, и все остающиеся вопросы и конфликтные темы отпадут сами по себе.
Мы не решим проблем безопасности и не продвинем инициативу по ДЕБ, не добившись от членов НАТО понимания того, что их комфортное существование в рамках мощного блока также может оказаться под угрозой, причем не по субъективным («злонамеренность» России), а именно по объективным (неработающие механизмы предотвращения конфликтов) причинам.
За тремя зайцами
Суверенность довоенных держав – Германии и Советского Союза, Великобритании, Франции и Польши в отсутствие коллективных систем безопасности стала одним из факторов, которые привели ко Второй мировой войне. Сфера безопасности в послевоенной Европе была и остается областью коллективных решений. Первые 50 лет прошли под флагом оформления коллективов на основе осознания угроз и интересов. Изначально у каждой страны, идущей в коллективную систему, был выбор.
Подчинить свой суверенитет коллективным интересам: Германия – пример реципиента, «пользователя» выгодами коллективной системы, решения задач национального характера через коллективный механизм (для ФРГ – воссоединение с ГДР, то же видит для себя сегодня и Грузия, для стран Центральной и Восточной Европы и Украины – эмансипация от России, а для кого-то даже реванш за «оккупацию» и иные обиды прошлого).
Сохранить суверенитет с иным «качественным» вкладом в «копилку». Например, Швейцария, которая выбрала роль этой самой «копилки» в прямом смысле этого слова, сохранив свой нейтральный статус, или Финляндия, имевшая свои выгоды от особых отношений с «восточным соседом».
Обрести особый статус, как США – они не растворились в системе, но стали ее неотъемлемой частью и опорой, выступив в роли донора безопасности. Соединенные Штаты спонсируют Европу экономически (во всяком случае, на протяжении долгого времени это было так), идеологически, культурно и в военном отношении. Взамен американцы отстояли право на привилегии в сфере безопасности (использование общей инфраструктуры для достижения собственных целей) и в гуманитарной сфере (смертная казнь, пытки террористов) без ущерба для партнерства с европейцами, а главное – они выступают на мировой арене от имени самой преуспевающей и развитой части человечества, укрепляя тем самым свой статус.
«Постсоветский» этап насчитывает уже два десятилетия, но остается переходным. Как уже говорилось, европейские страны чувствуют себя вполне комфортно в старых конструкциях, настаивают (хотя и все менее убедительно) на том, что они вполне пригодны для ответов на новые вызовы, короче говоря, Европа совершенно не мотивирована к реформам. Россия, которой, в отличие от Германии, США, Швейцарии или Китая, некомфортно в нынешней ситуации, ставит задачу переформатировать коллективную систему безопасности.
Если смотреть в предложенной системе координат «суверенитет/вклад», вероятны три сценария:
Нынешний формат «Россия vs остальная Европа». Он основан на отношениях принципиального равенства и мало чем отличается от формата Китай – Европа (те же механизмы сотрудничества с ЕС и то же неучастие в программах – на грани отрицания – НАТО; членство в ОБСЕ мало что привносит на практике). Условно такой вариант можно назвать «китайским».
Роль реципиента, вхождение в европейскую систему без претензий на особый статус («германский» или «украинский» вариант).
Роль донора («американский» вариант) – размен партнерства на некую добавленную стоимость с нашей стороны.
Все три варианта: стать равновеликим партнером, одним из многих равных участников или интегрированным донором – в принципе приемлемы и имеют свои преимущества. Это, еще раз, вопрос нашего политического выбора. То есть того, на что есть смысл направить свои политические усилия в первую очередь, не пытаясь бежать «за тремя зайцами» одновременно.
Главным недостатком статус-кво является системная и генетическая конфронтационность, запрограммированность на восприятие друг друга как минимум в качестве соперников, как максимум – в качестве угрозы. У нас принято говорить, что конфронтационная составляющая заложена в основу НАТО как реликта холодной войны. Но воспроизводство противостояния – это «совместное предприятие». Неинтегрируемость России в Североатлантический альянс (или убежденность в этом Москвы) сама по себе является конфликтообразующим фактором. «Она не может быть в НАТО, значит – вполне может быть против НАТО»: это подозрение сохранится в умах западного политика или обывателя до тех пор, пока мы все вместе не окажемся в каком-нибудь общем «лагере».
«Равное» участие предполагает, что мы будем приняты без изъятий в «евроатлантический клуб» и станем реально влиять на принимаемые решения. Взамен, естественно, придется повысить прозрачность своего военного планирования, отказаться от угрозы применения силы в любом ее варианте в отношениях с партнерами, войти не на словах, а на деле в общую систему демократических ценностей и решений.
«Донорство» означает, что мы добьемся согласия Европы на «особый путь» (также как США обладают стратегической независимостью), но будем (опять же, как и Соединенные Штаты) вносить определяющий вклад в решение проблем, актуальных для «коллективной» Европы.
Эти проблемы сводятся на нынешнем этапе к следующему:
внешние военные угрозы,
внутренние военные угрозы, т. е. та же угроза применения силы в своем регионе (постъюгославские и постсоветские конфликты),
международный терроризм,
религиозный экстремизм, внутренние этно- и религиозные конфликты;
внутриполитический авторитаризм и его распространение; в качестве факторов и источников риска рассматриваются Белоруссия, Центральная Азия,
энергетическая нестабильность,
экономическая нестабильность, торговые войны,
экология, изменение климата.
Россия имеет «донорский» потенциал по каждому из этих направлений. Правда, нам предстоит модифицировать подходы по некоторым щепетильным для нас темам – Ирану, Северной Корее, Белоруссии (и это уже происходит), отказаться от концепции защиты соотечественников за рубежом с помощью военной силы, выйти на качественно новые основы сотрудничества в энергетике и в торговле. В ответ мы будем иметь полное право требовать уважения собственных интересов в соседних странах, нужд российского бизнеса, географически и климатически обусловленных реалий России. Т. е. наши партнеры должны, к примеру, ясно видеть, что в России никто не собирается оторвать от Украины Крым, но забота о статусе русского языка там или в странах Балтии имеет естественно-национальные, как и у любого государства Запада, а не имперские основания.
Одна из трудностей продвижения инициативы России по ДЕБ – мы предлагаем выстроить новую «коллективную» модель безопасности только в военной сфере и только применительно к Европе, где НАТО и так решает существующие проблемы и где европейцы специфичных угроз и так не ощущают. При этом мы хотели бы сохранить «особые» условия и изъятия для России в других областях, беспокоящих европейские страны (см. выше весь перечень проблем).
Наша задача – решить, какой вариант для нас предпочтительнее – «германский», «китайский» или «американский». Ибо пока мы пытаемся двигаться сразу тремя путями одновременно, желаемого результата не удастся достичь ни на одном. То есть нас не берут в «клуб» (в «свои»), как Германию, не делают исключений, как для США, и даже не уважают, как Китай. Как долго удастся идти по собственному четвертому пути (то есть по всем трем сразу) – вопрос и объективных (обострение конфликтов), и субъективных обстоятельств – нашей воли и готовности Запада идти ей навстречу, отказавшись от сценария «добить».
Чтобы сделать экзистенциальный стратегический выбор, необходимо самим составить реестр угроз и целей в сфере безопасности и обозначить стратегические акценты в зависимости от расстановки приоритетов. Например: закрыть тему противостояния с Западом вообще или достигнуть/поддерживать с ним паритет с возможностью избежать диктата; любой ценой строить собственные структуры и удерживать в них соседей, или видеть решение проблем (непризнанные республики и проч.) в общих структурах и т.п.
Последнее слово еще не сказано. Дискуссия о перспективе членства России в НАТО, хоть и не получила развития, в очередной раз дала возможность прощупать позиции, зафиксировать определенные изменения в сознании все большего числа политиков, прежде всего в Европе, и побудила обозначить эту тему с предметной точки зрения. Если нет – то почему? Наличие различных ответов на этот вопрос внушает оптимизм – не столько по поводу натовских перспектив России, тут торопиться некуда, сколько относительно возможностей найти общий язык с нашими визави на Западе. Россия в НАТО – тема действительно умозрительная, но вот конфликты пока возникают вполне реальные. И решать их без достижения рабочего согласия между Москвой и Брюсселем невозможно. Как невозможно без этого реализовать существенные инициативы в области безопасности, которые сегодня предлагает Евро-Атлантике Россия. Перезагрузка отношений Россия – НАТО еще впереди.
К.И. Косачев – руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), специальный представитель президента Российской Федерации по связям с государствами – участниками СНГ. Член редакционного совета журнала «Россия в глобальной политике».

Выбранные места из переписки Бориса Ельцина и Уильяма Дж. Клинтона
Борис Ельцин, Билл Клинтон
Борис Ельцин - советский партийный и российский политический и государственный деятель, первый Президент России.
Резюме Выбранные места из переписки Бориса Ельцина и Уильяма Дж. Клинтона
Б. Н. Ельцин – У. Дж. Клинтону, 30 января 1997 г.
Дорогой Билл,
<…> Так сложилось, что целый ряд вопросов стратегического характера предстоит решать именно сейчас. Как пойдет эта работа – во многом будет зависеть от договоренности между нами.
В первую очередь это, конечно, вопрос о НАТО. Для нас это принципиальный вопрос. Поэтому мы неизменно негативно относимся к планам расширения альянса и особенно к возможности продвижения военной инфраструктуры НАТО на восток. На этот счет у нас в стране существует консенсус практически всех политических сил, в том числе представленных в Государственной Думе, где на ратификации сейчас находятся несколько важных договоров и соглашений между нашими странами.
Наша позиция не имеет ни антиамериканской, ни антизападной направленности. Она продиктована тем, что реализация планов расширения НАТО объективно, вне зависимости от того, ставит ли кто такую цель или нет, приведет к созданию новых разделительных линий в Европе, ухудшению всей геополитической ситуации. Мы не можем довольствоваться заявлениями о том, что за планами расширения не стоит намерение создать отчужденность между государствами Европы.
Расширение НАТО коренным образом ухудшит геостратегическое положение России, нанесет непосредственный ущерб интересам нашей национальной безопасности.
Но я вовсе не считаю ситуацию тупиковой. Я тебе верю и рассчитываю на то, что наша обоснованная озабоченность будет, как ты и говорил, не просто принята во внимание, но и учтена в ясной и четкой форме. Лучше всего это было бы сделать, как ты сам заявлял публично, в форме официального соглашения между Россией и НАТО.
Должны быть зафиксированы гарантии непродвижения военной инфраструктуры альянса на восток, включая неразмещение иностранных войск и их вооружений, неразвертывание объектов военной инфраструктуры или каких-либо «объединенных» сил, а также неразмещение ядерного оружия и его носителей.
В этом контексте существенное значение имело бы ускорение переговоров о модернизации Договора об обычных вооруженных силах в Европе.
Одновременно в соглашении необходимо разработать механизм консультаций и взаимодействия между Россией и НАТО, обеспечивающий равноправное сотрудничество в сфере безопасности, консенсусное принятие решений по вопросам, которые могут затронуть наши интересы.
Времени для отработки всех этих вопросов не так уж много. Поэтому действовать надо энергично и целеустремленно. Конечно, решать принципиальные, ключевые вопросы, в конечном счете, придется нам с тобой. Наша предстоящая встреча в марте будет иметь особое значение и с этой точки зрения.
Другой крупный блок – вопросы контроля над вооружениями. Как и проблема НАТО, они тоже существуют не в вакууме. И на них влияет общая обстановка.
Я полностью согласен с тобой – мы должны помнить, что во многом благодаря успехам в разоружении наши страны смогли перейти от конфронтации «холодной войны» к нынешнему взаимодействию. Как и ты, я обеспокоен судьбой процесса сокращения стратегических наступательных вооружений. В марте буду готов поделиться с тобой конкретными соображениями на этот счет. Сейчас же хотел бы подтвердить некоторые принципиальные моменты.
Должны быть выполнены все договоренности, которые мы с тобой достигли в апреле прошлого года. Речь идет не только о ратификации Договора СНВ-2 и обсуждении следующего этапа – еще более глубоких сокращений стратегических наступательных вооружений, но и об обеспечении тех стратегических условий, в которых это будет возможно. Имею в виду прежде всего нашу с тобой договоренность укрепить Договор по ПРО.
На самом сложном этапе нашей совместной работы, когда согласовывалось решение по высокоскоростным системам нестратегической ПРО, переговоры забуксовали. Необходимо придать им импульс. Таким импульсом могла бы стать фиксация совместного обязательства, что на период до завершения переговоров по разграничению стороны не будут испытывать системы, в отношении которых мы ведем переговоры применительно к Договору по ПРО.
Прошу тебя еще раз рассмотреть нашу озабоченность относительно сроков осуществления сокращений по Договору СНВ-2. По чисто финансово-экономическим причинам мы не сможем уложиться с реализацией сокращений в первоначально намеченные сроки. Ведь когда Договор подписывался в 1993 году, мы исходили из того, что его осуществление тоже начнется в 1993 году. С тех пор прошло четыре года. Это нельзя игнорировать. <…>
Я сознательно заостряю твое внимание на самых сложных вопросах, хотя есть и другие – глобальные, региональные и двусторонние, – о которых нам нужно будет с тобой поговорить при встрече. Но эти вопросы сейчас центральные.
Убежден, что мы с тобой оба понимаем значение переживаемого момента.
С уважением, Б. Ельцин
Б.Н. Ельцин – У.Дж. Клинтону, 10 июля 1997 г.
Дорогой Билл,
В последнее время и ты, и представители администрации США неоднократно поднимали вопрос о российских контактах с Ираном. М. Олбрайт в Париже передала специальное обращение о якобы имеющем место сотрудничестве ряда российских организаций с Тегераном в ракетной области.
Хочу тебе подтвердить, что мы своему слову верны и в этой связи обращения такого рода воспринимаем серьезно. Как я и обещал, по моему указанию проведена тщательная проверка материалов, которые нам были переданы Госсекретарем США.
Во-первых, никаких контактов по линии официального межгосударственного сотрудничества, каким-либо образом противоречащих нормам Режима контроля над ракетной технологией (РКРТ), участниками которого являются и Россия, и США, не было и нет. Мы проверили и единичные контакты отдельных институтов, предприятий, научных коллективов. В абсолютном большинстве случаев нарушений режима также не выявлено. Даже обучение иранских студентов в российских высших учебных заведениях проводится исключительно на открытых материалах, которые по терминологии Приложения РКРТ не выходят за рамки «общедоступных». В других случаях (скажем, научно-исследовательского института «Полюс») сотрудничество с Ираном касается оборудования для гражданских самолетов, которое отношения к компонентам ракет не имеет. Лишь в одном случае – Самарский научно-производственный комплекс им. Н. Д. Кузнецова (бывший НПО «Труд») – речь шла об узлах и агрегатах, которые могли быть задействованы в ракетной программе. Соответственно российскому экспортеру было отказано в выдаче лицензии на поставку.
В целом сотрудничество российских предприятий с другими странами в ракетной области, в том числе с Ираном, находится под нашим плотным контролем, и я дал указание его усилить.
В свою очередь, Билл, хотел бы привлечь твое внимание к растущей у нас неудовлетворенности некоторыми действиями американских представителей по вопросам, где у нас были достигнуты необходимые понимания о сдержанности. Это касается прежде всего продолжающихся поставок оружия американского производства в районы вблизи российских границ. Пример тому – Афганистан. На озабоченности, которые передавались с нашей стороны по этому вопросу, ясного ответа мы не получили.
Кроме того, мы рассчитываем на то, что заработают обещания США содействовать выходу российской промышленности на рынки высоких технологий. Но такие рынки, в том числе и для закупок в США, скажем, компьютеров, остаются по многим параметрам закрытыми для нашей промышленности. В отдельных же регионах – и у нас есть уверенная информация на этот счет – американская сторона применяет нажимные приемы противодействия российскому, прежде всего оружейному, экспорту, что никак нельзя считать совместимым с принципами добросовестной конкуренции.
Рассчитываю, Билл, что ты дашь необходимые поручения с тем, чтобы эти наши озабоченности были сняты удовлетворительным образом, чтобы наше сотрудничество в такой чувствительной сфере, какой является передача высоких технологий, а тем более оружия, развивалось в полном соответствии с теми пониманиями, которых нам с тобой удалось достичь.
С уважением, Б. Ельцин
Б.Н. Ельцин – У.Дж. Клинтону, 12 июля 1997 г.
Дорогой Билл,
Следуя установившейся между нами практике доверительного обмена мнениями по актуальным международным проблемам, хотел бы высказать ряд соображений, касающихся Закавказья.
Исторически так сложилось, что Закавказье представляет для России регион ее важных интересов. Основная задача российской политики в отношении этого региона – обеспечение надежной стабильности на наших южных рубежах, содействие становлению там территориально целостных, устойчивых и дружественных нам государств – Азербайджана, Армении и Грузии.
Между тем Закавказье, к сожалению, относится к числу наиболее взрывоопасных точек на постсоветском пространстве. Неурегулированность конфликтов в Нагорном Карабахе, Абхазии и Южной Осетии не только препятствует нормальному развитию новых независимых государств в Закавказском регионе, но и ухудшает ситуацию на Кавказе в целом, что как ты понимаешь, особенно болезненно для России.
Нам удалось с помощью других заинтересованных государств, ООН и ОБСЕ вывести закавказские конфликты на определенные позитивные рубежи: соблюдается прекращение огня, действуют соответствующие переговорные механизмы. Однако нынешнее состояние «ни мира, ни войны» чревато новыми угрозами.
Е. Примаков и М. Олбрайт, как известно, обсудили положение дел в урегулировании абхазского конфликта. В июне мы предприняли ряд дополнительных шагов, чтобы вывести переговоры из тупика. Удалось согласовать документ, в котором фиксировались договоренности сторон по ключевым проблемам урегулирования, – сохранение территориальной целостности Грузии и возвращение беженцев. Абхазское руководство, не без нашего нажимного воздействия, выразило готовность подписать документ. Грузинская же сторона, представители которой в Москве с ним согласились, затем начала настаивать на дополнительном обсуждении текста. Сейчас, пожалуй, практическое политическое решение зависит в гораздо большей степени от Тбилиси, чем от других.
Следует отметить и то, что у Тбилиси проявляется стремление решить абхазскую проблему силой – руками российского миротворческого контингента. Как ты понимаешь, мы на это пойти не можем. В такой ситуации, по имеющейся у нас информации, грузинская сторона рассчитывает получить согласие США направить воинский контингент других стран, ядро которого, согласно планам Тбилиси, могут составить американские вооруженные силы.
На военное решение абхазской проблемы Президента Грузии настойчиво подталкивают экстремистские, реваншистские элементы. Их расчет очевиден – втянуть Грузию в новый виток вооруженного конфликта, урегулирование которого тем самым будет вообще поставлено под вопрос, дискредитировать Э. Шеварднадзе, свернуть Грузию с демократического пути развития.
В этих условиях считаю важным, в интересах дела, да и самого Э. Шеварднадзе, чтобы Тбилиси не получил «сигналы», которые могли бы быть интерпретированы им как возможность силового возвращения беженцев. Продолжение политических переговоров может проходить только при сохранении мирных условий в зоне конфликта, а это обеспечивается главным образом присутствием там российских миротворцев. Их уход может привести к новому кровопролитию.
Мы намерены предпринять дополнительные усилия с тем, чтобы убедить стороны выйти на подписание согласованного в Москве документа. Сейчас – это главная задача. Попытки же пересмотреть сложившуюся схему и формат переговоров, в том числе путем созыва некоей международной конференции по Абхазии, могут, по нашему мнению, лишь осложнить идущий переговорный процесс, отбросить его назад к нулевой отметке.
Вызывает удовлетворение взаимодействие, которое установилось между нашими странами в урегулировании другого конфликта – нагорно-карабахского. Вопрос об этом конфликте был в центре переговоров с Президентом Азербайджана Г. Алиевым во время его недавнего визита в Москву. Разговор был, разумеется, непростым, но у нас возникло понимание, что в его итоге все же удалось убедить Президента Азербайджана в необходимости более гибкого и конструктивного подхода к ключевым проблемам урегулирования. Мною даны указания российскому МИД интенсифицировать работу с конфликтующими сторонами. Я, однако, не хочу, чтобы эти мои слова были интерпретированы в какой-то степени как стремление России проводить автономную линию по вопросам нагорно-карабахского урегулирования.
Мы, как договорились, будем и далее действовать в формате трех сопредседателей от России, США и Франции. И от этой линии отступать не собираемся.
Более того, необходимо, на мой взгляд, развить то позитивное воздействие, которое оказало на конфликтующие стороны Заявление президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху, сделанное в Денвере, усилить политический прессинг. Важно, чтобы стороны в конфликте буквально чувствовали дыхание в затылок трех великих держав, поняли, что иного пути, кроме как ведущего к миру и согласию, на основе тех рациональных и нестандартных по своему содержанию предложений, которые положили на стол переговоров наши страны, у них просто нет.
Надеюсь на взаимопонимание в изложенных мною выше вопросах.
Со своей стороны мы готовы к активизации взаимодействия с США для обеспечения стабильности и безопасности в Закавказье и мире в целом.
С уважением, Б. Ельцин
Б.Н. Ельцин – У.Дж. Клинтону, 30 октября 1997 г.
Дорогой Билл,
У нас с тобой стало доброй традицией регулярно, напрямую «сверять часы» по текущим делам. Если есть достижения – думать, как развить успех, если сталкиваемся с проблемами – оперативно локализовывать и устранять их. В предстоящие месяцы нам требуется тесно взаимодействовать, чтобы будущий российско-американский саммит в Москве оправдал наши ожидания.
Я удовлетворен проделанной этой осенью совместной работой. Переговоры Е. М. Примакова в Нью-Йорке и А. Гора в Москве позволили ощутимо продвинуться по ключевым направлениям, которые мы определили в Хельсинки, Париже и Денвере.
Подписанный в Нью-Йорке солидный пакет разоруженческих документов считаю кардинальным успехом. Эти договоренности будут определять ход разоруженческого процесса на годы вперед. Заключение соглашений по разграничению стратегической и нестратегической противоракетной обороны укрепляет жизнеспособность Договора по ПРО. Договоренности по вопросам СНВ ясно говорят о нашей с тобой решимости продвигаться и далее по пути сокращения ядерных арсеналов. Столь крупные шаги в последовательной реализации наших хельсинских решений позволяют нам активизировать работу по обеспечению ратификации и скорейшему вводу в действие Договора СНВ-2. Занимаюсь сейчас этим вплотную.
В этой связи особо хочу отметить, что придаю принципиальное значение твоему согласию уже сейчас вести предметную экспертную работу над СНВ-3. Такой подход позволит нам сразу после ратификации Договора СНВ-2, не теряя времени, провести полномасштабные переговоры и выйти на новый Договор СНВ-3, который видится мне как наш главный совместный вклад в обеспечение ядерной безопасности и стратегической стабильности уже для XXI века. Предлагаю подумать над тем, чтобы на нашей следующей встрече дать оценку экспертной работе по СНВ-3, подвести в какой-то форме промежуточный итог того, что к тому времени будет сделано и, если нужно, обозначить дополнительные ориентиры.
По экономическому досье также вижу обнадеживающие перспективы. Как всегда насыщенно прошла очередная сессия Комиссии Черномырдин – Гор. Важный результат – принятие развернутого программного документа о совместной деятельности на ближайшие годы, подготовленного по нашему поручению. Запущен механизм региональной инвестиционной инициативы, с которой мы связываем расчеты на существенное увеличение притока американских капиталовложений непосредственно в российские регионы под гарантию местных администраций. В. С. Черномырдин дал поручение нашим экспертам подготовить к очередной сессии, которая планируется в начале следующего года в США, предложения по совершенствованию работы Комиссии. Думаю, что по сложившейся традиции В. С. Черномырдин и А. Гор могли бы взять на себя и подготовку крупного блока вопросов к нашему саммиту.
Таким образом, по ключевым направлениям налицо уверенное движение вперед. Но наряду с этим есть обстоятельства, которые начинают нас серьезно беспокоить.
Первое – Иран. Убежден, что было бы опасно превращать наши отношения в заложника одного, пусть важного, «иранского фактора». Как я писал тебе, никаких нарушений норм ракетного нераспространения с нашей стороны нет.
Сотрудничества с Ираном по государственной линии в сфере баллистических ракет мы не вели и не ведем. Что касается контактов российских организаций, то либо и здесь утечки ракетной технологии не существовало, либо – если такой риск появляется – мы сами предпринимали и будем предпринимать против этого решительные меры. Российско-иранское сотрудничество в мирной атомной энергетике ведется транспарентно и в полном соответствии с нормами нераспространения. Я держу свое слово и лично контролирую весь комплекс этих вопросов.
Хочу подчеркнуть: мы исходим не только из нашей с тобой договоренности, но и из собственных национальных интересов. Иран – наш сосед, и мы, разумеется, не хотим появления там ракетно-ядерного потенциала. Поэтому мы так настойчиво добиваемся интеграции Тегерана в многосторонние усилия по предотвращению распространения оружия массового уничтожения.
Когда у вас есть конкретные озабоченности – готовы их обсуждать и снимать. Для этого мы и назначили наших полномочных представителей. По каналу Коптев – Визнер мы предоставили детальную информацию по каждому поднятому вопросу и были предельно откровенны. Согласен с оценкой этого сотрудничества между нашими странами, содержащейся в совместном докладе наших спецпредставителей, как весьма удовлетворительного.
Но что получается? Наша искренность ставится под сомнение. То и дело у вас допускаются утечки в прессу сугубо доверительного материала наших конфиденциальных обменов. Вокруг этой проблемы нагнетается ажиотаж. Мы вообще пошли на беспрецедентный шаг – приняли директора ЦРУ и ознакомили его с оперативной информацией. Тем самым хотим внести абсолютную ясность в этот вопрос, показать, что здесь нет какого-то «двойного дна».
Тем не менее меня не покидает ощущение, что в США нарастает активность тех, кто хочет использовать иранскую тему, чтобы осложнить наши отношения, в том числе торгово-экономические. Как иначе расценить попытки нажима в связи с контрактом на разработку газового месторождения в Иране с участием российского «Газпрома»? Соглашение с иранцами на этот счет, подписанное совместно с французским и малазийским партнерами, полностью соответствует общепринятым принципам свободной торговли и честной конкуренции. Нет нужды говорить о том, что мы не признаем экстерриториальный характер соответствующего американского законодательства. Считаем, что оно посягает на неотъемлемое право государств свободно развивать торгово-экономические связи друг с другом.
Если угроза санкций против крупнейшей российской компании будет реализована, то, вольно или невольно, нашим отношениям будет нанесен ощутимый ущерб. Очень рассчитываю, что ты предпримешь все необходимые меры, чтобы не доводить до этого дело.
Другой беспокоящий вопрос – нагнетание страстей в США вокруг темы «российской организованной преступности». Доклад американских экспертов на этот счет вызвал весьма негативный резонанс у нас в стране. С крайне пессимистическими прогнозами публично выступали и официальные представители твоей администрации, в частности, директор ФБР.
Да, мы сталкиваемся с реальными проблемами, связанными с оргпреступностью и коррупцией. Однако тебе известно о моих шагах, направленных на искоренение этого зла. Борьбу с преступностью мы ведем решительно и жестко. Но не следует бросать тень на развивающееся предпринимательство в России и отождествлять весь российский бизнес с «мафией». Особо беспокоит, что проблема «российской оргпреступности» возводится в ранг угрозы интересам национальной безопасности США. Волна спекуляций на эту тему может только осложнить разворачивающееся антикриминальное сотрудничество между нашими правоохранительными органами, которому мы придаем большое значение. Готовы мы и к наращиванию такого сотрудничества с другими государствами, в том числе и в рамках механизмов «восьмерки». Рассчитываю, что ты дашь указание выправить негативные акценты в этом плане.
Еще один вопрос, возникновения которого в наших отношениях – скажу откровенно – ожидал менее всего. Он вызывает у меня большую озабоченность своим явным несоответствием тому высокому уровню доверия, которому я, как, уверен, и ты, придаю первостепенное значение.
Дополнительное звучание этому вопросу придает тот факт, что он напрямую касается одного из центральных как в двустороннем, так и в глобальном плане процессов – сокращения и ограничения вооружений. Развитие этого процесса невозможно без участия в нем российских и американских военных специалистов, многие из которых являются носителями важных государственных секретов. До последнего времени безопасность российских военнослужащих, посещающих США в составе инспекционных групп и военных делегаций, обеспечивалась на должном уровне.
Вместе с тем, меня информировали об инциденте с одним из офицеров Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
С 28 сентября по 5 октября с. г. в США с целью подготовки российско-американских учений по противоракетной обороне находилась делегация российских военных экспертов, членом которой был полковник Егоров Владимир Леонидович. В 10 часов вечера 28 сентября в номере 392 нью-йоркской гостиницы «Рамада» на него было совершено нападение, насильственно сделана инъекция специального препарата, а затем проведен разведывательный опрос.
Медицинское обследование полковника Егорова В. Л., проведенное по возвращении в Россию, подтвердило факт введения ему психотропных средств.
Очевидно, Билл, что подобные действия в стиле времен «холодной войны» недопустимо оставлять без внимания, чтобы исключить их рецидивы в дальнейшем. Поэтому я решил лично обратиться к тебе в связи с этим инцидентом.
Билл, мы уже не раз показывали скептикам, как находить решения порой весьма сложных вопросов и выходить на результаты, отвечающие взаимным интересам. Я уверен, что мы будем конструктивно и слаженно работать над подготовкой перспективной российско-американской повестки дня к Московскому саммиту.
С уважением, Б. Ельцин
У.Дж. Клинтон – Б.Н. Ельцину, 3 апреля 1999 г.
Дорогой Борис,
Пишу тебе вновь по вопросу о Косово, который стал одной из самых трудных проблем, с которыми мне приходилось иметь дело в ходе моего президентства – не в последнюю очередь потому, что он столь обременителен для российско-американских отношений. Как и ты, я хотел бы, чтобы насилие прекратилось как можно скорее. Как и ты, я готов изыскивать любые пути, которые могли бы привести к миру. Однако события последней недели четко говорят о том, насколько серьезна эта угроза миру.
Сообщения, поступающие из Косово, действительно потрясают. Имеются обширные свидетельства того, что сжигаются целые деревни, проводятся казни ни в чем не повинных гражданских лиц без суда, а десятки тысяч изгоняются из мест проживания, но не действиями НАТО, а вследствие преднамеренной и заранее спланированной кампании югославских сил безопасности. Я весьма высоко ценю твое сильное заявление о том, что Россия не позволит втянуть себя в конфликт. Я рад, что ты признал, что такая вовлеченность была бы опасным развитием событий, и я прошу тебя продолжать твердо выступать против этого.
Мы с интересом восприняли твое предложение о проведении экстренной встречи «восьмерки» по Косово. М. Олбрайт изложила И. С. Иванову нашу реакцию и некоторые дополнительные соображения. Они будут продолжать обсуждать то, как мы можем наилучшим образом согласовать наши усилия, направленные на восстановление условий для мира и безопасности в Косово.
Весьма важно, чтобы мы оставались едиными, насколько это возможно, в том, какие сигналы от нас поступают Белграду. С. Милошевич должен знать, что если он хочет закончить этот конфликт, он может это сделать в любой момент посредством прекращения своей военной кампании против косовских албанцев, вывода своих сил, как он это обязался сделать в октябре, и обеспечения безопасности и самоуправления для жителей Косово. Но он должен также знать, что если он не готов принять эти условия, натовская кампания воздушных ударов будет продолжена. Я основательно обсуждал эту проблему с Ж. Шираком, Г. Шредером и Т. Блэйром, и между нами имеется полное согласие на данный счет.
Я знаю, что события в Косово привели к напряженности в отношениях между нашими странами. Но я рад, что мы можем продолжать сотрудничать по многим важным вопросам в нашей двусторонней повестке дня. Мы несем ответственность перед народами наших стран и всем миром за то, чтобы активное американо-российское партнерство пережило столь трудные времена и продолжало оставаться продуктивным. Соглашение по основным элементам адаптации ДОВСЕ, достигнутое 31 марта, является подлинно историческим достижением, ради которого мы все упорно работали. Мне также доставляет удовлетворение то, что, несмотря на отмену на прошлой неделе очередной сессии Российско-Американской Комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству, конкретная работа Комиссии была продолжена, в результате чего на прошлой неделе было подписано Соглашение по ВОУ-НОУ и ожидается подписание Договора о взаимной правовой помощи и Соглашения о воздушном сообщении.
Мне также внушает надежду то, что МВФ направит полномасштабную миссию в Москву для продолжения переговоров. Как мы с тобой неоднократно говорили об этом, принятие обоснованной экономической программы имеет политически важное значение для реализации устремлений народа России. Как я тебе говорил раньше, когда Россия и МВФ заключат соглашение, я буду готов к упорной работе с партнерами по реструктуризации российского долга.
Наконец, я хотел бы поздравить тебя по поводу твоего превосходного послания Федеральному Собранию России. Оно было красноречивым изложением твоего видения демократической, толерантной и процветающей России, того, каким образом избежать возвращения к «холодной войне» и содействовать интеграции России в мировую экономику. Ты знаешь, что я разделяю это видение и привержен тому, чтобы сотрудничать с тобой в деле его претворения в жизнь. Оно является подлинно непоколебимым основанием американо-российских отношений. В неспокойные времена, подобные нынешним, твое мужество, здравый смысл и дальновидность придают надежду мне лично и всем тем, кто пытается построить новый, более безопасный мир для будущего столетия.
С уважением, Билл
Б. Н. Ельцин – У. Дж. Клинтону, 6 апреля 1999 г.
Дорогой Билл,
Ситуация в Югославии с каждым днем становится все более трагичной и угрожающей. Бомбардировки городов, в результате которых разрушены государственные учреждения, аэродромы, мосты и даже жилые кварталы, оборачиваются многочисленными человеческими жертвами, терроризируют мирное население. Характер подлинной катастрофы приобрела проблема беженцев из Косово. Масштабы ее неумолимо растут, распространяясь на соседние государства. Положение на Балканах вновь становится фактором европейской и международной напряженности.
Совершенно очевидна необходимость принятия самых срочных мер, чтобы переломить критическую ситуацию, вернуть ее из военного в политическое русло. Россия неизменно действует в этом направлении, используя все доступные нам каналы. В этом контексте не может, конечно, не вызывать сожаления, что сигнал, поданный С. Милошевичем после поездки в Белград Председателя Правительства Российской Федерации Е. М. Примакова, не был услышан. Потеряно время, что обернулось новыми жертвами и страданиями.
В ответ на мое послание сегодня от Белграда удалось добиться еще одного принципиально важного сигнала: С. Милошевич только что официально заявил о прекращении военных и полицейских акций в Косово. Это решение, принятое – что особенно существенно – в одностороннем порядке без предварительных условий, позволяет, на наш взгляд, остановить, наконец, бессмысленное кровопролитие и насилие, незамедлительно начать движение к прочному, справедливому и гуманному косовскому урегулированию.
Обращаюсь к Вам с настоятельным призывом дать миру в Европе шанс – не отвергать инициативу С. Милошевича, рассмотреть его заявление без предубеждения, в конструктивном ключе и отреагировать надлежащим образом, вновь передав решение проблемы Косово от военных дипломатам. Со своей стороны буду готов внимательно изучить любые Ваши соображения, идущие в данном направлении.
Все мы получили теперь реальную возможность совместными усилиями отвести нависшую над нами общую беду. Ее следует использовать ответственно и с наибольшим эффектом. Другого история и наши народы не простят.
С уважением, Б. Ельцин
Б.Н. Ельцин – У.Дж. Клинтону, 18 октября 1999 г.
Дорогой Билл,
Хотел бы доверительно и предельно откровенно поделиться с тобой соображениями относительно ситуации, складывающейся в настоящее время в нашем диалоге по вопросам СНВ и ПРО.
Сразу хочу подчеркнуть, что считаю это направление не только одним из ключевых в российско-американских отношениях, но и затрагивающим основные интересы безопасности всего международного сообщества. Убежден, что наращивать достигнутое за последние годы в области контроля над вооружениями – единственно разумный путь. Именно поэтому придаю особое значение принятому нами в Кёльне Совместному заявлению [встречи «Большой восьмерки»], внимательно слежу за его реализацией. Положение дел здесь, однако, оставляет двойственное впечатление.
С одной стороны, налицо определенный прогресс. С удовлетворением воспринял подтверждаемую тобой приверженность тем договоренностям, которые мы достигли ранее. Прежде всего имею в виду проявленную американской стороной готовность к продолжению работы над дальнейшими сокращениями стратегических наступательных вооружений, не исключаемую тобой возможность идти в этих сокращениях ниже согласованного в Хельсинки [на российско-американском саммите в 1997 г.] уровня ядерных боезарядов. Это было бы на пользу всем.
Вместе с тем, и мы с тобой об этом неоднократно заявляли, фундаментальное значение для дальнейших сокращений СНВ, для укрепления стратегической стабильности и международной безопасности имеет Договор по ПРО. Мы совместно зафиксировали в Кёльне наше намерение продолжать усилия по укреплению этого Договора, повышению его жизнеспособности и эффективности в будущем. В связи с этим меня глубоко обеспокоило подписание тобой закона, провозглашающего развертывание национальной системы противоракетной обороны территории страны политикой Соединенных Штатов, и тем более – продолжение реальных испытаний ее элементов. Развертывание такой системы, как ты знаешь, несовместимо с ключевым положением Договора по ПРО, составляющим его суть, – обязательством сторон не развертывать системы ПРО территории своей страны и не создавать основу для такой обороны. Отказ от этого обязательства означал бы, по существу, принципиальную переориентацию Договора по ПРО, то есть Договор стал бы разрешать то, для запрещения чего был разработан и подписан. Это был бы отнюдь не укрепленный Договор по ПРО, а совсем другой договор. Возможные последствия такого изменения, скажу тебе откровенно, нам представляются опасными не только для дальнейших сокращений СНВ, но и всего разоруженческого процесса и международной стабильности в целом. А тебе, как и мне, думаю, небезразлично, каковы будут результаты наших общих усилий в этой области, какой запас прочности международной безопасности мы оставим нашим преемникам.
Мне уже приходилось слышать утверждения американской стороны, что развертывание национальной системы ПРО территории страны не поставит под угрозу способность России к стратегическому сдерживанию и что США, мол, готовы предоставить России соответствующие гарантии.
Билл, с самого начала процесса ограничения и сокращения стратегических наступательных вооружений тридцать лет назад этот процесс основывался на главной идее, заложенной в Договор по ПРО, а именно, что обе наши стороны остаются уязвимыми для СНВ другой стороны, поскольку только так можно обеспечить надежность сдерживания от ядерного нападения при уменьшающихся количествах наступательных вооружений. Альтернатива такому подходу – более высокие уровни СНВ и других ядерных вооружений и менее надежная и менее стабильная система стратегических взаимоотношений, при которой первый удар может при определенных обстоятельствах перестать быть абсолютно иррациональным. Все это особенно четко просматривается на пониженных уровнях СНВ, предусмотренных в Договоре СНВ-2, и особенно тех, о которых мы ведем разговор в рамках обсуждения СНВ-3. И никакие гарантии в такой ситуации не были бы способны устранить объективно присущую системе ПРО и возрастающую с ее развитием роль сильнейшего дестабилизирующего фактора в стратегическом уравнении. А планами США, насколько я информирован, предусматривается наращивание потенциала системы ПРО. Не лучшая, на мой взгляд, перспектива создавать такую ситуацию. Россия может оказаться поставленной в такое положение, когда она будет вынуждена принять соответствующие, не обязательно симметричные, меры по адекватному обеспечению собственной безопасности. Именно поэтому хочу повторить еще раз, что отказ от ключевых ограничений, установленных Договором по ПРО, несет с собой угрозу сорвать процесс ограничения и сокращения ядерных вооружений. Мы не хотели бы быть участниками этого.
Совершенно не убежден и в том, что развертывание ПРО будет тормозить процессы распространения технологий оружия массового уничтожения и средств его доставки. Думаю, результат скорее будет обратным – развертывание ПРО подхлестнет эти процессы и подтолкнет новые страны на путь овладения такими технологиями в условиях своей фактической незащищенности перед сверхвооруженностью США. Для укрепления режимов нераспространения возможности далеко не исчерпаны, и о некоторых из них шел разговор в Кёльне.
С другой стороны, я уверен, что, если мы будем твердо придерживаться Договора по ПРО и задействуем потенциал договоренностей по разграничению стратегической и нестратегической ПРО 1997 года, а также подключим усилия на глобальном уровне, включая сотрудничество в области нераспространения ракетных технологий и экспортного контроля, то, действуя совместно, мы сможем успешно противостоять тем угрозам, на которые американская сторона ссылается, выступая за создание НПРО США.
Хотел бы, Билл, обратить твое внимание и на то, что такой сложный и капиталоемкий процесс, как создание и развертывание стратегической ПРО, имеет огромную собственную инерцию развития. Будучи запущенным, он рискует далеко перекрыть те границы, о которых сейчас идет речь в известных нам американских программах.
Понимаю, что ситуация вокруг Договора по ПРО сейчас чрезвычайно сложная. Из нее, однако, на мой взгляд, нужно найти выход с учетом всего того, о чем я говорил выше. И это зависит во многом, если не в первую очередь, от тебя.
Просил бы тебя, Билл, еще раз все взвесить, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги в области стратегической ПРО. Разумеется, права вето на такую деятельность Соединенных Штатов ни у кого нет, равно как нет такого права и в отношении деятельности России в области обеспечения своей безопасности. Но полагаю, что не лучшим способом было бы встречать третье тысячелетие крушением того, что было создано в интересах мира совместными усилиями России и США. Надеюсь также, что американская сторона сможет пересмотреть свой нынешний подход к нашему проекту резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу о сохранении и соблюдении Договора по ПРО, который полностью основывается на наших с тобой договоренностях.
С уважением, Б. Ельцин
Б.Н. Ельцин – Ж. Шираку, 30 октября 1999 г.
Дорогой Жак,
Хотел бы доверительно и предельно откровенно поделиться с тобой соображениями относительно ситуации, складывающейся в настоящее время вокруг Договора по ПРО.
Хочу подчеркнуть, что российская сторона считает этот Договор, несмотря на узкий состав его участников, имеющим большое международное значение, затрагивающим интересы многих государств мира. И это определяется его фундаментальной ролью в современной структуре договоренностей в области контроля над вооружениями, тем, что Договор по ПРО является одним из важнейших условий глубоких сокращений стратегических наступательных вооружений, краеугольным камнем стратегической стабильности. Знаю, что и ты разделяешь такую точку зрения.
Хотел бы также отметить, что наш курс на сотрудничество с ведущими странами мира в области контроля над вооружениями не подвержен конъюнктуре, носит долгосрочный характер. Считаю, что было бы большой ошибкой допустить откат в разоруженческом процессе. Убежден, что наращивать достигнутое за последние годы – единственно разумный путь для государств, несущих особую ответственность за международную безопасность.
Недавняя встреча «восьмерки» в Кёльне дала возможность России и США подтвердить свою приверженность продолжению усилий по укреплению Договора по ПРО, повышению его жизнеспособности и эффективности в будущем. В связи с этим меня глубоко обеспокоило подписание Президентом США Б. Клинтоном, и я об этом ему прямо сказал, закона, провозглашающего развертывание национальной системы противоракетной обороны территории страны политикой Соединенных Штатов. Но развертывание такой системы, как ты знаешь, несовместимо с ключевым положением Договора по ПРО, составляющим его суть, – обязательством сторон не развертывать системы ПРО территории своей страны и не создавать основу для такой обороны. Отказ от этого обязательства означал бы по существу принципиальную переориентацию Договора по ПРО, то есть Договор стал бы разрешать то, для запрещения чего был разработан и подписан. А это есть не что иное, как фактическая ликвидация Договора.
В усилиях США «подправить» Договор по ПРО мы четко просматриваем стремление Вашингтона к созданию однополярного мира, в котором одна страна, будучи отгороженной от остального мира противоракетной стеной, будет способна делать на мировой арене все, что ей заблагорассудится. Возможные последствия такой ситуации нам представляются далеко не безопасными не только для дальнейших сокращений СНВ, но и всего мироустройства и международной стабильности в целом. А тебе, как и мне, думаю, небезразлично, каковы будут результаты наших общих усилий в этой области, какой запас прочности международной безопасности они создадут.
Поэтому Россия не намерена быть соучастницей развала этого Договора. Знаю, что в лице Франции мы имеем здесь партнера, на понимание которого мы хотели бы рассчитывать. Не исключаю, что некоторые другие влиятельные государства могут поддержать наши общие с вами подходы. Нам не следует ослаблять своих усилий на этот счет.
Нельзя не учитывать и то, что такой сложный и капиталоемкий процесс, как создание и развертывание стратегической ПРО, имеет огромную собственную инерцию развития. Будучи запущенным, он рискует стать необратимым.
Совершенно не убежден и в том, что развертывание ПРО, как иногда приходится слышать, будет тормозить процессы распространения технологий оружия массового уничтожения и средств его доставки. Думаю, результат скорее будет обратным – развертывание ПРО подхлестнет эти процессы и подтолкнет новые страны на путь овладения такими технологиями в условиях своей фактической незащищенности. Для укрепления режимов нераспространения возможности далеко не исчерпаны, и о некоторых из них шел разговор в Кёльне.
Я обратился к Президенту США с просьбой еще раз все взвесить, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги в области стратегической ПРО. Разумеется, права вето на такую деятельность Соединенных Штатов ни у кого нет, равно как нет такого права и в отношении деятельности России и других стран в области обеспечения своей безопасности. Но полагаю, что не лучшим способом было бы встречать третье тысячелетие крушением того, что было создано в интересах мира совместными усилиями ведущих государств.
Мы с тобой имеем совпадающие взгляды на тот счет, что на современном этапе возникла настоятельная необходимость привлечь внимание мирового сообщества к возможным последствиям разрушения Договора по ПРО вследствие развертывания в США противоракетной обороны территории страны. Мировому сообществу, представленному в Организации Объединенных Наций, следовало бы, на наш взгляд, выступить в поддержку этого Договора. На это нацелен и предлагаемый нами проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о сохранении и соблюдении Договора по ПРО, который был передан французской стороне. Внимательно изучаем полученный в ответ ваш вариант такой резолюции.
Хотел бы надеяться, Жак, что ты внимательно отнесешься к высказанным соображениям и сделаешь все зависящее от тебя в интересах продолжения разоруженческого процесса, поддержания стратегической стабильности и обеспечения международной безопасности.
С уважением, Б. Ельцин
Ж. Ширак – Б. Н. Ельцину, 17 ноября 1999 г.
Господин Президент! Уважаемый Борис Николаевич,
Благодарю тебя за твое письмо от 30 октября и за откровенность, с которой ты изложил в нем свои взгляды. Считаю необходимым сказать тебе, что полностью разделяю твои озабоченности по поводу перспектив Договора по ПРО. Они связаны с обеспокоенностью более широкого плана: как нам вновь воссоздать ту благоприятную атмосферу, которая несколько лет назад позволила нам приступить к сокращению крупнейших ядерных арсеналов, запретить химическое оружие, заключить Договор о запрещении ядерных испытаний, сократить количество вооружений в Европе и сдержать распространение ядерного оружия? Я уже имел возможность публично высказаться по этому вопросу, и все инициативы, предпринятые Францией с тех пор в этом отношении, отражают эту озабоченность.
Хотя Франция не является участницей Договора по ПРО, она считает его важнейшим элементом усилий по сокращению вооружений. Незыблемость его принципов – одно из условий обеспечения стратегической стабильности. Я с удовлетворением отмечаю, что мы по-прежнему разделяем этот принцип. Удовлетворение вызывает и твое совершенно четкое заявление о том, что Россия не пойдет на разрушение Договора.
Поэтому я весьма рад, что совместными усилиями нам удалось добиться принятия проекта резолюции по ПРО в Первом комитете Генеральной Ассамблеи. Нам пришлось много поработать для достижения такого результата, и в этой связи особенно важно, чтобы проект поддержало как можно больше стран. Франция сделает все возможное для того, чтобы добиться проведения окончательного голосования в Нью-Йорке.
Я согласен с тем, что одним из опасных последствий пересмотра Договора по ПРО может, среди прочего, стать то, что такой пересмотр подтолкнет процесс распространения в мире. Но мы не можем игнорировать тот факт, что в качестве основного довода в пользу развертывания систем ПРО США выдвигают именно распространение. Системы ПРО не являются подходящим ответом, между тем борьба с распространением необходима. Именно поэтому, когда наши страны совместно работали над проектом резолюции по ПРО, Франция настойчиво добивалась того, чтобы в нем решительно подчеркивалась важность нераспространения. Считаю весьма важным продолжать работу в этой области – совместно и в сотрудничестве с другими странами.
Как ты знаешь, Франция приложила немало усилий в области разоружения – как самостоятельно, так и, если это было целесообразно, в рамках договоров. Я весьма обеспокоен событиями последнего времени, которые не внушают большого оптимизма. Убежден в том, что мы заинтересованы в придании этому процессу нового импульса. В этой связи задачей первостепенной важности для нас становится немедленное проведение переговоров о прекращении производства военных расщепляющихся материалов.
Обещаю, что Франция будет и впредь всячески содействовать сохранению стратегической стабильности; опасность движения вспять в процессе разоружения существует, но мы не должны поддаваться искушению полагаться лишь на судьбу.
Прими, уважаемый Борис Николаевич, заверения в моем самом высоком уважении.
Искренне твой, Жак Ширак

Новая судоходная Арктика
Крайний Север и геополитика в XXI веке
Кейтлин Антрим – исполнительный директор Комитета за правовое регулирование океанов.
Резюме Открытие в XXI веке доступа к Арктике превратит Россию, грозную сухопутную державу Маккиндера и Спайкмена, в одну из первоклассных морских держав. «Морская» Россия сможет стать частью системы сотрудничества и партнерства с другими океанскими странами, что позволит сохранить Арктику как регион мира.
Расширенная версия статьи на эту тему опубликована в ежеквартальном журнале Naval War College Review, т. 63, № 3 (лето 2010 г.).
Когда летом 2007 г. на дне Северного Ледовитого океана был установлен российский флаг, увенчавший Северный плюс, а ледовый покров уменьшился до рекордного уровня за всю историю наблюдений, западные СМИ запестрели громкими заголовками. Статьи под названием «Таяние арктических льдов», «Новая холодная война» и «Захват Арктики» были сфокусированы на действиях России и подпитывали на Западе дух соперничества, ощущение конфликта и кризиса. Претензии России на арктическое дно и контроль над новыми морскими путями интерпретировались в устаревших геополитических терминах XX века, усиливая ощущение конфликта.
Эти публикации возымели эффект, поскольку строились на геополитических стереотипах более чем столетней давности, тех, что господствовали с конца Российской империи, на протяжении всего советского периода и в начале истории современной России. Все это время западная геополитическая мысль была одержима идеей естественного конфликта между центральной частью Евразии и западными морскими державами. Арктика играла в этой парадигме существенную, хотя и не признаваемую роль «северной стены» в стратегии взятия в кольцо и сдерживания крупнейшей материковой державы мира – России. Однако в конце XX века от внимания Запада ускользнули изменения в мировых технологиях, экономике, климате и праве, подорвавшие арктические теории геостратегов прошлого.
Указанные изменения служат гарантией того, что геополитика XXI века будет отличаться от воззрений эры империй и периода конфликтов последних двух столетий. Возрастающая доступность Арктики с ее энергетическими и природными ресурсами, новыми зонами рыбного промысла, более короткими морскими путями и возможностью судоходства по рекам между Арктикой и центральной частью Евразии будет не препятствовать, а, напротив, способствовать превращению России в крупную морскую державу. В то же время эти изменения приведут к более тесной интеграции России в глобальную торговую и финансовую сеть, к появлению у нее возможности привлекать иностранных партнеров, а также участвовать в международных соглашениях и организациях, которые гармонизируют международное судоходство, безопасность и защиту окружающей среды.
Арктика в геополитике XX века
В начале XX века вышел в свет геополитический труд Альфреда Тайера Мэхэна «Проблема Азии». В нем автор обращается к проблеме соперничества между Российской империей и колониальными и торговыми державами, интересы которых распространялись на всю периферию азиатского континента – от Ближнего Востока до Китая.
Мэхэн рассматривал Россию как материковую державу с ограниченной возможностью использовать свою мощь на «спорных территориях», которые отделяли Россию от западных держав, в частности Британской империи и Соединенных Штатов. В сочетании с мощным флотом и морской торговлей это обстоятельство могло обеспечивать их доминирование на всей протяженности азиатского побережья. Сохранению господства Запада в Южной Азии благоприятствовала неспособность России открыть морской фронт с юга в дополнение к потенциальным сухопутным подходам с севера. Чтобы бросить вызов Западу, России требовался либо свободный доступ к морю из собственных портов, либо сухопутный маршрут в другие порты. Именно эти устремления положили начало «Большой игре» XIX века и стали причиной вооруженных и политических конфликтов в Афганистане и Иране в XX столетии.
Оценивая доступ России к морю, Мэхэн подчеркивал ограничения, создаваемые географическим положением. Из Санкт-Петербурга российские суда должны были проходить через Балтику, где могли столкнуться с военным флотом северных стран в Финском заливе и Датских проливах. В Черном море суда следовали из Крыма через Дарданеллы и далее либо через Гибралтарский пролив, либо по Суэцкому каналу. Выход в океан из дальневосточного порта Владивосток был свободен, но его отдаленность от экономического, политического и военного центра России, а также растущая морская мощь Японии делали этот форпост незначительной угрозой интересам Запада в Азии.
Спустя четыре года после публикации работы Мэхэна Хэлфорд Маккиндер выступил в Королевском географическом обществе с лекцией «Географическая ось истории». Он определил юго-западный регион Российской империи как исторический перекресток силовых линий между Восточной Азией и Западной Европой. Здешние степи и равнины он рассматривал в качестве магистрали, по которой материковая держава с внутренней сетью коммуникаций может прийти к доминированию на территории «полумесяца» – от побережья Китая и Южной Азии на запад через Балканы и вверх до Ла-Манша.
Маккиндер полагал, что такое техническое достижение как железные дороги увеличивает мощь материковой части и усиливает историческую роль степей Центральной Азии, по которым пролегали пути древних завоевателей из Азии в Европу. Регион, богатый сельхозугодиями и промышленным сырьем в сочетании с возможностями, которые предоставляли железные дороги, Маккиндер видел в качестве оси, вокруг которой разворачивается конфликт между материком и «полумесяцем» морских держав.
Сдерживание России и ее евразийского центра стало основой геостратегии второй половины столетия. В начале 1940-х гг. теорию Маккиндера доработал профессор Йельского университета Николас Спайкмен. Он умер в 1943 г., но идея взятия в кольцо и сдерживания России была реализована на практике в послевоенный период в ответ на советскую экспансию в Восточной Европе и непродолжительный альянс с Китаем. Спайкмен, как Мэхэн и Маккиндер до него, не рассматривал вопрос доступа России в Арктику. На значимость этого упущения указывает та роль, которую сыграл порт Мурманск как пункт доставки грузов с Запада в годы Второй мировой войны, а также факт создания Северного флота ВМФ СССР на Баренцевом море в 1933 г. и растущее значение морских путей, связывающих арктическое побережье Евразии с такими крупными портами, как Мурманск и Владивосток.
Еще в 1997 г. Збигнев Бжезинский (помощник президента Джимми Картера по национальной безопасности в 1970-е гг.) представил идею взятой в кольцо России, которая ограничена Европой на западе, бывшими советскими республиками на юго-западе и Индией, Китаем и Японией на юге и востоке. Хотя он скорректировал оценку геополитической ситуации с учетом распада СССР, его геостратегическим подходом по-прежнему оставалось окружение и сдерживание России в условиях новых отношений, которые США и НАТО строили с бывшими советскими республиками и странами-сателлитами. Роль Арктики в качестве недоступной «четвертой стены» окружения предполагалась, но не рассматривалась детально – XX век завершался все с тем же «белым пятном», что возникло столетием раньше.
В конце XX столетия казалось, что геополитическая стратегия взятия в кольцо и сдерживания России выдержала испытание временем. Но в Арктике назревали изменения, и «стена» с севера начала разрушаться.
Арктика: море и суша
Российская Арктика включает северные моря, острова, континентальный шельф и прибрежные районы евразийского континента. Арктическое побережье России тянется от границы с Норвегией на Кольском полуострове до Берингова пролива. Побережье омывается Баренцевым морем на западе, Карским морем, морем Лаптевых, Восточно-Сибирским и Чукотским морями на востоке. Из них только Баренцево море свободно ото льдов почти круглый год в результате влияния Гольфстрима, протекающего из Атлантического океана в Северный Ледовитый.
Широкий континентальный шельф России простирается на север далеко за пределы 200-мильной Исключительной экономической зоны (ИЭЗ). Протяженность береговой линии вдоль Северного Ледовитого океана достигает почти 40 тыс. км (включая береговую линию северных островов). Площадь водосбора арктического побережья составляет 13 млн кв. км – почти три четверти суши России, что превышает территорию любого государства.
При обсуждении потенциальных преимуществ потепления в Арктике и таяния полярных льдов внимание главным образом было сосредоточено на экономическом потенциале шельфовых запасов нефти и газа, а также на экономии времени и топлива благодаря новым трансарктическим морским путям. Эти преимущества значительны, но интересы России распространяются и на другие не менее важные аспекты, связанные с расширением доступности Северного Ледовитого океана, включая обеспечение безопасности границ в Арктике и увеличение доступа к сибирским рекам, которые текут в глубь страны. Эти интересы группируются по четырем направлениям: безопасность, океанические и береговые ресурсы, северная транспортная инфраструктура и региональное экономическое развитие в бассейне Северного Ледовитого океана.
Безопасность и северные моря. Северный флот России базируется на Кольском полуострове (юго-западное побережье Баренцева моря) с 1933 года. Сегодня это крупнейший и самый мощный компонент ВМФ России. Подлодки Северного флота, оснащенные баллистическими ракетами, спокойно перемещаются под арктическими льдами. В случае крупного конфликта с НАТО Северный флот мог бы оказаться в ловушке в Арктике, но в остальное время российские военные корабли, базирующиеся в Мурманске, имеют свободный доступ к Мировому океану. Удобное расположение Северного флота также позволяет его военным кораблям круглогодично бороздить Атлантику, а также сопровождать коммерческие суда в порты на северо-западе России.
В то время как некоторым западным геостратегам четвертая стена окружения России представлялась сплошным белым пятном, другим еще до Второй мировой войны был очевиден таящийся в ней огромный потенциал. Так, в 1938 г. Харри Питер Смолка в журнале Foreign Affairs провидчески описал возможные действия России в Арктике. Он обратился к вопросу создания Северного флота на Кольском полуострове и рассмотрел роль недавно учрежденного Главного управления Северного морского пути (ГУСМП) как ведомства по развитию азиатской части арктического побережья. Более того, он даже сравнивал ГУСМП с британской Ост-Индской компанией. Смолка определил преимущества развития Севера с военной точки зрения, реконструировав идею Мэхэна о том, что России не хватает выходов в Мировой океан. Он утверждал, что флот, базирующийся в Мурманске, получит такой доступ: «В результате останется только три стороны, с которых Россия будет блокирована: с запада, юга и востока. Но на севере – и только там – существует независимая, непрерывная и полностью российская никому недоступная береговая линия».
Океанические и береговые ресурсы. Россия долгое время является крупным производителем нефти и газа из ресурсов, добываемых на суше. В последнее время ресурсы континентального шельфа Арктики привлекают все больше внимания. Запасы в Баренцевом море уже разрабатываются, разведанные запасы в Баренцевом и Карском морях рассматриваются на предмет будущего освоения. Однако большая часть месторождений пока не разведана. По оценкам Геологической службы США за 2008 г., более 60% неразведанных запасов нефти и газа в Арктике находится на российской территории и эквивалентно 412 млрд баррелей нефти. Лишь небольшой их процент доступен с берега или находится в пределах ИЭЗ России. Наибольший потенциал сокрыт в бассейне Карского моря, перспективны также море Лаптевых и Восточно-Сибирское море.
Таяние полярных льдов открывает доступ к освоению обширной береговой линии и прибрежных вод. Поэтому возникает вопрос об управлении доступом и регулировании освоения шельфовых ресурсов. Береговая пограничная охрана России отвечает за мониторинг морской деятельности у берега и в ИЭЗ, следит за исполнением норм и правил национального морского законодательства. Это небольшая служба, включающая обычные фрегаты и корветы, приписанные к Тихоокеанскому и Черноморскому флотам, несколько рыбоохранных судов и судов для патрулирования ИЭЗ, а также легкие буксиры для операций у берега. Лишь небольшое количество плавучих средств подходит для условий Арктики и льдов. По всей видимости, возможности России вести мониторинг все более доступной ИЭЗ в Арктике не соответствуют темпам летнего таяния льдов.
Северный морской путь. Северный морской путь (СМП) включает маршруты, пересекающие Северный Ледовитый океан от Новой Земли до Берингова пролива. Он служит как для обеспечения региональных морских линий, так и в качестве трансарктического прохода. Естественная преграда – полуостров Таймыр – отделяет Карское море на западе от моря Лаптевых на востоке. Это самая северная оконечность Азии, которая открывается последней во время летнего таяния льдов.
Проход сужается в месте пролива Вилькицкого, отделяющего материк от архипелага Северная Земля. Небольшая глубина и долгое сохранение льдов летом ограничивают транзит между востоком и западом в зависимости от размера судов и времени года. Региональные маршруты остаются судоходными, даже когда транзиту по всему Северо-Восточному проходу препятствует замерзание узких проливов.
Северный морской путь обеспечивает доступ к таким региональным портам, как Новый Порт в устье реки Обь, Диксон, Дудинка и Игарка (порты на реке Енисей, которые служат пунктами погрузки минеральных ресурсов и древесины) и Тикси в устье реки Лена. Эти порты также поддерживают каботажное судоходство в летний период, как только ледовый покров достигает своего минимума.
Кроме обеспечения внутреннего маршрута, соединяющего северные порты и связывающего их через реки с континентальной частью страны, СМП также представляет интерес для мировых судоходных компаний в качестве альтернативы более протяженным южным маршрутам между Дальним Востоком и Европой. Путь из Йокогамы в Роттердам может благодаря СМП сократиться на 4 тыс. миль. Даже при низкой скорости судов по Северному морскому пути сокращение расстояния приведет к экономии времени и расхода топлива, что позволит транспортным компаниям сберечь значительные финансовые средства.
В настоящее время период навигации в Арктике имеет непредсказуемую продолжительность и зависит от различных климатических факторов. Для преодоления этого маршрута требуется особая подготовка судов. СМП не будет привлекать крупные судоходные компании как регулярный маршрут, пока не накоплен необходимый опыт, а маршрут не оснащен современными навигационными средствами, портовыми сооружениями и поисково-спасательным оборудованием. Вне зависимости от дальнейшего отступления полярных льдов постепенная работа в этом направлении позволит сделать Северный морской путь более привлекательным маршрутом для международного судоходства.
Судоходность зависит от мощных ледоколов, которые прорываются сквозь льды и сопровождают суда даже летом. Шесть атомных ледоколов, четыре тяжелых класса «Арктика» и два с малой осадкой класса «Таймыр», обеспечивают функционирование СМП. Кроме того, крупные коммерческие компании начали приобретать собственные ледокольные грузовые суда. В 2009 г. на долю флота компании «Норильский никель» приходилось около 1 млн тонн грузоперевозок из Дудинки по Карскому морю на Кольский полуостров. За успехом «Норникеля» последовало введение в эксплуатацию подобных судов для транспортировки нефти и природного газа в Арктике без сопровождения.
Арктический бассейн. Российский арктический бассейн включает евразийскую материковую часть и северные береговые районы и составляет почти две трети территории России. Этот бассейн богат природными ресурсами. Южная часть Западной Сибири – очень плодородный сельскохозяйственный район, также богатый нефтью и углем, а реки Обь и Енисей обеспечивают работу ГЭС. Крупные залежи железа и боксита – сырье для производства стали и алюминия.
Среднесибирское плоскогорье на севере – база «Норильского никеля», крупнейшего мирового производителя никеля и палладия. Река Лена дает доступ к золотым и алмазным рудникам. Там расположены и крупнейшие в мире леса, простирающиеся с северо-запада до юго-востока Сибири.
Огромные расстояния, неровный рельеф, промерзшая почва и суровый климат препятствовали строительству автотрасс и железных дорог на севере и северо-востоке. Тем не менее крупные речные системы, в особенности Обь, Енисей и Лена, пронизывают бассейн от Уральских гор на западе до Монголии и Казахстана на юге и горных районов, граничащих с Тихим океаном, на востоке. В прошлом этим потенциалом можно было пользоваться лишь несколько месяцев в году в летний период.
Климат евразийского побережья – один из самых экстремальных и негостеприимных в мире, зимой температура достигает минус 40 градусов по Цельсию, а толща морских льдов превышает два метра. Суровый климат отрицательно сказывается на портовых объектах, вызывая резкие колебания глубины и течения рек в период летнего таяния льда. Снабжение населенных пунктов во время долгих зим обходится дорого. Затраты, которые рассматривались как расходы на безопасность в период холодной войны, сегодня должны оправдываться коммерческой целесообразностью. В результате за последние 20 лет многие старые объекты были разрушены или заброшены и требуют восстановления практически с нуля. Сохранение объектов в регионе затрудняет сезонное потепление, которое вызывает колебания в таянии и замерзании почвы в зоне вечной мерзлоты, что делает ее структуру нестабильной для строительства. Только у наиболее прибыльных коммерческих предприятий есть экономические стимулы для поддержания объектов на реках, таких как инфраструктура в Дудинке (которая обслуживает «Норильский никель»).
Изменения в Арктике и перемены геополитики
Последние несколько лет изменения в Арктике стали источником как воодушевления, так и тревоги. Открытие канадского Северо-Западного прохода и российского Северного морского пути дало возможность прогнозировать сокращение торговых маршрутов – на тысячи миль и значительное количество дней в море – между Европой и Дальним Востоком. Перспективы огромных, пока даже неразведанных, запасов нефти и газа заставило опасаться за суверенность территорий, безопасность и устойчивость развития региона. Изменения в Арктике идут по четырем направлениям – в сфере технологий, экономики, климата и права.
Технологические изменения. В XX веке произошел прорыв в борьбе с арктическим ледовым покровом. Развитие шло по линии укрепления стального корпуса корабля, способного пробиваться сквозь льды. Энергия, вырабатываемая атомными реакторами, позволила ледоколам патрулировать всю протяженность арктического побережья. В результате создания новых конструкций кораблей с двойным корпусом появились коммерческие грузовые суда и танкеры, не нуждающиеся в помощи ледоколов. За этим последовала разработка новых технологий, предназначенных для освоения месторождений нефти и газа на большой глубине и в полярных условиях.
Экономические изменения. В последние десятилетия XX века растущий спрос на энергию в Западной Европе положил начало партнерству добывающих предприятий Советского Союза с рынками в Европе, что разрушило его экономическую изоляцию, которая возникла после Второй мировой войны. Распад СССР еще больше расширил доступ Европы к российским энергетическим ресурсам. Было признано, что российское сырье не только диверсифицирует источники энергии, но и открывает инвестиционные возможности для Запада. Заявление Геологической службы США о том, что в недрах Арктики, возможно, хранится до четверти мировых неразведанных запасов углеводородов, подстегнуло интерес европейских, а также восточно-азиатских и американских рынков к потенциальному освоению ресурсов российской Арктики.
Изменение климата. Возросшая доступность Арктики стала результатом кумулятивных изменений климата в последние 30 лет. Зимний ледяной покров уменьшился почти на 10%. Летние наблюдения 2007 г. показали, что площадь льдов сократилась на треть по сравнению со средним уровнем 1979–2000 годами. Подобные тенденции продолжатся в ближайшие десятилетия. В докладе Гидрометеорологической службы России Межправительственной группе экспертов по изменению климата за 2008 г. содержался прогноз, в соответствии с которым к 2040 г. зимняя температура на арктическом побережье увеличится почти на 4 градуса и на 2–3 градуса летом. Зимы станут менее суровыми, а реки и прибрежные районы будут свободными ото льдов более продолжительный период.
В течение нескольких десятилетий изменения претерпит флора региона, леса сместятся еще дальше на север, увеличатся периоды роста на юге. Особенно важно, что климатические аномалии и глобальное потепление будут способствовать доступности центральной части России и укреплению ее связи с остальным миром.
Изменение правового режима. В 1926 г. Советский Союз предложил разбить арктическую зону на сектора по линиям, проходящим от Северного полюса к восточному и западному оконечностям северного побережья СССР. Однако из-за недоступности Арктики это предложение не имело большого значения. Лишь на Третьей конференции ООН по морскому праву был поднят вопрос о границах национальной юрисдикции в море и было достигнуто всеобъемлющее соглашение.
Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. закрепила новые правила демаркации прибрежных государств на шельфе. В 1997 г. Россия присоединилась к Конвенции, определяющей суверенность ее территории в Арктике, в которую входит 12 морских миль акватории и 200-мильная ИЭЗ, уходящая вглубь побережья и включающая острова Северного Ледовитого океана. В Конвенции давалось комплексное определение континентального шельфа, открывавшее перспективу присоединения большей части морского дна, претензия на которое была заявлена в соответствии с секторным принципом 1926 года.
В предвкушении открытия новых ресурсов арктического дна право на юрисдикцию, в соответствии с указанным секторальным принципом, признавалось приоритетным. В 2001 г. Россия обратилась в Комиссию по границам континентального шельфа с предложением закрепить ее рубежи на основании географических и геологических особенностей своего континентального шельфа, указанных в Конвенции. Комиссия посчитала представленные данные недостаточными для вынесения постановления. Сейчас Москва собирает дополнительные материалы и подаст очередную заявку с учетом новых данных.
Государственная политика и геостратегия в Арктике
В основе эволюции России из сухопутной державы в морскую лежит не только государственное планирование, но и технологические, экономические, климатические и правовые изменения. Все последние политические инициативы России в сфере безопасности, развития, океанологии и транспорта включают планы освоения Арктики. Совет Безопасности РФ в сентябре 2008 г. подтвердил, что Арктика должна стать основной стратегической ресурсной базой России, и призвал воинские подразделения, в особенности пограничные войска, быть готовыми к защите государственных интересов в Арктике. Нефтяной и газовый потенциал региона уже продемонстрирован. Благодаря Норильску Россия стала крупнейшим мировым производителем никеля и палладия, мало кому уступая и в производстве меди, кобальта и платины. Дополнительный потенциал полезных ископаемых существует на Среднесибирском плоскогорье и на внутренних территориях, где уже добывают уголь, железо, алюминий, золото и алмазы.
С 2000 г. Северный морской путь вновь стал национальным приоритетом. Детальные рекомендации по строительству новых ледоколов и модернизации морских и речных портов включены Министерством транспорта в «Транспортную стратегию до 2030 года». Три новых атомных ледокола будут построены для замены устаревших – таким образом, ледокольный флот по-прежнему сможет обеспечивать круглогодичное функционирование СМП. Новые дизельные ледоколы планируется задействовать для обслуживания портов и шельфовых энергетических объектов, небольшие ледоколы предназначены для прибрежных и поисково-спасательных операций. Возрождение Северного морского пути должно сопровождаться развитием крупных рек как транспортных артерий. В этом отношении политика России в Арктике будет воздействовать на экономическое развитие всего арктического бассейна. Развитие рек откроет доступ не только к ресурсам крупнейших в мире лесов, но и запасам полезных ископаемых. Это также будет способствовать росту торговли сельскохозяйственными и промышленными товарами из южных районов арктического бассейна.
Экономическое развитие Арктики, безусловно, не обойдется без затрат. Появятся проблемы сточных вод и другие издержки сельского хозяйства, а также отходов промышленных предприятий и переработки древесины, увеличится загрязнение, связанное с жизнеобеспечением. Окружающая среда пострадает, если одновременно с новыми разработками не будут вводиться меры защиты от загрязнения и практика рационального использования земельных ресурсов.
Учитывая предстоящие затраты, в официальной программе развития Арктики особое внимание уделяется сбалансированному подходу. В 2006 г. Россия представила свой взгляд на устойчивое развитие в Арктическом совете. Эта политика и далее прорабатывается Министерством регионального развития.
У России также есть международные обязательства по защите качества воды и морской среды. Конвенция ООН по морскому праву включает обязательства по борьбе с источниками загрязнения на суше посредством принятия и исполнения национального законодательства. Развитие СМП связано с угрозой загрязнения от судов даже при нормальных условиях эксплуатации, не говоря уже о катастрофах.
В Конвенции ООН по морскому праву детально проработан вопрос ответственности в сфере борьбы с загрязнением от судов. Прибрежным государствам предоставлены широкие полномочия по применению недискриминационных и научно обоснованных стандартов в покрытых льдом районах соответствующих ИЭЗ для защиты морской среды. Более того, Россия взяла на себя обязательство регулировать использование СМП, а ее морская политика официально признает «общепринятые нормы международного права и международные договора Российской Федерации в осуществлении морской деятельности».
Внешняя политика России направлена на признание Арктики зоной мира и сотрудничества. Этот принцип включен в двусторонние соглашения о границе с США и Норвегией, в Илулиссатское соглашение между арктическими государствами, в приложение Конвенции ООН по морскому праву, в документы Арктического совета, Международной морской организации (ММО) и других международных организаций.
С ростом морской торговли Россия будет проявлять все больший интерес к поддержанию свободы навигации на мировом уровне и обеспечению безопасности своих прибрежных вод. Продвижению российских геополитических интересов в Арктике будет способствовать стратегия расширения ее возможностей как морской державы посредством участия в Арктическом морском партнерстве, включающем единые нормы и принципы безопасности, науки, обмена информацией, разработки океанических ресурсов, защиты и сохранения окружающей среды. Такое партнерство подразумевает взаимовыгодное морское сотрудничество и способствует тому, чтобы географическая ось Арктики стала зоной мирной кооперации, не позволяя зоне конфликта сместиться с юга и запада Евразии на север.
Элементы такого партнерства включают:
Укрепление верховенства права. Россия и США должны показать пример соблюдения правовых норм в Арктике. Москве следует наконец ратифицировать соглашение о морской границе с Соединенными Штатами, а США – присоединиться к Конвенции ООН по морскому праву. Твердая приверженность единому пониманию Конвенции по морскому праву поможет арктическим государствам разрешить спорные вопросы и ввести нормы управления территорией Арктики, которые будут приняты другими странами, заинтересованными в арктическом транзите, освоении ресурсов и проведении научных исследований.
Надзор за деятельностью и политикой в Арктике. Арктический совет необходимо рассматривать как основной форум для обсуждения вопросов политики в Арктике, даже если определенные действия проводятся в соответствии с полномочиями и под надзором других организаций (например, переговоры по кодам конструкции арктических судов в ММО).
Военное сотрудничество и действия в чрезвычайных ситуациях. Повышение оперативности всех арктических стран на случай стихийных бедствий и техногенных катастроф. Нет нужды, чтобы у каждого государства имелся весь спектр судов, самолетов, спутников и станций наблюдения, а также спасательного оборудования. Обмен информацией об имеющихся средствах, совместное планирование и подготовка операций принесет пользу всем арктическим странам, обеспечив взаимопомощь и взаимодействие.
Морская безопасность и согласование действий. Арктические государства во главе с Россией и Соединенными Штатами должны быть готовы к чрезвычайным ситуациям в море – от поисково-спасательных операций до крупных катастроф, включая повреждение судна и разлив нефти. Лидерство арктических государств в ММО поможет избежать разнобоя в судовых конструкциях, а порой явного несоответствия в применении норм использования трансарктических судов. При этом сотрудничество в сфере регионального рыболовства обеспечит устойчивый промысел и позволит избежать сверхнормативного вылова. Соглашение между Россией и США о разделении трафика и мониторинге в Беринговом проливе является важным шагом в обеспечении безопасности в Арктике.
Обмен информацией. Поддержание морской безопасности. Управление ресурсами и защита морской экологии посредством сбора, анализа и открытия доступа к точной своевременной информации, касающейся деятельности человека, состояния океана, ледового покрова и климата. Совместное наблюдение и слежение за кораблями и самолетами, их идентификация (особенно не принадлежащих арктическим государствам) будут необходимы для достижения максимальной эффективности ограниченных средств мониторинга в Арктике.
Наука об Арктике. Проведение исследований всеми заинтересованными сторонами и обмен результатами будет только приветствоваться. Прибрежные государства должны облегчить процедуру апробации иностранных научных исследований в пределах их ИЭЗ, обеспечивая взаимодействие и обмен данными. Успешные полярные научные программы многостороннего характера заслуживают поддержки из национальных источников, им следует обеспечить доступ к данным, не касающимся безопасности и коммерческой тайны.
Интерес к Арктике неарктических стран. Привлечение всех сторон к дискуссиям, касающимся их интересов в Арктике. Неарктические страны могут иметь свои интересы, они имеют право бороздить арктические воды. В то же время коренные народы заинтересованы в сохранении и развитии своей культуры, занимаясь традиционными промыслами, торговлей и хозяйственной деятельностью, в частности теми ее видами, которые стали возможны благодаря потеплению в Арктике. Все имеют право на участие в мероприятиях по регулированию деятельности в Арктике, если это затрагивает их существенные интересы, не только в рамках Арктического совета, но и в других организациях и в соответствии с другими соглашениями, касающимися Арктики.
Заключение
Старая геостратегия взятия в кольцо и сдерживания России ушла в прошлое. В XXI веке новое геополитическое видение России позволяет ей занимать достойное место не в качестве изолированного материкового государства, а в ряду других морских держав, которые черпают ресурсы на побережье Северного Ледовитого океана и в огромном арктическом бассейне. К середине века Северный морской путь, вероятно, станет регулярным судоходным маршрутом, вначале сезонным и требующим использования ледоколов, но, возможно, постепенно расширяющимся по мере изменения климатических условий.
Открытие в XXI веке доступа к Арктике позволит России развиваться и расти в качестве морской державы, вначале только региональной – на Севере, но затем ее влияние может распространиться везде, куда торговый флот доставляет российские товары и откуда он возвращается с иностранной продукцией.
Подобное превращение грозной сухопутной державы Маккиндера и Спайкмена в одну из первоклассных морских держав потребует объединенных усилий. Тем самым произойдет встраивание новой, «морской» России в систему сотрудничества и партнерства с другими океанскими странами. Приверженность правовым нормам, обмен информацией, совместные операции по обеспечению безопасности и сотрудничество в разработке политики позволят сохранить Арктику как регион мира даже в условиях необходимости поддержания прибрежными государствами своих военно-морских сил и обеспечения своих прав в регионе.
Вокруг этой новой «географической оси» XXI века не избежать конфликтов, но приверженность нормам международного права и уважение суверенитета прибрежных и отдаленных государств сделают конфликты скорее политическими, чем военными. В отличие от «Большой игры» в азиатской геополитике XIX века, а также противостояния центральной части Евразийского континента периферии в XX веке, сегодня формируется институциональная база конструктивного сотрудничества. Конвенция по морскому праву, Илулиссатская декларация и Арктический совет заложили основы для мирного развития морских путей в Арктике и признания прав прибрежных держав на использование, разработку и защиту органических и минеральных ресурсов в арктических морях и на их дне. Для вящей пользы региона в отношениях между арктическими государствами сотрудничество должно преобладать над конфронтацией, а морскую политику следует основывать на Арктическом морском партнерстве.

Как озарение открыло путь к Хельсинкскому акту
Очерк об интуиции
Юрий Дубинин – заместитель министра иностранных дел РФ (1994–1999 гг.), заслуженный работник дипломатической службы РФ, профессор МГИМО (У) МИД России, член Союза писателей России, член научно-консультативного совета журнала «Россия в глобальной политике».
Резюме Классический путь решения возникающих в дипломатической практике проблем может состоять из суммы хорошо известных операций.
Классический путь решения возникающих в дипломатической практике проблем может состоять из суммы хорошо известных операций. Нужно собрать побольше информации, проверить и перепроверить ее, затем как можно глубже ее проанализировать. Спрогнозировать возможное развитие событий. На основании всего этого рассчитать один или несколько вариантов действий и… действовать. Вопрос только в том, охватывает ли это всю сложность обстоятельств, с которыми приходится сталкиваться дипломату? Думается, что ответ будет отрицательным. Что же тогда? Посмотрим, что на этот счет пишет такой корифей дипломатии как Андрей Андреевич Громыко.
«На любой встрече, – читаем мы, – многосторонней или двусторонней, играет свою роль и такой старый, незримо присутствующий “советник”, как политическая интуиция. А ее нельзя облечь ни в какие строгие формулы. Профессиональная подготовка и опыт – друзья интуиции.
В известном смысле это качество является таинственным, подобным тому, которое присутствует в работе, скажем, художника или человека, занимающегося любой другой творческой деятельностью. Казалось бы, люди одной творческой профессии делают в определенном смысле одно и то же: рисуют, ваяют, пишут, а результаты у них получаются разные. У одного – заслуживающие восхищения, у другого – “не ахти”. А то и скверные».
В словаре русского языка насчет интуиции сказано: «Безотчетное, стихийное, непосредственное чувство, основанное на предшествующем опыте и подсказывающее правильное понимание».
Казалось бы, остается после этого рассказать, как ее, интуицию, применять, и это оружие дипломата можно будет пускать, как говорится, на поток. Но тут может возникнуть загвоздка, потому что даже люди, познавшие блага интуиции, скорее всего, о своем опыте будут говорить совсем по-разному, потому что интуиция – качество очень персональное. И мы поэтому позволим себе в этом очерке сделать акцент на примере из собственного опыта.
Дело было в 1975 г. при подготовке Хельсинкского заключительного акта. Проект документа готовился в Женеве, и последней из крупных проблем, стоявших на пути его одобрения перед передачей на подпись руководителям государств-участников на встрече в Хельсинки, была кипрская.
Суть дела заключалась в том, что в конце марта 1975 г., то есть когда после почти двухлетней работы подготовка проекта Заключительного акта в Женеве была близка к завершению, делегация Турции поставила под сомнение правомочность кипрской делегации представлять Республику Кипр на совещании. Свою позицию Турция аргументировала тем, что эта делегация представляет не государство Кипр, а только греческую общину. Из такой посылки делался вывод, что нельзя обойти молчанием серьезную проблему возможного незаконного участия руководителей греческой кипр-ской общины или их представителей на встрече глав государств и правительств в Хельсинки. При этом подчеркивалось, что «если не в самое ближайшее время, то по крайней мере до окончания женевского этапа совещания должны быть приняты во внимание в интересах успешного завершения нашей работы серьезные осложнения, созданные этой проблемой».
Редакция журнала "Россия в глобальной политике" сердечно поздравляет постоянного автора и давнего друга нашего журнала Юрия Владимировича Дубинина с 80-летием и желает ему крепкого здоровья и продолжения активной деятельности на благо российской дипломатии.
Диспозиция, таким образом, была развернута. Речь шла о том, что Турция будет возражать против участия президента Кипра архиепископа Макариоса в работе третьего, основного, этапа совещания в Хельсинки, и этот вопрос Анкара предлагала рассмотреть и принять по нему решение до окончания женевского этапа, ставя в зависимость от этого одобрение проекта Заключительного акта. Вместе с тем Макариос твердо решил участвовать в работе встречи в Хельсинки лично. Делегация Греции со всей энергией поддерживала Кипр.
Кости, как говорится, были брошены. Совещание оказалось в деликатном положении. Конфликт нарастал и принимал затяжной характер. Без жарких схваток по этой проблеме не обходилось ни одно серьезное обсуждение, связанное с окончанием совещания. Причем каждая из сторон стремилась к принятию совещанием решения в ее пользу, но ни одна из попыток сформулировать какое-либо решение не проходила.
Наша делегация исходила из принципиальной позиции Советского Союза в пользу территориальной целостности и независимости Кипра, поддержки его законного правительства. Вопрос о представительстве Кипра мы считали искусственным, полагая, что его должно было решать само правительство Кипра. Позицию свою мы не скрывали, но стоило нам сказать хоть слово в этих дискуссиях, как число участвовавших в них незамедлительно расширялось за счет представителей какой-нибудь из натовских стран, что было делом привычным по тем временам. Развязки это не несло.
Напряжение достигло высшего пика, когда в ночь с 21 на 22 июля кресло председателя заседания занял автор данной работы. Мы вновь в который раз оказались лицом к лицу с кипрским вопросом. Время – далеко за полночь. Усталость делегаций очевидна. Но дискуссия вокруг этой проблемы вспыхивает с той же силой, как десять, двадцать, множество раз до этого.
Представитель Турции... Представитель Кипра... Представитель Греции... Кто-то еще. Не может, не должно быть даже попыток приостановить эту столь обычную перепалку. Любая такая попытка председателя вызовет удар по нему со стороны той делегации, которая сочтет себя ущемленной. Я ограничиваюсь стандартными фразами: «слово предоставляется уважаемому представителю...», «благодарю уважаемого представителя...» и т. д. В то же время у меня нарастает напряжение: рано или поздно все желающие выговорятся. Воцарится молчание. У всех в который раз возникнет вопрос: «А как же быть? Где развязка? Где выход из тупика, блокирующего окончание работы?»
Хорошо, если кто-нибудь вдруг предложит проект решения (наконец-то), с которым согласятся конфликтующие стороны. Но почему такое должно случиться в эту ночь, если не случилось в течение многих предшествующих месяцев работы? Надежды никакой.
Скорее всего, в той тишине, которая последует за схваткой, взоры всех устремятся на председателя, ожидая, что, может быть, избавление придет от него. Но у меня нет никаких заготовок. Потому что ни наша делегация, никто другой так и не смогли придумать ничего, дающего выход. Я жадно вслушиваюсь в перебранку делегатов в расчете уловить хоть какой-то новый поворот мысли, какой-то сигнал, ухватившись за который, можно было бы составить какой-нибудь текст, способный получить консенсус, то есть одобрение. Но ничего подобного не происходит. Известные непримиримые позиции. Все тот же набор аргументов. Ситуация, которая рискует через какое-то время превратиться в стандартный эпилог: «никакого решения не найдено, вопрос остается в повестке дня, следующее заседание состоится»... И тогда опять конца совещания не видно. Печально. С этим не хочется мириться...
И вот наступает тишина. Оглядываю зал. Никто больше не просит слова. Предложений тоже нет. Объявить перерыв? Скажем, минут на тридцать. Но на часах начало четвертого утра. Делать подобное предложение в таких условиях было бы обоснованно только тогда, когда есть надежда, что перерыв что-то принесет. Но откуда она, эта надежда? Нет, лучше постараться разрубить узел сходу. Пусть даже необычным способом.
Пододвигаю микрофон.
(Видимо, в этот момент и вступает в действие интуиция.)
Говорю:
– Уважаемые коллеги. Все вы слышали всё, что здесь только что было сказано.
Пауза. Тишина. Кто же с этим не согласится?
Эта фраза становится как бы констатирующей частью решения.
Продолжаю:
– Предлагаю перейти к следующему пункту повестки дня.
Это, как предполагается, должно стать резолютивной частью решения. Дело в том, что принятие в подобных условиях решения о переходе к следующему вопросу означает, что рассматриваемый вопрос повестки дня (в данном случае кипрский) совещание считает исчерпанным и закрывает его.
Председательский молоток уже занесен на виду у всех.
Я опускаю его через несколько секунд, потребовавшихся для того, чтобы мои слова были переведены синхронными переводчиками.
Полная тишина в зале сменяется нарастающим шумом. Застывшие было делегаты приходят в движение.
Я еще в напряжении. Нет ли поднятой руки с протестом против такого решения, вернее, против такой развязки остроконфликтной ситуации, не оспаривает ли кто, что консенсус был и решение принято?
Нет, гул в зале – это гул одобрения. Решение принято! Решение устное, не формализованное в каком-либо тексте, но решение, поскольку никто не возразил против того, чтобы кипрский вопрос на совещании был закрыт.
Что оно означало, это решение? Прежде всего то, что попытки Турции помешать поездке законного руководителя Кипра в Хельсинки для подписания Заключительного акта были отклонены. Путь в Хельсинки для архиепископа Макариуса был открыт. Крайне важным было и то, что тем самым решен последний спорный вопрос, и последнее препятствие к принятию проекта Хельсинкского Заключительного акта устранено. Воспользовавшись этим, я сразу же предложил одобрить документ и тем самым открыть путь в Хельсинки политическим руководителям государств – участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Таким образом, интуиция, то есть то самое безотчетное чувство, способное подсказывать правильное решение, или, применяя терминологию Громыко, «незримо присутствующий “советник”» – сработала.
Выходим из зала заседаний в фойе. То самое, где в течение стольких дней и ночей нас встречали многочисленные журналисты, жаждавшие сенсации, то есть долгожданной новости о завершении подготовительного этапа совещания и одобрении проекта Заключительного акта. Там пусто. Совсем разуверились. Потеряли надежду. Даже самые стойкие и прозорливые не думали, что эта ночь может стать последней в столь длительном и изнурительном дипломатическом состязании.
Но нет. Вот кто-то появляется из дальнего конца фойе. Протирая глаза, приближается ко мне.
– Ну как, Юрий Владимирович, когда следующее заседание?
Это наш! Женевский корреспондент агентства ТАСС. Он оказался самым упорным в мире! Какой молодец!
– Все кончилось, – отвечаю. – Теперь надо ехать в Хельсинки.
Не верит. Неуверенно уточняет:
– И об этом можно сообщить?
– Конечно, сообщайте. Я еду писать телеграмму в Москву.
Журналист исчезает. Итак, телеграфное агентство нашей страны оказалось не только первым, но и единственным обладателем информации, которая интересовала весь мир. В этой связи мне рассказали позже следующее. Мы уже знаем: высшее руководство вестей из Женевы ждало с нетерпением. Поэтому, как только сообщение ТАСС поступило в столицу, его немедленно доложили руководителю агентства с вопросом, как им распорядиться. Это означало прежде всего – как доложить Брежневу, ну и, конечно, передавать ли на весь мир. Последовал вопрос: что сообщают другие агентства? Проверили. Оказалось – ничего.
– Так что же, есть только сообщение ТАСС?
– Да, только это.
Случай был столь необычным, что последовало указание: проверить в МИДе правильность информации. Действовать только после этого. Но это к слову. Женевский корреспондент ТАСС был награжден орденом.
Вернемся, однако, в Женеву. Быстро попрощавшись с коллегами, мы спешим в представительство. Шифровальщик обычно ждал возвращения делегации. Я написал краткую телеграмму: 21 июля в 3 часа 45 минут второй этап Общеевропейского совещания завершил свою работу. Подумав, добавил: под председательством делегации СССР. Какую же поставить подпись? Формально руководство делегацией уже поручено мне, но Анатолий Гаврилович Ковалев еще в Женеве. Будить его не хотелось. Зачем? Поставил подпись: А. Ковалев. Сказал, чтобы отправили немедленно.
Захваченный с заседания председательский молоток остался лежать на столе рабочего кабинета.
Утром нам предстояло проводить Ковалева в аэропорту, а пока мы отправились к себе передохнуть.
Я, конечно, не мог предполагать, что всего через несколько часов достигнутые столь необычным путем ночные договоренности будут подвергнуты серьезнейшему испытанию на прочность. Произошло это так.
За завтраком я рассказал Ковалеву о нашей бурной ночи. Вижу, что это произвело на него очень сильное впечатление. Однако от оценок он воздержался. Почему? Это стало ясно через несколько лет, когда в своих воспоминаниях Ковалев сделал попытку подретушировать историю и написал, будто то самое заседание, о котором я ему говорил утром 21 июля, проходило не под нашим председательством, а под председательством… Швейцарии!? Зачем же так? Но ведь проспал! Проспал звездный час одобрения проекта Заключительного акта. Впрочем, проспал ли?
Разве можно с уверенностью сказать, что, окажись он в ту ночь на председательском кресле, его тоже посетила бы интуиция?..
Итак, после завтрака, проводив Ковалева в Москву, все мы, члены делегации, прямо из аэропорта заехали в представительство. Нам оставалось сделать в Женеве совсем немного: отправить телеграмму с более развернутым, чем это было сделано мною ночью, изложением последних событий, собраться, дождаться спецсамолета, который должен был прибыть за нами, и, как говорится, снять лагерь. По дороге из аэропорта я обратил внимание на то, что, оказывается, стояла превосходная летняя погода и, как мне казалось, можно было, наконец, расслабиться.
Однако, едва члены делегации расселись за столом, как заговорил Лев Менделевич. О прошедшей ночи и баталии вокруг кипрского вопроса.
– Чем больше я думаю, – заявил он, обращаясь ко мне, – тем больше утверждаюсь во мнении, что в итоге вчерашнего обсуждения можно было найти и провести решение, в большей степени благоприятствующее Кипру.
Вот так сюрприз! Женевский этап совещания окончен, проект Заключительного акта одобрен. В столицах несомненное удовлетворение. Об этом через час-другой зашумит печать всего мира. Делегации собирают чемоданы. И вдруг такое заявление! И даже больше, чем заявление: поставлен вопрос о том, что мы, а точнее говоря, я, не все сделал для государства нам дружественного, позиции которого мы должны были всемерно поддерживать.
Как быть? Мои коллеги опустили головы. Отвечать надлежит мне. Председателем был я и за главу делегации СССР остался я. Деваться некуда. Но что ответить?
Можно было сказать, что успех совещания даст столь положительный эффект, что это сгладит сложности всех проблем, в том числе и кипрской. Но это Лев Исаакович знает и сам.
Или сказать, что мы же все, в том числе и вы, Лев Исаакович, были там вместе. Что же размахивать-то кулаками после драки.
Но это значило бы открыто высказать сомнение в искренности Менделевича, заявить о подозрении в том, что, ставя этот вопрос, он ищет чего-то иного, нежели наилучшего результата для нашей дипломатии. Нет, это не годилось. Лев Исаакович – дипломат с огромным опытом. В Женеве он вынес на своих плечах основную тяжесть разработки принципов взаимоотношений между государствами – участниками совещания. И, наконец, он был ответственным за кипрский вопрос. Не годятся все эти варианты. Вместе с тем ясно, что если я не приму брошенный вызов и не найду на него ответа, то никто не сможет гарантировать, что на другой же день после возвращения делегации в Москву в коридорах МИДа, да и не только МИДа, не пойдут гулять слухи. Все, мол, хорошо, но Дубинин не сумел воспользоваться возможностью и упустил случай помочь нашим киприотским друзьям, а жаль, дескать, очень жаль… Иди, лови эти слухи, эти вздохи, оправдывайся… Вообще-то в сравнении с достигнутым успехом и на фоне всей известной читателю ситуации такие чувства, такие рассуждения очень серьезными не назовешь, но, увы, дипломаты остаются людьми. Не получалось, даже чисто по-человечески не выходило, как говорится, проглотить укор, к тому же сделанный прилюдно.
– Хорошо, – говорю. – Заседание позади, и совещание закрыто. Но одна зацепка для продолжения действий здесь, в Женеве, все-таки еще остается.
Поясняю.
– Она, эта зацепка, в том, что я, как председатель заседания, еще не подписал его протокол.
Действительно, практика предусматривала такую формальность, как подписание председателем протокола заседания. Это была именно формальность, так как в протокол вносился минимум сведений о заседании и его решениях и, насколько я помню, никогда никаких проблем с этой операцией на совещании не возникало. Да об этом правиле мало кто вообще и помнил. Но в то же время, говоря строго юридически, до тех пор, пока протокол не подписан, председатель мог ставить вопрос о том, что заседание не закрыто, и поднимать вопрос о его возобновлении до истечения срока своих полномочий, то есть до полуночи, когда происходила смена председателей.
– Так вот, – продолжаю я, – опираясь на эту формальность, я могу постараться возобновить заседание где-то во второй половине дня, но для этого надо иметь хоть какую-то минимальную уверенность, что подобная экстравагантность может быть оправдана.
Я вижу, что этот разговор рассеял усталость моих коллег.
– Для этого, Лев Исаакович, я предлагаю вам срочно встретиться с главой кипрской делегации заместителем министра иностранных дел Кипра Мавроматисом. Один на один. У вас с ним прекрасные доверительные отношения. Выясните у него, чего бы он хотел добиться. Дайте обещание, что наша делегация сделает все, чтобы помочь достичь того, чего он пожелает в сложившейся ситуации. Я же назначу на несколько более поздний час встречу с главой делегации Турции, послом Бенлером (у меня с ним были хорошие отношения) с тем, чтобы еще до заседания, которое я постараюсь возобновить, обсудить возможные варианты.
Дерзкий это был ход. Подобный внезапному удару фехтовальщика, не без риска для него самого. Но другого выхода не было. Я предложил членам делегации высказаться по предложенному плану. Все согласились. Мы разошлись в ожидании новостей после разговора Менделевича с Мавроматисом. Заключительную телеграмму, стало быть, писать было рановато.
Прошла пара долгих часов. Наконец, последовал сигнал: Мавроматис, приглашенный Менделевичем к нам в представительство, уехал. Мы снова все вместе в кабинете. Все внимание к тому, что скажет Лев Исаакович. Он смущен.
– Мы говорили откровенно, – произносит он подавленным голосом, – с разных сторон анализировали обстановку. Говорили долго. Мавроматис сказал в завершение: «Исход вчерашнего заседания – наилучший из всех вариантов для Кипра, и ничего другого делать больше не следует».
Мудрый человек Мавроматис! Я даю отбой встрече с послом Турции. Гора с плеч!
Подсказанное интуицией решение экзамен выдержало!
Я отправляю телеграмму в Москву, не отягощая ее подробностями. Расходимся. Время запаковать и памятный председательский молоток. Но куда он запропастился? Не могу найти. Спрашиваю нашего ответственного секретаря, не видел ли он его. Тот, смешавшись, приносит молоток из своего кабинета. Сконфуженно объясняет, что, дескать, у него были свои планы насчет этого сувенира. Все бывает. Молоток этот долго пылился в моем кабинете и вызывал немалое любопытство внука, который норовил использовать его по прямому, как он думал, назначению: забить им гвоздь. Сейчас этот деревянный молоток хранится в музее Министерства иностранных дел.
Самолет уносит нас на родину.
Думается, что о таинствах интуиции наука сказала еще не все. Однако представляется бесспорным, что для дипломатического искусства, как, видимо, и для любого другого, это качество ума – не только эффективное оружие, но и путь к вдохновению.

Aфинский краш-тест
Еврозона на виражах кризиса
О.В. Буторина – д. э. н., профессор, заведующая кафедрой европейской интеграции, советник ректора МГИМО (У) МИД России, член научно-консультативного совета журнала «Россия в глобальной политике».
Резюме Греческий кризис спровоцировал очередную волну спекуляций относительно распада зоны евро. В прессе заговорили о необходимости очистить валютный союз от слабых стран и собрать его заново из стран «твердого ядра». Но гипотетический распад зоны евро вызвал бы дезинтеграцию ее финансовых рынков.
25 марта 2010 г. на саммите Европейского союза в Брюсселе главы государств и правительств одобрили план спасения Греции от дефолта, разработанный накануне канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Николя Саркози. Две трети необходимой суммы страна получит в виде кредита от 15 других участников зоны евро и одну треть – от Международного валютного фонда (МВФ).
Прошлый год был для экономики ЕС самым тяжелым со времен Великой депрессии: совокупный ВВП упал на 4 %, а безработица выросла на треть. Когда острая фаза кризиса миновала, Евросоюз постигла новая беда. Избранное осенью новое социалистическое правительство Греции объявило, что его предшественники осуществляли махинации с государственными финансами. Страна незаметно набрала долгов на 300 млрд евро, из которых 53 млрд надлежало выплатить в 2010 г., в том числе 23 млрд евро в апреле – мае. По итогам 2009 г. дефицит госбюджета Греции составил 12,7 % ВВП вместо запланированных 7,7 %.
Новость повергла в шок партнеров по Европейскому союзу и вызвала переполох на рынках. С декабря курс евро пошел вниз, а ставки по греческим десятилетним государственным облигациям стали угрожающе подниматься. 11 февраля создавшаяся ситуация обсуждалось на заседании Совета ЕС на уровне министров экономики и финансов. Согласно утвержденному графику, до конца 2010 г. Афины обязались сократить дефицит госбюджета до 8,7 % ВВП, а в 2012 г. – до 3 % ВВП. Уже 15 мая Греция доложит Совету о выполнении первой части реформ, которая включает в себя повышение акцизов, сокращение доплат госслужащим и замораживание пенсий. Впоследствии подобные отчеты станут ежеквартальными.
На двенадцатом году эксплуатации единая европейская валюта прошла первый краш-тест. Его общий итог положителен, но полученные оценки невысоки. В ближайшее время Брюсселю и Франкфурту предстоит всерьез поработать над улучшением конструкции Экономического и валютного союза (ЭВС).
НЕРАДИВЫЕ ДОЛЖНИКИ И БЛАГОРОДНЫЕ ДЕБИТОРЫ
По итогам прошлого года бюджетный дефицит составил 6 % по Евросоюзу и 7 % по зоне евро. Только шесть стран из 27 – Болгария, Дания, Люксембург, Финляндия, Швеция и Эстония – соблюдали Пакт стабильности и роста, то есть имели дефицит менее 3 % ВВП. Двенадцать стран превышали этот потолок вдвое, а в четырех государствах – Великобритании, Ирландии, Испании и Латвии – дефицит составлял 10 % ВВП и более (рис. 1).
Рис. 1. Баланс государственного бюджета стран ЕС, США и Японии в 2009 г.
\"\"
Источники: Европейская комиссия, МВФ
После того как греческая история получила огласку, желтая пресса пустила в оборот аббревиатуру PIGS (по-английски «свиньи»). Ею стали обозначать четыре страны еврозоны с наибольшими финансовыми проблемами – Португалию, Ирландию, Грецию и Испанию. Не слишком политкорректное название понравилось аналитикам и даже серьезным ученым. Некоторые добавляли к нему вторую букву I, имея в виду Италию.
Известный американский экономист, профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини опубликовал в феврале статью «Teaching PIIGS to fly» («Научить СВИИНей летать»). В ней доказывалось, что Европейский союз не должен спасать Грецию, так как это вызовет эффект домино: зная о поддержке Брюсселя, правительства других стран еврозоны потеряют стимулы к проведению болезненных структурных реформ. По мнению Рубини, только кредит МВФ, выданный на условиях обязательной макроэкономической стабилизации, способен сделать невозможное – научить страны – члены ЕС бюджетной дисциплине. О том, что дефицит госбюджета США составил в 2009 г. 12,5 % ВВП, а в текущем году запланирован на уровне 10 % ВВП, в статье почему-то не упоминалось.
Ярлык отстающих и нерадивых приклеился к странам Южной Европы и Ирландии в 1990-х гг. Греция, Ирландия, Испания, Португалия и Италия долгое время были главными получателями средств из созданного в 1994 г. Фонда сплочения. По линии этого бюджетного инструмента Евросоюз оказывал помощь беднейшим государствам-членам. Итальянская лира, испанская песета, греческая драхма и ирландский фунт стали легкой добычей спекулянтов в 1992–1993 гг. Тогда они были девальвированы по отношению к немецкой марке и покинули механизм совместного плавания европейских валют. Правда, компанию им составили фунт стерлингов и шведская крона. Но об этом сегодня мало вспоминают. А напрасно.
Если Швеция смогла удержать государственные финансы в относительном порядке даже в кризис (в 2009 г. дефицит и госдолг составили соответственно 2,2 % и 43 % ВВП), то Великобритания буквально на глазах увязает в долгах. В 2009/10 финансовом году ее дефицит равнялся 12,7 % ВВП, в следующем году он запланирован (только вдуматься!) на уровне 12,1 %, а в 2011/2012 г. – на уровне 9,2 % ВВП. Согласно правительственной программе, за шесть лет (с 2009 г. по 2015 г.) государственный долг вырастет с 56 % до 91 % ВВП. Как следствие, Великобритания попадет в число наиболее обремененных долгами стран Европейского союза – вместе с Бельгией, Грецией и Италией. Из них аббревиатура PIGS уже не сложится.
В марте Европейская комиссия провела ежегодную оценку национальных экономических программ. Как выяснилось, большинство правительств возлагают чрезмерные надежды на будущее оживление и плохо представляют себе, каких усилий потребует от них консолидация бюджетов. Олли Рен, член Еврокомиссии, отвечающий за экономические и финансовые вопросы, выступая на пресс-конференции по итогам инспекции, отметил, что «мировой экономический кризис оставил глубокий шрам на системе государственных финансов стран ЕС». К нулевому сальдо госбюджетов они смогут вернуться не ранее 2013 г. Но в 2012 г. общий госдолг составит уже 85 % союзного ВВП (по сравнению с 61 % в 2007 г.).
Фактически борьба за оздоровление государственных финансов, которую органы Евросоюза вели последние 15 лет после подписания Маастрихтского договора, пошла насмарку. Чтобы вернуть государственный долг на докризисный уровень, странам Европейского союза потребуется еще 15 лет. Насколько это будет актуально в 2025 г. и как к тому времени будет выглядеть мировая экономика, сказать трудно.
Нарастание госдолга опасно по нескольким причинам.
Во-первых, чем больше задолженность, тем дороже обходится ее обслуживание. Выплата процентов поглощает все большую долю государственных расходов, и с определенного момента долг начинает воспроизводить сам себя. Новые заимствования проводятся по все более высоким ставкам, иначе инвесторы не покупают облигации сильно задолжавших государств. Так, в марте 2010 г. доходность 10-летних государственных облигаций Германии была немногим более 3 % годовых, а греческих – 6–7 % годовых.
Во-вторых, увеличение процентных ставок по государственным облигациям стимулирует общий рост ставок в стране, то есть повышает стоимость заемного капитала для предприятий и таким образом тормозит экономический рост.
В-третьих, высокая доходность облигаций, имеющих почти нулевой риск, ведет к откачке средств из реального сектора. Вместо того чтобы строить новые предприятия (и создавать рабочие места), инвесторы вкладывают средства в государственные ценные бумаги.
Как ни парадоксально, введение евро стимулировало и будет стимулировать впредь бюджетную невоздержанность стран еврозоны. Масштаб использования валюты за рубежом, или степень ее интернационализации, напрямую зависит от того, как она выполняет функции денег на международных рынках. По своим качествам евро намного превосходит прежние европейские валюты, будь то немецкие марки, французские франки или тем более греческие драхмы и ирландские фунты. Финансовый рынок зоны евро обладает гораздо большей глубиной и ликвидностью, чем прежние национальные рынки. Отсюда и высокий спрос на номинированные в евро активы, в том числе со стороны нерезидентов. На конец 2008 г. сумма непогашенных долговых обязательств, выпущенных резидентами зоны евро, составляла около 15 трлн евро, из них 2 трлн находились в руках нерезидентов.
ВЕТХИЙ ПАКТ И НОВЫЙ ФОНД
Маастрихтский договор 1992 г., который составил правовую базу будущего Экономического и валютного союза, предписывал странам – членам Европейского союза должны иметь нулевое или положительное сальдо госбюджета. В исключительных случаях допускался дефицит в размере до 3 % ВВП. Государства с большим дефицитом не могли вступить в валютный союз. Однако договор не предусматривал никакого механизма на случай, если страна будет нарушать бюджетный норматив уже после вхождения в зону евро. Это обстоятельство крайне беспокоило Германию, положившую почти полвека на то, чтобы сделать немецкую марку одной из самых устойчивых валют в мире. Немцы справедливо опасались, что крупный бюджетный дефицит отдельных стран еврозоны (в первую очередь имелась в виду Италия) будет стимулировать инфляцию и потому подрывать позиции единой валюты.
Осенью 1994 г. по инициативе тогдашнего министра финансов Германии Тео Вайгеля между странами Европейского союза начались консультации о заключении Пакта стабильности. После длительных и напряженных переговоров этот документ был подписан на сессии Европейского совета в Амстердаме в октябре 1997 г. Уже тогда к его названию было добавлено слово «рост». Фактически пакт состоит из двух регламентов Совета ЕС – о контроле за состоянием госбюджетов и о противодействии сверхнормативному дефициту. Они вводят процедуры мониторинга, разбирательства и наложения санкций. В их числе – приостановка выпуска государственных облигаций, прекращение выдачи займов Европейского инвестиционного банка, создание беспроцентного депозита в размере до 0,5 % национального ВВП и обращение его в штраф.
За первые четыре года функционирования евро 3-процентный норматив госбюджета нарушали Греция, Ирландия, Люксембург, Португалия и Финляндия. Против этих стран Еврокомиссия и Совет принимали предусмотренные меры морального давления и вынуждали правительства сокращать расходы. Правда, до штрафа дело ни разу не доходило. Ситуация в корне изменилась, когда с 2002 г. пакт стали нарушать Германия и Франция. В 2003 г. Европейская комиссия вынесла в их адрес обвинительный вердикт, однако следующая инстанция – Совет – отказалась его верифицировать. Министры финансов, входящие в Совет Экофин, не смогли поднять руку на «старших братьев».
Именно тогда Пакт стабильности и роста дал первую трещину. Чувство солидарности взяло у министров верх над ответственностью. Не желая наказывать VIP-нарушителей, они спровоцировали сразу два нежелательных тренда. Во-первых, остальные страны убедились в том, что бюджетную дисциплину можно нарушать. Во-вторых, стало ясно, что две части ЭВС – общая экономическая политика (за которую отвечает Совет) и единая денежно-кредитная политика (которую проводит Европейский центральный банк, ЕЦБ) – на самом деле связаны гораздо хуже, чем это представлялось ранее. Разрешив Германии и Франции иметь сверхнормативный дефицит, Совет фактически показал, что его не интересует, как в таких условиях ЕЦБ будет выполнять свою главную задачу – поддерживать стабильность цен в зоне евро.
Раздосадованная Еврокомиссия подала на Совет иск в Суд ЕС. Суд признал правоту истца и принудил Совет начать рассмотрение дела заново. Тем временем Германия и Франция уже развернули активную кампанию за изменение пакта. Их главным лозунгом стала борьба за экономический рост, которому якобы мешали жесткие бюджетные рамки. Правительство Германии, потратившее гигантские средства на объединение страны и модернизацию восточных земель, сетовало на нехватку средств для структурной перестройки и вложений в НИОКР.
Весной 2005 г. сессия Европейского совета одобрила реформу пакта, в результате которой он был смягчен до такой степени, что фактически перестал действовать. ЕЦБ и Бундесбанк подвергли реформу жесточайшей критике, но к их мнению в Брюсселе не прислушались. Как показала практика, Европейский центральный банк был прав: реформа пакта ухудшила условия для достижения странами – членами Евросоюза долгосрочной макроэкономической стабильности.
Когда выяснилось, что Греции нечем платить по истекавшим в первой половине 2010 г. кредитам, в Европейском союзе на разных уровнях стали обсуждать пути выхода из ситуации. Вариант оставить Афины на произвол судьбы не рассматривался уже потому, что Договор о Европейском союзе предусматривает коллективную ответственность за проводимую государствами-членами экономическую политику. Взять средства из бюджета ЕС невозможно, поскольку его многолетняя финансовая программа сверстана до 2013 г. включительно и подобной статьи в ней нет. Брать деньги у немецких налогоплательщиков (что в конце концов и произошло) представлялось делом несправедливым и политически рискованным. Что касается МВФ, то одни считали его механизм наиболее эффективным, а другие были против вмешательства фонда в экономическую политику Евросоюза.
На этом фоне неожиданно прозвучала идея создания Европейского валютного фонда. Его главной целью должно было стать снижение системного риска в рамках финансовой системы Европейского союза, предотвращение или организация планового дефолта страны-банкрота. Директор брюссельского Центра европейских политических исследований Даниэль Грос предложил, чтобы средства фонда складывались из отчислений стран, имеющих сверхнормативный дефицит государственного бюджета и государственный долг, превышающий 60 % ВВП. По его расчетам, если бы такая схема действовала с момента введения евро, капитал фонда уже составил бы 120 млрд евро. Этой суммы вполне достаточно, чтобы справиться с проблемной ситуацией в небольшой стране.
Однако интерес к предложению продержался недолго. В Европейском союзе уже есть несколько структурных фондов (социальный, региональный и два сельскохозяйственных), а также вышеупомянутый Фонд сплочения. Сравнительно недавно создан Фонд солидарности для оказания помощи при стихийных бедствиях. Действуют Европейский инвестиционный банк и Европейский инвестиционный фонд. Появление нового института, имеющего полномочия в столь деликатной сфере, неизбежно поставило бы вопрос о том, кто и каким образом будет принимать решения о выделении средств стране-должнику. Между тем напряжение между отдельными центрами принятия решений – Еврокомиссией, Советом, ЕЦБ и главами государств – и без того уже достигло высокого градуса. В период, когда на политической сцене ЕС возникли две новые важные фигуры – председатель Европейского Совета и глава внешнеполитического ведомства, подобный шаг привел бы к еще большей сумятице.
Перебрав все варианты, руководители Евросоюза возвращаются к старому доброму Пакту стабильности и роста. Председатель Европейской комиссии, президент ЕЦБ и главы ведущих государств в один голос заявляют о высокой ответственности правительств за состояние госбюджетов, об их обязанности проводить структурные реформы и поддерживать конкурентоспособность национальных экономик. Непонятно только одно: как реанимировать пакт после реформы 2005 г. Ни Совет, ни ЕЦБ на это не способны. Если чудо произойдет, то его генератором станет Еврокомиссия или, как в случае с Грецией, узкая группа стран, несущих главную ответственность за судьбы Европейского союза.
ВОСПИТЫВАТЬ, НО НЕ ИСКЛЮЧАТЬ
Греческая история спровоцировала очередную волну спекуляций относительно распада зоны евро. В прессе заговорили о необходимости очистить валютный союз от слабых стран и собрать его заново из стран «твердого ядра». Эту позицию разделяли некоторые влиятельные эксперты, к примеру упомянутый Даниэль Грос. Он недвусмысленно предлагал, чтобы страна, не выполняющая требований Европейского валютного фонда и отказывающаяся покинуть Европейский союз, была «эффективно выброшена на основании статьи 60 Венской конвенции о международных договорах или статьи 7 Лиссабонского договора». Эмоциональный запал этого пассажа можно понять и принять. Его практическое наполнение требует предметного рассмотрения.
Что значило бы для страны исключение из зоны евро? Во-первых, обратное введение прежней национальной денежной единицы. То есть физическое изготовление огромного количества банкнот и монет, образцы которых сохранились разве что в коллекциях. Мероприятие обойдется в круглую сумму и займет несколько месяцев. Для населения придется снова проводить информационную кампанию, расклеивать агитационные плакаты и показывать рекламные ролики. Предстоит заменить либо переоборудовать все банкоматы, а также автоматы по продаже напитков, закусок, транспортных карт и т. п. В любом случае такой переход потребует на подготовку не менее года-двух.
Во-вторых, необходимо снова установить курс национальной валюты к евро. Если страну подвергли санкциям, значит, ее экономика находится в худшем состоянии, чем при вхождении в зону евро. То есть прежний курс не подходит. Вычислить новый, пониженный, курс и доказать его обоснованность населению и рынкам будет крайне трудно. Психологический фактор все равно возьмет свое.
В-третьих, после гипотетического возврата к национальной валюте государству, компаниям и физическим лицам придется выплачивать полученные ранее кредиты в евро. При пониженном курсе национальных денег это приведет к большим дополнительным расходам. Ставки по государственным облигациям неминуемо пойдут вверх, что будет сдерживать экономическую активность и стимулировать отток капитала в другие страны – члены Европейского союза. Местным компаниям, которые теперь осуществляют примерно половину внешнеторговых расчетов в своей валюте (евро), предстоит снова нести валютные риски по всему спектру экспортно-импортных операций. Ведь контракты в греческих драхмах или португальских эскудо практически не заключались. Так выглядит минимальный набор «приобретений» государства-расстриги. О моральном ущербе и снижении международного статуса говорить не приходится.
Наихудшие последствия возникли бы для остальных государств зоны евро и ЕС. Возможность выхода из валютного союза слабых стран была бы расценена рынками как сигнал к началу охоты. Наверняка повторился бы сценарий 1992 г., когда операторы восприняли отказ миниатюрной Дании ратифицировать Маастрихтский договор как признак разбалансировки Европейской валютной системы. За несколько недель массированных спекуляций было обрушено семь европейских валют, включая фунт стерлингов. Почти год основные центральные банки стран – членов Евросоюза проводили интервенции, чтобы удержать от девальвации французский франк. Тогда на эти мероприятия израсходовали более 150 млрд долларов, сейчас подобная кампания стоила бы в несколько раз дороже.
Сразу после объявления о выходе из зоны евро какой-либо страны спекулянты начнут игру на понижение против привязанных к евро валют: датской кроны, эстонской кроны, литовского лита, латвийского лата, болгарского лева. Ныне страны Балтии участвуют в механизме обменных курсов (МОК-2) с расчетом вхождения в зону евро. Атаки против их валют заставили бы правительства отказаться от этой цели или удерживать обменный курс во что бы то ни стало, то есть прибегать к займам других стран Европейского союза и ЕЦБ. Аналогичным образом поднялись бы ставки по гособлигациям относительно слабых стран еврозоны.
Главная проблема состоит в том, что гипотетический распад зоны евро вызвал бы дезинтеграцию ее финансовых рынков. В отличие от рынков товаров, услуг и рабочей силы, которые успешно функционируют с начала 1990-х гг., европейские рынки капиталов никак не могут приблизиться по своим характеристикам к американскому. Их подлинного объединения ЕС добивается уже многие годы. Более эффективное распределение инвестиционных ресурсов внутри Евросоюза представляет собой одну из реальных точек роста его конкурентоспособности. Другой такой точкой является развитие науки и инноваций. В стратегии социально-экономического развития до 2020 г., обнародованной Европейской комиссией в начале марта, говорится: «Пока Европе предстоит решать вопросы своей структурной слабости, мир быстро двигается вперед и к концу десятилетия будет совсем другим».
С начала нового века доля Европейского союза в мировой экономике уменьшилась с 25 % до 21 % и в 2009 г. сравнялась с долей развивающихся стран Азии. Уже в 2014 г. разница между ними составит 7 процентных пунктов в пользу Азиатского региона (рис. 2). На этом фоне распад либо перегруппировка зоны евро не оставила бы ЕС ни одного реального шанса адекватно участвовать в мировой конкурентной гонке. Принимая во внимание, что страны зоны евро серьезно пострадали от мирового экономического кризиса, надо четко понимать: без единой валюты, без глубоких финансовых рынков и без исключительно энергичной антикризисной политики ЕЦБ эти государства понесли бы гораздо большие потери.
Рис. 2. Доля отдельных регионов в мировом ВВП в 1980–2014 гг., %
\"\"
Источники: World Economic Outlook, IMF
Сохранение зоны евро является для органов Евросоюза и особенно Европейского центрального банка безусловной ценностью. Именно поэтому, несмотря на кризис в государственных финансах Греции, ЕЦБ продолжал принимать ее государственные облигации в качестве залога в рамках операций рефинансирования. По мнению многих аналитиков, он легко мог наказать греческое правительство и вместе с ним всю банковскую систему страны. Вместо репрессий ЕЦБ сконцентрировался на решении более сложной задачи – как при минимальных законодательных полномочиях добиться надлежащего функционирования экономической части ЭВС, и в первую очередь строгого соблюдения отдельными странами бюджетной дисциплины. Следует ожидать, что «рукой Франкфурта» в Совете станет Еврогруппа – сообщество министров финансов стран еврозоны. Фактически именно она выступает с важнейшими инициативами и готовит решения Совета Экофин. Группа имеет постоянного председателя, избираемого на пять лет, что значительно облегчает официальные и неформальные контакты.
22 марта в ходе традиционных слушаний президент ЕЦБ Жан-Клод Трише встречался с членами Европейского парламента. Отвечая на вопрос о возможности исключения стран из зоны евро, он подчеркнул: «Мы вступали в зону евро, чтобы разделить общую судьбу». И далее: «Гипотезу выхода из зоны евро я считаю абсурдной. В любом случае это юридически невозможно и поэтому не может сегодня ставиться под вопрос».
ВЫВОДЫ
Во-первых, выход экономики Европейского союза из кризиса будет медленным и сложным в силу накопившихся структурных проблем, серьезного расстройства государственных финансов и усиливающейся конкуренции со стороны азиатского «центра силы». Перспективы оживления пока неясны, а хозяйственная динамика неустойчива. Этот период совпадает по времени с формированием новых элементов институциональной системы ЕС. Наложение данных явлений сделает Евросоюз менее удобным партнером для России, затруднит проведение с ним эффективного диалога.
Во-вторых, нарастание дефицитов госбюджетов стран – членов Европейского союза, и особенно долговременное увеличение госдолга, будет препятствовать расширению еврозоны в ближайшие три-четыре года. Исключение может составить лишь Эстония, которая, несмотря на кризис, сохранила стабильность государственных финансов и национальной валюты.
В-третьих, вероятность географического распада зоны евро пренебрежимо мала. Однако с началом кризиса наметилась, а по мере нарастания долговых проблем увеличилась дистанция между экономической и денежно-кредитной частями ЭВС. Недостаточная согласованность действий Совета, Еврокомиссии и ЕЦБ может нанести ощутимый урон внутренним и внешним позициям евро. Если Европейскому союзу удастся установить жесткий контроль над экономической политикой государств-членов, этот риск будет значительно снижен.
В-четвертых, урегулирование проблемы греческой задолженности еще раз показало, что в кризисных ситуациях решения в ЕС принимаются несколькими лидерами наиболее крупных и ответственных государств-членов. Новые страны-члены практически не высказывались по данной проблеме и не вносили значимых предложений. Необходимость усиления макроэкономического и фискального контроля может содействовать дальнейшей концентрации власти в руках Европейской комиссии и росту влияния оси Берлин – Париж. Будут ли эти тенденции стимулировать продвижение Евросоюза к политическому союзу, остается неясным.

Евросоюз: от частного к общему
И.М. Бусыгина – д. полит. н., профессор, директор Центра региональных политических исследований МГИМО (У) МИД России
М.Г. Филиппов – профессор Государственного университета штата Нью-Йорк (США).
Резюме Нетрадиционная надгосударственная природа Европейского союза порождает многочисленные попытки найти для этого объединения правильную дефиницию.
Понять и доказательно объяснить основы и принципы формирующегося миропорядка пытаются многие эксперты. Общим местом стало указание на то, что «разделенный мир» времен холодной войны не превратился в мир однополярный под руководством Соединенных Штатов. Ныне принято говорить скорее о «геополитическом рынке», где соперничают «центры силы». В их число по умолчанию входят США, как правило – Европейский союз, очень часто – Китай, иногда – Россия и Индия, редко – «исламский мир» (что бы это ни означало в геополитическом контексте). Кеннет Уолтц полагал, что, помимо уже существующих ведущих держав, «вырасти» до этого статуса способны Германия, Япония или Китай. Генри Киссинджер добавлял к ним Россию и Индию (настаивая на том, что Соединенные Штаты сохраняют мировое лидерство). Примеры составления такого рода реестров можно продолжить.
В подобных списках Евросоюз фигурирует как единственное не-суверенное – надгосударственное – образование. Что, казалось бы, предполагает его эквивалентность, по существу, «сильному» суверенному государству. Правомерно ли вносить ЕС в перечень мировых «центров силы», не делая дальнейших разъяснений относительно особого рода геополитической субъектности, присущей ему?
СИЛА И СЛАБОСТЬ ЦЕНТРА
Нетрадиционная надгосударственная природа Европейского союза порождает многочисленные попытки найти для этого объединения правильную дефиницию. Все сходятся в одном: в силу своей аморфной природы Евросоюз не может вести себя на мировой арене в традиционной жесткой геополитической манере. Механизмы выработки и реализации внешнеполитической стратегии ЕС напрямую вытекают из особенностей его интеграционных принципов и институционального устройства. Так, важнейшим фактором интеграционного успеха Европейского союза является отсутствие сильного политического центра.
На протяжении уже более 50 лет европейская интеграция развивалась и, скорее всего, еще долгие годы будет развиваться без полномочного центрального правительства, без Конституции и с минимально возможным союзным бюджетом. Это разительно отличается, например, от «американского проекта», где после неудачи конфедерации и замены ее федеративной Конституцией движение в направлении экономического и политического объединения связывалось с созданием и упрочением сильного и эффективного центра.
При наличии «слабого» центра государства-учредители изначально соглашаются на асимметричную интеграцию, когда успех в одних сферах соседствует с преднамеренно и предсказуемо ограниченной глубиной процесса в других. Важно подчеркнуть, что это осознанная стратегическая ограниченность. То есть именно потому, что интеграция успешно развивается в экономике, она оказывается вынужденно лимитированной в других сферах, и это отражает сознательный выбор государств-участников, которые таким образом сдерживают экспансию наднациональных институтов.
Хорошо известный аргумент о расширении интеграции через эффект «переливания» (spill-over) наиболее применим к множественным аспектам одной сферы – экономической, и ею же он по стратегическим соображениям исчерпывается. В экономике преимущества «сильных» наднациональных институтов общего рынка перевешивали издержки от утраты полномочий и части суверенитета национальными лидерами, которые не блокировали деятельность ни Еврокомиссии, ни Европейского суда. В других областях (Общая внешняя и оборонная политика, иммиграция) задача создания сильных центральных институтов декларировалась, но не реализовывалась.
Безусловно, в теории и на практике возможен переход от одной модели федерального центра к другой. В какой-то момент постепенное расширение полномочий наднациональных органов может привести к тому, что контроль над процессом дальнейшей интеграции перейдет главным образом к европейским институтам (то есть де-факто к федеральному центру). В этом случае следует ожидать быстрого расширения формальных и неформальных полномочий наднациональных органов и централизации принятия решений во всех областях, включая внешнюю политику. Но этого пока не предвидится, и особенности формирования внешней политики Европейского союза диктуются стремлением учредителей межгосударственного объединения гарантировать себе контроль над процессом интеграции.
Функциональный метод, изначально предложенный Жаном Монне, являлся хотя и пошаговой, но «глобальной» стратегией объединения. Предполагалось, что интеграция будет захватывать один сектор за другим, придавая наднациональным институтам черты федерального правительства. Но, по сути, без ответа оставался вопрос, зачем правительствам национальных государств передавать все больше полномочий наднациональным органам. Реальная практика оказалась сложнее ожиданий функционалистов. Попытки сторонников федерализации провести институциональные изменения, создающие возможности для «переливания» экономического союза в политическую область, и особенно в сферы внешней политики, обороны и безопасности, последовательно отвергались национальными государствами. В итоге европейская интеграция углублялась только в рамках, заранее обозначенных соглашениями государств-участников, что имело для них принципиальное значение.
Состояние Общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ) Евросоюза обычно является объектом жесткой критики. Несмотря на предпринимаемые усилия, под прикрытием этой политики до сих пор реализуется лишь «среднее арифметическое» курса отдельных государств. Из этого делается вывод о том, что проблема преодоления противоречия «экономического гиганта и политического карлика» стоит остро. Однако на самом деле результаты интеграционного прогресса в экономике (Экономический и валютный союз) и во внешней политике несравнимы в принципе. Более того, отсутствие у ЕС внешней политики с теми механизмами и инструментами, которые мы привыкли видеть у «нормального» государства, является выбором лидеров государств-участников интеграции и условием успехов экономической интеграции. Таким образом, отсутствуют агенты, для которых асимметрия интеграции составляет проблему.
КОМПРОМИССЫ ЭЛИТ
Создание и развитие Европейского союза – это многоступенчатый процесс взаимодействия демократических государств Европы в поиске взаимовыгодных компромиссов. Компромисс – единственный способ, посредством которого писалась история Евросоюза, определялись его институты и механизмы функционирования. Лидеры разных стран (зачастую даже руководители одной и той же страны) преследовали в процессе интеграции различные цели. Фактически за пределами самых общих деклараций о единстве, единых предпочтений у участников никогда не имелось, поэтому было крайне важно выстроить институциональный механизм, позволявший находить компромиссные решения и развивать взаимоприемлемую интеграцию, невзирая на внутренние разногласия.
Любая попытка создать механизмы интеграции суверенных государств, имеющих противоречивые интересы, сталкивается с серьезной проблемой, как преодолеть недоверие сторон. Для этого нужны надежные гарантии выполнения договоренностей. Сложность же заключается в том, что необходимо создать и поддерживать достаточно сильные наднациональные органы, которые, тем не менее, оставались бы под контролем национальных лидеров.
Налицо противоречие. Национальные лидеры, вступающие в наднациональное объединение, будут опасаться экспансии создаваемого ими центра. Соответственно, не желая оказаться его заложниками, они пойдут лишь на создание союза со слабыми наднациональными институтами, оставляя принятие ключевых решений за собой. Но изначально слабая союзная власть часто испытывает нарастающее давление со стороны национальных правительств, ведущее к еще большему ослаблению наднациональных институтов, вследствие чего само существование объединения оказывается под угрозой.
Вышеуказанное противоречие, в частности, хорошо объясняет, почему успешные федерации остаются редкой конституционной формой. С начала ХХ века не было ни одной плодотворной попытки объединить независимые государства под эгидой полномочного федерального правительства. Существенно более удачно шла деволюция в унитарных (централизованных) государствах. И лишь немногим эффективным федерациям, таким, к примеру, как США, Швейцария или Германия, удалось создать политические механизмы, сдерживающие постоянную тенденцию к централизации. На этом фоне успех ЕС оказался во многом неожиданным и труднообъяснимым для всех существующих федеративных теорий.
Как же Европа умудряется обходить описанную проблему? Национальная автономия в принятии решений в менее интегрированных сферах является тем институтом, который гарантирует странам-участницам сохранение контроля над Европейским союзом, и позволяет им без страха идти на радикальную централизацию в более интегрированных областях. Чтобы этот институт работал, неинтегрированными должны оставаться важные области. Поэтому значимость ОВПБ заключается не в том, что она будет ускоренно интегрирована, а, напротив, что эта сфера так и останется в «интеграционном резерве».
Все теории экономической и политической интеграции предполагают, что интеграция на уровне политических и экономических элит происходит раньше, чем на уровне общества в целом. Различия между существующими концепциями состоят скорее в том, какие группы элит и почему рассматриваются как ключевые для развития интеграции. Теоретические предпосылки подтверждаются эмпирически: во всех известных случаях решения об объединении независимых государств принимались изначально узкой группой, непосредственно заинтересованной в интеграции, без прямой поддержки населения. И лишь позднее население оказывалось втянутым в объединительный процесс. С другой стороны, дезинтеграция также почти всегда происходила вследствие действий групп, игнорировавших мнение большинства (как это было, например, в Чехословакии или СССР).
Следовательно, и формальные правила интеграции, и их неформальное воплощение в жизнь будут в значительной мере определяться интересами узких групп. Другими словами, мы можем ожидать, что формальные институты интеграции и их практика эндогенны интересам тех, кто планирует и осуществляет объединение. То, что в целом, политические и экономические институты эндогенны, признается практически всеми современными исследователями.
Идея эндогенных институтов кажется простой, однако в применении к вопросам интеграции приводит к любопытным гипотезам.
Во-первых, мы можем ожидать, что интересы тех, кто выбирает институты, меняются как во времени, так и в отношении отдельных областей политики и экономики.
Во-вторых, если интересы различны и меняются, это должно отражаться на выборе формальных институтов и особенно на их реальной практике.
В-третьих, степень и формы интеграции в разных областях государственной деятельности (экономика, социальная сфера, образование, внешняя политика, оборона) будут в значительной степени независимыми друг от друга, т. е. интеграция в одной сфере не будет вести к автоматической интеграции в другой.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЕС ДО И ПОСЛЕ ЛИССАБОНСКОГО ДОГОВОРА
Хроника европейской интеграции – это история серии договоров между национальными руководителями. Интеграция строилась шаг за шагом, развиваясь, углубляясь и расширяясь с каждым новым документом. Заключенные договоры полностью определяли успехи и пределы процесса. Именно руководители стран обсуждали, подписывали либо отказывались подписать новые установочные документы. Даже предложенный к ратификации и отвергнутый населением ряда стран Европы проект на самом деле был лишь Конституционным договором (Договор, учреждающий Конституцию для Европы. – Ред.), а не Конституцией в традиционном понимании.
«Пик» развития интеграции вглубь пришелся на начало 1990-х гг., что было зафиксировано принятием в декабре 1991 г. решения о заключении Договора о Европейском союзе (Маастрихтский договор). При подготовке этого документа столкнулись два принципиально разных подхода. Сторонники федеративного пути предлагали сделать новые направления интеграции своего рода «ветвями» Сообщества, где также использовался бы общий коммунитарный метод, успешно применяемый в экономической сфере. Противники федерализма полагали, что интеграция в новых сферах должна базироваться исключительно на межправительственных соглашениях. Этот сдержанный подход и одержал верх.
В итоге Европейское (экономическое) сообщество стало главной опорой (pillar) Евросоюза, а новые направления интеграции – дополнительными, относительно автономными опорами, где принятие решений должно было основываться на межправительственном консенсусе, хотя и под «крышей» общих институтов. При этом в созидании первой опоры были задействованы все европейские институты, а остальные опоры отдавались на откуп Совету (то есть главам государств), оставляя Европейской комиссии в лучшем случае вспомогательную роль и, по существу, исключая из процесса Европарламент и Суд.
Все это означало, что лидеры стран – членов ЕС по-прежнему сохраняли контроль над интеграцией за пределами экономики, прежде всего в сфере внешней политики. Более того, Европейский союз институционализировал возможность «гибкого» участия государств в общих внешнеполитических инициативах. Таким образом, стимулы и обязательства в области внешней политики задавались принципиально отличным от экономической сферы интеграции образом.
Национальные правительства получали гарантии того, что прогресс в экономике не приведет к автоматическому развитию интеграционных процессов в области внешней политики. Эти сферы создавались не по типу «сообщающихся сосудов», к чему стремились сторонники федерализма. Напротив, принятая модель развития предполагала своего рода горизонтальный принцип «разделения властей» внутри Евросоюза. В этом заключалась гарантия сохранения контроля государств над процессами интеграции при одновременном наделении институтов ЕС необходимыми полномочиями для эффективной работы в экономике.
После неудачи с ратификацией Конституционного договора многие его положения были инкорпорированы в Лиссабонский договор, вступивший в силу в декабре 2009 г. Документ упразднил разделение на три опоры, объединив Сообщество (экономическую составляющую) и Союз в одно целое. Таким образом, формально все направления интеграции теперь равнозначны. Но отказ от трех опор не отменяет различий в методах принятия решений в отдельных областях. В частности, право вето национальных государств сохраняется во внешней политике и вопросах безопасности, в социальной и налоговой политике, в борьбе с финансовыми нарушениями, в сотрудничестве по вопросам уголовного права и ключевых аспектах экологической политики. Более того, новый договор подтвердил и, возможно, даже усилил роль национальных лидеров и институтов во всех вопросах за пределами четко установленных рамок исключительных и совместных компетенций Союза. Суд ЕС по-прежнему лишен компетенции в сфере Общей внешней политики и политики безопасности, его возможность контролировать выполнение государствами-членами обязательства по поддержанию порядка, безопасности и законности ограниченна.
Лиссабонский договор формально провозглашает принцип институционального баланса между наднациональными (центр) и межправительственными элементами, но на практике он усилил влияние межправительственных институтов: Европейского совета и Совета министров. Об этом свидетельствует, в частности, введение постов председателя Европейского совета и верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности. Хотя тут чиновник и имеет двойную подчиненность, он больше связан с Европейским советом, чем с Еврокомиссией. И это отнюдь не случайно: процедура и результат избрания двух новых формальных руководителей Евросоюза продемонстрировали усиление контроля крупных государств – Германии, Франции и Великобритании – над принятием политических решений. Принципиальные решения в области внешней политики по-прежнему требуют если не единства, то согласования мнений национальных лидеров.
ПОИСК КОНСЕНСУСА ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ
Сторонникам углубления интеграции вплоть до возможной федерализации Европейского союза принципиально важно найти обоснование для формирования и реализации Общей внешней политики. Это позволило бы резко сдвинуть баланс властных полномочий в сторону наднациональных институтов, а значит, существенно ослабить возможности национальных лидеров по блокированию углубления интеграции в будущем. Однако такие изменения шли бы вразрез с действующими институтами и привели бы к обострению разногласий между брюссельскими политиками и политиками государств – членов Евросоюза в отношении многих внешнеполитических проблем.
С увеличением числа стран – членов ЕС до 27 поиск консенсуса по любому вопросу заметно усложнился. Можно ожидать, что самые успешные внешнеполитические проекты будут реализовываться от имени Европейского союза группами наиболее заинтересованных стран. Последние же станут проводить внешнеполитическую линию, отличную от предпочтений менее вовлеченных государств и, следовательно, от предпочтений Евросоюза в целом. В результате, внешнеполитический курс ЕС как единого геополитического игрока будет непоследовательным и несогласованным. Журнал The Economist верно отмечает тенденцию: роль Европейского союза во внешней политике возрастет, но его значимость и влияние будут меньше, чем сумма ролей и влияний составляющих его частей.
Остановимся вкратце на трех наиболее успешных и важных для России направлениях внешней политики единой Европы, основанных на консенсусе заинтересованных групп стран-участниц.
Инициатива «Северное измерение» была выдвинута Финляндией в 1997 г., в 1999 г. она принята Европейской комиссией в качестве стратегии Евросоюза (первоначально на период с 2000 г. по 2003 г.). Ее важнейшей составной частью является развитие трансграничного сотрудничества между сопредельными административными единицами стран-участниц (Финляндия, Швеция, Норвегия, Исландия, государства Балтии, Польша и Россия).
«Северное измерение» – это прежде всего попытка заинтересованных государств – членов ЕС преодолеть нарастающее размежевание между отдельными европейскими странами и Россией посредством совместного решения практических проблем. Безопасность и вопросы политики или исключены из повестки дня, или обсуждались в ограниченном объеме. Европейцы сочли за благо не поднимать вопросов о поставках нефти и газа; лишь ядерная безопасность и энергосбережение включены в Экологическое партнерство в рамках программы. Неоднократно подчеркивалось: «Северное измерение» доказывает, что малые страны Европейского союза могут многого добиться, проводя «умную маленькую политику» (“smart small policies”). Многоуровневое управление позволяет акторам воздействовать на процесс принятия решений через разнообразные каналы – от работы с европейскими институтами до непрямого действия через региональные, национальные и суб-национальные структуры.
Формирующаяся таким образом политика есть результат накладывающихся друг на друга компетенций, напряженностей и конфликтов. Можно ожидать, что процесс принятия решений по частным, «локализованным» вопросам будет децентрализованным, то есть рассредоточенным между различными институциональными уровнями – региональным, национальным, субнациональным, но наднациональные институты сохранят ответственность за формулирование общей политики в отношении России.
«Еврорегионы» представляют собой локализованную форму внешнеполитического трансграничного взаимодействия отдельных членов Евросоюза со странами-соседями. «Еврорегионы» за пределами ЕС существовали еще до его последнего расширения – в районе германо-польской, германо-чешской и на других границах; впоследствии на границах с республиками бывшего СССР, в том числе и с Россией. Это распространенная форма взаимодействия: например, с 1990 г. одни только местные власти Польши подписали 13 таких соглашений с внешними соседями.
«Еврорегионы» – особая форма трансграничных соглашений, связывающих региональные и особенно местные власти по обе стороны границы. Сотрудничеству придается институциональная форма (оно развивается по согласованным правилам, принятым участниками добровольно), но общей модели еврорегиона не существует. Европейский союз представляют заинтересованные страны, которые руководствуются не универсальным, а контекстуальным подходом, когда конкретные механизмы и инструменты сотрудничества определяются местными условиями и, подчеркнем, национальными предпочтениями.
19–20 марта 2009 г. Европейский совет учредил новую инициативу – «Восточное партнерство», а уже 7 мая в Праге Евросоюз и правительства шести государств (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина) подписали соответствующую декларацию. Это вызвало острую реакцию Москвы, расценившей проект как вызов со стороны Евросоюза в регионе, который Россия считает зоной своих интересов. Согласно широко распространенной в России точке зрения, ЕС, декларативно ратуя за отмену разделительных линий в Европе, в действительности способствует их созданию и укреплению и принуждает постсоветские страны, связанные определенными политическими и правовыми обязательствами с Москвой, делать стратегический выбор между Европейским союзом и Россией. Часто можно услышать характеристику Евросоюза как имперской структуры нового типа, которая распространяет влияние за пределами своих границ.
Для таких выводов, вероятно, есть объективные политические основания. Но не стоит забывать, что принятие внешнеполитических решений в ЕС децентрализовано, и хотя инициатива осуществляется под эгидой Европейского союза в целом, изначально она заявлена лишь малой группой заинтересованных приграничных государств, ведущую роль среди которых играет Польша. По правилам европейской «игры» центр не в состоянии ни пересмотреть региональную внешнюю политику своих членов, ни предотвратить подобные проекты в будущем.
Очевидно, что выдвижение Москвой описанных выше претензий не изменит ситуацию в более благоприятном для России направлении. Прежде всего нужно заниматься разработкой конкурентоспособных проектов, в которых соседи усмотрели бы для себя больше выгоды, чем в «Восточном партнерстве» (надо отметить, довольно скромном по объемам его финансирования). А по многим вопросам того, что мы называем сегодня внешней политикой ЕС, договариваться следует с отдельными его членами, учитывая их индивидуальные интересы и мотивацию.
РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В ПОЛИТИКЕ
Европейский союз не является сверхдержавой в традиционном смысле, и входящие в него страны не ставят перед собой на будущее задачу ее создания. Реакция Евросоюза на геополитические вызовы принципиально отлична от действий «великих держав». У ЕС нет «национального интереса». Однако он способен продвигаться по пути углубления интеграции, движимый национальными интересами государств-членов, которые сбалансированы сложной системой институциональных механизмов.
Важнейшей особенностью Европейского союза как внешнеполитического игрока является то, что это объединение до сих пор находится в процессе формирования. Экономическое сотрудничество в рамках Евросоюза во многом достигло федеративного уровня, так что Брюссель выступает в качестве полноправного представителя общих экономических интересов государств-членов. В других же сферах, в первую очередь во внешней политике, объединение весьма ограниченно: решения принимаются на межгосударственной основе, то есть только при достижении консенсуса. А это означает, что в сфере внешней политики отсутствует механизм выработки общего «интереса», а имеется всего лишь возможность опираться на «общий знаменатель» интересов отдельных стран.
Более того, как мы пытались показать выше, для многих европейских политиков ограниченность интеграции во внешней политике устанавливает пределы «федеративной экспансии» наднациональных институтов. С целью добиться эффективного контроля над процессом интеграции в целом, ключевые решения, определяющие будущее общей внешней политики, отданы на откуп национальным лидерам. Следовательно, роль предпочтений, характеристик и индивидуальных особенностей конкретных руководителей европейских стран будет возрастать.
В то время как большинство исследователей концентрируют внимание на изменениях формальных правил работы институтов в области общей внешней политики, нам представляется, что внешняя политика – это та область, где следует в большей степени принимать в расчет роль лидеров. Их взгляды на будущее европейской интеграции, личные симпатии и антипатии зачастую будут иметь решающее значение.
Возрастающая роль национальных лидеров в определении внешнеполитической стратегии Европейского союза потенциально ведет к появлению новых поводов для игры амбиций, соперничества, разногласий и конфликтов между персоналиями, представляющими наиболее крупные европейские государства. Поддержка общеевропейской внешней политики национальными лидерами, вероятно, останется непоследовательной – прежде всего потому, что приоритеты разных стран различны. Например, государства – члены Европейского союза и субнациональные территории (регионы) будут реализовывать разные, возможно даже противоречивые, стратегии в отношении России. Одни акторы выберут в качестве приоритета отношения между Россией и Евросоюзом в целом, другим покажется перспективным развитие двусторонних отношений. Более того, один и тот же актор может использовать разные стратегии на различных институциональных площадках. В частности, Финляндия, скорее всего, будет по-разному действовать в Европейском совете, в рамках «Северного измерения» и в двусторонних отношениях с Москвой. Наконец, появление новых политических лидеров потенциально расширяет либо сужает возможности формирования общей внешней политики.
Отсутствие механизмов выработки общих внешнеполитических интересов и непоследовательность руководителей стран – членов Евросоюза в вопросах общей внешней политики часто подводит к выводу о том, что можно (и нужно) играть на противоречиях. Однако, играя в такую игру, следует учитывать, что многие «евробюрократы», депутаты Европейского парламента и часть лидеров европейских стран заинтересованы в создании условий для продвижения интеграции в области внешней политики ЕС. По крайней мере для некоторых политиков, несмотря на различные предпочтения по конкретным вопросам, объединяющим является стремление выработать стратегию развития внешней политики Европейского союза, а значит, и интеграции в целом. И в этом отношении те, кто надеется продолжать играть на противоречиях внутри Евросоюза, невольно будут добавлять аргументы в пользу углубления интеграции.
В ближайшие годы сам факт незаконченности процесса объединения в существенной мере определит действия тех, кто выступает за дальнейшую интеграцию. Стратегии внешней политики для них будут мотивированы не только и не столько внешнеполитическими интересами ЕС (каковые по большей части еще не сформулированы), сколько попытками найти веские доводы для дальнейшего расширения полномочий Европейского союза, необходимых в том числе для формирования из него реального субъекта мировой политики. Для этого страны-участницы должны отказаться от наиболее существенной части своего суверенитета, а это может произойти только при наличии серьезных побудительных мотивов. В определенном смысле сторонники углубления интеграции заинтересованы в поиске объединяющей внешнеполитической проблемы или угрозы. Возможно появление группы сторонников федеративного развития Евросоюза, потенциально готовой поддержать любую общую внешнеполитическую инициативу.
Пока основы для консенсуса нет, эта группа поддержки останется разобщенной по менее глобальным вопросам. Но ситуация может кардинально (и быстро) измениться при наличии общей угрозы, способной повернуть евроскептиков в сторону признания необходимости проводить единый внешнеполитический курс. К примеру, если лидеры крупнейших стран ЕС в какой-то момент будут склонны рассматривать Россию как общую угрозу (энергетическую либо иную), сторонники европейской интеграции, вероятнее всего, с энтузиазмом их в этом поддержат, надеясь использовать единство для придания импульса объединительным процессам. Сегодняшние внешнеполитические разногласия между государствами – членами Европейского союза могут в случае смены лидеров крупнейших стран смениться консолидированным курсом по поводу наиболее важных вопросов, таких, например, как отношение к России.

Внешняя политика Турции и Россия
Региональный подход к глобальному миру
Ахмет Давутоглу – профессор, министр иностранных дел Турецкой Республики.
Резюме Турция верит в возможность установления справедливого и устойчивого мирового порядка, который будет служить на благо всех стран, любого общества и каждого человека в отдельности.
Окончание холодной войны предвещало, что в истории откроется новая глава мира и стабильности. Риск прямого столкновения двух противоборствующих блоков был устранен, и это отвело угрозу, нависшую над человечеством. Однако исчезновение опасности глобального ядерного холокоста не привело автоматически к установлению нового и стабильного мирового порядка. Вместо этого во многих уголках земного шара наметились линии глубокого геополитического водораздела, некоторые из которых породили разрушительные войны и конфликты. Сегодня, оглядываясь назад, можно сказать, что эпоха, наступившая после окончания холодной войны, была и остается промежуточным, переходным периодом к более стабильной системе международных отношений, хотя сама эта система по-прежнему находится на ранней стадии развития.
Избавившись от старого миропорядка и встав на путь построения нового, планета снова проходит через муки преобразований и перестройки. По мере того как баланс сил в системе международных отношений меняется в направлении выравнивания игрового поля и медленного формирования многополярного мира, все насущнее становится потребность закрепить эти тенденции посредством создания формальных структур.
Призывы к действию можно услышать во всех сферах международных отношений – от затянувшихся попыток реформировать ООН до усилий, направленных на то, чтобы сделать управление мировыми финансами более представительным. Нет сомнений в том, что все мы только выиграем от создания более эффективного и гуманного мироустройства, дающего ключ к решению таких серьезных проблем, как преодоление бедности и глобальное потепление. Вопрос в том, насколько мы готовы действовать, как сможем мобилизовать и координировать усилия, как быстро сумеем добиться поставленной цели.
Турция верит в возможность установления справедливого и устойчивого мирового порядка, который будет служить на благо всех стран, любого общества и каждого человека в отдельности. С нашей точки зрения, путь к этому лежит через формирование местных и региональных блоков. Необходимо принимать близко к сердцу региональные проблемы, заботиться о развитии диалога и восстановлении взаимного доверия, а также усиливать стимулы для укрепления сотрудничества в регионах. Мы можем и должны изменить ситуацию к лучшему, преодолевая психологические барьеры, открывая умы и сердца друг другу, объединяя ресурсы. Как говорится в русской пословице, «берись дружно – не будет грузно».
Руководствуясь этими принципами, Турция активно работает над тем, чтобы внести свой вклад в безопасность, стабильность и процветание в ряде соседних и более отдаленных регионов. Результаты, которых нам удалось добиться, говорят сами за себя. Чтобы точнее оценить итоги, полезно взглянуть на идейный фундамент, на котором зиждутся наши усилия.
ШЕСТЬ ПРИНЦИПОВ И ТРИ ОСОБЕННОСТИ
В основе современной внешней политики Турции лежат шесть принципов.
Первый – это определение баланса между свободой и безопасностью. Если безопасность хороша для одного государства, одной страны и одного человека, она принесет пользу и другим. Но не следует обеспечивать безопасность в ущерб свободе и наоборот. Следовательно, необходимо найти правильное соотношение между ними.
Второй принцип предполагает усиленное вовлечение всех региональных сил в мирный процесс. Мы проводим политику «обнуления проблем» в соседних странах и считаем, что это вполне достижимая цель, если только участники процесса смогут доверять друг другу.
Третий принцип предполагает проведение эффективной дипломатии в отношении соседних регионов. Наша цель – максимальная интенсификация сотрудничества, от которого выиграют все наши соседи. Для достижения этой цели мы строим отношения с соседними государствами на принципах «безопасности для всех», «политического диалога на высоком уровне», «экономической взаимозависимости», а также «культурной гармонии и взаимоуважения».
Являясь членом Совета Безопасности ООН на период 2009–2010 гг. и ответственным членом международного сообщества, которое вынуждено решать широкий спектр проблем, мы придерживаемся четвертого принципа в нашей внешней политике, который можно сформулировать как стремление к взаимодополняющим действиям с основными игроками на мировой арене.
Пятый принцип предполагает эффективное использование международных форумов и новых инициатив для придания импульса решению вопросов, представляющих взаимный интерес. Именно с этих позиций следует оценивать рост влияния Турции в таких организациях, как ООН, НАТО, Организация Исламская конференция, а также установление взаимоотношений со многими новыми структурами. Следует также упомянуть о том, что Турция получила статус наблюдателя в ряде ведущих региональных организаций, таких, например, как Африканский союз, Лига арабских государств, Ассоциация стран Карибского бассейна и Организация американских государств.
Шестой принцип нашего внешнеполитического курса опирается на предыдущие пять, – это создание «нового образа Турции» благодаря усиленному вниманию, которое мы уделяем общественной дипломатии.
По сути дела, наш подход нацелен на то, чтобы положить конец спорам и укрепить стабильность в регионе с помощью новаторских механизмов и каналов для разрешения конфликтов, стимулирования позитивных перемен и развития межкультурного общения и взаимопонимания.
Таким образом, можно сказать, что наша внешняя политика имеет три отличительные особенности: она ориентирована не на кризис, а на мечту и видение будущего мироустройства; вместо того, чтобы реагировать на возникающие угрозы, мы предлагаем творческие подходы к разрешению конфликтов. Кроме того, наша политика носит системный характер и охватывает весь спектр международных проблем.
Сегодня Турция проводит поистине многомерную и всеохватную внешнюю политику, участвуя в решении насущных вопросов в разных частях земного шара – от Африки до Южной Америки, от Восточной и Южной Азии до стран Карибского бассейна. Кроме того, Анкара активно укрепляет принципы мирного сосуществования, взаимного уважения, дружбы, согласия и сотрудничества между разными культурами, идеологиями и религиями. Пять лет тому назад Турция совместно с Испанией создала под эгидой ООН «Союз цивилизаций». Этот проект призван стать флагманом глобальных усилий, направленных на углубление межкультурного диалога и противодействие экстремизму. Российская Федерация со своим богатым культурным наследием также имеет все необходимое для того, чтобы внести существенный вклад в это историческое предприятие.
Являясь членом «Большой двадцатки», Турция поддерживает инициативы по реформированию структуры международных финансов и принятию новых мировых стандартов, которые обеспечат устойчивый экономический рост и стабильную финансовую систему, а также помогут создать более эффективную экономическую архитектуру. С другой стороны, будучи развивающейся страной-донором, Турция протягивает руку помощи развивающимся странам и вносит вклад в достижение Целей развития тысячелетия, сформулированных ООН.
Наше нынешнее председательство в Инициативе по сотрудничеству стран Юго-Восточной Европы и грядущее президентство в Конференции по взаимодействию и мерам укрепления доверия в Азии, а также в Комитете министров Совета Европы во второй половине нынешнего года предоставляет значимые возможности для совершенствования регионального сотрудничества. Турция и Россия могут вместе работать на всех направлениях под знаком солидарности в решении острых региональных вопросов.
Не следует забывать, что турецкая внешняя политика опирается на уникальный исторический опыт и географию, которые еще более усиливают в нас чувство ответственности.
Подобная историческая ответственность мотивирует интерес Турции к близлежащим зонам, включая Кавказ, Каспийский и Черноморский бассейны, Балканы, Восточное Средиземноморье и Ближний Восток от Персидского залива до Северной Африки. В этом контексте мне хотелось бы более подробно остановиться на турецко-российских отношениях и на ситуации на Южном Кавказе.
ТУРЕЦКО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
С Россией нас связывают образцовые соседские отношения, не омраченные никакими проблемами. Отношения развиваются на взаимовыгодной основе, и мы глубоко удовлетворены поступательным движением во всех сферах турецко-российских связей в течение последних 19 лет. Мы считаем Россию бесценным партнером, важной мировой державой и ключевым игроком с точки зрения регионального взаимодействия. Хотелось бы подчеркнуть, что дальнейшее развитие сотрудничества, основанного на общей заинтересованности сторон, взаимном доверии и прозрачности, является одним из главных приоритетов нашего внешнеполитического курса. Турецко-российские отношения остаются неотъемлемой частью многомерной внешней политики Турции.
Анкара и Москва – главные игроки, способствующие поддержанию мира и сохранению стабильности в своем регионе. Мы озабочены решением одних и тех же международных проблем, понимаем друг друга и стараемся деликатно обходить «больные» темы, способные вызывать раздражение. Мы хотели бы продолжать искренний и открытый диалог с Россией о дальнейшем развитии нашего региона.
Визиты на высшем уровне, которые имели место в последние два года, также внесли существенный вклад в наши отношения. Президент Абдулла Гюль побывал с государственным визитом в России в феврале 2009 г., премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган посетил Сочи в мае прошлого года, а премьер-министр Владимир Путин нанес рабочий визит в Турцию в августе 2009 г. Эрдоган побывал в Москве 12–13 января этого года, и я сопровождал его в этой поездке. Я также приезжал в Москву в июле прошлого года. Эти визиты, безусловно, придали дополнительный импульс отношениям между обеими странами.
Визит президента Гюля стал первым государственным визитом главы турецкого государства в Россию за всю историю двусторонних отношений. (Еще одной важной особенностью поездки стало посещение турецким президентом Республики Татарстан – важного региона Российской Федерации, поддерживающего культурные и исторические связи с Турцией.) В ходе визита лидеры обеих стран подписали Совместную декларацию, в которой не только закладывается основа для совместных отношений, но и предлагается «дорожная карта» нашего будущего регионального сотрудничества почти во всех вопросах, представляющих обоюдный интерес. В документе подтверждается, что цель, обозначенная в Совместной декларации от 2004 г., а именно поднять наши взаимоотношения на уровень «многомерного углубленного партнерства», достигнута. Новые договоренности также являются проявлением политической воли на высшем уровне – решимости «поднимать наши отношения на новый качественный уровень и углублять их».
В этом контексте Турция и Россия решили создать межгосударственный механизм (Высший совет сотрудничества) на уровне высшего политического руководства. Мы верим, что данный орган будет способствовать развитию двусторонних отношений и внесет вклад в региональную стабильность. Первая встреча в рамках Высшего совета сотрудничества запланирована на первую половину 2010 г.
С начала 1990-х гг. сотрудничество в экономической и энергетической областях было движущей силой турецко-российских отношений. Хотя мы с гордостью говорим о том, что торговля достигла впечатляющих объемов – в 2008 г. Россия стала нашим главным торговым партнером (товарооборот достиг 38 млрд долларов), а в 2009 г. была вторым торговым партнером (около 22 млрд долларов, из которых 3 млрд приходилось на экспорт и 19 млрд на импорт), – к сожалению, у Анкары образовался существенный торговый дефицит вследствие импорта энергоресурсов (в 2009 г. Турция импортировала из России свыше половины всего потребляемого газа и четверть всей нефти). Мы придаем большое значение достижению баланса и нацеливаемся на диверсификацию в торговле с Россией. Снижение товарооборота объясняется в первую очередь мировым финансовым кризисом. Но мы уверены, что негативные последствия кризиса в двусторонней торговле будут преодолены в нынешнем году. Кроме того, к 2015 г. наш товарооборот должен достигнуть 100 млрд долларов, как запланировали оба премьер-министра на встрече 13 января в Москве.
Другие отрасли экономики также заслуживают внимания. Общая стоимость проектов, осуществляемых турецкими подрядчиками в России, достигла 30 млрд долларов. Прямые турецкие инвестиции превысили 6 млрд долларов, а прямые российские инвестиции в Турцию – 4 млрд долларов. В 2008 и 2009 гг. поток российских туристов в Турцию составил 2,8 и 2,6 млн человек соответственно. Кроме того, мы с радостью наблюдаем растущий интерес российских фирм к энергетическим инфраструктурным проектам и туристическому сектору Турции. Сотрудничество в энергетической отрасли является значимым аспектом турецко-российских отношений. Россия – важный поставщик энергоносителей для Турции. Проект газопровода «Голубой поток» вывел энергетическое сотрудничество на новый стратегический уровень. Значительное место в повестке дня занимают новые проекты с участием России (к примеру, строительство атомной электростанции в Турции) и российские инвестиции в проект нефтепровода Самсун – Джейхан.
Я верю, что двусторонние отношения и взаимодействие с Россией в политической, экономической и энергетической областях, а также в сфере культуры и образования будут развиваться и впредь. Продолжится и диалог по региональным и международным вопросам. В целом отношения с Москвой весьма многообещающи, и мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы они получили дальнейшее развитие, как было заявлено в Совместной декларации, подписанной двумя президентами в феврале 2009 г.
ЮЖНЫЙ КАВКАЗ
В центре коридора, который простирается с севера России до юга Турции, находится конфликтный регион, который отчаянно нуждается в мире и экономическом развитии. Это Кавказ. Нынешняя обстановка в Западной Азии отчасти напоминает тупиковую ситуацию на Корейском полуострове, расположенном между двумя гигантами Восточной Азии – Китаем и Японией. Следовательно, говоря о турецко-российских отношениях, мы должны осознавать, сколь большое значение они имеют для общей ситуации на евразийском континенте.
Находясь на протяжении многих веков на перекрестке между Востоком и Западом, Севером и Югом и населенный множеством разных народов, этнических групп, говорящих на разных языках и исповедующих разные религии, Южный Кавказ, конечно же, является самым интригующим и непредсказуемым местом на политической карте мира.
Южный Кавказ, примыкающий к границам Турции и России, всегда играл особую роль и для турок, и для русских, занимая важное место в дипломатической повестке дня обеих стран. Сегодня стратегическое значение региона еще больше возросло, и по этой причине он, как никогда, нуждается в стабильности и региональном сотрудничестве. Турция отводит Южному Кавказу особое место в своей внешней политике, стремясь обеспечить там мир, безопасность и процветание. Это объясняется не только историческими и гуманитарными узами, связывающими Турцию с народами Кавказа; некоторые из них имеют культурную и этническую общность с турецким народом. Главное в том, что эта небольшая по территории область, к сожалению, по-прежнему нестабильна. Три крупных конфликта на территории стран – членов ОБСЕ остаются неразрешенными в течение почти двух десятилетий.
Со времен обретения независимости республиками Южного Кавказа мы старались сделать все от нас зависящее, чтобы здесь воцарились мир и процветание. Турция одной из первых признала суверенитет всех трех республик, включая Армению. Однако оккупация азербайджанских земель Арменией, ставшая причиной конфликта вокруг Нагорного Карабаха, затруднила дальнейшее сотрудничество в региональном и общемировом масштабе.
Отношения Турции с Азербайджаном всегда были уникальны в силу особых братских уз, связывающих наши народы, объединенные общей историей, языком и культурой. Вот почему у нас выстроены важные политические отношения с Баку, о которых можно судить по частоте взаимных визитов, а также постоянному диалогу и солидарности в вопросах, представляющих взаимный интерес. Наше экономическое сотрудничество развивается поступательно. Торговый оборот достиг 2,5 млрд долларов. Кроме того, Турция лидирует в части иностранных инвестиций в азербайджанскую экономику.
Отрадно, что, благодаря развивающейся демократии, растущей экономике, человеческому капиталу и природным ресурсам, Азербайджан стал центром притяжения на Кавказе. Однако неурегулированный конфликт вокруг Нагорного Карабаха и оккупация 20 % территории страны Арменией мешают Азербайджану и региону в целом использовать этот важный потенциал.
Будучи членом Минской группы ОБСЕ, Турция с самого начала активно выступала за мирное урегулирование карабахского конфликта посредством переговоров между Ереваном и Баку. Весьма прискорбно, что механизм, такой же старый, как и сам конфликт, пока не принес ощутимых и конкретных результатов. Вот почему так важен прогресс, недавно достигнутый на переговорах между президентами Ильхамом Алиевым и Сержем Саргсяном. Это еще раз подчеркивает необходимость достижения конкретных результатов посредством интенсивного диалога в то время, когда сама история предоставляет уникальную возможность. Вместе с тем Минская группа ОБСЕ остается единственным международным инструментом, способным побудить стороны предпринять конкретные шаги для преодоления разногласий и достижения мирных договоренностей.
По понятным причинам наши отношения с Арменией находились в ином русле и до сих пор остаются недостающим элементом в той целостной картине, которую Анкара хотела бы видеть на Южном Кавказе. Однако мы не теряем надежду на то, что связи с Арменией в конце концов удастся восстановить, и с этой целью мы прибегаем к односторонним мерам по укреплению доверия. В 2007 г. удалось задействовать дипломатический канал для диалога между высокопоставленными чиновниками обеих стран, целью которого является установление нормальных двусторонних отношений.
Эти усилия принесли плоды в 2009 г., когда ответственные политики обоих государств пришли к выводу, что настал благоприятный момент для всеобъемлющего мирного урегулирования. Мы решительно приступили к реализации этого плана, несмотря на резкую критику наших действий внутри страны. Титанический труд и интенсивные переговоры привели к подписанию 10 октября 2009 г. двух протоколов в Цюрихе.
Это беспрецедентный шаг вперед в направлении искоренения юридических и психологических барьеров, которые до сих пор разделяли два соседних народа. Однако на протяжении всего диалога с Ереваном мы неизменно отдавали себе отчет в том, что одного лишь турецко-армянского примирения недостаточно для того, чтобы долгожданный мир и стабильность пришли в этот многострадальный регион.
Мы убеждены в том, что прогресс в нормализации отношений между Турцией и Арменией должен дополняться и развиваться с помощью конкретных шагов, направленных на разрешение конфликта в Нагорном Карабахе. Только при условии всеобъемлющего урегулирования мы сможем сохранить атмосферу примирения и устранить оставшиеся барьеры, препятствующие диалогу, сотрудничеству и миру в регионе. И это, конечно, потребует политической воли и мужества.
После подписания оба протокола были незамедлительно направлены для ратификации в турецкий парламент. Мнение Конституционного суда Армении по поводу протоколов стало неожиданным препятствием, которое необходимо преодолеть. Если все стороны будут вести себя ответственно и постараются внести свой вклад в достижение всеобъемлющего мира на Южном Кавказе, то, мне кажется, протоколы будут быстро ратифицированы парламентом Турции. Это не только облегчит процесс примирения двух народов, но и проложит путь к новому будущему и воцарению мира, процветания и сотрудничества. В этом смысле самая безотлагательная потребность состоит в том, чтобы не воздвигать препон на пути достижения мира и стабильности под ширмой надуманных юридических проблем.
Что касается Грузии, то глубокие исторические и культурные связи между народами, общая граница, крупномасштабная транспортно-энергетическая инфраструктура, турецкие граждане грузинского и абхазского происхождения являются главными факторами, способствующими нашим интенсивным взаимоотношениям и сотрудничеству с Тбилиси.
Турция поддерживает и уважает независимость, суверенитет и территориальную целостность всех государств Южного Кавказа, и Грузия здесь не исключение. Это было нашей принципиальной позицией со времени обретения странами независимости, и мы по-прежнему придерживаемся этой позиции. Учитывая наши прекрасные отношения и многомерное партнерство с Россией, нетрудно представить себе, что Турция была в числе тех, кого крайне обеспокоили события августа 2008 г.
Сегодня Анкара и Москва, а также Баку, Ереван и Тбилиси больше чем когда-либо стремятся превратить Южный Кавказ в зону всеобъемлющего и прочного мира. Все заинтересованы в разрешении застарелых конфликтов, что, в свою очередь, будет усиливать у лидеров наших стран чувство ответственности за судьбу региона. Нас также объединяет заинтересованность в укреплении гуманитарных связей, которые позволят залечить старые раны. Мы все хотим забыть прошлую вражду и спроецировать в будущее позитивные аспекты общей истории, и, что самое важное, у нас есть общее стремление построить светлое будущее на Южном Кавказе.
Понимая, что длительный мир и стабильность в регионе невозможны без взаимоприемлемого урегулирования конфликтов, мы предложили создать новый региональный форум, чтобы облегчить и ускорить поиски компромиссов. Идея в том, чтобы усадить лидеров пяти стран – Азербайджана, Армении, Грузии, Российской Федерации и Турции за стол переговоров для решения региональных проблем и укрепления доверия.
Выступив с инициативой создания Платформы стабильности и сотрудничества на Кавказе, Турция признала, что это нелегкий процесс, поскольку наличие конфликтов служит одновременно и поводом для появления такой структуры, и главным препятствием в процессе реализации идеи. Более того, это не первое предложение по формированию некой кавказской организации: с 1990-х гг. выдвигался целый ряд схожих инициатив, но все они остались нереализованными, несмотря на добрые намерения. Памятуя о прошлых неудачах, мы собираемся создать структуру, которая сможет способствовать диалогу, обмену идеями и укреплению доверия между основными действующими лицами региона, и считаем, что это будет длительный процесс, а не одномоментное действие. Идея платформы, как таковой, создаст в будущем многообещающую альтернативу насилию и инструмент урегулирования конфликтных ситуаций.
Чем бы ни увенчались наши усилия, направленные на достижение устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе, ясно одно: Турция останется активным участником мирного процесса в регионе и продолжит создание прочного и конструктивного партнерства с Россией, чтобы сотрудничать с ней в нормализации ситуации.
Со времени окончания холодной войны прошло 20 лет, и сегодня процесс глобализации вступает в новую стадию. До 1990-х гг. условия, определявшие мировой политический порядок, были гораздо яснее, хотя отношения между ведущими державами порой обострялись до пугающего уровня. Сегодня мы живем в совершенно ином, глобальном, мире. Демократия, права человека и рыночная экономика заложены в фундамент системы международных отношений. Вчерашние враги становятся партнерами в современной взаимозависимой глобальной экономике. В этом контексте отношения между Москвой и Анкарой являются структурным фактором в нашем регионе и за его пределами. Турецко-российские отношения действительно представляются неотъемлемой частью многомерной внешней политики Анкары. Начинались они как скромные торговые связи, но быстро развивались, включая в себя всё новые сферы сотрудничества. Я глубоко удовлетворен тем, что наши отношения приобрели стратегическое измерение.
Многочисленные вызовы, такие, к примеру, как организованная и транснациональная преступность, нелегальная иммиграция, межкультурная и религиозная нетерпимость, экстремизм и терроризм, требуют укрепления взаимодействия между Турцией и Россией.
Это касается также и региональных проблем. На Турции и Российской Федерации лежит историческая и нравственная ответственность по объединению усилий в деле достижения мира, безопасности, стабильности и процветания на Южном Кавказе, и нам будет легче выполнить свой долг, если мы будем сотрудничать на основе общего понимания стоящих перед нами проблем и путей их решения. Культивируя компромисс и добрососедские отношения на Южном Кавказе, мы будем способствовать урегулированию других конфликтов на планете, а также созданию атмосферы согласия и взаимопонимания. Это то, что нам следует делать, чтобы формировать настоящее и готовить светлое будущее нашего общего региона.

Горизонт в тумане
© "Россия в глобальной политике". № 6, Ноябрь - Декабрь 2009
О позиционировании России в условиях глобальной неопределенности
Влад Иваненко – доктор экономики, советник Министерства природных ресурсов Канады. Положения статьи отражают личную точку зрения автора и ни в коей мере не позицию его работодателя.
Резюме Кризис выявил ограниченность способности рынков к саморегулированию, что повлечет за собой ревизию отношений между частными компаниями и государством в пользу последнего. Складывается впечатление, что правительственные программы стимулирования рынков, начатые осенью 2008 года, пришли всерьез и надолго.
Всякий кризис, особенно такой сложности, как нынешний, создает ситуацию неопределенности, когда опасности неразрывно связаны с возможностями. Для России, которая на протяжении уже многих лет находится в поиске собственной стратегии развития, адекватная оценка сложившихся обстоятельств – как собственного потенциала, так и протекающих вокруг процессов – особенно важна.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОРЯДКА-2009
Переустройство мирового экономического порядка, спонтанно начавшееся осенью 2008 г. и перешедшее в вялотекущую стадию к зиме 2009–2010 гг., можно охарактеризовать тремя явлениями.
Во-первых, низкая ликвидность системообразующих банков стран с устойчивым торговым дефицитом (Великобритания и Соединенные Штаты) вызвала паралич мировой банковской системы в сентябре – октябре 2008 г. Платежный баланс построен по принципу двойного счета, поэтому увеличение дефицита по текущему счету товаров и услуг должно идти параллельно с ростом счета операций с финансовыми инструментами. Так и происходило до 2008 г., когда банки США «связывали» приходящие капиталы долгосрочными активами (например, казавшимися выгодными вложениями в американскую ипотеку).
Падение стоимости этих фондов побудило инвесторов закрывать свои позиции, что привело к оттоку денег из тех банков Соединенных Штатов, которые реинвестировали их под ипотечный залог. Стремясь привести в норму ликвидность, пострадавшие банки начали продавать зарубежные активы, выводя из равновесия банковские системы других стран. Чтобы избежать финансового хаоса, связанного со спонтанным перераспределением ликвидности, правительствам, в первую очередь администрации США, пришлось прибегнуть к массовому кредитованию национальных банковских систем.
Это принесло свои плоды. К ноябрю 2009 г. можно было говорить о восстановлении ликвидности трансатлантической банковской системы, на что указывает уменьшение разницы между процентными ставками на межбанковские кредиты в Лондоне и ставками на государственные облигации в Вашингтоне (TED spread) до предкризисного уровня начала 2007 г.
Во-вторых, одновременно с банковским кризисом падал товарооборот мировой торговли. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), суммарный месячный товарооборот стран, входящих в ОЭСР, и восьми стран, претендующих на членство в этой организации (включая Россию), упал с 2 трлн 320 млрд долларов в июле 2008 г. до 1 трлн 469 млрд в феврале 2009 г. Значительно сократились сальдо счета товаров и услуг нетто-импортеров и нетто-экспортеров, о чем можно судить по уменьшению коэффициента вариации сальдо до самого низкого значения с 2003 г.
В-третьих, активное правительственное вмешательство в дела кредиторов и должников, до сей поры считавшихся частными, указало на фактическую смену экономической парадигмы в Соединенных Штатах – страны, на модели которой базируется система современной мировой экономики. Практика массового вливания государственных денег сначала в банковскую систему, потом в автомобильную промышленность, затем в энергетику означала фактический разрыв бюрократического Вашингтона с традицией свободного рынка и переход на более знакомую в России модель «ручного управления».
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
Наметившаяся экономическая стабилизация не означает, что мир стал более определенным. Напротив, в самое ближайшее время правительствам нескольких государств придется принимать непростые решения.
Наибольшие трудности ожидают Вашингтон, который еще не определился с тем, как выбраться из бюджетной западни. Согласно данным Казначейства США, правительственный долг вырос с 9 трлн 646 млрд долларов на конец августа 2008 г. до 11 трлн 813 млрд на конец августа 2009 г., причем скорость роста долга по месяцам не замедлялась до последнего времени. Расклад держателей долга американского правительства показывает, что дополнительные покупки совершают частные вкладчики, включая иностранных. Поскольку поведение этой категории инвесторов непредсказуемо, Вашингтон очень скоро может оказаться в ситуации, когда рынок согласится предоставить ему кредиты лишь под большие проценты. Он может пойти и на повышение процентной ставки, рискуя при этом выстроить финансовую пирамиду из своих облигаций, либо предпочесть обратиться к помощи печатного станка с возможным раскручиванием инфляционной спирали.
Второй вариант представляется для экономики Соединенных Штатов менее убыточным в краткосрочном плане. При падении курса доллара значительная доля потерь будет перенесена на иностранных держателей американских долговых бумаг из Китая, Японии, арабских стран – экспортеров нефти и офшорных центров, расположенных в бассейне Карибского моря и в Великобритании. Однако инфляционное перераспределение благосостояния затронет и США: пенсионные фонды обесценятся, и усилится разрыв в доходах между жителями относительно благополучных и обедневших штатов. Остается только гадать, как средний класс Америки (основа ее демократии) отреагирует на потерю сбережений всей жизни.
Кроме проблемы бюджетного дефицита, Вашингтону придется разбираться с моделью экономического развития, прежнюю версию которой – свободный рынок – он спонтанно заменил под давлением обстоятельств последнего года. Хотя американское правительство на словах заявляет о неизбежной реприватизации «временно» национализированных активов, в первую очередь банковских и в автомобилестроении, создается впечатление, что частные компании всерьез начали подстраивать свои инвестиционные планы под программы правительства. Поэтому, даже если оно и захочет выставить на продажу свои доли в компаниях, сомнительно, чтобы национальные частные игроки проявили желание их выкупить без существенного дисконта и без обещания продолжения государственной поддержки. Иностранным претендентам, скорее всего, укажут на дверь, ссылаясь на «стратегическую важность» активов. Не окажется ли тогда возврат к утерянным экономическим идеалам невозможным?
Проблема дисбаланса внешней торговли и возможный пересмотр Вашингтоном модели развития влекут за собой существенные последствия для государств, выбравших экспортную стратегию, таких, к примеру, как дальневосточные экономики (Китай, Япония), Германия и в определенной мере Россия. Отличительной чертой данной парадигмы является явная или неявная специализация на обслуживании рынков других держав – более крупных и богатых. Чтобы преуспеть в рамках такой модели, необходим постоянный рост экспорта, но, по последним данным ОЭСР на август 2009 г., в мировых масштабах он не восстановился. Возникшая неопределенность ставит под вопрос целесообразность экспортной модели развития, что в конце концов может перерасти в необходимость пересмотреть идеологию развития в Берлине, Москве, Пекине и Токио.
Быстрый рост расходов американского правительства одновременно начинает беспокоить внешних кредиторов. Особенно это заметно на примере Китая, который, согласно данным Казначейства Соединенных Штатов, с июня 2009 г. начал покидать рынок федеральных бумаг. Вашингтон пока смог найти замену в лице более лояльных инвесторов из Японии, Гонконга и Великобритании (включая офшорные зоны), но подобную игру невозможно продолжить без решения проблемы бюджетного дефицита США. Если же последняя будет решена за счет инфляционного финансирования, перед другими странами встанет дилемма: либо последовать примеру Вашингтона, что повлечет за собой рост мировых цен, либо разрабатывать инновационные методы защиты национальных экономик от последствий падения курса доллара.
Чтобы перевести опасности и возможности, возникшие в мире за последний год, в плоскость практического применения, следует сначала определить, какие цели ставит перед собой Россия как федеральное евразийское образование.
Для установления национальных приоритетов можно воспользоваться методом демократического выбора. В этом случае ориентиры развития предлагаются политическими партиями, наиболее популярные из которых поддерживаются на выборах избирателями. В целом данный метод подходит для России, граждане которой имеют право голоса, если не возможность задавать цели правительству. Российская специфика такова, что программа победившей в 2007 г. партии «Единая Россия» («План Путина») не расшифрована в деталях, что предоставляет широкие возможности для интерпретаций. Все же на основе действий, предпринятых российскими властями после выборов, и результатов опросов общественного мнения можно сделать вывод, что элита и «молчаливое большинство» ставят перед собой две главные цели:
сохранение единого российского культурного пространства, что подразумевает независимую внешнюю и внутреннюю политику;
развитие экономики и инфраструктуры, достаточное для поддержания жизнедеятельности государства и высокого уровня жизни населения.
В практическом плане данные цели означают определение и фиксацию границ этого пространства с соседними цивилизационными блоками, а также более быстрый рост благосостояния России относительно других держав. Исходя из названных приоритетов, рассмотрим, насколько благоприятна сложившаяся ситуация и какие меры могут способствовать решению поставленных задач.
ГРАНИЦЫ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ РЕАЛИЯМ
Хотя общность культуры можно интерпретировать несколькими способами, в экономическом плане она определяется как идентичность моделей поведения предпринимателей и чиновников сопредельных территорий, их производителей и потребителей в процессе создания и передачи товаров и услуг, обладающих рыночной стоимостью. Подобная поведенческая близость облегчает контакты, или, выражаясь экономическим жаргоном, «сокращает издержки обращения». Поэтому единое цивилизационное пространство, будь то российское либо иное, отличается от сопредельных территорий не только общностью формальных законов, но и повышенным объемом торговли, более тесным переплетением технологических цепочек и тенденцией к формированию «особых» отношений между ее формально независимыми членами.
В моей статье, опубликованной в вашем журнале два года назад («Россия в глобальной политике», 3/2007), я поставил вопрос об идентификации естественных границ российского пространства на основе данных взаимной торговли государств Евразии. Используя гравитационную модель, я рассчитал временные изменения в «расстоянии» между Россией и ее торговыми партнерами как соотношение ВВП и объема обоюдного экспорта за 1997–2005 гг. Чем меньше получался показатель расстояния, тем более сильным считалось притяжение. Выяснилось, что к России наиболее тесно прилегают Белоруссия, Казахстан и Украина, из чего был сделан вывод, что эти четыре страны формируют единое экономическое пространство.
С тех пор появились новые данные, которые позволяют проверить стабильность полученного результата. Оказалось, что расстояние между Россией и вышеуказанными странами продолжало быстро сокращаться в 2006–2008 гг. вопреки регулярным новостям о «торговых войнах» между ними. Подобное развитие отношений свидетельствует о возможной идентификации культурного блока в пределах Белоруссии, Казахстана, России и Украины.
В то же время обнаружилось быстрое расширение торговых связей России с партнерами, принадлежащими к иным – североевропейскому (Финляндия) и центральноевропейскому (Германия, Италия, Нидерланды) – цивилизационным образованиям. Более детальный анализ торговых потоков показывает, что резкое сокращение расстояния между Россией и этими странами происходит в первую очередь благодаря российскому экспорту энергоресурсов в обмен на широкий ассортимент товаров с высокой долей передела. Подобный расклад торговых потоков свидетельствует о зарождающейся интеграции России в экономическое пространство части Евросоюза через энергетический сектор, который становится все более транснациональным. То же можно сказать и о Казахстане, нефтедобывающая промышленность которого постепенно «встраивается» в европейский рынок.
Вторым индикатором интеграции, на сей раз технологической, служат данные о торговле промежуточными товарами, список которых можно найти на портале Статистического отдела ООН. К ним относятся как товары с небольшой долей передела (например, полуфабрикаты из черных и цветных металлов), так и узкоспециализированные товары (в частности, электронные комплектующие). Рынок таких изделий менее развит, чем рынки сырья или товаров конечного спроса, поскольку их производители больше зависят от покупателей. Таким образом, повышенная доля промежуточных товаров в экспорте страны указывает на «встроенность» ее национальных производителей в зарубежные технологические цепочки.
Доля промежуточных товаров в экспорте России составляла на 2008 г. около 15 % , что свидетельствует о том, что страна была относительно мало интегрирована в мировые промышленные конгломераты (за исключением металлургической отрасли, которая в основном нацелена на обслуживание потребителей по всему миру). С другой стороны, доля полуфабрикатов в российском импорте достигала 30 % (за 2008 г.), что может свидетельствовать о потенциальном включении зарубежных поставщиков в местные технологические цепи.
Более детальное изучение структуры поставок в Россию из стран СНГ указывает на неоднородность интеграционных процессов. Например, Украина имеет высокую долю поставок промежуточных товаров, но это преимущественно продукты черной металлургии, которые Украина в еще большей пропорции, чем в Россию, поставляет в другие страны. Более заметны интеграционные процессы в поставках Белоруссии, особенно в области автомобилестроения и электроаппаратуры. Как и Россия, Казахстан в значительной мере ориентирован на сырьевое производство, и присутствие его предприятий в российских или иных международных технологических цепях малозаметно за исключением металлургических производств. Таким образом, можно сделать вывод, что производственная структура современной России больше совпадает с границами государства, нежели с предполагаемым единым культурным полем.
Данные голосований в международных организациях можно принять за указатель схожести взглядов национальных элит на проблемы мировой политики. ООН ведет статистику голосований в Генеральной Ассамблее, данными которой с 2006 г. по 2008 г. мы воспользуемся. По результатам 249 голосований позиция России наиболее часто совпадает с точкой зрения Белоруссии и трех центральноазиатских государств (Казахстан, Киргизия, Узбекистан), а наиболее часто расходится с мнением Украины, которая голосует в унисон со странами Евросоюза. Отсюда можно сделать вывод о наличии взаимопонимания между элитами России и некоторых ее соседей за исключением Украины. Выбор Киева, правда, может быть вызван определенным оппортунизмом, нежели принципиальностью, поскольку позиция стран ЕС чаще всего преобладает в ходе голосований в Генеральной Ассамблее ООН.
По совокупности наблюдений можно заключить, что российская заявка на статус регионального центра только частично подкрепляется фактами и что в некоторых областях страна выходит за пределы, а в других – не доходит до границ своего возможного цивилизационного блока.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ РОСТА БЛАГОСОСТОЯНИЯ РОССИИ
Выбор между стратегиями развития страны можно условно свести к выбору между экспортной моделью и моделью роста за счет повышения внутреннего спроса.
Как мы уже говорили, первая модель подразумевает специализацию на производстве наиболее конкурентоспособной на территории страны продукции, после чего происходит наращивание экспорта этой продукции путем устранения зарубежных конкурентов. Этот результат достигается либо естественным образом за счет уникальных природных ресурсов или климата, а также сокращения трудовых издержек, что позволяет продавать продукцию по демпинговым ценам, либо за счет инноваций, которые делают национальную продукцию лидером по качеству.
Вторая модель подходит для стран, не способных по каким-то причинам наладить экспорт (например, из-за высоких транспортных расходов) или экономика которых переросла рынки их ранее влиятельных партнеров. В таком случае экономические агенты фокусируются на обслуживании тех внутренних рынков, которые наиболее важны для региона, порождая при этом побочный спрос на дополнительные продукты и услуги. Внешнеторговые отношения приобретают второстепенный статус, так как государство экспортирует не столько ради оплаты закупок потребительских товаров либо вывоза финансового капитала, сколько для импорта сырья и товаров, предназначенных для инвестиционных проектов внутри страны.
Как экспортная модель, так и ее альтернатива имеют свои преимущества и недостатки. Экспортную модель проще запустить, однако она работает, когда рынки потенциальных стран-импортеров достаточно емки, а их возможности расплатиться за поставки велики. С другой стороны, модель внутреннего роста более капризна: в частности, ее успех зависит от присутствия того, что называют духом предпринимательства.
Предпринимательство, или способность находить и осваивать новые рынки, есть, пожалуй, один из самых трудноуловимых факторов достижения национального успеха. Советы о том, как преуспеть на этом поприще, обычно сводятся к комплексу правил для правительств, нацеленных на создание «благоприятного делового климата». При этом предполагается, что предпринимательство расцветает только в оранжерейных условиях, предоставленных государством, а не в процессе создания удобной для ведения бизнеса институциональной среды. Данное предположение противоречит историческим наблюдениям, которые увязывают экономический успех модели внутреннего развития скорее с интенсивностью предпринимательской деятельности, нежели с государственной поддержкой бизнеса. При этом нужно отметить, что мелкие предприниматели действительно реагируют на окружающую среду, созданную государством и обществом, поскольку из-за своего малого размера они вынужденно подстраиваются под заданные условия.
Современную российскую модель развития можно классифицировать как вариант модели экспортного развития. Выбранный еще в 1970-х гг. на основе экспорта нефтегазовых ресурсов, он привел к возникновению и установлению устойчивого обмена российских углеводородных продуктов на потребительские товары Европы. Следует отметить, что страна может полагаться на экспортную модель для решения задачи повышения благосостояния. Результаты последних десяти лет свидетельствуют о том, что Россия с ее 16 тыс. долларов на душу населения в 2008 г. (по паритету покупательной способности) ненамного отличается от новых членов Европейского союза. При благоприятной конъюнктуре на нефтяных рынках можно надеяться, что она достигнет уровня благосостояния беднейшего государства «старого» Евросоюза – Португалии с ее 23 тыс. долларов на человека – в ближайшее десятилетие.
Правда, для оптимизации работы экспортной модели необходимо диверсифицировать экспорт, то есть расширить ассортимент предложения Европе за счет инвестиций в производство таких полуфабрикатов, как металлопрокат, лесоматериалы либо удобрения. В этом случае российский экспортный доход будет меньше зависеть от мировых цен на нефть, что положительно скажется на достатке россиян. Но, с другой стороны, решение задачи повышения благосостояния за счет экспортной модели означает фактический отказ от решения другой задачи, то есть поддержания культурного пространства, отличного от Евросоюза. Экспорт ведет к взаимозависимости между Большой Европой и Россией и соответственно размывает границу российского культурного пространства.
Таким образом, модель внутреннего развития лучше соответствует целям повышения достатка с одновременным сохранением национальной идентичности; однако, как уже отмечалось, ею труднее воспользоваться. Данные подсказывают, что частное предпринимательство, основы которого были заложены в России в 1992 г., не проявило себя как эффективная форма деятельности, причем не обязательно из-за ограничений, накладываемых на бизнес извне. Согласно данным Всемирного банка, который оценивает качество деловой среды, российские предприниматели недовольны работой государственных органов в обратном порядке к оценке их коррумпированности. Получается, что бизнесмен в России скорее доволен возможностью нарушить правила, нежели ищет возможности работать в рамках этих правил. Это подкрепляется данными Всемирного экономического форума о сомнительных достижениях российского бизнеса в области деловой этики.
Дополнительным фактором, позволяющим усомниться в эффективности российского частного рынка, служат сведения об уровне неравенства доходов в России, который является самым высоким среди стран «Большой восьмерки» (за исключением Соединенных Штатов). По информации Федеральной службы государственной статистики РФ за 2008 г., коэффициент Джини, величина которого указывает на степень неравенства, равнялся 42,3 для России против 43,9 для США (2007), причем российский индекс продолжает расти. Такое распределение валового продукта невозможно объяснить различиями в «человеческом капитале», поскольку в среднем россияне имеют примерно одинаковый уровень образования. Скорее условия для ведения частного бизнеса в России таковы, что в результате возникает ситуация, когда немногие могут выгадывать за счет остальных.
Непонятна также ситуация с инфляцией, которая остается стабильно высокой вопреки попыткам Москвы ограничить рост цен, используя классические денежные инструменты. Создается впечатление, что российский предприниматель настроен на приобретение монопольных привилегий больше, чем на максимизацию прибыли путем снижения издержек и повышения качества.
ВОЗМОЖНОСТИ РОССИИ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ
Сопоставление возможных сценариев экономического кризиса и вариантов поведения России указывает как на открывающиеся возможности, так и на потенциальные опасности.
Падение популярности англо-американской модели мировой экономики ведет к пересмотру стратегий развития ведущих стран мира. Те государства, которые до сих пор придерживались экспортной модели развития, вероятно, пострадают больше остальных. Это наблюдение касается и России как крупного поставщика нефти, но относительная негибкость спроса на этот продукт означает, что хотя ситуация на рынках сбыта и окажет влияние на стабильность поступления экспортных доходов в российскую казну, но степень их максимального падения окажется ниже, чем по другим группам товаров. В этом отношении смена парадигмы означает более серьезные последствия для другого потенциального члена общего российского пространства – Украины, которая может потерять существенную часть рынков сбыта на свой основной товар – изделия из черных металлов. Таким образом, кризис способствует переориентации украинских экономических интересов в сторону интеграции со своими восточными и северными соседями.
Кризис выявил ограниченность способности рынков к саморегулированию, что повлечет за собой кардинальную ревизию отношений между частными компаниями и государством в пользу последнего. Складывается мнение, что правительственные программы стимулирования рынков, начатые осенью 2008 г., пришли всерьез и надолго. В этих условиях Россия будет шагать в ногу со временем, если ее правительство возьмет на себя всю полноту ответственности за развитие страны. При этом вовсе не обязательно делать ставку на государственные корпорации как локомотивы роста. От правительства требуется задать параметры развития таких крупных инвестиционных программ, как жилищное строительство, модернизация инфраструктуры или технологическое переоснащение, которые станут катализаторами развития внутреннего рынка.
Рост влияния государства в кризисных условиях ужесточает требования к качеству государственного управления, которое оценивается традиционно низко для России (например, согласно данным Всемирного экономического форума за 2006 г., Россия занимала 110-е из 117 мест в мире по степени «читабельности» правительственных инструкций). Ожидаемое усиление роли чиновников в качестве заказчиков новых программ национального развития подчеркивает необходимость, по крайней мере, ограничить возможности для коррупционных растрат выделенных средств – тема, которая заслуживает отдельной статьи.
Среди новых угроз, вызванных кризисом, можно также отметить потенциальную девальвацию основной валюты мира – американского доллара, что ведет к обесцениванию долларовых накоплений стран нетто-экспортеров. В настоящее время мировое сообщество еще не считает необходимым найти лучший способ для хранения излишков экспортного капитала, который продолжает абсорбироваться в виде американских финансовых активов. Создается впечатление, что многие государства пытаются сохранить паритет своих валют с долларом, при этом, вероятно, втайне надеясь, что пресловутый дух американского предпринимательства вызволит Соединенные Штаты из рецессии.
Данный подход рискован. Он не учитывает того, что американская рецессия может затянуться на годы, если не на десятилетия. В этом случае возможен внезапный всплеск мировой товарной инфляции с последующими крайне болезненными перераспределительными процессами, сравнимыми с теми, которые испытала на себе бЧльшая часть россиян в 1991–1998 гг. Побочный эффект роста цен, правда, будет скорее благоприятным для России – в данном случае как экспортера дорожающего сырья, и он может уберечь страну от потрясений, связанных с обесцениванием долларовых накоплений.
Завершение активной стадии кризиса не означает автоматического возврата к прежней ситуации. В течение следующих нескольких лет мы, скорее всего, станем свидетелями кардинальной перестройки мировой экономической системы. При этом роль государства как инициатора программ развития повышается до такого уровня, при котором идея свободного рынка оказывается неработоспособной. В условиях нарастающей неопределенности России, как, впрочем, и любой другой стране, следует держаться старой морской истины: «Если вышел в море, то не подстраивайся под капризы природы, а держи курс на цель, к которой идешь».

Будущее России: нация или цивилизация?
Игорь Зевелёв
© "Россия в глобальной политике". № 5, Сентябрь - Октябрь 2009
И.А. Зевелёв – доктор политических наук.
Резюме Для русских, в отличие от других европейских народов, распад Советского Союза не решил «национальный вопрос» – напротив, он его создал.
Распад Советского Союза не решил для русских «национальный вопрос» – напротив, он его создал. Впервые на протяжении многовековой истории миллионы людей, считающих себя русскими, оказались разделены политическими границами и живут на территориях нескольких соседних государств. Начиная с 1992 года российская политика в отношении соотечественников за рубежом формировалась в значительной степени как осторожный, умеренный ответ на этот вызов. Россия не поддержала ирредентистские настроения в Крыму, Северном Казахстане и других местах компактного проживания русских. Первая попытка защиты своих граждан и соотечественников за рубежом с помощью военной силы была предпринята в августе 2008-го в Южной Осетии и Абхазии, где только около двух процентов населения – этнические русские. Означает ли это, что этнический фактор никак не сказывается на представлениях и политике России в отношении постсоветского пространства? Может ли ситуация измениться в будущем?
Факт проживания около четверти русских за пределами Российской Федерации (а из них более половины – в сопредельных государствах) способен оказать сильнейшее воздействие на развитие российской государственной идентичности и системы международных отношений в Евразии в ХХI столетии. Однако до сих пор это только предположение, или, скорее всего, лишь один из возможных сценариев.
К настоящему времени в России сложилось главным образом два подхода к «русскому вопросу». Во-первых, это радикальный националистический дискурс о «разделенном народе», который пока не оказывает существенного влияния на конкретную политику. Во-вторых, умеренные концепции «диаспор» и «русского мира», а также вялая политика государства по отношению к соотечественникам. Если попытаться поставить эти подходы в широкий исторический контекст формирования российской идентичности за последние двести лет, то, несколько упростив ситуацию, можно утверждать, что они отражают традиционное для страны сосуществование двух начал – этнонационального и наднационального.
После распада Советского Союза объективные факторы, казалось, создали благоприятные условия для укрепления этнического сознания русских и их ведущей роли в формировании новой национальной идентичности России. Составляя около 80 % населения (против 43 % в Российской империи конца ХIХ века и 50 % в Советском Союзе), русские впервые за последние два столетия оказались безусловно доминирующей этнической группой в своей стране. В интеллектуальном отношении русский этнонационализм получил мощный импульс благодаря публицистике Александра Солженицына, который стал первым крупным мыслителем, бросившим вызов наднациональной традиции в ее имперской форме. Глубочайший экономический кризис 1990-х, а также трудности, с которыми столкнулись русские в соседних национализирующихся государствах, создали предпосылки для политической мобилизации вокруг этого вопроса. Последнее десятилетие, отмеченное мощным притоком мигрантов в большие российские города, изобилует фактами роста ксенофобии и активизации экстремистских группировок.
Однако русский этнонационализм пока не стал серьезной силой на внутреннем пространстве России и не оказывает сколько-нибудь значительного влияния на отношения с соседними государствами. Наднациональные аспекты российской идентичности в различных формах (имперских, советских, цивилизационных, универсалистских) продолжают играть существенную роль. Изменится ли ситуация в обозримом будущем и какими международными последствиями это чревато?
НЕОФОРМИВШЕЕСЯ НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ
По опыту других стран можно судить, что за строительство нации на обломках империи обычно берутся приверженцы этнического национализма. Кемалистская Турция начала свой эксперимент по строительству национального государства с геноцида и изгнания армянских, греческих и курдских меньшинств. Австрийцы приветствовали аншлюс после того, как прожили 20 лет в небольшом постимперском государстве. После распада Югославии Сербия и Хорватия стали проявлять агрессивный национализм и попытались перекроить постъюгославскую политическую карту. Все бывшие советские республики взлелеяли этнополитические мифы, в которых государство провозглашалось родиной «коренного» населения. Во всех этих случаях теоретической базой соответствующей политики послужила традиция исторического романтизма, в соответствии с которой человечество четко разделяется по национальной принадлежности, а культурно (или этнически) обусловленные нации обладают священными правами.
Под влиянием целого ряда исторических обстоятельств Россия, поднявшаяся из-под обломков СССР, представляла собой не вполне оформившуюся нацию с удивительно низким уровнем самосознания и без какого бы то ни было массового национального движения. В этом заключалось ее фундаментальное отличие от других бывших республик СССР, в частности государств Балтии, Армении и Грузии.
На протяжении многих веков в сознании русских так и не сложилось сколько-нибудь отчетливых и исторически обоснованных критериев, позволяющих отличить «нас» от «них». Непонятная ситуация с определением границ русского народа играла роль важнейшего фактора, который формировал историческое развитие Евразии в течение, как минимум, трех столетий и облегчал задачу строительства гигантской империи.
Российская империя и ее преемник Советский Союз были, как Габсбургская и Османская империи, территориально целостными образованиями: центр и периферию не отделяли друг от друга никакие естественные границы. В случаях России и Советского Союза функцию центра фактически выполняла столица (сначала Санкт-Петербург, а потом Москва), а не какая-то четко определенная срединная территория. В формировании российского национального самосознания важную роль играл именно географический фактор, основой для которого служила комбинация тесно переплетенных между собой этнических и имперских компонентов. При этом образование Российской империи предваряло формирование национальной идентичности русских, процесс самоутверждения которой мы наблюдаем сегодня. В течение нескольких веков российская элита была в большей степени заинтересована в расширении границ империи, нежели в укреплении национального самосознания.
Отсутствие четких границ между империей и ее русским ядром позволило некоторым аналитикам заключить, что в России не существовало доминирующей этнической группы: все группы, в том числе и русские, являлись подданными имперского центра. Этот тезис, который на первый взгляд служит для русских самооправданием, играет чрезвычайно важную роль в их постсоветском сознании.
В сегодняшней России нет ни одной политической силы, которая рассматривала бы империю в качестве инструмента продвижения интересов русских за счет других народов. Это резко контрастирует с идеологией и официальной историографией новых независимых государств. И, что еще более важно, свидетельствует об укоренившейся в постсоветском российском сознании вере в то, что империя была для русских обузой (Александр Солженицын), или служила интересам всех народов (Геннадий Зюганов), или являла собой всеобщее зло из-за своей коммунистической природы в советский период (либералы).
Еще одним обстоятельством, которое до самого последнего времени сдерживало массовый русский национализм, является общность культурных, языковых и исторических корней России, Белоруссии и Украины и, как следствие, нечеткость границ между восточными славянами. Столетиями это заставляло русскую элиту «смягчать» свой национализм подобно тому, как наличие в Соединенном Королевстве «внутренней империи», включающей в себя Северную Ирландию, Уэльс и Шотландию, подавляло английский национализм.
Важную роль в ослаблении русского национального сознания сыграли такое понятие, как «советский народ», а также стоящие за ним реалии. Дети от смешанных браков, люди, пустившие корни вдали от своих «исторических родин», русские из крупных городских центров – все они оказались наиболее восприимчивы к этой концепции. Русские принимали ее более охотно, чем другие этнические группы, потому что во всем Советском Союзе понятие «советский человек» косвенно подразумевало русскоязычность, а также признание «цивилизирующей» миссии русской культуры и ее экстратерриториального характера.
Теоретически многое объединяет концепцию «советского народа» в СССР и идею «плавильного котла» в США. (Американские понятия «многокультурности» и «многообразия» тоже имели своего советского идеологического кузена – концепцию «расцвета наций при социализме».)
Некоторые националисты сетовали на то, что имперская роль лишила русских их этнической самобытности. Писатели-славянофилы выражали беспокойство в связи с тем, что «советский патриотизм» разрушал русское национальное самосознание, а жители российских городов все чаще стали называть себя «советскими людьми». В наше время модно сбрасывать со счетов реалии, которые обусловили возникновение понятия «советский народ», а между тем эта концепция адекватно отражала некоторые тенденции (смешение наций и образование новой общности), хотя и игнорировала ряд других явлений (национальное пробуждение, прежде всего у нерусских народов).
Строительство национального государства обусловлено наличием государственных институтов. В ХХ веке нации чаще создавались государствами, а не наоборот. Для русских родным был весь Советский Союз, что составляло резкий контраст с другими этническими группами, которые предпочитали называть родиной только свою республику. В РСФСР отсутствовали многие признаки, присущие другим республикам. Имперский центр совпадал с этническим русским центром. У РСФСР не было ни своей отдельной столицы, ни Коммунистической партии (до 1990 г.), ни отдельного членства в ООН (в отличие от Белоруссии и Украины). Неразвитость русского национального самосознания и неопределенность границ русского народа в значительной мере были обусловлены институциональной слабостью РСФСР.
На протяжении всего периода советской истории – от Ленина до Горбачёва – существовал общий политический знаменатель, который серьезно ослаблял процесс формирования русского этнического самосознания, все более и более стирая его отличие от сознания наднационального. Речь идет о борьбе, пусть и не всегда последовательной, всех советских режимов против русского национализма. Систематическое ограничение русского национализма было той ценой, которую советское руководство было готово заплатить за сохранение многонационального государства.
Неоформившееся русское национальное самосознание является одним из ключевых факторов, объясняющих, почему распад Советского Союза произошел так мирно. Особенно если сравнивать его с кровопролитной дезинтеграцией другой коммунистической федерации – Югославии, в которой сербы имели более четкое представление о своей национальной идентичности. Возможно, Россия без явственно очерченных исторических и культурных границ была единственным мирным решением «русского вопроса» после краха СССР. Как это ни парадоксально, непоследовательные и запутанные отношения Москвы с республиками, входящими в состав Российской Федерации, и умеренная, а порой и абсолютно неэффективная политика в отношении русских, проживающих в ближнем зарубежье, благоприятно отразились на обеспечении безопасности в Евразии в переходный период после распада СССР. Выработка ясного подхода к строительству национального государства, которая неизбежно повлекла бы за собой пересмотр политических границ России, могла обернуться катастрофой. Остается добавить, что российская политическая элита зачастую проводила невнятную, но, как оказалось, спасительную политику в течение последних восемнадцати лет не в силу своей мудрости, а по причине крайней слабости и неспособности четко сформулировать национальные интересы.
ИДЕЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В ИСТОРИИ РУССКОЙ МЫСЛИ
Подъем национализма в широких массах обычно следует за ростом националистических настроений у представителей элиты. Полтора столетия центральное место в интеллектуальных баталиях о будущем России занимал вопрос об отношениях с Европой.
Современные дебаты на тему русской идентичности уходят корнями в споры между славянофилами и западниками XIX века. Сейчас, как и тогда, в центре внимания – соотношение российской и западной цивилизаций. В дискуссии между славянофилами и западниками не играли существенной роли такие темы, как многонациональный состав Российской империи, отношения между русским и другими народами, а также границы русского народа, ставшие впоследствии традиционными для представителей российской интеллигенции.
Характерно, что специфические проблемы национальных меньшинств в России впервые рассматривались с относительно последовательных теоретических позиций не завсегдатаями интеллектуальных салонов Санкт-Петербурга и Москвы, а членами киевского Кирилло-Мефодиевского братства. Тон в этих дискуссиях, начавшихся в 1846 году, задавали украинский поэт и общественный деятель Тарас Шевченко и русский исследователь истории Украины Николай Костомаров, которые при этом не представляли себе раздельного существования славянских народов. Более того, Шевченко и Костомаров развивали идею создания панславянской федерации либеральных государств, в состав которой должны были войти Богемия, Болгария, Польша, Россия, Сербия и Украина. В то время еще никто не выделял сегодняшнюю Белоруссию в качестве хотя бы потенциально самостоятельной страны.
В 1869-м Николай Данилевский попытался объединить славянофильство, панславизм и политику империализма в своей работе «Россия и Европа». По мнению ученого, общая славянская культура могла послужить основой для обеспечения ведущей роли русских в рамках будущей федерации славянских народов со столицей в Константинополе. В данной концепции отчетливо проявилась наднациональная, цивилизационная тенденция в развитии российской идентичности.
В XIX столетии в интеллектуальной среде произошло еще одно яркое событие, которое наложило заметный отпечаток на последующие дискуссии, – прозвучала мысль об «универсальном» характере русской идентичности. Сформулированная славянофилами, эта идея получила дальнейшее развитие в трудах Фёдора Достоевского, который в 1880 году в своем знаменитом очерке о Пушкине писал: «Ибо что такое сила духа русской народности, как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности?» В своих рассуждениях Достоевский (вслед за славянофилами и западниками) ставил Россию в европейский и всемирный контекст: «Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите».
Можно сказать, что писатель с удивительной страстью выразил некоторые знаменательные черты русского национального самосознания того времени: его открытость, наднациональный характер и мессианство. Фёдор Достоевский восхищался способностью Пушкина понять всю европейскую культуру и вместить ее в русскую душу. Универсализм Достоевского чем-то сродни философии «избранного народа», в той или иной форме присутствующей у евреев и американцев. Как правило, это легко сочетается с патернализмом по отношению к другим народам.
Политика России в XIX веке определялась не идеями Данилевского или Достоевского, а доктриной «официального национализма», сформулированной графом Сергеем Уваровым. Столпами империи были провозглашены «православие, самодержавие, народность». Третий принцип – народность – представлялся самым туманным. При этом главный вопрос так и оставался нерешенным: была ли Российская империя государством русских и для русских, или она являлась наднациональным образованием, требовавшим от всех лишь одинаковой верности монархии?
Славянофилов и западников, Данилевского, Достоевского, Уварова и других интересовало место России по отношению к Европе, славянскому единству и вселенной, при этом они полностью игнорировали проблемы, одолевавшие другие народы империи. Они считали, что «малороссы» (украинцы), «белороссы» (белорусы) и «великороссы» (этнические русские) образуют единый русский народ, причем все остальные (инородцы) фактически исключались из теоретических изысканий. Очевидно, что отсутствие должного внимания к событиям в западной части империи, прежде всего в Польше, где шел процесс усиления национального самосознания, было интеллектуальной ошибкой.
Когда во второй половине XIX столетия формирование наций стало набирать силу, всё более зримые очертания приобрела политика русификации, особенно активно проводившаяся при Александре III. Произошел очевидный сдвиг от лишенного этнических предпочтений менталитета дворянства, озабоченного проблемами верноподданничества, в сторону этнически более окрашенных попыток в одних случаях превратить нерусских в русских, а в других – обеспечить верховенство русских над иными «пробуждающимися» народами. Этот сдвиг создал предпосылки к тому, что русские постепенно выделились в качестве отдельного народа. Тем не менее к 1917-му, когда от преданности русских престолу уже практически ничего не оставалось, они еще не являлись сплоченной нацией в современном понимании этого слова.
Пётр Струве писал: «Крушение монархии… показало крайнюю слабость национального самосознания в самой сердцевине Российского государства – среди масс русского народа». Удивительно, но, как и славянофилы семьюдесятью годами ранее, Струве не рассматривал в качестве одной из наиважнейших проблему состава российского народа и места этнических русских в государстве. Точно так же лидер Конституционно-демократической партии России Павел Милюков писал об общей российской государственной «нации», недооценивая национальное пробуждение нерусских народов империи.
Важный вклад в дискуссию о русской идентичности внесли в 1920-х годах евразийцы – группа молодых представителей интеллигенции в эмиграции (Пётр Савицкий, Николай Трубецкой и др.). В поиске истоков российской нации они не ограничивались исследованием славянских корней. Утверждая, что существенную роль в ее формировании сыграли тюркские и угро-финские элементы, евразийцы первыми включили неславянские народы в теоретические исследования идентичности русских. Согласно их теории, Россия возникла на основе общего географического пространства и самосознания; она не являлась ни европейской, ни азиатской – она была евро-азиатской. Хотя представители евразийской школы имели серьезные разногласия с другими теоретиками, они продолжили традицию наднационального, неэтнического подхода к определению «русскости».
Большевики стали той партией, которая больше других обращала внимание на «национальный вопрос». Главными особенностями их взглядов были объявление Российской империи «тюрьмой народов», осуждение «великорусского шовинизма» и провозглашение права всех народов на самоопределение. Большевики, вопреки заявленным принципам, постепенно воссоздали централизованное государство в границах, которые практически совпали с границами Российской империи. Ценой, которую пришлось за это заплатить, стало подавление русского этнического национализма и создание для других народов бывшей империи национально-территориальных единиц, наделенных различной степенью автономии.
Большевики были готовы пойти на значительные уступки нерусским народам, выделив для них этнические территории и дав им право на самоопределение, чтобы заручиться поддержкой в борьбе с царской империей. Они были уверены, что русские, будучи более «передовой» нацией, не нуждались в подобных заигрываниях, поскольку их вполне должны были устроить социальные идеалы большевиков.
Когда задача осуществления мировой революции отложилась на неопределенное время, уступки национальностям, населявшим Советский Союз, приобрели долгосрочный, а не временный характер. Функцию главного противовеса этнонациональной федеративной системе выполняла централизующая роль партии. Когда с приходом к власти Михаила Горбачёва влияние КПСС стало ослабевать, государство начало клониться к закату.
СТРОИТЕЛЬСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА КАК ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ
Многие на Западе исходят из того, что Россия перестанет быть источником угрозы для всего мира и для себя самой, лишь превратившись в «нормальное» европейское национальное государство и оставив свои имперские амбиции. При этом размытые границы русского народа вызывают ощущение беспокойства и тревоги как феномен, способный привести к попыткам реставрации империи. Национальное государство, напротив, воспринимается как проверенная, знакомая и мирная альтернатива. Такой подход не учитывает множество серьезнейших угроз международной безопасности, которые могут возникнуть в результате механистической попытки поставить Россию в один ряд с ее соседями.
В процессе строительства нации возникают следующие ключевые вопросы: кто является ее членом и соответственно какими должны быть ее границы? Наиболее деструктивными чертами любого строительства национального государства были поглощение этнических и религиозных меньшинств и разрушение крупных политических субъектов (как правило, многоэтничных государств). Слишком часто чувство национальной общности и солидарности основывалось на враждебности по отношению к другим. Границы любого западноевропейского государства и соответствующих наций формировались в результате многочисленных войн, внутренних вспышек насилия либо комбинации того и другого.
Для России стремление построить национальное государство на обломках империи неизбежно означало бы вызов ее федеративной структуре, включающей ряд этнотерриториальных единиц, и поставило бы под вопрос ее внешние границы, которые основываются на искусственном административном разделении, проведенном в свое время большевиками. Не приходится сомневаться, что такая попытка могла бы легко подорвать всю систему региональной и глобальной безопасности.
Сбросив свое имперское покрывало после распада Советского Союза, этническая идентичность русских стала более заметной. Хотя этнонационализм в России не является сам по себе хорошо организованной политической силой, не следует исключать его резкое усиление, особенно если цель строительства национального государства станет частью политики. В советских и постсоветских научных и политических кругах, а также в общественном сознании термин «нация» имел и имеет не гражданскую, а ярко выраженную этническую коннотацию. Как это уже неоднократно случалось в истории Европы, рельефно обозначившаяся общая культура может начать рассматриваться в качестве повода для установления естественной политической границы, что послужит толчком к мощным призывам объединить всех русских под одной политической крышей.
Переопределение России в этнических терминах по аналогии с политикой, проводимой многими другими государствами, образовавшимися на территории бывшего СССР, грозит самыми опасными последствиями за всю ее историю – главным образом из-за пересмотра постсоветских границ. А это неизбежно при реализации подобного проекта. Сутью этнически окрашенной националистической программы может стать восстановление географического соответствия между государством и нацией и создание нового политического образования на территории проживания русского и части других восточных славянских народов. Это означает воссоединение России, Белоруссии, части Украины и Северного Казахстана. Характерно, что последний назывался Александром Солженицыным не иначе как «Южной Сибирью и Южным Уралом (или Зауральем)».
Нельзя сказать, что подобные идеи продвигались исключительно политическими маргиналами. В период между 1998 и 2001 годом предпринималось несколько попыток придать данной концепции форму законодательных инициатив. В комитетах Государственной думы обсуждались законопроекты «О национально-культурном развитии русского народа», «О праве русского народа на самоопределение, суверенитет на всей территории России и воссоединение в едином государстве», «О русском народе». Однако им так и не суждено было обрести силу закона. Реалии государственного строительства ставили перед страной совершенно иные задачи, и общий прагматизм российской элиты каждый раз одерживал верх над идеологическими установками отдельных групп политиков.
После установления весьма жесткого контроля над законодательной властью в 2003-м произошла маргинализация дискурса о русском народе и его праве на воссоединение. Тем не менее КПРФ включила тезис о разделенном русском народе в свою программу и недавно подтвердила приверженность этой идее на своем XIII съезде. Требование признания русских разделенным народом по-прежнему содержится в программе ЛДПР. Некоторые единороссы, прежде всего депутат Государственной думы Константин Затулин, постоянно говорят о том, что русский народ – «крупнейшая в мире разделенная нация». Многочисленные интернет-сайты и националистическая блогосфера активно популяризуют эти идеи.
Альтернативой этнической нации является нация гражданская. Милюков и Струве писали о формировании общероссийской нации еще до революции. Сегодня Валерий Тишков исходит из того, что современная российская гражданская нация уже состоялась. В условиях доминирования этноцентристских подходов подобный подход чрезвычайно полезен. В то же время российская гражданская нация – это скорее проект, вектор возможного развития, одна из тенденций. Внутри страны есть большие группы людей, которые называют себя россиянами, но их нация не российская, а осетинская, татарская, якутская... Конституция страны закрепляет такое положение. Кроме того, достаточно многочисленные соотечественники за рубежом считают себя частью русской нации. Развитие гражданской идентичности также делегитимирует сегодняшние границы России, поскольку ставит под сомнение необходимость разрушения Советского Союза: почему нельзя было построить демократическое государство на гражданских началах в его старых границах?
Для построения настоящей гражданской идентичности необходимо иметь легитимные и желательно исторически обоснованные границы, а также стабильные и эффективные государственные институты. В границах современной Российской Федерации общероссийская нация молода, нестабильна и слаба. Регулярные выборы, политические партии, общие социально-экономические проблемы и политика могли бы постепенно превратиться в оболочку новой политической нации. Однако практическое отсутствие демократических институтов и множество неразрешенных вопросов, возникающих между этнотерриториальными субъектами Федерации и центром, пока ставят серьезные преграды на этом пути. Северный Кавказ представляет собой крайний пример тех трудностей, с которыми может сталкиваться построение общей гражданской идентичности в России. Это очевидная угроза безопасности не только для самой России, но и для всего мира.
Национальное государство представляет собой весьма специфический феномен, который не существует и, скорее всего, никогда не будет существовать в большинстве регионов мира. Должна ли Россия (или любое другое современное государство) с двухсотлетним опозданием шаг за шагом заново пройти путь западноевропейских стран? Есть ли альтернатива строительству нации-государства в сегодняшней России?
ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Сосуществование в российской идентичности двух начал – этнического и наднационального, скорее всего, сохранится в обозримом будущем. Вопрос лишь в том, какие формы будут принимать эти начала, в чем выразятся последствия их соотношения для международной безопасности.
Наднациональной проект в любой его форме, будь то империя, Советский Союз, славянско-православная цивилизация или «всечеловек» Достоевского, – это всегда продукт элиты. Идея нации, как этнической, так и гражданской, более демократична. Если произойдет демократизация российского общества, соотношение между двумя началами может измениться в пользу национального (национально-этнического?). Это было бы вполне в русле общемировых тенденций. Идея «разделенной нации» в данном случае может оказаться в центре внешней политики с катастрофическими последствиями для стабильности в регионе.
Интеллектуальный вызов, который Солженицын бросил наднациональной традиции в ее имперской и советской формах, до последнего времени оставался без ответа. Однако с 2008-го российская власть впервые после распада СССР заговорила в терминах большого наднационального проекта. Мировоззренческие основы внешней политики все чаще стали формулироваться в категориях цивилизационной принадлежности. Продолжая традицию ХIХ – начала ХХ века, Россия пришла к этому не через осмысление «разделенности» русских и их взаимодействия с соседними народами, а в результате обострившихся отношений с Западом. Неудача, постигшая попытки стать самостоятельной частью «Большого Запада», и осознание того обстоятельства, что за этим может стоять нечто большее, чем сиюминутный расклад на международной арене, вновь заставили Россию задуматься о своем месте в мире. Кроме того, претензии на статус великой державы вынудили наконец российское руководство попытаться сформулировать цели внешней политики в терминах, выходящих за рамки национальных интересов.
Идеологически цивилизационная концепция оказалась вполне близка российской власти. В ХIХ столетии об особой русской цивилизации обычно говорили консерваторы, прежде всего Николай Данилевский и Константин Леонтьев. В современную эпоху в этих категориях мыслил недавно ушедший из жизни американский консерватор Самьюэл Хантингтон. О том, что Россия не страна, а цивилизация, давно говорит Александр Дугин. Данная идея не очень совместима с либеральными концепциями глобализации и универсальности демократических ценностей.
К настоящему моменту российские власти сформулировали два возможных подхода к цивилизационной принадлежности России. Один был впервые озвучен президентом Дмитрием Медведевым в Берлине в июне 2008 года: «В результате окончания “холодной войны” возникли условия для налаживания подлинно равноправного сотрудничества между Россией, Евросоюзом и Северной Америкой как тремя ветвями европейской цивилизации». Министр иностранных дел Сергей Лавров, повторяя тезис о трех ветвях, одновременно говорит о том, что принятие западных ценностей – это лишь один из подходов. Россия же, по его словам, намерена продвигать другой подход, который «заключается в том, что конкуренция становится подлинно глобальной, приобретая цивилизационное измерение, то есть предметом конкуренции становятся в том числе ценностные ориентиры и модели развития». Летом 2009-го Лавров, выступая в латвийской русскоязычной газете, уже использовал понятие «большая российская цивилизация».
Создается впечатление, что в российском руководстве на самом деле не видят большого противоречия между двумя подходами. Они для него не взаимоисключающие, а взаимодополняющие. Один может быть обращен к Западу, другой – к соседним государствам и соотечественникам. Концепция России, как отдельной большой цивилизации, с одной стороны, позволяет легко парировать критику недемократичности государственного устройства современной России. С другой – дает возможность вполне современно, в духе ХХI века, интерпретировать «русский вопрос»: российская цивилизация – это наше государство вместе с Русским миром, который включает в себя всех, кто тяготеет к полю русской культуры. В данном контексте тезис о разделенном народе звучит архаично. Выбор между двумя подходами к цивилизационной принадлежности России будет в конечном итоге определяться прагматическими соображениями, в центре которых, как всегда, будут стоять взаимоотношения с Западом, а не с непосредственными соседями.
С 2009 года свой вклад в понимание России как центра особой цивилизации вносит Русская православная церковь (РПЦ). Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал выступать не в качестве «главы церкви Российской Федерации и русского народа», а в роли наднационального духовного лидера стран «Святой Руси», включающей в себя, помимо России, Белоруссию, Молдавию, Украину и – шире – всех православных христиан. В чем-то продолжая православно-консервативную традицию Константина Леонтьева, патриарх взял курс на сохранение восточнославянской цивилизации при уважении современных политических границ и существующих культурных различий. Последнее обстоятельство – новый акцент в политике церкви. В ходе визита на Украину в августе 2009-го патриарх Кирилл нередко обращался к пастве на украинском языке и называл Киев «южной столицей Русского Православия», а не только «матерью городов русских». Спустя 18 лет после распада Советского Союза, РПЦ оказалась едва ли не единственным институтом, все еще объединяющим Россию и значительную часть Украины.
Для патриарха Кирилла православие не сводится к «русской вере». Это – серьезное изменение по сравнению с предшествующим периодом, когда, судя по всему, церковные иерархи благосклонно относились к концепции «разделенного народа», которая, конечно, выглядит гораздо более провинциально, чем идея духовного лидерства в целой цивилизации. Символичным стало распоряжение патриарха Кирилла поставить в его тронном зале флаги всех государств, на которые распространяется юрисдикция Московского патриархата. В 2009 году Русская православная церковь заявила о себе как о важнейшем участнике обсуждения вопроса о российской идентичности и отношениях России с соседними государствами и со всем миром. Православие выступило в роли одного из наиболее активных институтов сохранения наднационального начала в российском самосознании и поддержания единства цивилизационного пространства в Евразии.
Однако закрепление положения, при котором широкая и разнообразная российская наднациональная традиция сведется к деятельности церкви, может обернуться серьезными геополитическими издержками. Значительная часть русских и других восточных славян (неверующие или лишь формально православные) не готовы определять свою идентичность исключительно религиозными факторами. Встает вопрос о соседних странах с преимущественно, хотя часто и условно, мусульманским населением и в то же время явно принадлежащих к российскому цивилизационному ареалу (прежде всего Казахстан и Киргизия).
Для того чтобы Россия была способна «воздействовать на окружающий мир с помощью своей цивилизационной, гуманитарно-культурной, внешнеполитической и иной привлекательности», к чему призывает Сергей Лавров, необходимо было бы задействовать универсалистскую гуманитарную традицию российского интеллектуального наследия. Не предлагая миру общечеловеческие ценностей, нельзя надеяться на то, что Россия может научиться использовать «мягкую силу» в международных отношениях.
Однако исторический опыт свидетельствует о том, что и в случае проецирования своего образа, обогащенного универсалистским началом, на международную арену Россия рискует столкнуться с нежелательной реакцией. Действительно, на протяжении трех последних столетий русская «высокая» культура формировалась в рамках империи и ее ключевой характеристикой была «вселенскость».
С одной стороны, это помогло ей получить всемирное признание. Далекая от «провинциальности» или «узости», она легко впитывала в себя достижения других, в первую очередь европейских, культур и подарила человечеству множество шедевров. С другой стороны, попытки культурного и прочего включения всех и вся в безграничную, «вселенскую» Россию постоянно вступали в противоречие с устремлениями соседних народов, которые в большинстве своем не желали становиться материалом «вселенского» проекта, потому что видели в этом фактическую русификацию и угрозу своему существованию. Исторически и культурно обусловленные мессианские традиции явно не соответствуют той новой геополитической, экономической и демографической ситуации, в какой находится сегодня Россия.
В любом случае поиски новой российской идентичности должны вестись, с одной стороны, с учетом исторических и культурных традиций, а с другой стороны, с ясным пониманием особенностей новой эпохи и международного контекста.

Лабиринты арктической политики
© "Россия в глобальной политике". № 4, Июль - Август 2009
О.Б. Александров – к. полит. наук, доцент кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО (У) МИД России.
Резюме Укреплению позиций России на европейском Севере и в Арктике может способствовать создание региональной системы безопасности, например Балтийского союза, который стал бы прообразом новой, кооперативной системы безопасности в Европе.
С начала 2000-х годов Север в целом и Арктика в особенности становятся одним из приоритетных направлений российской внешней политики. Этому способствовали целый ряд факторов. Наиболее значимые из них – укрепление энергетической составляющей во внешней политике России, строительство экспортных трубопроводов и реализация транспортных проектов на российских Севере и Северо-Западе, начиная с Балтийской трубопроводной системы (БТС), запущенной в 2001-м, и заканчивая строительством газопровода «Северный поток» (Nord Stream) по дну Балтийского моря. Внимание к арктической проблематике изначально было вызвано обнародованием данных о гигантском ресурсном потенциале этого региона. Прогнозы пробудили небывалый интерес к Арктике со стороны ведущих стран мира, а также крупнейших нефте- и газодобывающих компаний. Сделанные прогнозы заставили Москву поторопиться с определением границ своих северных владений.
По расчетам специалистов, месторождения нефти и газа российской части Арктики составляют до 25 % мировых запасов углеводородов (примерно 15,5 млрд тонн нефти и 84,5 трлн кубометров газа). Уже в настоящее время на ее просторах добывается до 90 % никеля и кобальта, 60 % меди, 96 % платиноидов и 100 % апатитового концентрата.
АРКТИЧЕСКОЕ ОЖИВЛЕНИЕ
Экспертные оценки свидетельствуют о том, что стремительные климатические перемены, затрагивающие Арктический регион, позволяют начать геологоразведку и промышленное освоение отдельных его частей уже с 2020 года. Одновременно становится возможным дальнейшее развитие стратегически важных транспортных маршрутов, наиболее перспективными из которых являются Северный морской путь и кроссполярные авиарейсы. Норвежские оценки перспектив экономического освоения Арктики более осторожны. По мнению главы норвежского МИДа Юнаса Гар Стёре, к 2040-му Арктика, вероятно, будет свободна ото льда в течение значительной части года, в результате чего появятся новые транспортные маршруты. Одновременно возникнет множество вопросов относительно суверенитета над этими областями.
Однако в условиях возобновления спроса на углеводородные ресурсы подлинным камнем преткновения становятся международно-правовой статус Арктики, необходимость уладить многолетние территориальные споры и установить многосторонний политический диалог при участии всех приарктических государств – Дании, Канады, Норвегии, России и США.
Институционально-правовая структура Арктического региона на данный момент находится в стадии формирования. Еще в 1996 году был создан Арктический совет в составе Дании, Исландии, Канады, Норвегии, России, Соединенных Штатов, Финляндии, Швеции и ряда неправительственных организаций. Форум зарекомендовал себя в качестве востребованной площадки для обсуждения актуальных проблем региона и защиты уникальной природы Арктики. Однако в политическом плане Арктический совет долгое время пребывал в тени Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), поскольку его деятельность практически не выходила за рамки экологической проблематики, а политика государств региона не носила согласованного характера.
На этом фоне знаковым событием стала первая международная конференция пятерки приарктических государств – Дании, Канады, Норвегии, России и США, которая состоялась в конце мая 2008-го в гренландском городе Илулиссате. Показательно, что на нее были приглашены не все члены Арктического совета, а лишь те из них, кто имеет прямой выход к арктическим рубежам.
На встрече обсуждались и происходящие в Арктике климатические перемены, и проблема их вероятного воздействия на экосистему региона в свете предстоящего хозяйственного освоения арктических ресурсов. Созыв конференции был во многом инициирован ходом и результатами российской арктической экспедиции-2007, которая произвела сильное впечатление на окружающие страны и вынудила их активизировать собственную политику в этом регионе. Так, в январе 2009 года, перед самым уходом с поста президента Джорджа Буша-младшего, администрация США обнародовала собственную арктическую доктрину и выразила желание присоединиться к Конвенции ООН по морскому праву (1982).
Одной из ключевых характеристик Арктического региона является его высокий конфликтный потенциал. По сей день не улажены разногласия между Россией и США в связи с разделом арктических владений и экономической зоны в Беринговом море (линия разграничения Бейкера – Шеварднадзе не была признана российской стороной, и соглашение не ратифицировано российским парламентом). Норвегия и ряд других государств, включая Россию, придерживаются разных точек зрения по вопросу об архипелаге Шпицберген и о границе экономической зоны вокруг него. Не до конца урегулированы территориальные разногласия между Канадой и Данией, Данией и Россией, Россией и Канадой. При этом и Дания, и Канада активно заняты бурением глубоководных скважин и составлением карт своих арктических секторов.
На этом фоне российская арктическая экспедиция-2007 произвела больше политико-пропагандистский, нежели научно-практический, эффект, поскольку Москва еще всерьез не начинала заниматься бурением скважин и составлением подробных карт заявленного арктического сектора. Неспокойную политическую ситуацию в регионе усугубляет намерение Гренландии изменить свой автономный статус в составе Дании и добиваться политической независимости. Расширенное самоуправление гренландцев имеет под собой прочную основу – решение правительства Дании о передаче им в собственность нефти и других полезных ископаемых, которые могут находиться на гренландском шельфе. Против этого протестуют ряд оппозиционных датских партий.
Тем временем свои права на участие в разделе Арктики заявляет все большее число государств. В начале 2000-х довольно неожиданно прозвучало заявление Великобритании о том, что права на Арктику имеют только две державы – Канада и Россия. За этим пассажем многие увидели стремление Лондона поучаствовать в дележе «арктического пирога» на стороне Оттавы, которая является активным членом британского Содружества наций. Наконец, ряд стран, не имеющих прямого выхода к Арктике, способны оказывать влияние на ход и результаты арктической гонки через действующие международные структуры. К примеру, Исландия Финляндия и Швеция, как государства – члены Арктического совета, участвуют в обсуждении перспективных планов развития этого региона.
ПРИГОТОВЛЕНИЯ К СХВАТКЕ
Начало раздела Арктики на национальные сектора было положено сто лет назад, когда правительство Канады объявило суверенитет над землями, расположенными между Северным полюсом и материковой частью страны (1909). Советская Россия во многом взяла на вооружение канадскую модель разграничения Арктики на национальные сектора. В 1926 году Москва в одностороннем порядке демаркировала границы своих арктических владений, которые простирались от норвежского Шпицбергена на западе до Берингова моря на востоке и от Северного полюса до южного побережья Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского морей. Однако подобное обозначение северных акваторий не затрагивало вопроса о границах континентального шельфа, поскольку в отличие от островов дно арктических морей признавалось неделимым. В 1997-м Россия ратифицировала упомянутую выше Конвенцию ООН по морскому праву, что несколько позже стало ощутимым тормозом в реализации ее арктических амбиций. Отныне Россия могла претендовать лишь на 200-мильную экономическую зону, которую в исключительных случаях допускается расширить до 350 миль.
Новейшая страница в арктической политике России была открыта в 2001 году, когда в Комиссию ООН по границам континентального шельфа подала заявку Москва в целях закрепления за ней обширных арктических участков общей площадью 1,2 млн квадратных километров. Доводы России основывались на том, что подводные хребты Ломоносова и Менделеева являются продолжением и составной частью шельфа евразийского материка – Сибирской платформы. В случае предоставления весомой доказательной базы Россия смогла бы поставить перед экспертами Организации Объединенных Наций вопрос о распространении ее влияния на треугольник Мурманск – Чукотка – Северный полюс с колоссальными запасами нефти и природного газа, залегающими в подводном грунте на этой территории.
Однако для продвижения своей позиции через структуры ООН Москве потребовалось представить более весомые аргументы. С этой целью и была снаряжена арктическая экспедиция-2007, в ходе которой батискафы «Мир-1» и «Мир-2» взяли пробы грунта. Важным символическим жестом стало водружение российского триколора на Северном полюсе на дне Северного Ледовитого океана. Именно символизм данной акции спровоцировал острую реакцию остальных приарктических стран. Среди наиболее резких выделялась реплика министра иностранных дел Канады Питера Маккея, назвавшего полярную экспедицию России «возвратом в XV век».
В целом страны Запада крайне болезненно отреагировали на активизацию арктической политики России, однако тон комментариев колебался от возмущенно-алармистского (Дания, Канада, США) до сдержанно-прагматического (Норвегия). Так, в ответ на полярную экспедицию России правительство Канады сделало ряд резких заявлений и приняло решение разместить в Арктике свой постоянный воинский контингент. В его состав вошли около 100 военнослужащих, дислоцированных в поселке Йеллоунайф на севере страны. По заявлению министра обороны Канады, зона ответственности этого подразделения будет протяженной и входящие в его состав военнослужащие станут тесно взаимодействовать с подразделениями канадских арктических рейнджеров. В августе–сентябре 2009 года в канадской части Арктики были проведены трехнедельные военные учения, к началу которых премьер-министр Стивен Харпер приурочил пятидневное турне по северу страны.
В свою очередь Соединенные Штаты, выразив недоумение по поводу российской экспедиции, анонсировали планы строительства новых ледоколов. Не остался в стороне и Брюссель. В марте 2008-го в докладе верховного представителя Европейского союза по общей внешней политике и политике безопасности Хавьера Соланы говорилось, что европейским странам следует готовиться к конфликтам с Россией из-за энергоресурсов Арктики. Лишь Норвегия в лице своих военных экспертов выразила понимание мотивов России, в том числе согласившись с размещением в арктической зоне на постоянной основе российского воинского контингента.
Однако некоторым диссонансом прозвучало предложение бывшего министра иностранных дел Норвегии Турвальда Столтенберга о формировании сил развертывания в рамках внешней и оборонной политики государств Северного совета, высказанное им в феврале 2009 года на заседании Совета министров Северных стран. Речь идет о создании военной группировки этих стран «для обеспечения безопасности в Арктическом регионе». План Столтенберга нашел поддержку среди министров иностранных дел государств Северного совета. Как предполагается, основу сил развертывания составят хорошо подготовленные и оснащенные военно-воздушные и военно-морские силы Дании, Норвегии и Швеции, которые на постоянной основе будут патрулировать воздушные и морские границы, а также осуществлять мониторинг над Арктикой. Судя по данному плану, в споре за Арктику не только Канада и США, но и страны Северной Европы видят себя и Россию по разные стороны баррикад. Тем самым ставятся под сомнения перспективы взаимодействия России и стран-партнеров по обновленному проекту «Северное измерение». Данный проект, выдвинутый Финляндией в конце 1990-х, задумывался как способ гармонизации интересов государств региона при лидирующей роли Евросоюза.
Противопоставление соперничества за Арктику и сотрудничества в рамках «Северного измерения» кажется натянутым только на первый взгляд. Внешне спонтанный характер российской арктической экспедиции ставит неизбежный вопрос о согласованности и целостности «северного вектора» российской внешней политики, если под ним понимать сочетание трех направлений – балтийского, североевропейского и собственно арктического. В качестве объединяющего элемента всех трех направлений выступает «Северное измерение» – этот недавно обновленный региональный формат взаимодействия, который призван сплачивать интересы партнеров по данной инициативе – ЕС, Исландии, Норвегии и России. Территориальные рамки «Северного измерения», выходя за границы стран-участниц, охватывают значительный арктический сектор.
По сути, за пределами данной инициативы остаются интересы лишь двух приарктических стран – Канады и США, однако расширение НАТО и распространение ее военно-политической инфраструктуры на государства Северной Европы и Балтии дают американским странам дополнительную возможность контролировать ход политических процессов в Арктическом регионе. Так, в январе 2009 года в Рейкьявике (Исландия) состоялся семинар с участием представителей Североатлантического альянса, на котором обсуждались вопросы безопасности в Арктике.
Речь шла как об исследовании ресурсов этого региона, так и о проведении активной политики на арктическом векторе, направленной на защиту национальных интересов приарктических государств. Одновременно на саммите НАТО в Бухаресте был поставлен вопрос о превращении альянса в инструмент энергетической безопасности, что также усиливает потенциальную роль Североатлантического блока в решении арктической головоломки. Традиционно наиболее жесткий подход в рамках НАТО был заявлен американской стороной, представитель которой дал понять, что Соединенные Штаты не останутся безучастными наблюдателями действий России, которые в Вашингтоне считают самозахватом. Возможности США активно противодействовать планам России на уровне государства ограничены тем, что Соединенные Штаты единственные из приарктических стран не подписали и не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву.
ИНТЕРЕСЫ РОССИИ И ПРЕПЯТСТВИЯ НА ИХ ПУТИ
Закрепление претензий России на значительную часть арктического шельфа, по всей вероятности, может повлечь за собой не только обострение двусторонних отношений, но и привести к пересмотру ряда проектов, которые реализуются в рамках Совета Баренцева/ Евроарктического региона. К примеру, идея совместного освоения Северного морского пути, закрепленная в документах данного субрегионального форума, чревата потерей Россией части суверенитета над этим транспортным маршрутом. Речь идет прежде всего о возможности Москвы законодательно регулировать режим судоходства в Арктике в российской зоне интересов, а также в непосредственной близости от российских государственных границ.
Очевидно, что интересам России не отвечает интернационализация районов Арктики, расположенных за пределами 200-мильной зоны к северу от российских границ. В этом контексте весьма неоднозначно выглядит ратификация Россией Конвенции ООН по морскому праву и еще в большей степени ее использование в целях международно-правового регулирования действий государств в отношении арктических территорий, в частности для определения границ национальных арктических секторов. На этом фоне полезным представляется изучение канадского опыта закрепления за страной арктического сектора, которое было осуществлено на основе национального законодательства. Очевидно, что канадский опыт носит характер прецедента и может быть использован российскими властями в случае аналогичных действий.
Схожим образом складывается ситуация с проектом «Северный поток». К лагерю противников данного российско-германского энергетического проекта примыкает все большее число государств-партнеров России по «Северному измерению». Открытыми оппонентами «Северного потока» объявили себя Латвия, Литва, Польша, Швеция и Эстония. По мнению шведских экспертов, данный проект, решая задачи диверсификации поставок энергоносителей на европейский рынок, угрожает региональной стабильности на Балтике, вносит разногласие в ряды европейцев, усиливает позиции «авторитарной» России и снижает возможности стран Балтии участвовать в обеспечении безопасности региона, входящего в радиус действия проекта «Северное измерение». Вряд ли Москва может согласиться с подобной оценкой своей политики в этом регионе. Вместе с тем России все труднее находить компромисс с западными партнерами как по арктической проблематике, так и по проблеме энергетической безопасности.
Усугубляет ситуацию то, что именно Брюссель и Вашингтон становятся новыми центрами принятия решения в отношении Севера. Россия нервно реагирует на дискуссии о возможном вступлении в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции, понимая, что отсутствие консенсуса в рамках «Северного измерения» по широкому кругу военно-политических вопросов затормозит и экономическое сотрудничество в регионе Северной Европы. Это создаст нежелательную в контексте спора об арктических ресурсах ситуацию, когда все страны региона, за исключением России, окажутся интегрированы в европейские и евро-атлантические структуры.
Несмотря на статус северной державы и партнерство в рамках обновленного «Северного измерения», Россия остается по большей части нерегиональным игроком применительно к Северной Европе и Балтийскому региону, поскольку слабо взаимодействует с Евросоюзом и НАТО, курирующими экономические и военно-политические процессы в регионе. Положение нерегионального участника предоставляет ряд преимуществ, главными из которых являются свобода рук, возможность проведения гибкой многовекторной политики, а также перспектива заключения альянсов с другими заинтересованными сторонами. Вместе с тем данный статус налагает и ряд ограничений. В первую очередь речь идет о необходимости, продвигая свои интересы, действовать в одиночку, без поддержки стран региона. Ранее России в Совете государств Балтийского моря (СГБМ) приходилось одной отстаивать целесообразность строительства новых портовых мощностей на побережье Балтийского моря, а также дискутировать со странами-кандидатами на вступление в Европейский союз вопрос о возможных путях решения проблемы транзита в Калининградскую область.
Укреплению позиций России на европейском Севере и в Арктике способствовало бы создание региональной системы безопасности, например Балтийского союза, который мог бы сыграть роль прообраза новой, кооперативной системы безопасности в Европе. Противоположную тенденцию составляют дискуссии о возможности вступления Финляндии и Швеции в НАТО, активно поощряемые Вашингтоном. Как известно, Стокгольм полностью выступил на стороне Соединенных Штатов и солидаризировался с ними в оценках событий в Грузии и Южной Осетии. А министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт резко осудил решение России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, сравнив ее действия по защите миротворцев и российских граждан, проживающих в Южной Осетии, с оккупацией Гитлером Чехословакии в 1938–1939 годах. Ранее отношения между Россией и Швецией охладил отказ Стокгольма выдать Москве ряд лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории Российской Федерации.
В самый разгар «арктического бума» в сентябре 2008-го на заседании Совета безопасности РФ президент Дмитрий Медведев поставил задачу превратить Арктику в ресурсную базу России и в кратчайшие сроки закрепить за страной границы континентального шельфа. На этом же заседании были утверждены Основы государственной политики России в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, а также заявлено о намерении России в 2010-м подать в ООН заявку на расширение своего континентального шельфа. В свою очередь российский генерал Владимир Шаманов подтвердил готовность Вооруженных сил РФ обеспечить защиту той части арктического шельфа, на которую претендует Россия. Было заявлено о формировании российского «арктического кулака» на основе частей и соединений Ленинградского, Сибирского и Дальневосточного военных округов.
В данных условиях неизбежно возникает вопрос о будущей модели развития этого обширного региона, его новых географических границах, международно-правовом статусе Арктики, о достижении многостороннего консенсуса и поиске адекватных способов управления этими огромными территориями. Все это не только создает элемент неопределенности в отношении обновленного «Северного измерения», но и становится проверкой на прочность «северного вектора» политики Российской Федерации в новых геополитических реалиях. Экономический кризис уже внес свои коррективы в российские планы, выполнение которых частично приостановлено. В частности, отложена до 2012 года подача заявки России на границы арктического континентального шельфа, заморожены геологические исследования Арктики, по-прежнему неясны сроки формирования арктической группировки войск.
Исходя из этого, проблема конструирования «северного вектора» политики Российской Федерации представляется задачей со многими неизвестными. В зависимости от изменения ситуации в регионе можно прогнозировать и попытку России в полном объеме интегрироваться в систему многостороннего сотрудничества, которая создается в регионе на базе обновленного «Северного измерения», Арктического совета или иных организационных структур, и ставку на избирательное сотрудничество, предполагающее решение наиболее острых проблем на двусторонней основе. Таким образом, рано или поздно России придется уточнить приоритеты в рамках «северного вектора» своей политики и найти выход из арктического лабиринта.

Танцы с драконом
© "Россия в глобальной политике". № 1, Январь - Февраль 2009
О.В. Буторина – д. э. н., профессор, советник ректора, заведующая кафедрой европейской интеграции МГИМО (У) МИД России. Член научно-консультативного совета журнала «Россия в глобальной политике».
Резюме России следует максимально воспользоваться возможностями, которые открываются в ходе острой фазы кризиса, для того, чтобы перевести в новое содержательное качество ее международное сотрудничество в финансовой сфере. Ситуацию следует использовать как отправную точку для решительного прорыва в финансовой интеграции стран СНГ.
Нынешний финансово-экономический кризис сравнивают с Великой депрессией 1930-х годов, хотя, будем верить, он не перерастет в гуманитарную катастрофу. Сегодня в странах, охваченных кризисом, уровень жизни населения неизмеримо выше, чем 80 лет назад; им не угрожают тотальная безработица и нищета. Мировой ВВП не упадет на четверть, «марши голодных» не двинутся на Вашингтон и другие столицы, а бесчеловечные танцевальные марафоны останутся историческими кадрами из фильма Сидни Поллака «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?».
Общее у двух кризисов то, что их эпицентром стали Соединенные Штаты, а катаклизмы в финансовой сфере быстро перекинулись на реальную экономику и в большинство регионов мира. Главная же общая черта – это начавшаяся ломка рыночных механизмов. В 30-х годах прошлого столетия ее обусловила первая волна глобализации. На рубеже XIX и XX веков кардинально изменился характер производства, произошел скачок в развитии транспорта и связи, появились и окрепли транснациональные корпорации. В результате отдельные национальные и колониальные экономики были заключены в общую систему мирохозяйственных связей. Крах на Нью-Йоркской фондовой бирже 24 октября 1929 года отчетливо показал, что без активного участия государства рыночные силы не справляются с мировой экономикой.
Причина нынешней перестройки рыночных отношений – завершившееся формирование глобальной экономики. В последние 10–20 лет мы были свидетелями сразу нескольких процессов, изменивших облик мира. Бурное развитие информационных технологий, распад биполярной политической системы и распространение капитализма на все регионы мира, либерализация движения капиталов и стремительный рост финансовых рынков – все это перевело мировую экономику в новое качество. Уровень взаимной зависимости отдельных стран, регионов, рынков и процессов резко повысился. Асимметрия торговых и финансовых потоков приобрела глобальный масштаб.
Сейчас, как и во времена Великой депрессии, государству надлежит заново определить свои отношения с рынком – образно говоря, сначала укротить дракона, а затем снова затанцевать с ним вместе в такт мировой конъюнктуре. Задача осложняется тем, что каждой стране, региону и группе стран предстоит разучить и исполнить особенный танец.
РОК-Н-РОЛЛ, СТЕП, БРЕЙК
События, приведшие к нынешнему кризису, удивительно напоминают ситуацию 20-х годов прошлого столетия. Тогда в течение пяти лет (1925–1929) стоимость акций на Нью-Йоркской фондовой бирже выросла почти в три раза. Миллионы американцев играли на бирже. В первые годы XXI века стремительно дорожали не только фондовые активы, но и недвижимость. При этом исторически низкие процентные ставки усилили конкуренцию среди банков. Чтобы привлечь клиентов, банки понизили требования к заемщикам. Их реальными доходами банки почти не интересовались, рассчитывая, что взятые в залог дома поднимутся в цене, а кредиты будут легко возмещены из их новой стоимости. Другими словами, банки и их клиенты играли в большую финансовую пирамиду. Как и в 1929-м, настал момент, когда она рухнула.
Данный кризис справедливо назвать не кризисом перепроизводства, а кризисом перепотребления. Чрезмерное, не связанное с экономическими реалиями потребление стало для США и ряда стран Западной Европы последним средством, с помощью которого рынки пытались отсрочить надвигавшуюся на них системную трансформацию. В массовое перепотребление было вовлечено всё: население, компании, банки, государство. На протяжении последних лет средний государственный долг Соединенных Штатов и 27 стран Европейского союза составлял около 60 % ВВП. В 2006 году уровень задолженности домашних хозяйств в США и Великобритании приблизился к 150 % их располагаемого дохода. В Германии и многих странах ЕС он достигал 80–100 %. Понятно, что ни одна семья не может полтора года не есть, не покупать лекарств и не платить за электричество. Сейчас американские семьи направляют на выплату долга в среднем 18 % чистого дохода. То есть задолженность в 150 % может быть выплачена за восемь – десять лет. О необходимости затягивать пояса столь длительное время рядовые граждане общества потребления до недавнего времени всерьез не задумывались.
Многие поверили, что глобальная экономика способна производить виртуальные деньги, на которые можно приобретать реальные товары и услуги. В течение последних лет фондовые индексы росли как на дрожжах. Дорожавшие ценные бумаги охотно принимались в обеспечение кредитов. То есть одни обязательства – акции и облигации становились основанием для возникновения других обязательств – банковских займов. Эмиссия виртуальных денег частными структурами (компаниями и банками) превратилась в отдельную отрасль хозяйственной деятельности, весьма прибыльную и практически неподотчетную. Ключевую роль в данном процессе сыграли новые финансовые инструменты, макроэкономические последствия использования которых не были понятны ни государству, ни конечным потребителям, ни – полностью – даже их создателям.
Однако повсеместный и продолжительный рост цен на недвижимость, золото, фондовые активы и биржевые товары фактически являлся искаженной формой общемировой инфляции. Разбухавший дефицит текущего баланса Соединенных Штатов и постоянное снижение с 2002-го курса доллара по отношению к большинству валют мира заставляло инвесторов вкладывать средства в любые альтернативные активы. При статистически низкой инфляции в развитых странах (до 2–3 % годовых) инфляционное давление выплеснулось в сферы, недоступные монетарным властям, – на товарные и фондовые площадки. В итоге закамуфлированные инфляция и эмиссия составили классическую кризисную пару.
Еще одной причиной нарушения рыночных механизмов стали информационные потоки, вернее, их изменившаяся роль в процессе создания материальных ценностей. В последние 10–15 лет информация превратилась в такой же фактор производства, как труд, земля и капитал. Но если трудовые, земельные и денежные отношения регулируются обширным, веками создававшимся правом, то отношения по поводу информации находятся в пубертатной стадии дикого капитализма. Газеты и журналы, равно как аналитические, рекламные и рейтинговые агентства, прямо воздействуют на спрос, предложение и цену рыночных продуктов – от простых товаров и услуг до сложнейших финансовых инструментов. Однако никто из них не несет ответственность, хоть сколько-нибудь соизмеримую с создаваемыми отклонениями денежных потоков.
Сейчас у многих складывается впечатление, что эпоха монетаризма, связанная с именами Рейгана и Тэтчер, уходит в прошлое, а ей на смену идет модифицированная версия кейнсианства. Действительно, выступления первых лиц ведущих стран мира, равно как и декларации международных экономических организаций, насквозь пропитаны кейнсианской риторикой. Национализация долгов, массированная помощь банковскому сектору, усиление контрольных функций государства – все это инструменты из кейнсианского набора. Вместе с тем пока нельзя утверждать, что во главу новой модели будут поставлены именно кейнсианские цели – достижение полной занятости и стимулирование внутреннего спроса.
Новая экономическая политика (независимо от названия, которое ей дадут в будущем) должна решить две основные задачи – восстановить нормальное функционирование рыночного механизма и вернуть государству утраченное им место в хозяйственной системе. На первый взгляд эта миссия кажется внутренне противоречивой: неоклассической и кейнсианской одновременно. Но она исходит из здравого смысла и сложившихся реалий.
То, что рыночные механизмы разбалансированы, видно невооруженным глазом. Резкие перепады цен на фондовые активы, недвижимость, топливо и продовольствие свидетельствуют о том, что рынок перестал быть тем главным мерилом, с помощью которого определяют общественно обоснованную стоимость того либо иного продукта. Раз так, то и аллокативная функция рынка (отвечающая за рациональное размещение ресурсов) дает сбои: капитал идет не в реальную экономику, а в спекулятивные операции. Это мешает реализации еще одного предназначения рынка – содействовать технологическому процессу и росту производительности труда.
Нарушение адекватного взаимодействия спроса и предложения особенно заметно на денежном рынке, или рынке межбанковских кредитов. Когда в сентябре 2008 года американские банки из-за внутренних неплатежей сократили объем текущих кредитов европейским банкам-партнерам, в Европе разразился настоящий кризис ликвидности. Долларов остро не хватало для проведения ежедневных торговых и конверсионных сделок. В этой ситуации каждый коммерческий банк решил придержать наличные и перестал выдавать ссуды другим банкам-партнерам даже под высокий процент. Чтобы спасти рынок от коллапса, а платежеспособные банки – от разорения, национальные правительства и Европейский центральный банк (ЕЦБ) пошли на беспрецедентные спасательные меры.
Банковская паника была предотвращена, но вновь запустить денежный рынок не удается до сих пор. Крупные коммерческие банки, имеющие достаточный запас наличных, кредитуют только узкий круг привилегированных партнеров. Подавляющему большинству других европейских банков остается брать в долг у национальных центральных банков, что делает такие операции менее удобными и более дорогими. С денежного рынка исчез самый ходовой прежде товар – необеспеченные суточные ссуды. Базовые рыночные ставки (LIBOR, EURIBOR, EONIA), которые для операторов служат точкой отсчета стоимости кредитов, по сути, превратились в теорию. Их репрезентативность упала из-за резкого сокращения объема фактических сделок.
Деформация рыночных механизмов таит в себе еще одну опасность. Если рыночные сигналы перестают ежеминутно передаваться от одних операторов к другим и таким образом формировать общую конъюнктуру, то государственная денежно-кредитная политика перестает работать. Например, чтобы вывести экономику из рецессии, центральные банки обычно понижают ставку рефинансирования. Подразумевается, что финансовые посредники – коммерческие банки – тоже понизят ставки, по которым они кредитуют друг друга и своих клиентов. Но в ситуации, когда рынок межбанковских кредитов стоит (как это происходит сейчас в Европе), бизнес и население могут не получить дешевые кредиты. Так, в октябре и ноябре ЕЦБ понизил ставку рефинансирования в общей сложности на 1,0 %. Однако к декабрю стоимость кредитов населению и предприятиям практически не изменились.
Особенность текущего кризиса состоит в том, что он начался в условиях низкой инфляции и низких процентных ставок. В четвертом квартале-2008 темпы инфляции основательно замедлились, в том числе благодаря снижению мировых цен на нефть и на продовольствие. Однако инвестиционный спрос, увы, с места не сдвинулся. Согласно прогнозам, в 2009-м развитые страны в лучшем случае покажут нулевой рост, а в худшем испытают одно- или двухпроцентный спад. Это означает, что западный мир рискует попасть в ловушку дефляции (депрессии при низкой инфляции) наподобие той, из которой уже более десятилетия не может выбраться японская экономика.
Зло дефляции состоит не только в том, что она ограничивает внутренние инвестиции и способствует уходу капиталов за рубеж. Денежные власти лишаются главного рычага, при помощи которого можно ускорить экономический рост, – возможности понижать процентные ставки. Причем опасность дефляции в первую очередь касается зоны евро. Европейский бизнес привык к эволюционной и умеренной политике денежных властей, ставки ЕЦБ меняются редко и в узкой амплитуде. Американские предприниматели, напротив, давно приспособились к агрессивной и порывистой процентной политике Федеральной резервной системы, поэтому США сумеют выбраться из дефляции. Евросоюз же рискует в ней увязнуть. Согласно январскому прогнозу Европейской комиссии, в 2009 году инфляция в зоне евро составит 1 %, что, по определению ЕЦБ, вдвое ниже нормального уровня. В Великобритании индекс потребительских цен упадет и вовсе до 0,1 %.
САЛЬСА, ЧАРДАШ, ГОПАК
В 2009-м страны с формирующимися рынками дадут 100 % прироста мирового ВВП, который в целом не превысит 1 %. Согласно прогнозам, их экономики вырастут на 1–3 %, тогда как ВВП развитых стран сократится на 1,5–2 %. На протяжении 2004–2008 годов средние темпы прироста ВВП в развивающихся странах составляли ежегодно от 6 до 8 %, что в три с лишним раза превышало показатели развитых стран – соответственно 2–3 % .
Несмотря на сохранение положительной динамики, молодые рыночные экономики переносят кризис весьма болезненно. В течение последних нескольких месяцев Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение экстренных кредитов Белоруссии, Венгрии, Исландии, Киргизии, Латвии, Сербии, Украине на общую сумму 40 миллиардов долларов. Тревожные выводы сделали миссии фонда, побывавшие во Вьетнаме, Казахстане и Узбекистане. Кризис ставит перед странами с формирующимися рынками почти невыполнимую задачу: модернизировать рыночные механизмы и укрепить позиции государства в экономике, притом что их экономическая система априори деформирована, а международные практики и стандарты игнорируют факт этой деформации. Если западным государствам предстоит усмирить одного дракона – рынки, то развивающимся странам приходится иметь дело сразу с двумя «чудовищами» – вышедшими из-под контроля рынками и встроенными дефектами переходной экономики.
Одна их часть связана с догоняющим типом развития – относительно низким уровнем жизни населения и высокими темпами роста ВВП. Как следствие, почти все макроэкономические показатели имеют более широкую амплитуду, чем в странах с развитой рыночной экономикой. Другими словами, перепады рыночной конъюнктуры в Венгрии и Мексике оказываются гораздо более выраженными, чем в Германии и США. Такая «качка» является естественным следствием быстрого хозяйственного роста и недостаточной устойчивости экономической системы в целом. В итоге любые неблагоприятные изменения на мировых рынках (внешние шоки) переносятся развивающимися рынками хуже, чем развитыми.
Так, взлет мировых цен на энергоносители и продовольствие привел к росту инфляции в азиатских странах с формирующимися рынками с 4 % (2007) до 8 % (2008). Для сравнения: в зоне евро среднегодовой индекс потребительских цен поднялся с 2,1 до 3,3 %. Причина такой разницы – высокая энергоемкость ВВП, а также значительная доля продуктов питания в структуре расходов домохозяйств в развивающихся странах. В целом же инфляция – больная тема для данных государств. Ее невольно порождают высокие темпы роста экономики, а также быстрый рост зарплат, характерный и обязательный (с социальной точки зрения) для догоняющего развития. Кроме того, инфляцию может разгонять бюджетный дефицит, возникающий вследствие обширных государственных расходов на модернизацию производства, технологическое развитие и социальные программы. При высоком уровне инфляции невозможны низкие ставки банковских кредитов, которые в свою очередь порождают инфляционные ожидания. Так образуется замкнутый круг, выйти из которого довольно трудно.
Согласно прогнозу журнала The Economist, в 2009-м инфляция составит в России, а также в Аргентине, Боливии, Вьетнаме, Казахстане, Турции, Узбекистане, Украине от 10 до 15 %. В Венесуэле она может подняться с нынешних 30 до 40 %. В Мексике, Болгарии, Бразилии, Индии, Индонезии, Латвии, Литве и Эстонии цены вырастут на 6–7 %.
Вторая часть проблем проистекает из того, что глобализация влияет на развивающиеся страны иначе, чем на развитые. Однако мировые правила игры определяются интересами и практикой именно развитых стран. Здесь полезно вспомнить, что на Западе формирование национальных рыночных систем проходило в условиях более или менее открытой торговли, но закрытых финансовых рынков. А государства, вступившие на путь капитализма в 1990-х годах, такого периода безопасности не имели. Они (кроме, пожалуй, Китая) провели моментальную либерализацию внешнеэкономических связей и оказались де-юре в равных, а де-факто в подчиненных отношениях с главными финансовыми центрами и валютами мира.
Неудивительно, что многие важнейшие экономические взаимосвязи приобрели совсем иной вид, чем у их западных партнеров. Возьмем, к примеру, валютный курс. В течение последнего десятилетия большинство стран с формирующимися рынками испытывали активный приток иностранных капиталов, особенно краткосрочных. Это и понятно: высокие темпы роста трансформировались в высокую доходность фондовых активов, что привлекало инвесторов из медленно развивавшихся западных стран. Поскольку финансовые рынки молодых экономик невелики, повышенный внешний спрос на их ценные бумаги интенсивно толкал их валюты вверх.
По данным Банка международных расчетов, с 2000 года до середины 2008-го российский рубль в реальном выражении (то есть с поправкой на инфляцию) подорожал к большинству валют мира на 90 %, чешская крона – на 70 %, венгерский форинт – на 60 %. За это же время валюты Бразилии, Индии и Польши набрали примерно по 40 %. Однако с осени прошлого года, когда на рынках образовалась нехватка ликвидности, инвесторы бросились переводить средства из «экзотических» валют в доллары. Повышение уровня инфляции и общее ухудшение экономической обстановки в странах с формирующимися рынками только ускорили выведение коротких денег. Как следствие, за несколько последних месяцев 2008 года бразильский риал подешевел на 26 %, мексиканский песо, индонезийская рупия, южнокорейская вона и польский злотый потеряли по 15–20 %, а чешская крона и венгерский форинт – по 12 %.
Привязанные к евро денежные единицы трех прибалтийских государств пока держатся в заданном коридоре. Однако их запас прочности, как и резервы центральных банков, тают на глазах. Особенно сложная ситуация в Латвии: в истекшем году инфляция там составила 15 %, а прогноз на 2009-й показывает спад ВВП почти на 7 %. Если полученные страной кредиты от МВФ и Евросоюза не спасут лат от девальвации, то под прессом окажутся валюты Литвы и Эстонии.
Еще одна особенность переходных экономик состоит в том, что власти вынуждены одновременно бороться за стабильность цен и за стабильность курса. Развитые страны данные задачи никогда не совмещают, поскольку они противоречат друг другу. Так, Европейский центральный банк всегда подчеркивает, что его единственной и главной целью является стабильность цен, а курсом евро он не занимается. В странах с формирующимися рынками все иначе. Там население может легко уходить из национальных валют в доллары или евро, поэтому без стабильного валютного курса невозможно нормальное развитие экономики. При падающем курсе происходит быстрое расстройство национальной денежной системы, более стабильные иностранные валюты начинают вытеснять национальные деньги из обращения, что еще больше разгоняет инфляцию, сокращает инвестиции и обесценивает местные деньги. На сегодня мировое экспертное сообщество этим вопросом всерьез не занимается, и международные организации не дают соответствующих рекомендаций развивающимся странам. Каждая из них решает проблему на собственный страх и риск, как правило, в режиме ручного управления.
Огромная разница между развитыми и развивающимися странами заметна в области денежно-кредитной политики. Описанная выше схема (Центральный банк дает деньги коммерческим банкам, а те выдают ссуды предприятиям и населению) в переходных экономиках существует только теоретически. Да, Центробанк устанавливает ставку рефинансирования, от которой должны «плясать» ставки на межбанковском рынке и конечные клиентские ставки. Но только коммерческие банки не берут ссуд у Центрального банка, отчего задуманная цепочка не возникает. Причина проста: процентные ставки в развивающихся странах всегда выше (из-за инфляции и быстрого роста), чем в развитых. В условиях глобализации местным коммерческим банкам незачем брать у Центробанка кредит, например, под 10 % годовых, если в зарубежном банке можно взять вдвое дешевле. То есть ножницы ставок в развитых и развивающихся странах, по сути, парализуют механизм рефинансирования в последних. В итоге государство лишается важнейшего инструмента управления экономикой.
Таким образом, развивающиеся страны, часто обвиняемые в чрезмерном государственном регулировании, на самом деле имеют гораздо меньшую свободу макроэкономической политики, чем ведущие страны Запада. Пользуясь сокращенным набором инструментов, они сталкиваются с задачами, которые никогда не возникали перед их более сильными партнерами и которые не имеют адекватных решений в современной экономической практике.
УПРАЖНЕНИЯ У БАЛЕТНОГО СТАНКА
Многие считают, что данный кризис будет стимулировать неординарные, смелые решения и приведет к радикальному пересмотру действующих правил. По словам главного исполнительного директора Deutsche Bank Йозефа Аккермана, «в историю 2009-й войдет как год, когда произошло полное переформирование мировой финансовой системы». Директор Европейского департамента МВФ Марек Белька добавляет, что «кризис может подтолкнуть к глубоким реформам, которые были бы невозможны в нормальные времена».
Кризис показал, что ни национальные, ни международные органы не смогли корректно оценить риски, возникшие в последнее время на финансовых рынках. Кризис не был предсказан, соответственно не были приняты своевременные меры для того, чтобы ограничить его глубину и масштаб. В методах мониторинга финансовых рынков выявилось несколько существенных упущений. Сейчас системы банковского надзора имеют национальный характер, тогда как финансовые рынки окончательно стали глобальными. Доля иностранных средств в общем объеме привлекаемых банками ресурсов постоянно увеличивается, а размах их международных операций растет.
Инвесторы теперь могут легко выбирать, в какие ценные бумаги вкладывать средства – в национальные или зарубежные. То же касается предоставления и получения банковских займов. Как следствие, процентные ставки по государственным облигациям и фондовые индексы разных стран становятся всё более взаимозависимыми. Если раньше замедление экономического роста в США приводило к аналогичному торможению в Европе не сразу, а спустя несколько месяцев, то на этот раз никакого временнЧго лага не наблюдалось. Высокая степень зависимости развивающихся стран от экспорта в Соединенные Штаты и другие страны Запада, а также от мировых цен на сырье и от международного движения капиталов не позволила им уберечься от кризисных явлений.
Теперь усилия мирового сообщества направлены на то, чтобы выработать международные правила, которые позволили бы предотвратить повторение подобного кризиса в будущем. С этой целью 15 ноября 2008 года в Вашингтоне собрались лидеры двадцати крупнейших стран мира. Итоговая декларация начиналась словами о готовности «совместно работать над восстановлением мирового роста и провести необходимые реформы мировой финансовой системы». В этом документе говорилось о необходимости кардинально улучшить международное регулирование финансовых рынков, повысить их прозрачность, улучшить международное регулирование трансграничных потоков капиталов, а также реформировать международные финансовые институты, в том числе при участии стран с формирующимися рынками.
Накануне данной встречи МВФ и Форум финансовой стабильности (ФФС), созданный после региональных кризисов 1997–1998 годов, опубликовали совместное заявление о разграничении сфер ответственности. Было подтверждено, что главное предназначение МВФ – осуществлять наблюдение за международной финансовой системой в целом, а задача ФФС – разрабатывать международные стандарты финансового надзора и регулирования. Вместе оба института будут выстраивать механизмы раннего предупреждения. При этом МВФ займется оценкой макроэкономических и системных рисков, а ФФС – оценкой рисков функционирования финансовых систем.
Кризис продемонстрировал явную нехватку знаний о важных экономических процессах и взаимодействиях. Например, в последние годы были разработаны весьма сложные методы тестирования банковских систем с использованием самого современного эконометрического инструментария. Соответствующие стресс-тесты проводились (2005–2007) в большинстве стран Европейского союза. Все они показали высокую устойчивость банковских систем, что сразу же опроверг начавшийся мировой кризис. Оказалось, что данные тесты не учитывали психологических факторов, а также не принимали в расчет системного поведения финансовых институтов. Более того, теперь уже очевидно, что в преддверии кризиса рыночные операторы повсюду действовали проциклично. В стадии бума банки и инвестиционные компании ориентировались исключительно на получение максимальной прибыли и не делали ничего, чтобы ограничить свои будущие потери. Иначе говоря, они только усугубляли ситуацию.
Тот факт, что острая нехватка ликвидности на финансовых рынках случилась после многих лет усиленного накачивания денежной массы, говорит о слабой изученности механизмов денежного обращения в условиях глобализации. Так, первые лица ЕЦБ признают, что и процессы инфляции при низких ставках и особенно процессы дефляции осмыслены явно недостаточно. В еще большей степени это относится к специфике экономических процессов в странах с формирующимися рынками. Есть все основания полагать, что кризис даст мощный толчок к развитию экономической науки и усилению международного сотрудничества в этой области.
Еще одно направление действий – развитие регионального финансового сотрудничества. В Евросоюзе уже широко признана необходимость усилить взаимодействие надзорных органов разных стран и выработать общие принципы контроля финансовых рынков. Денежные власти ряда стран, особенно небольших и открытых, упорно высказываются в пользу создания единых для ЕС органов надзора. В условиях кризиса стало понятно, что Европейскому союзу нужно совершенствовать законодательство, регулирующее трансграничную деятельность банков. Например, в Финляндии, где две из трех основных банковских сетей принадлежат шведам, с конца прошлого года стали возникать опасения, что принимаемые в штаб-квартирах антикризисные программы будут в первую очередь нацелены на сохранение материнского бизнеса. Между тем дочерние банки являются для Финляндии системообразующими и их закрытие нанесло бы удар по всей экономике страны.
Кризис серьезно осложнил положение небольших и открытых экономик стран Евросоюза, не входящих в зону евро. В Швеции и Дании специалисты заговорили о том, что в составе валютного союза их финансовые рынки и денежные единицы не испытывали бы столь негативного воздействия внешних сил. Сложное положение, в котором оказались экономики прибалтийских государств из-за проблем в банковском секторе, только укрепили их стремление как можно скорее добиться приема в зону евро.
Необходимость усилить региональную интеграцию широко обсуждается в Азии. С 1990 по 2007 год доля внутрирегиональной торговли во всей внешней торговле тринадцати стран Восточной Азии (АСЕАН + 3 – Китай, Южная Корея, Япония) увеличилась с 43 до 54 %. Страны АСЕАН создали зоны свободной торговли с Австралией, Индией, Китаем, Новой Зеландией, Южной Кореей и Японией. В ответ на финансовый кризис-1997 в регионе была сформирована сеть кредитных линий, которая позволяет бороться со спекулятивными атаками на валюты участвующих стран. В конце ноября 2008-го в Бангкоке состоялась международная конференция «Будущее экономической интеграции в Азии». Выступавший на ней управляющий Банком Таиланда Тариса Ватанагасе отметил, что «экономическая интеграция в Азии существенным образом помогает ряду экономик нашего региона противостоять этому огромному внешнему дестабилизирующему воздействию». Теперь на повестке дня стоят вопросы либерализации рынка финансовых услуг, гармонизации стандартов финансовой деятельности, в том числе отчетности. Главной же целью является создание в регионе глубокого, ликвидного и устойчивого финансового рынка.
РОССИЙСКИЙ ДИВЕРТИСМЕНТ
России следует с целью перевода ее международного сотрудничества в финансовой сфере в новое содержательное качество максимально воспользоваться возможностями, которые открываются в ходе острой фазы кризиса (предположительно до второй половины 2009 года).
Первое. В рамках запланированного на апрель саммита G20 целесообразно вместе с несколькими партнерами из Содружества Независимых Государств (СНГ) и/или Шанхайской организация сотрудничества (ШОС) поставить вопрос о формировании международного центра изучения макроэкономических процессов и политики в странах с формирующимися рынками. Функционирование такого центра под эгидой одного из ведущих международных финансовых институтов позволит: 1) привлечь внимание международного экономического сообщества к проблемам переходных экономик; 2) поднять уровень знаний о закономерностях и характере экономических процессов на переходной стадии; 3) разработать лучшие методики проведения денежной, валютной и в целом экономической политики в данной группе стран; 4) учитывать особенности формирующихся рынков при выработке международных стандартов финансового контроля. В общем и целом мера будет способствовать движению к многополярности в рамках глобального экономического диалога и встреч G20.
Второе. В отношениях с Европейским союзом целесообразно внести вопросы антикризисного регулирования и кризисного предупреждения в повестку дня ближайшего саммита Россия – ЕС в середине 2009 года. Данная тема является политически нейтральной и имеет важное, никем не оспариваемое практическое содержание. Тот факт, что ряд стран Евросоюза, в том числе бывших социалистических, оказались сейчас в весьма сложном экономическом положении, будет способствовать развитию конструктивного диалога между Россией и Европейским союзом в данном направлении. Следует принять во внимание и то, что с июля место страны – председателя ЕС займет Швеция, имеющая одну из лучших в мире экономических школ с сильными позициями в вопросах денежного обращения, финансов и валютных курсов.
Третье. Ситуацию кризиса необходимо использовать как отправную точку для решительного прорыва в сфере финансовой интеграции в рамках СНГ. До сих пор эта область сотрудничества не дала осязаемых результатов, хотя кризис-1998 в России быстро распространился по другим странам Содружества, которые ныне испытывают серьезные экономические трудности. Между тем в регионе имеются все возможности для активного использования опыта АСЕАН и Евросоюза в таких сферах, как стабилизация курсов национальных валют, интеграция национальных фондовых рынков, гармонизация финансовых стандартов, развитие и объединение трансграничных платежных систем.
Вопросы о противодействии кризису и развитии международного сотрудничества в данной области необходимо поставить в качестве центральных на ближайших заседаниях руководящих органов СНГ. Результатом этих обсуждений должно стать принятие четких программ действий, отвечающих лучшим международным практикам. Для этого России (самостоятельно или вместе с другими инициативными партнерами, например Казахстаном) следует предварительно согласовать вопросы технической поддержки будущих проектов международными группами экспертов в частности из Европейского центрального банка, который осуществляет такую деятельность в ряде третьих стран.

Полигон модернизации и «витрина успеха»
© "Россия в глобальной политике". № 6, Ноябрь - Декабрь 2008
М.Г. Делягин – д. э. н., директор Института проблем глобализации.
Вынужденная обстоятельствами поддержка Абхазии и Южной Осетии может стать катализатором российской модернизации. Эти территории весьма различны и требуют разного подхода.
Стихийное развитие превратит Абхазию в курортно-военный придаток России, что недопустимо, поскольку чревато осложнением отношений и утратой имеющихся возможностей. Россия должна выстроить в Абхазии недостающие элементы своей экономики – не столько курортные, сколько технологические и финансовые. Создание вынесенных вовне (и потому защищенных от наших клептократии и монополий) инструментов модернизации станет ее репетицией в самой России.
Постановка задачи присоединения Абхазии к России сейчас непозволительна из-за ошибок прошлого, включая российское вмешательство в ход президентских выборов, сплотившее абхазскую элиту вокруг идеи независимости от России.
Южная Осетия как субъект экономики не существует в силу незначительных масштабов, что стало результатом состояния экономики и крайне низкого качества управления. России следует навести в финансах республики элементарный порядок, подготовив тем самым воссоединение осетинского народа в рамках Российской Федерации.
АБХАЗИЯ СЕГОДНЯ: КУСТАРНЫЙ СЕРВИС
Современное состояние экономики Абхазии можно охарактеризовать как кустарный сервис. Из-за войны и блокады население республики сократилось с 525 тыс. человек в 1989 году до более 215 тыс. жителей ныне. 44 % – абхазы, по 21 % – армяне и грузины (включая менгрелов и сванов), 11 % – русские, 1 % – греки. Более четверти населения получает пенсии и пособия.
Абхазия – зона особых интересов России и Турции (где проживает полумиллионная абхазская диаспора). Торговля обеспечивает 60 % ВВП, а сотни тысяч российских туристов «принесли» в 2007-м треть налогов и 40 % экспортной выручки.
Электроэнергия поступает с Ингурской ГЭС (работает на 70 % мощности): половину получает Грузия, половину – Абхазия, которая потребляет приблизительно 30 %, а около 20 % экспортирует в Краснодарский край. Сотрудничество обусловлено технологическими обстоятельствами: плотина ГЭС находится в Грузии, а подземная электростанция и четыре перепадные ГЭС – в Абхазии. Сухумская ГЭС разрушена, а сократившиеся потребности отменяют необходимость ее восстановления. До войны работала 21 малая ГЭС, но лишь две можно вернуть в эксплуатацию.
Государство не считает нужным привлекать иностранный капитал в энергетику, но износ основных фондов требует крупных инвестиций, вопрос об источнике которых остается открытым. В 2008 году тарифы на электроэнергию были резко повышены.
Состояние автодорог оставляет желать лучшего. Основной транспорт – изношенные автомобили и автобусы, на замену которых денег нет. Имеется два удобных аэропорта с восстановленными взлетно-посадочными полосами и три морских порта, пригодные для эксплуатации.
Железная дорога однопутная, она используется для перевозок туристов до Сухуми и для экспорта угля. Подвижной состав изношен и требует списания либо капремонта. Вокзалы заброшены и разрушаются, хотя билетные кассы подключены к российской системе «Экспресс-3». Последний внутриабхазский пассажирский поезд отменен в 2008-м.
Сотовый оператор «А-Мобайл» (совместное предприятие правительства и абхазских инвесторов) в конце 2006 года разрушил монополию «АкваФона», аффилированного с «МегаФоном».
До войны в сельском хозяйстве преобладали посадки эфиромасличных культур, табака и овощей. Впоследствии вывоз и переработка прекратились, сельское хозяйство превратилось в инструмент выживания, и почти вся обрабатываемая земля была занята под кукурузу с небольшими вкраплениями табака (для нужд самой Абхазии). Резко уменьшилось поголовье крупного рогатого скота, коз и овец. Сначала из-за угонов и истребления, а затем в результате сокращения кормовой базы.
Выращивание овощей и цитрусовых для России и курортников набирает обороты, но остается кустарным. До недавнего времени Абхазия обеспечивала себя мясными и молочными продуктами лишь на 40 %. Значительна доля импорта даже овощей, фруктов и растительных масел. Машинно-тракторный парк резко сократился, более 90 % его превысило все сроки амортизации.
До последних лет, когда в Абхазию стали поступать инвестиции из России, не работало ни одно предприятие мясомолочной и консервной промышленности; эфиромасличная промышленность не проявляет признаков жизни и сейчас. Из 183 промышленных предприятий функционирует около 60, производство упало в десятки раз.
Правда, в 2007-м начался рост производства стройматериалов (в преддверии зимней Олимпиады в Сочи), а туризм стимулирует сельское хозяйство и виноделие.
Экономика Абхазии высокоубыточна: в I квартале 2008 года общая прибыль (59 млн руб.) составила лишь 53,4 % от убытков (110,4 млн руб.), которые за год выросли на 36,2 %. Бюджет в 2007-м, как и в предыдущем, бездефицитен: дефицит просто нечем покрывать. Доходы – 1,43 млрд руб. – превысили план на 15,1 %, причем 434 млн руб. – «вливания извне» (вероятно, помощь России). Расходы составили 1,42 млрд руб., главная их статья (после армии и милиции – 484 млн руб.) – образование (174,8 млн руб.). В бюджете-2008 доходы выросли до 1,6 млрд руб., расходы – до 1,59 млрд руб. (почти половина из них – 733,6 млн – идет на зарплату), что с учетом инфляции и роста экономики означает снижение доли бюджета в ВВП.
Банковская система – это 14 небольших банков, которые с 2004 года открывают корсчета в России. В I квартале 2008-го она стала прибыльной, что отражает ее вывод «из тени».
Экспорт и импорт относятся как 3 к 7 (дефицит покрывается за счет денег туристов). Две трети внешней торговли приходятся на Россию. Сырье и необработанная сельхозпродукция дают более 90 % товарного экспорта, в том числе цитрусовые – 35 %, уголь (80–100 тыс. тонн в год), фрукты (прежде всего хурма), фундук, чай и овощи – 20 %, круглый лес – также 20 %. Под последним понимается экспорт ценных пород древесины в Турцию в результате хищнической вырубки реликтовых горных буково-дубово-каштановых лесов.
До 15 % экспортных доходов поступает от предоставления Турции в аренду морского шельфа для рыбного промысла. Со слов местного населения, турки основательно очистили от рыбы прибрежные мелководья.
Промышленный экспорт – до 10 % экспорта – обеспечивают компания «Вина и воды Абхазии» (до эмбарго поставляла в Россию до 1,5 млн бутылок вина в год) и Бзыбский деревообрабатывающий комбинат (продает пиломатериалы, паркет и другие изделия из ценной древесины в Европу). Правительство Абхазии предлагает инвесторам широкую гамму инвестпроектов, заметная часть которых будет «разобрана» после признания независимости.
НАПРАВЛЕНИЯ СТИХИЙНОГО РАЗВИТИЯ
Признание Абхазии способствовало оживлению производства. Ориентированное ранее на обслуживание туристов, а в последний год – на подготовку к Белой олимпиаде в Сочи, оно получит выход на российский рынок. В первую очередь это касается вин и цитрусовых, хотя не стоит недооценивать жесткость внутрироссийских барьеров (например, при доступе на рынок Москвы).
В течение 3–5 лет восстановится традиционная специализация сельского хозяйства: возделывание эфиромасличных культур и табака вытеснит кукурузу.
Возможна добыча нефти на шельфе российскими компаниями (оценка ее запасов, которую в 1998 году Грузия представила компаниям США, составляет 200 млн тонн), что повысит доходы бюджета. Однако без применения экологичных технологий ущерб, наносимый природе, не только подорвет главный – рекреационный – ресурс Абхазии, но и надолго омрачит двусторонние отношения.
В Абхазии разворачивается «малая приватизация» – продажа объектов торговли, общепита и «незавершенного строительства» (руин). На очереди приватизация крупных объектов с привлечением иностранного капитала (при этом будет делаться все для поддержания баланса между российскими и остальными, прежде всего турецкими, инвестициями).
Магистральным направлением станет «модернизация в обмен на собственность»: российские инвесторы рассчитывают получать в собственность модернизируемые ими объекты. Расхождение интересов (власти станут стремиться к максимальному контролю) будет порождать коммерческие конфликты, решаемые в частном порядке.
Вероятно использование стандартных схем развития: приватизация обеспечит государство средствами для участия в модернизации транспортной и энергетической инфраструктуры (так, износ линий электропередач уже обесценивает все выгоды от энергоизбыточности республики). Это в свою очередь будет способствовать росту туризма, «вытягивающего» сельское хозяйство и сферу услуг. Сначала в туристической инфраструктуре, а затем и в части крупных объектов начнет реализовываться схема строительство – эксплуатация – передача в пользование.
Российские экономисты указывают, что абхазское побережье может стать «золотым берегом Черного моря и золотым дном российского туризма», так как Абхазия – это «второй Сочи», только расположенный гораздо более удачно. Если в Сочи туристический рынок был построен искусственно, то в Абхазии – в Гаграх, Пицунде, Сухуми – он сложился исторически много лет назад.
Для возрождения туризма (во времена СССР Абхазия принимала около 1 млн организованных туристов в год и примерно столько же неорганизованных) нужна прозрачность структуры и истории собственности объектов недвижимости, чтобы снять опасения их «трофейного» происхождения.
В последние годы земля в Абхазии (точнее, право долгосрочной аренды) активно скупалась российскими инвесторами, которые не афишируют эти приобретения, рассматривая их как задел на отдаленное будущее. На осознание инвесторами факта привлекательности Абхазии уйдет около двух лет (этот срок может быть сокращен властями) и еще два-три года – на строительство новых и реконструкцию старых гостиничных объектов.
Важной особенностью республиканской ситуации являются поистине религиозное отношение абхазов к своей природе и их приверженность идее независимости, в том числе и от России. Обещания абхазских чиновников преследовать радушно приглашаемых ими инвесторов за «рвачество» отнюдь не случайны: это проявления не столько плохого воспитания, сколько патриотизма, который неизменно присутствует как постоянный фактор абхазского инвестиционного климата.
Патриотизм порой трудно выделить на фоне худших черт знакомого всем по Сочинскому региону «курортного менталитета» – стремления к иждивенчеству, мироощущения «все чужаки мне должны», лени и агрессивной зависти к добившимся даже малого успеха.
По данным Торгово-промышленной палаты Абхазии, когда российская группа «Конти» приобрела за 60 млн руб. «остатки стен» гостиницы «Абхазия» в Сухуми, отдельные политики «использовали эту сделку как повод для демагогии». Олег Дерипаска предполагал приобрести дачу Сталина за 10 млн долларов, но политики и пресса подняли шум вокруг этой сделки, инвестор от нее отказался, а дача продолжает разрушаться дальше. Нередкие случаи неадекватного завышения цен и чиновного вымогательства отпугивают даже российских инвесторов. Сервис же в Абхазии производит впечатление не из лучших даже в сравнении с городом Сочи и его окрестностями.
АБХАЗИЯ КАК ПОЛИГОН МОДЕРНИЗАЦИИ
Основная часть экономического потенциала Абхазии может быть раскрыта только за счет капиталов России и доступа на ее рынки, что делает политику Москвы ключевым фактором развития республики.
Важнейшая задача – повышение в Абхазии качества управления, в том числе государственного. Сегодня оно сочетает в себе усердие с отсутствием простейших навыков. Достаточно указать на то, что не существует данных по расчету показателя инфляции, из-за чего республиканские власти судят о своей экономике на основе абсолютных стоимостных показателей.
Передача тривиальных знаний и умений от российских управленцев и экспертов, ранее заблокированная фактом непризнания Сухуми, ускорит развитие республики и позволит России сформировать из людей, «обкатанных» в Абхазии, когорту специалистов для своей модернизации. Их уникальность будет заключаться в опыте созидательной практики (а не воровства) и в «привычке побеждать» (а не в пораженчестве современной российской бюрократии).
Требуются стандартные механизмы «продвижения образа страны», в частности популяризация нетронутой и самоотверженно охраняемой природы с подчеркиванием того, что непризнание Абхазии грозит разрушением экосистемы. Запад не готов помогать людям, но часто поддерживает их «за компанию» с какими-нибудь симпатичными кустарниками. Один фильм канала National Geografic о природных достоинствах Абхазии сделает для нее больше, чем самый крупный инвестор.
Необходимо развивать системы коммуникаций до уровня, позволяющего встраиваться в глобальную финансовую инфраструктуру, а также интернет-образование и врачебные консультации по Интернету.
Россия нуждается в собственной офшорной зоне. Это инструмент не только уклонения от налогов, но и глобального маневрирования капиталами, объективно необходимый крупному бизнесу, в том числе и российскому. Сейчас он использует соответствующие центры развитых стран, что усугубляет зависимость от последних. Помимо того что офшоры официально приоткрывают данные, существуют неофициальные каналы, по которым власти западных государств следят за движением капиталов в контролируемых ими офшорных зонах, что позволяет влиять и на их владельцев.
Выход российского бизнеса на глобальную арену влечет за собой объективную необходимость создания офшорных зон, контролируемых Россией. Наряду с привлечением иностранных капиталов они станут инструментами глобального и независимого маневрирования капиталов российских. Но размещение офшоров в основной части России опасно: они станут механизмом уклонения от налогов, как в 1990-х годах. Поэтому офшоры должны находиться на особых, «внешних» территориях.
Наряду с Калининградской областью такой зоной может стать Абхазия, точнее (из-за ее непризнанности большинством стран мира), какой-нибудь приграничный населенный пункт в России, который станет формальным регистрационным центром. Абхазия получит доходы в виде зарплаты номинальных директоров и деловой активности, Россия – инструмент глобального маневрирования бизнеса, не находящийся под внешним контролем.
Очевидно, что России нужен близкий и массовый курорт. Для закрепления Абхазии в этой роли нельзя допускать разрушения ее природы. Тогда по части дешевого морского отдыха и инвестиций в недвижимость Абхазия может уже в ближайшие два года стать для россиян аналогом Черногории. Пора избавиться от госплановской мании возводить в курортных местах цементно-бетонные конструкции, строить нефтеперерабатывающие, цементные заводы и пр. Поскольку бедность абхазов не позволяет им выбирать между инвесторами, контроль над экологичностью производств ложится на Россию.
Российскому туризму, главному фактору развития Абхазии, необходима инфраструктура. В рамках советского ВПК была разработана масса эффективных «закрывающих» технологий, названных специалистами российского Минэкономразвития «технологиями-убийцами» (так как их распространение делает непригодными старые технологии). Малые гидроэлектростанции, позволяющие обеспечивать клиентов энергией от установки, способной использовать любой ручей, производство сверхдешевых бензина и цемента, модульных конструкций и многое другое резко повысят эффективность Абхазии.
В России эти технологии блокируются как международными, так и собственными монополиями, которые эксплуатируют старые технологии, а также косностью бюрократии. В Сухуми такой бюрократии и монополий нет, но зато есть нужда в развитии «любой ценой». Поэтому Абхазия могла бы стать площадкой массового применения подобных технологий, тем более что в СССР она в свое время уже являлась «технопарком» в части исследований, проводившихся в дельфинарии, обезьяньем питомнике и на военных объектах.
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ СЕГОДНЯ: КАТАСТРОФА
Республика Южная Осетия занимает 3,9 тыс. кв. км (лишь втрое превышая по площади Москву) в центральной части южных склонов Большого Кавказа. По оценкам, в ней проживало до нападения Грузии до 80 тыс. человек, в том числе в единственном городе – Цхинвали около 40 тыс. (из них около 24 тыс. стали беженцами). Агрессия Грузии привела к уничтожению основной части остатков производственных мощностей, повреждено большое количество зданий.
Прожиточный минимум в IV квартале-2007 (3 062 руб. в месяц) лишь на 23,5 % ниже, чем в России, при намного более низких доходах населения, что является сертификатом бедности.
До августовской войны промышленность Южной Осетии насчитывала 22 небольших предприятия – по сути, цеха с объемом производства (без НДС) в 61,6 млн рублей (2006). Причем производство сокращалось. О качестве госуправления свидетельствует то, что на момент агрессии данные по 2007 году еще отсутствовали.
Из имеющихся предприятий 10 подведомственны Министерству экономики и внешнеэкономических связей (то есть принадлежат и управляются им). В 2007-м работало семь из них, причем даже без учета инфляции производство сократилось на 11,6 % (на 3,3 млн руб.). Основная часть мощностей простаивает, а функционирующие изношены так, что требуют постоянного «латания на ходу». Большинство предприятий, даже успешных, испытывают нехватку рабочей силы, отягощены долгами и страдают от дефицита оборотных средств.
В текущем году убираемая площадь посевов пшеницы выросла более чем в 10 раз – со 130 до 1,5 тыс. га, ожидался урожай свыше 2,5 тыс. тонн (более 16,7 центнера с гектара). Такой 11,5-кратный рост был вызван намерением приобрести к 18-летию независимости (20 сентября с. г.) мельничное оборудование, что могло бы придать смысл выращиванию пшеницы. Полученная мука отправлялась бы на Юго-Осетинское госпредприятие хлебобулочных изделий (последние полтора десятилетия оно ввозило более дорогую муку, убивая свое производство); ее себестоимость, по обещаниям, снизилась бы вдвое – с 15–16 до 8 руб. за кг. В нынешнем же году Минсельхоз Южной Осетии торжественно ввез в страну два трактора ДТ-75 с оборудованием; до конца года предполагалось закупить «еще несколько единиц сельхозтехники».
ЦЕЛЬ – САМООБЕСПЕЧЕНИЕ
Цель России – вывод к 2011 году экономики Южной Осетии на средний уровень субъектов Южного федерального округа (который состоит, не считая Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, из депрессивных территорий), в том числе по уровню жизни.
На восстановление первых 750 обследованных объектов будет выделено 16 млрд руб. в рамках плана по восстановлению (на 2009–2011 годы), и еще 9,5 млрд руб. потребуется на первоочередные меры. Всего на восстановление Южной Осетии будет направлено 25,5 млрд рублей (в 2009-м намечено выделить 10 млрд руб.), и вероятно, эта сумма вырастет. Так, министр транспорта РФ Игорь Левитин с ходу запросил 40 млрд руб. на реконструкцию дорог Северной и Южной Осетии (на 2008–2015 годы).
Часть денег пойдет через бюджет Северной Осетии. Это означает включение Южной Осетии в бюджетную систему России и позволяет предположить, что республика после ее вывода на уровень Южного федерального округа будет объединена с Северной Осетией.
Масштабы экспорта юго-осетинской продукции в Россию останутся незначительными вследствие ограниченности транспортных и производственных возможностей. Развитие туризма будет сдерживаться из-за слабой инфраструктуры и плохого (в первую очередь по психологическим причинам) сервиса.
Помимо восстановления жилья, транспортной и энергетической инфраструктуры, для благополучия Южной Осетии достаточно:
создания военной базы для защиты от новых попыток агрессии (после восстановления грузинской армии) с максимальным привлечением местного населения к ее строительству и обслуживанию, а также к службе по контракту;
максимальной ориентации всех работ на местные, а не завозимые из России ресурсы;
подготовки местных кадров.
Местной спецификой является отсутствие финансового контроля.
Если Абхазия стала государством, то Южная Осетия возникла как сообщество людей, защитивших себя от истребления. Государственность не сложилась во многом из-за малонаселенности и незначительности ресурсов.
Масштабы хозяйственной деятельности мизерны: на одном из крупнейших в промышленности заводе «Эмальпровод» занято 130 человек, а директору одного из более или менее успешных предприятий – лесокомбината – наиболее реальным источником средств видится реализация на металлолом 50 тонн оборудования. Вырученные за него 175 тыс. руб. (из которых еще надо вычесть стоимость транспортировки), по мнению директора, «могут дать реальный толчок к развитию производства».
В 1990-х и до 2004 года Южная Осетия получала ключевую часть доходов от контрабанды из Грузии в Россию. Предпринятая в конце прошлого десятилетия попытка командующего Пограничными войсками Федеральной пограничной службы РФ остановить контрабанду привела к его отставке.
Михаил Саакашвили, стремясь подавить «сепаратизм», пресек масштабную контрабанду, и, хотя частная торговля с Грузией сохранилась, Южная Осетия, по сути, перешла на иждивение России несмотря на отрицание этого факта. Эксперты неоднократно обвиняли российских военных и власти Южной Осетии в том, что они для присвоения средств серьезно завышали число людей, получающих выплаты от Москвы.
В 2008-м Комитет госконтроля и экономической безопасности Южной Осетии по поручению главы республики Эдуарда Кокойты провел проверки, в результате которых выявились колоссальные хищения электроэнергии и газа (в основном, правда, в частных организациях). Главной причиной низкой собираемости платы за электроэнергию и газ называли отсутствие в селах счетчиков, наличие необрубленных деревьев, которые становятся причиной обрыва на линии, а также изношенность газопровода. В ряде случаев электрики подстрекали жителей портить счетчики, обещая им за взятку возможность временно не платить за электроэнергию.
Признание независимости Южной Осетии создает предпосылки для осуществления финансового контроля, в том числе за российскими деньгами. Развитие республики должно послужить примером того, как установить жесткий финансовый контроль в наименее пригодных для этого условиях, а также показать, что существуют финансисты, способные сделать это.
Для успеха Южной Осетии достаточно перечисленных выше мер при условии введения финансового контроля, без которого невозможна никакая осмысленная политика. Поэтому требуется внешнее финансовое управление Южной Осетией. При его эффективности она сможет выйти даже на самофинансирование (отсутствие прямых бюджетных трансфертов при реализации на ее территории федеральных программ – военных, инфраструктурных, туристических и кадровых).
Цель проекта «Южная Осетия» – нормализация жизни в республике с целью воссоединения осетинского народа в рамках Российской Федерации. В силу полной зависимости от России Южная Осетия – это наиболее показательный пример, по которому другие народы Грузии будут судить о способности или неспособности России осуществлять развитие. Превращение Южной Осетии в «витрину процветания» ослабит грузинский режим. Сохранение же республики как «витрины убожества», уступающей по уровню жизни и развития даже бедным районам Грузии, докажет несостоятельность Москвы.

Шанс, которым не воспользовались
© "Россия в глобальной политике". № 5, Сентябрь - Октябрь 2008
А.С. Грачёв – председатель научного комитета Мирового политического форума, в прошлом – пресс-секретарь и советник президента СССР. Данная статья основывается на главе из книги Gorbachev’s Gamble. Soviet Foreign Policy & the End of the Cold War («Пари Горбачёва. Советская внешняя политика и окончание холодной войны). Она вышла в свет в 2008 году в издательстве Polity (Кембридж, Великобритания).
Резюме Мир сегодня находится на расстоянии световых лет от горбачёвской эпохи с характерными для нее оптимистическим видением и «новым политическим мышлением». Обещанная стабильность международных отношений не наступила, и самым распространенным способом решения конфликтов остается сила.
Внезапное окончание холодной войны – это, безусловно, доминирующее событие второй половины XX века – продолжает оставаться самым неожиданным и непонятным феноменом нашего времени. Объяснения «победителей» и «побежденных» значительно отличаются, но даже в сумме не дают ответа на главный вопрос: почему это произошло?
Холодная война завершилась мирно, но, поскольку ее окончание не было оформлено никаким актом о капитуляции или послевоенным конгрессом по образцу Потсдамской конференции лета 1945 года, остается значительное расхождение во взглядах даже на время ее прекращения. Когда именно это произошло?
КОГДА ЗАКОНЧИЛАСЬ ХОЛОДНАЯ ВОЙНА?
Согласно преобладающему мнению, холодная война завершилась в 1989-м, хотя среди многих событий, которые произошли в том году, выбирают разные символы. Для одних это 9 ноября – падение Берлинской стены. Другие называют декабрьский саммит на Мальте, где на совместной пресс-конференции Джордж Буш и Михаил Горбачёв объявили миру, что больше не считают свои страны противниками.
Оксфордский профессор Арчи Браун, напоминая, что холодная война была борьбой идеологий, тоже датирует ее формальное окончание 1989 годом. Он пишет: «Холодная война началась с советского захвата Восточной Европы в форме прихода к власти коммунистических партий, контролировавшихся Москвой. Она закончилась, когда страны Центральной и Восточной Европы стали некоммунистическими и независимыми». Однако он же полагает, что с идеологической точки зрения холодная война прекратилась еще до того, как она завершилась на политическом поле. Браун ссылается на две важные речи Михаила Горбачёва в 1988-м – доклад на XIX партийной конференции летом и «анти-Фултонское» выступление в ООН в декабре.
Американский политолог Мэттью Эванджелиста также считает символом окончания холодной войны речь в ООН, в которой Горбачёв объявил об одностороннем сокращении численности советских войск и обычных вооружений в Восточной Европе. Эта речь, полагает Эванджелиста, «обозначила окончание холодной войны в Европе, поскольку сделала советские вооруженные силы неспособными ни на начало вторжения на Запад с занимаемых позиций, ни на крупное вмешательство для сохранения контроля над “братскими” союзниками в Восточной Европе».
Выделяет эту речь и Анатолий Черняев, помощник Михаила Горбачёва, но для него самым важным является новый концептуальный подход к внешней политике – призыв к отказу от использования силы как метода решения международных проблем одновременно с признанием суверенного права народов на выбор политической системы. Сделав такое заявление, Генеральный секретарь ЦК КПСС формально разорвал политическую связь со своими предшественниками.
Однако помимо «романтических» оценок заявления Горбачёва, были, конечно, и «реалистические». Например, госсекретарь США Джеймс Бейкер предпочел подождать, пока обещания не воплотятся в действительность. И долго ждать не пришлось. Уже в 1990 году советско-американская политическая «Антанта», объявленная на Мальте, подверглась двойному испытанию. Во-первых, она столкнулась с деликатным вопросом о членстве объединенной Германии в Североатлантическом альянсе и, во-вторых, с проблемой вторжения Саддама Хусейна в Кувейт. В обоих случаях Горбачёв не отошел от заявленных им принципов.
В ходе встречи на высшем уровне в Вашингтоне в мае 1990-го он подтвердил, что признаёт за будущим объединенным германским государством «право выбора» альянса, полностью сознавая, что им станет НАТО. Агрессию Ирака против Кувейта Горбачёв без колебаний назвал грубым нарушением международного права, не имеющим оправданий. Согласно Бейкеру, переломным моментом стал день августа 1990 года, когда он и Эдуард Шеварднадзе зачитали во Внукове совместное пресс-коммюнике, в котором осудили иракское вторжение и потребовали вывода войск из Кувейта. «Через полвека после того, как холодная война началась с взаимной подозрительности и идеологического пыла, она испустила последний вздох в терминале аэропорта в пригороде Москвы», – пишет Бейкер в своих мемуарах.
Общая позиция, занятая Москвой и Вашингтоном, представляла собой для Бейкера не только «историческую демонстрацию солидарности супердержав»; она обрисовала обнадеживающую перспективу стабильного и безопасного международного порядка после окончания холодной войны.
Именно этой перспективой вдохновлялся президент Джордж Буш после возвращения с мини-саммита с Горбачёвым в Хельсинки. Выступая перед Конгрессом 11 сентября 1990 года (ровно за 11 лет до другого, рокового 11 сентября), он пообещал американцам и всему миру «“новый мировой порядок”, основанный на верховенстве закона, а не на законе джунглей».
Буш имел, казалось, все основания для оптимизма, и не только потому, что Горбачёв непосредственно перед этим заверил его в советской поддержке американской позиции по Кувейту. Были и другие регионы мира, где «солидарность супердержав» способствовала разрешению хронических конфликтов, накопившихся за десятилетия холодной войны.
Европа двигалась к историческому саммиту, на котором в ноябре 1990 года была принята Хартия для новой Европы, провозгласившая конец эпохи разделения и конфронтации. Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), подписанный 19 ноября после многолетних политических торгов между дипломатами и военными, предусматривал значительные сокращения численности войск и обычных вооружений армий стран Варшавского договора, которые в течение долгих лет внушали Западу страх перед лицом советского блицкрига. Варшавский договор и НАТО должны были из военных блоков трансформироваться в политические элементы инфраструктуры новой панъевропейской системы безопасности.
В Африке, на континенте, который много лет служил полем битвы сверхдержав, действовавших через местных сателлитов, тоже возникли новые возможности для разрешения внутренних и региональных противоречий. Даже такой застарелый и, казалось бы, безнадежный конфликт, как ближневосточный, начал подавать признаки возможного прогресса. Новый уровень советско-американского сотрудничества по урегулированию кризиса в Персидском заливе стимулировал распространение этого опыта на поиск решения израильско-палестинской проблемы.
Советская и особенно американская стороны предпочитали отрицать прямую связь между международными действиями, которые должны были заставить Саддама вывести войска из Кувейта, и предложением созвать мирную конференцию по Ближнему Востоку, однако она была очевидна. Горбачёв начал подталкивать Буша в этом направлении еще со времен их встречи в Хельсинки. Сначала американцы реагировали неохотно, опасаясь, что взаимосвязь между этими двумя вещами можно интерпретировать как вознаграждение агрессора. Однако в январе 1990-го, когда подготовка наземной операции против Ирака вошла в заключительную стадию, Джеймс Бейкер согласился на упоминание о проекте общего мирного урегулирования на Ближнем Востоке после встречи со вновь назначенным министром иностранных дел СССР Александром Бессмертных. «Это награда для Горбачёва, а не для Саддама», – сказал ему Бейкер. (Конференция под председательством Буша и Горбачёва состоялась в Мадриде в конце октября 1991 года.)
В течение этих критических месяцев, казалось, укрепилась общая структура глобальной политики и основные ее институты получили шанс эффективного функционирования. Выступая 29 ноября 1990-го на открытии заседания Совета Безопасности ООН, созванного для обсуждения санкций против Саддама Хусейна, Джеймс Бейкер имел достаточно оснований заявить: «Оставив холодную войну позади, сейчас мы имеем шанс построить тот мир, который представляли себе основатели Организации Объединенных Наций. Мы получили возможность превратить Совет Безопасности и сегодняшнюю Организацию Объединенных Наций в подлинный инструмент мира и справедливости на всей планете».
И в самом деле, после Мальты американская картина «нового мирового порядка» не слишком расходилась с «новым политическим мышлением» Горбачёва ведь советский президент тоже верил в возможность перейти от «баланса сил» к «балансу интересов» и в то, что это будет достигнуто за счет укрепления международных организаций, прежде всего ООН.
В мемуарах обоих лидеров – советского и американского – поражает удивительно похожий тон, с которым описывается этот период. Они с явной ностальгией рассказывают о необыкновенном политическом «романе» между двумя сверхдержавами, покончившими с десятилетиями взаимного страха и недоверия. Новые американо-советские отношения, возникшие на базе духа доверия между лидерами, отражали чувство общей ответственности за пока еще неведомый мир, который они собирались освободить от груза конфронтации, длившейся почти полвека.
Однако меньше чем через полгода Михаил Горбачёв, партнер президента США по строительству будущего «нового мирового порядка», будет вынужден покинуть свой пост, а один из предполагаемых бастионов будущей постройки – демократизированный Советский Союз – окажется в руинах.
Для многих на Западе именно падение исторического соперника обозначило окончание холодной войны. Казалось, что история завершилась счастливым концом как либеральный и демократический триумф. Предполагалось, что теперь ничто не потревожит единственную оставшуюся супердержаву либо помешает ей установить собственную версию закона и порядка на планете.
Сейчас мы знаем, что было дальше. Политическая вселенная, возникшая после холодной войны, сегодня именуется миром «после 11 сентября». Вместо комфортного «конца истории» Фрэнсиса Фукуямы мир столкнулся с новыми беспрецедентными вызовами, в частности международным терроризмом. Вернулись и некоторые прежние проблемы.
РОЛЬ ГОРБАЧЁВА
Американо-российские отношения, по крайней мере в части риторики, к которой прибегают политические элиты или пресса, напоминают о днях холодной войны. Ряд стратегических вопросов, которые, казалось, были успешно решены во времена политического сотрудничества Рейгана/Буша с Горбачёвым, вернулись в повестку дня. Среди них – модернизация ядерных и обычных вооружений, снижение уровня взаимного доверия, расширение НАТО на Восток, проблемы с ПРО и ракетами средней дальности и т. п.
Сам Михаил Горбачёв считает, что распад Советского Союза лишил мир важного фактора стабильности, создав угрозу для позитивного преобразования международной политической сцены, о котором мечтали на Мальте лидеры обеих супердержав. Да и те западные аналитики, для кого холодная война закончилась за два года до того, как прекратил существование Советский Союз, утверждают, что в качестве ее источника следует рассматривать не существование СССР, а политическую природу Российского государства.
Насколько реалистичной была стратегия Горбачёва? Мог ли даже реформированный Советский Союз трансформироваться в бастион нового демократического международного порядка? Не было ли противоречия между горбачёвским замыслом глубокой политической реформы и желанием сохранить Советское государство, которое несло на себе тавро проекта большевиков?
Отвечая на эти вопросы, Горбачёв напоминает о своих намерениях превратить СССР в демократическую конфедерацию. Он приводит убедительные цифры голосования в пользу сохранения Союза на референдуме в марте 1991 года. Однако эти формальные доводы не способны устоять перед навязанной самим Горбачёвым логикой перестройки: ликвидация монопольного правления Коммунистической партии – основной результат его реформ – вела к разрушению политического режима и готовила почву для распада государства, основанного на идеологической догме и принуждении. Михаил Горбачёв своей практической политикой ответил на вышеприведенный вопрос. Отказавшись использовать силу для сохранения Союзного государства, он дал ясно понять, что не пожертвует демократической сердцевиной своего замысла для сохранения его жесткой скорлупы.
Несомненно, биография и политическая карьера Горбачёва неразрывно связаны с конечным жребием Советского Союза. Очевидно, что на сегодняшние противоречивые (и по преимуществу негативные) оценки многими россиянами итогов перестройки воздействуют хаотичность, двусмысленность и непоследовательность реформ. Но и западные аналитики не боятся переписывать историю, представляя роль Горбачёва как второстепенную.
Характерно, например, утверждение именитого историка холодной войны Джона Льюиса Гаддиса о том, что «Горбачёв никогда не являлся лидером в том смысле, в каком лидерами были Вацлав Гавел, Иоанн-Павел II, Дэн Сяопин, Маргарет Тэтчер, Рональд Рейган, Лех Валенса и даже Борис Ельцин. Все они держали в уме конечную цель и знали, каким путем к ней прийти. Горбачёв метался между противоречиями, не разрешая их».
Другие утверждают, что истинным стимулом для революционных преобразований Горбачёвым советских отношений с Западом был «материальный упадок» СССР, который не оставлял советскому лидеру свободу выбора.
Некоторые западные аналитики, признавая исторические масштабы перемен, произведенных перестройкой внутри страны, представляют трансформацию международной ситуации как побочный продукт утопических планов, непредвиденный и нежелательный для самого Горбачёва. Он, мол, просто утратил контроль над силами, им самим выпущенными на свободу, и вел себя как политик одновременно и наивный, и непрофессиональный.
Не возвращаясь к разбору других обвинений, выдвигаемых против перестройки и ее инициатора как за рубежом, так и с нарастающим пылом в самой России, хочу задержаться на тезисе о «наивности» Горбачёва. Этот «наивный» ставрополец больше шести лет руководил уникальным процессом мирного демонтажа наиболее мощного и внушавшего страх тоталитарного режима второй половины XX века.
«Именно Михаил Горбачёв, а не Рональд Рейган или Джордж Буш положил конец коммунистическому правлению в Советском Союзе», – свидетельствует Джек Мэтлок, один из самых эффективных послов США в Москве и проницательный наблюдатель советского общества во времена беспрецедентных перемен.
В отличие от архитекторов демократических преобразований в послевоенной Германии или Японии советский реформатор не мог опереться на масштабную помощь победивших держав, а правящая каста тоталитарного режима не потерпела военного поражения. Когда Горбачёв начал вводить демократические процедуры и институты и пытался их защищать, ему пришлось мобилизовать и возглавить разбросанные и дезорганизованные демократические силы в самЧм советском обществе, в том числе и в правящей партии. Несмотря на огромное давление консервативных сил, именно Горбачёв, следуя провозглашенному им принципу свободы выбора, устоял перед соблазном применения силы, чтобы воспрепятствовать роспуску Варшавского договора и распаду советской империи, избавив мир от кошмара «Югославии с атомной бомбой» в масштабах целого континента.
Именно Михаил Горбачёв, чей отец сражался против немцев, а сам он пережил нацистскую оккупацию в 1942/43 годах, привез канцлера ФРГ в родную деревню и от имени всей нации, трагически пострадавшей от войны, предложил немецкому народу историческое примирение (а также долгожданное объединение). Это событие сравнимо с другим критическим примером послевоенного примирения между лидерами Франции и Германии – Шарлем де Голлем и Конрадом Аденауэром.
Горбачёв добился успеха там, где несколько поколений лидеров и Востока, и Запада терпели неудачу. Ему удалось сломать стерильный ритуал переговоров о разоружении, которые за немногими исключениями в течение долгих лет оставались безрезультатными. Вместо того чтобы служить прикрытием для продолжения гонки вооружений, переговоры превратились в поиск эффективных схем сокращения наиболее опасных арсеналов и надежных процедур взаимного контроля. Изгнав дутую секретность из щекотливой сферы стратегического баланса сил, гласность подорвала возможности военно-промышленных комплексов с обеих сторон доминировать над политикой и политиками.
Чтобы разорвать порочный круг бесполезных торгов и обоюдной подозрительности, а также вовлечь другую сторону в практические переговоры, Горбачёв прибег к рискованной игре. К изумлению профессионалов предложенный им принцип асимметричных сокращений вооружений в конечном счете сработал лучше, чем твердолобое сдерживание.
Означают ли эти результаты, что для достижения эфемерного политического успеха Михаил Горбачёв растратил с трудом накопленную военную мощь и авторитет супердержавы? Так рассуждают те, кто игнорировал его основную цель – освободить советское общество от разрушительного бремени гонки вооружений и от стремления к стратегическому «паритету», равному совокупным возможностям не только Соединенных Штатов, но и всех их союзников по НАТО, а заодно и Китая. Не говоря о социальных и экономических последствиях этой политики, она имела стратегически безответственную цену, которую страна уже не способна была платить.
Даже если тщательно рассчитанная политическая игра и была частью переговорной тактики Горбачёва, желаемые результаты ему принесла не тактика, а глубокий сдвиг в логике, которая до сих пор определяла отношения между сторонами, вовлеченными в холодную войну. Поразительно видеть сходство аргументов лиц, принимавших решения в Москве и Вашингтоне. В январе 1982-го Рейган процитировал Уинстона Черчилля, «заметившего, что они [Советы] уважают только силу и решимость в своих отношениях с другими народами». В Москве в эти годы похожие рассуждения – «американцы понимают только силу» – можно было услышать на заседаниях Политбюро из уст Андропова, Устинова и Громыко.
И все же убежденный в том, что именно комплексы взаимного недоверия завели отношения Востока и Запада в тупик, Горбачёв продолжал настаивать на необходимости заменить логику конфронтации стратегией партнерства. После первоначальных попыток убедить Запад в серьезности своих намерений он осознал, что единственный способ осуществить реальные перемены – это подать пример.
Хотя по традиционной логике взаимоотношений супердержав сокращение советских ядерных сил перед лицом угрозы стратегической оборонной инициативы (СОИ) было совершенно немыслимо, Горбачёву удалось заключить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, уклоняясь, по сути, от проблемы «звездных войн». «Его достижение знаменует ключевой поворотный пункт в эндшпиле холодной войны, потому что устранило СОИ как камень преткновения для внутренней и внешней демилитаризации и привело к первому значительному сокращению арсеналов стратегических ядерных вооружений России и США», – считает Мэттью Эванджелиста.
РОМАНТИЗМ VS РЕАЛИЗМ?
Наивный непрофессионал, идеалист или провидец? Различие между этими оценками зачастую очень тонкое, а окончательное суждение вынесет только история.
Для канадского эксперта по советской внешней политике Жака Левека «редко, когда в истории политика великой державы могла вдохновляться, несмотря на сложности и неудачи, таким идеалистическим взглядом на мир – взглядом, основанным на всеобщем примирении, взглядом, в котором образ врага постепенно расплывается, пока он практически не исчезает как враг». Михаил Горбачёв «позволял обстоятельствам, а зачастую и более твердым взглядам более дальновидных современников определять его собственные приоритеты», – пишет Гаддис.
Анатолий Черняев так характеризует персональный стиль дипломатии Горбачёва: «Это человек, которому претит конфронтация, он не любит размахивать кулаками и стремится к выработке компромисса и достижению консенсуса». Горбачёв в свою очередь признаёт: «Я предпочитаю доверять людям». Эти черты характеризуют его и как политика, и как человека.
Но, возможно, именно это стремление не изменить самому себе, довольно редкое для носителя власти, по определению зависимого от политической конъюнктуры, выделяло его из толпы «политических животных». И, скорее всего, именно это качество сделало его неожиданно похожим на другого мощного государственного лидера – Рональда Рейгана. Встретившись с Горбачёвым перед Рейкьявиком, Франсуа Миттеран описал ему Рейгана следующим образом: «В отличие от других американских политиков Рейган – не робот. Он – человек».
Еще одно свидетельство о характере Рейгана принадлежит Джорджу Шульцу – человеку, который, несомненно, наблюдал за ним с куда более близкого расстояния, чем Миттеран: «Когда Рейган сказал [о Горбачёве]: “Я думаю, он не такой, как все”... это было не только выражением доверия, но, и как мне представляется, проявлением готовности противостоять мнению окружающих». Может быть, потому, что слова «доверие» и «вера» так много значили для обоих, в отношениях между этими очень разными людьми возникла взаимная симпатия, и они совершили исторический прорыв к выходу из лабиринта послевоенного мира.
Вспоминая о первой встрече с Горбачёвым в Женеве в ноябре 1985-го, Рейган писал: «Сейчас, оглядываясь назад, ясно, что между мной и Горбачёвым возникло притяжение, которое привело к чему-то очень близкому к дружбе». Выясняется, что в конечном счете склонность Горбачёва к личной дипломатии, его готовность верить другим были не так наивны, как думали некоторые, и даже, можно сказать, окупились сторицей.
Где же все-таки истина? Был ли этот романтик «нового политического мышления» человеком, отрешенным от суровой реальности, податливым последователем тех, чьи карты были сильнее? Или же провидцем, который отказывался принимать абсурдность мира, доставшегося ему в наследство?
Был ли он ослеплен изначальным решением любой ценой добиться примирения с Западом и настолько подпал под влияние своих зарубежных партнеров, что перестал видеть разницу между национальными интересами собственной страны и крупнейших западных держав? Оказался ли он неспособен признать сам факт существования стратегических соперников и противников? И не было ли простодушием с его стороны верить, что достаточно предложить новые правила игры и сделать акцент на общих интересах перед лицом общих вызовов, чтобы превратить врагов в союзников?
Чтобы защитить репутацию Михаила Горбачёва как профессионального и эффективного политика, стоит напомнить о реакции на его инициативы и поступки со стороны наиболее авторитетных западных партнеров. Рейган, безусловно, не видел в нем дилетанта. Американскому президенту до такой степени импонировало пристрастие Горбачёва к идее безъядерного мира, что в Рейкьявике он почти принял предложение Горбачёва о постепенном уничтожении ядерного потенциала супердержав (что вызвало панику у французов и британцев).
Франсуа Миттеран, сначала скептически воспринявший мечту Горбачёва об «общем европейском доме», вскоре не только увлекся логикой этого проекта, но и даже предложил практический способ его реализации в форме Европейской конфедерации. Осторожный Джордж Буш не скрывал, что позаимствовал некоторые идеи «нового мирового порядка» из «нового политического мышления» Горбачёва. Объявив о намерении преодолеть «логику сдерживания», Буш санкционировал выступление в Берлине своего госсекретаря Джеймса Бейкера в декабре 1989 года с идеей «нового атлантизма для новой эры». Она предполагала создание новой общей системы безопасности, включающей Советский Союз и простирающейся от Ванкувера до Владивостока.
Конечно, бЧльшая часть этих идей родилась в атмосфере эйфории, которая сопровождала беспрецедентные перемены на международной арене в конце 1980-х. Тем не менее дальнейшее существование трансформированного СССР как ключевого игрока в мировой политике принималось за аксиому. Однако вскоре то, что еще недавно казалось немыслимым, начало воплощаться в реальность. По мере прогрессирующей дезинтеграции Варшавского договора и очевидного ослабления позиций Горбачёва внутри страны оптимизм Запада относительно строительства новой, более рациональной конструкции мира как совместного с Горбачёвым предприятия начал испаряться.
«Рынок падает, – объявил Бейкер своим коллегам в Госдепартаменте в январе 1991 года. – Пора продавать (акции)». «Продавать» означало формально закрепить благоприятные перемены в течение того неопределенного, но уже явно ограниченного времени, которое оставалось у Горбачёва. В этот период американцы были прежде всего заинтересованы в быстром окончании войны в Персидском заливе и окончательном оформлении Договора СНВ. Наблюдая стремительное нарастание внутренних трудностей перестройки, западные партнеры Горбачёва распрощались с проектами «воздушных замков», которые сулило его «новое мышление», и поторопились вернуться в отношениях с Москвой к правилам Realpolitik. Вместо того чтобы задуматься о вызовах будущего, Запад вернулся к привычному прошлому и тем самым способствовал возвращению международной политики к вековым традициям игр «с нулевой суммой».
Были забыты девизы «нет победителей, нет побежденных», которыми обменивались участники мальтийского саммита. «Мы восторжествовали, а они нет, – говорил Буш своему окружению. – Мы не можем позволить Советам вырвать победу из челюстей поражения». Настойчивые просьбы Горбачёва об экономической помощи «для спасения перестройки» встретили вежливый, хотя и сочувственный отказ сначала на саммите «Большой семерки» в Лондоне в июле 1991-го, а потом на последней официальной встрече президентов Соединенных Штатов и Советского Союза в Мадриде в октябре, уже после августовского путча в Москве. Администрация США забрала назад свое обещание убедить Конгресс отменить поправку Джексона–Вэника, рудимент брежневской эры. (Позднее под предлогом того, что Советский Союз перестал существовать, Билл Клинтон отказался от обещания, данного Бейкером Горбачёву от имени Буша, о том, что НАТО не станет расширяться на Восток.)
* * *
И все же, даже по прошествии времени и выхода в свет множества книг о перестройке и ее авторе, по-прежнему неясно: кем останется в истории Михаил Горбачёв – победителем или побежденным? Проведя меньше семи лет у власти, он оставил другую Россию – с мирно демонтированной тоталитарной системой и примиренную с остальным миром. Он поднял «железный занавес», опустившийся после Второй мировой войны, и поощрил воссоединение Германии и Европы после сорока с лишним лет разделения. Он добился успеха в инициировании совместно со своими западными партнерами процесса разоружения, который впервые в послевоенной истории привел к резкому замедлению и даже обращению вспять гонки вооружений. Без всяких сомнений, перестройка дала мощный толчок глобализации. Может ли заслужить более впечатляющую оценку государственный деятель, который всегда вынужден помнить, что политика – это искусство возможного?
С другой стороны, ныне российское общественное мнение расценивает этого человека (по крайней мере, пока) как одного из наименее популярных национальных лидеров XX века. Постгорбачёвская Россия стала меньше по площади и куда менее могущественной (как минимум, с военной точки зрения), чем Советский Союз. Преемники Горбачёва уводят страну от демократических целей, провозглашенных творцом перестройки и гласности, а для многих наблюдателей нынешнее политическое развитие России ведет «назад, в СССР».
Что касается мира в целом, то сегодня он находится на расстоянии световых лет от оптимистического видения «нового политического мышления». Холодную войну заменило множество «горячих точек» на всей планете, и, хотя угроза полного уничтожения в ядерной катастрофе снята, число жертв террора, межэтнических и религиозных конфликтов и локальных войн превосходит ежегодные цифры в самые мрачные годы холодной войны.
Обещанная стабильность международных отношений не наступила, и самым распространенным способом решения старых и новых конфликтов остается сила. «Дивиденды от мира» так и не перераспределили колоссальные средства из военных бюджетов развитых стран в помощь отсталым регионам мира или на экологические программы, а объем расходов на оборону и международная торговля оружием уже превосходят уровни холодной войны. Система международных договоров о разоружении, которая охватывала весь спектр вооружений, пересматривается, и некоторые ключевые соглашения между Востоком и Западом, заключенные после многолетних усилий на основе с трудом достигнутых компромиссов, приостановлены и даже аннулированы.
Вопреки заверениям, данным западными лидерами Михаилу Горбачёву, НАТО расширилась в Восточную Европу и вступила на территорию бывшего Советского Союза, вызвав подъем националистических и антизападных настроений в российском общественном мнении. Что касается горбачёвского проекта «общего европейского дома», то он, можно сказать, действительно осуществлен, но без участия России, а отношения Москвы с Западом снова, как во время холодной войны, отмечены взаимными обвинениями, пропагандистскими кампаниями и шпионскими скандалами.
Новое поколение политиков и на Востоке, и на Западе, которому не пришлось пережить худшие годы холодной войны, по-видимому, без колебаний готово прибегать к эскалации конфронтации и использованию «образа врага» в качестве инструмента внутренней политики для консолидации общественного мнения в поддержку национальных лидеров. Такой регрессивный откат к атмосфере и рефлексам прошлого может привести если не к новой версии холодной войны, то, по крайней мере, к очень прохладному миру, совершенно непохожему на оптимистические картины, которые рисовало «новое мышление». Это, возможно, подтверждает хрупкость исторических перемен, которые в конце прошлого века казались необратимыми.
При таком противоречивом балансе не следует ли на самом деле считать исторические заслуги Горбачёва глобальной неудачей? Не кажется ли он сам командующим, который, выиграв многие сражения, проиграл основную войну? Я убежден, что, если бы Горбачёв был средним политиком, ему позволили бы вести тихую жизнь пенсионера – в конце концов, много ли государственных деятелей сдержали обещания, которые давали своим народам или своим иностранным партнерам? Но случай Горбачёва – иной. Почему?
Именно потому, что его проект вызвал столько надежд и ожиданий, а его действия пробудили к жизни такие важные общественные силы и процессы в его собственной стране и во всем мире, что многие не могут простить ему неудачу. Порой трудно понять, обвиняем ли мы (и россияне, и нероссияне) Горбачёва за его ошибки и непоследовательность либо самих себя за то, что не смогли эффективно использовать предоставленный шанс.
Да и можно ли говорить о неудаче? Горбачёв имел мужество отодвинуть старый мир, а с ним и старое мышление. Ему хватило мудрости приветствовать и помогать рождению новой реальности, пусть и спорной, со всеми ее тогда еще неведомыми дилеммами и противоречиями. А когда возникал конфликт между интересами (включая его собственные) и принципами, он неизменно выбирал принципы.
Михаил Горбачёв прекрасно сознавал огромность вызова, на который он решил ответить. Когда его помощник Георгий Шахназаров сообщил ему, что журнал Time выбрал его «человеком десятилетия», он не выглядел особенно тронутым или польщенным. «Бери другой масштаб, Георгий, – сказал он. – Дело не во мне, но масштаб у этого дела вселенский. Ведь речь идет о том, что мы и страну перевернули, и Европа уже никогда не будет такой, какой была, и мир не вернется к старому... Так что наша новая революция оказалась и на сей раз не только национальной, но и всемирной. По крайней мере, положили начало мировой перестройке».
Что это – мессианские амбиции? Мегаломания? Вряд ли, учитывая обстоятельства. Возможно, это просто подтверждение пари, заключенного с историей политиком, который продолжает верить, что правильно угадал смысл ее движения и был на ее стороне.

Возобновляемая энергия и будущее России
© "Россия в глобальной политике". № 4, Июль - Август 2008
Тоби Гати – старший советник по международным вопросам юридической фирмы Akin Gump Strauss Hauer and Feld LLP. Занимала должность специального советника президента США и старшего директора по России и Евроазиатским государствам в Совете национальной безопасности, а также должность заместителя государственного секретаря по анализу и сбору информации в администрации президента США Билла Клинтона.
Резюме У России нет серьезных экономических стимулов сокращать зависимость от ископаемого топлива. Вследствие этого, а также в силу недофинансирования опытного производства и скудности инвестиций в нетрадиционные источники энергии в данной области хромает конкурентоспособность выработки.
Президент России Дмитрий Медведев, судя по всему, намерен выдвинуть серьезную инициативу, дабы принять меры против расточительного использования энергии и поощрить энергосбережение. В соответствии с указом, подписанным главой государства 4 июня 2008 года, правительству дано поручение до 1 октября представить в Государственную думу законопроект, который предусматривал бы стимулы для внедрения экологически благоприятных и энергосберегающих технологий.
Проект федерального бюджета-2009–2011 также предполагает выделение средств на возобновляемую энергетику и субсидирование специальных проектов. Эти шаги могут стать предвестием более обширной энергетической политики, которая выходит за рамки использования углеводородов. Все это происходит в то время, когда Россия ясно дает понять: она намерена играть большую роль в международных усилиях по противодействию изменению климата и глобальному потеплению.
Новая линия Москвы – прежде всего появляющийся интерес к альтернативной энергетике – особенно интересна, ведь Россия не только крупнейший экспортер энергоносителей (первое место в мире по природному газу и второе по нефти), но и третья держава по объему выбросов парниковых газов (после Китая и США).
Важно еще и то, что неудовлетворение расточительностью российской промышленности и недостатком экологически благоприятных технологий Дмитрий Медведев связал с необходимостью повысить конкурентоспособность России на мировом рынке и разработать технологии, обеспечивающие успех инновационной стратегии.
Со временем более диверсифицированная энергетическая политика может открыть перспективы для предпринимательской активности, а также для партнерства с энергетическими секторами, которые в США и Европе растут наиболее быстрыми темпами.
Россия добывает огромное количество нефти, газа и угля и располагает колоссальными запасами этих полезных ископаемых, но она может преуспеть и в производстве возобновляемых энергоносителей. Существуют технологии использования солнечной и ветряной энергии, которые позволят решить проблемы отдаленных регионов, не подключенных к единой энергосети. В то же время биомасса нескончаемых лесов и полей, многочисленные реки на востоке страны, приливы в Белом и Охотском морях и геотермальные источники на Северном Кавказе и полуострове Камчатка могли бы стать хорошим дополнением к ныне используемым источникам энергии.
ЗАЧЕМ РОССИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ?
В 2005 году возобновляемые энергоносители в России составляли примерно 3,5 % от суммарного предложения первичной энергии (СППЭ). В мире же это самый быстрорастущий источник энергии, на который приходится 13,5 % мировых поставок (если исключить гидроэнергетику, доля возобновляемых источников энергии в России составляет всего 1,2 % СППЭ, а к 2010-му она может вырасти лишь до 1,9 %).
Колоссальные запасы углеводородов, низкие внутренние цены на энергию, слабые экономические стимулы и отсутствие необходимой юридической базы – вот лишь некоторые причины, объясняющие, почему Россия не входит в число 25 ведущих стран, которые создают благоприятные условия для инвестиций в нетрадиционные источники энергии и наращивают ее использование. В то же время в этом списке присутствуют такие богатые энергетическими ресурсами государства, как Норвегия и Австралия.
Отчего в России столь медленно пробуждается интерес к возобновляемым энергоносителям? Низкий уровень государственной поддержки, иные приоритеты, как, к примеру, безотлагательная необходимость модернизации существующей инфраструктуры, и почти полное отсутствие общественных дебатов и понимания роли нетрадиционных источников энергии – таковы главные факторы. Экономика опирается на гигантские запасы нефти и газа, а на развитие альтернативных энергоносителей выделяется мало бюджетных средств. Первостепенное внимание направлено на инвестиции в приоритетные «национальные проекты», государственные корпорации и стратегические отрасли.
Частный бизнес, скорее всего, не решается рисковать миллионами, вкладывая их в те отрасли промышленности, которые государство не находит достаточно привлекательными. Предприниматели предпочитают дождаться более благоприятных политических и законодательных условий. Испытанный на Западе путь инновационной деятельности – разрабатывающие новаторские технологии, малые предприятия, которые затем укрупняются и становятся ведущими корпорациями, – нелегко перенести на российскую почву, о какой бы отрасли ни шла речь.
Стимулы, которые могли бы способствовать развитию возобновляемой энергетики в России, не столь очевидны, как в США, стремящихся снизить зависимость от ближневосточной нефти, или в Европе, которая пытается уменьшить зависимость от российского газа на фоне недавно возникших опасений в надежности поставок. Однако, учитывая повышение внутренних цен на энергоносители и возможную нехватку сырья для удовлетворения нужд внутреннего рынка, более широкое использование возобновляемых источников энергии помогло бы российскому ТЭКу сэкономить дорогостоящие углеводороды. Использование альтернативной энергии способно повысить экспортный потенциал России, хотя и не очень ощутимо.
Бурный рост этой отрасли в мире объясняется озабоченностью загрязнением атмосферы и глобальным потеплением. Сегодня российское общественное сознание гораздо менее чутко реагирует на эту проблему, чем западное. Однако Россия расположена близко к тающим ледникам Северного полюса, а обширные области в Сибири и на Дальнем Востоке представляют собой зону вечной мерзлоты. В недавно опубликованных статьях анализируется угроза, которую глобальное потепление создает для малых народностей Дальнего Востока, а также неблагоприятные последствия таяния льдов, например, для животного мира. Использование возобновляемых энергоресурсов может благоприятно сказаться на экономике и окружающей среде, но не является решением более острых проблем, таких, в частности, как эффективность использования энергии.
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ
В 2003-м примерно 10 млн жителей отдаленных регионов России, не подключенных к единой электросети, зависели от дорогостоящих поставок ископаемого топлива. Так, в самом большом субъекте Федерации, Республике Саха, примерно 75 % всех коммунальных расходов в 2006 году пришлось на долю поставок горючего. Стоимость его транспортировки в эту республику в 2007-м оценивалась в 1,2 млрд рублей. Приведенные цифры дают примерное представление о возможностях рынка возобновляемых источников энергии в отдельных российских регионах. Нужно лишь увеличить инвестиции в альтернативную энергетику для использования, например, силы ветра.
Самый большой потенциал энергии ветра сосредоточен на Крайнем Севере и на востоке России. Ветрогенераторы можно эксплуатировать на северо-западе страны (Архангельская и Калининградская области, Республика Карелия), на Северном Кавказе (Астраханская и Ростовская области, Краснодарский край, Республика Дагестан, Республика Калмыкия), в Сибири (Новосибирская и Тюменская области) и на Дальнем Востоке (Магаданская и Сахалинская области, Хабаровский край).
Международное сотрудничество в этой сфере уже началось. Например, Дания в 2002 году помогла построить ветроэлектрическую станцию в Калининградской области; в 2005-м норвежская фирма Troms Kraft объявила о планах строительства ветроэлектрической станции на Соловецком острове в Белом море; чешская компания Falcon Capital планирует построить ветровую электростанцию в Калмыкии к 2010 году; в Краснодарском крае при содействии испанской Ibredrola Renewables ветровая электростанция появится к 2011-му; голландская Windlife Energy намерена создать ветроэлектрические мощности в Мурманской области. Российская компания ГидроОГК также участвует в реализации нескольких проектов. В частности, она планирует увеличить ветроэлектрические мощности в Калмыкии с 1 мегаватта в 2007 году до 9 мегаватт к 2010-му. Эта компания разработала пробную инвестиционную программу до 2010 года и видит большие возможности, открывающиеся перед российскими производителями оборудования для ветроэлектрических станций.
Значительный потенциал имеет использование биомассы. Она представляет собой отходы лесной промышленности и сельского хозяйства, а также твердые городские и канализационные отходы. Из них можно производить биогаз, бутанол, этанол и другие продукты. Так, за последние пять лет число производителей топливных брикетов, гранул и плит на северо-западе России выросло на порядок. Финская корпорация Vartsila уже начала поставлять биоэнергетические котлы деревообрабатывающим компаниям (прежде всего в Иркутской области) для производства тепловой энергии.
Агропромышленный комплекс России проявляет некоторую заинтересованность в проектах, связанных с производством биологического топлива. Многие из них получают поддержку региональных властей. В 2007-м российское правительство сообщило о намерении с 2008 по 2012 год инвестировать 4,6 млрд рублей в увеличение посевных площадей рапса для поддержки производства дизельного биотоплива. В марте 2008-го премьер-министр Виктор Зубков объявил о том, что правительство окажет финансовую поддержку строительству 30 новых заводов по производству биогорючего, а также вложит средства в модернизацию существующих производственных мощностей. Если программа будет реализована, производство биоэтанола в России может возрасти до 2 млн тонн в год. В различных регионах есть планы создания предприятий по производству биоэтанола.
В настоящее время подобные проекты часто ориентированы на экспорт, поскольку при нынешней политике российских властей в области акцизных сборов экспорт биологического топлива выгоднее его продажи на внутренних рынках. Согласно оценкам, себестоимость производства российского биоэтанола для транспортных нужд находится в диапазоне 7–8 рублей за литр, однако к этому прибавляется акцизный сбор в 26 рублей, что делает производство для внутреннего потребления нерентабельным.
Таким образом, стимулом для российского бизнеса служит растущий спрос на биоэтанол, дизельное биотопливо на основе рапса и древесное горючее в странах Европейского союза. В России до сих пор нет единых стандартов дизельного биологического топлива. Национальная биотопливная ассоциация провела второй международный форум по биотопливу на основе этанола в апреле 2007 года, а третий – в апреле 2008-го.
Наибольший потенциал выработки солнечной энергии сосредоточен на юго-западе России, на Черноморском побережье и в Каспийском бассейне, а также в Южной Сибири – в Республике Алтай. В 2006 году экс-президент СССР Михаил Горбачёв призвал лидеров стран «Большой восьмерки» создать в течение 10 лет Всемирный фонд солнечной энергии с капиталом 50 млрд долларов. Пока конкретные действия в этом направлении не предпринимались, но частные инициативы успешно реализуются.
Так, американская компания Solar Night Industries, Inc. недавно открыла в Москве свое представительство, которое призвано содействовать исследованиям солнечной энергии и освоению технологий по ее производству. Компания Nitol Solar, российский производитель кремния для солнечных батарей, объявила о планах разместить акции на Лондонской фондовой бирже и выразила заинтересованность в развитии солнечной энергетики и ее практическом применении.
Тройку лидеров по производству электроэнергии из геотермальных источников в 2007-м составляли Соединенные Штаты, Япония и Исландия. Россия не входила даже в первую десятку. Между тем значительные геотермальные ресурсы расположены в сейсмически активных областях на полуострове Камчатка, Курильских островах и Сахалине. Две действующие геотермальные электростанции в районе вулкана Мутновский на Камчатке уже существенно увеличили предложение электроэнергии на местном рынке. В 2006 году власти Исландии проявили интерес к сотрудничеству в строительстве геотермальных установок на российской территории.
Россия использует примерно 20 % имеющихся у нее экономически жизнеспособных гидроэнергетических ресурсов. Причем если в европейской части страны осваивается около 48 %, то в Сибири – только 25 %, а на Дальнем Востоке – всего 3 % (для сравнения: США, Канада, несколько государств Западной Европы и Япония используют от 50 до 90 % своих ресурсов). Бóльшая часть гидроэнергетического потенциала России сосредоточена в Центральной и Восточной Сибири, а также на Дальнем Востоке.
Россия считается второй в мире (после Бразилии) страной по уровню ежегодных речных стоков. Согласно амбициозному плану ГидроОГК, предполагается вложить около 65 млрд дол. в проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии, а к 2020-му компания собирается удвоить мощность электроэнергетических установок. Уже к 2010 году ГидроОГК намеревается соорудить до 20 мини-гидроэлектростанций на Северном Кавказе.
Ожидая скорого принятия новых законов в области возобновляемой энергии, российские и зарубежные инвесторы изучают возможности капиталовложений в гидроэнергетику. Например, японская Mitsui и норвежская Statkraft рассматривают предложения по строительству на Северном Кавказе гидроэнергетических установок. Кроме того, федеральные власти готовы оказать финансовую помощь ГидроОГК в сооружении приливной электростанции в Мезенской губе Белого моря в дополнение к действующим приливным электростанциям Тугурская (Охотское море) и Кислогубская (Баренцево море).
Несколько российских инвестиционных компаний, включая группу «Онэксим» Михаила Прохорова, стремятся к реализации проектов в сфере водородного топлива. В 2006-м «Интеррос» и «Норильский никель» приобрели 35 % акций американской компании Plug Power Inc. для развития технологий производства топливных элементов и водородного топлива. В 2005 году создана национальная инновационная компания «Новые энергетические проекты» во главе с Борисом Кузыком, которая развивает в России водородные технологии. Некоторые из них способны существенно улучшить работу солнечных генераторов и ветродвигателей. Компания подчеркивает важность индустрии возобновляемой энергии.
Заглядывая в будущее, российский министр промышленности и энергетики Виктор Христенко объявил о планах использовать автобусы на водородном топливе в дни зимней Олимпиады-2014. Европейский исследовательский центр технологий и инвестиций в Голландии собирается поставить к Олимпийским играм в Сочи конверсионные технологии для оснащения автобусов, работающих на бензине и дизельном горючем, водородными двигателями. Этот центр планирует также реализовать проекты по производству водородного топлива в Иркутской области. В октябре 2007-го местная администрация подписала с голландской компанией инвестиционное соглашение о запуске в ближайшем будущем установки по производству альтернативного топлива на базе каменного угля.
ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ?
Чтобы создать благоприятные условия для выработки возобновляемой энергии, необходим прорыв на четырех основных направлениях.
Во-первых, политическое руководство России должно четко сформулировать национальные приоритеты в этой области.
Во-вторых, нужно принять новое законодательство, которое создаст более прочный фундамент для субсидирования этой отрасли и стимулирования инвестиций в производство нетрадиционных энергоресурсов.
В-третьих, требуется проявлять бóльшую заинтересованность со стороны российского общества.
В-четвертых, необходимо развивать партнерство между российскими компаниями и международными корпорациями, призванное дать импульс развитию жизнеспособного рынка.
В целом спрос на возобновляемую энергию быстрее всего растет в странах, сделавших ее использование одним из приоритетов национальной энергетической политики, поскольку такое решение – это значительный шаг на пути к повышению уровня привлекательности капиталовложений. Важно также обозначить минимальный процент возобновляемой энергии в общем производстве энергии в данной стране, в том или ином регионе. Такие плановые показатели служат обнадеживающим сигналом для рынка. Они свидетельствуют о том, что инвестиции в альтернативную энергетику приветствуются и будут вознаграждены. Например, компания «Ренова» готова участвовать в проектах по производству солнечной и ветровой энергии, но ждет государственных субсидий.
В России политические сигналы значат много, но и экономические приобретают все большее значение. Если руководство по-прежнему будет делать акцент на добычу нефти и газа, а государственный бюджет – полагаться преимущественно на налоговые поступления от этих отраслей, у российского бизнеса не появятся стимулы для инноваций в области крупномасштабного производства новых источников энергии. Однако в будущем по мере того как внутренние цены на газ будут расти, а стоимость генерации возобновляемой энергии станет падать, ее доля в общем производстве должна увеличиться. Кроме того, поскольку международные компании начали вкладывать средства в альтернативную энергию, высока вероятность того, что их примеру последуют ведущие российские компании.
Некоторые из них в настоящее время делают первые шаги, инвестируя в западные высокотехнологичные производства. Выше упоминались «Интеррос» и «Норильский никель».
«Ренова» обнародовала в 2007 году проекты производства солнечной, ветровой и биологической энергии на итальянском рынке, а в этом году она увеличила до 39 % свою долю в швейцарской технологической компании Oerlikon, выпускающей оборудование для создания солнечных элементов. В начале 2008-го филиал независимого российского производителя газа «Итера» объявил о намерении инвестировать в строительство двух биотопливных установок в Соединенных Штатах, а также в аналогичные проекты, реализуемые в России и в СНГ.
Российские компании могут также привлекать иностранный капитал для осуществления проектов в области возобновляемой энергии ради получения льгот за сокращение выбросов и последующей перепродажи квот на мировых рынках. Правительственная комиссия, созданная под эгидой Министерства экономического развития и торговли, начала принимать заявки на подобные проекты в марте 2008 года. Но если процесс принятия решений будет слишком сложным и забюрократизированным, российский бизнес не сможет в полной мере воспользоваться механизмом совместных проектов, предусмотренным Киотским протоколом, чтобы привлечь дополнительные источники финансирования программ эффективного энергопотребления. Темпы технологической конверсии отчасти зависят от создания в России благоприятных рыночных условий.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
В России предпринималось несколько попыток ввести в действие законы, стимулирующие развитие возобновляемой энергии. В свое время президент Борис Ельцин наложил вето на законопроект «О государственной политике в области использования нетрадиционных, возобновляемых источников энергии», принятый Государственной думой в ноябре 1999-го.
Администрация Владимира Путина, озабоченная решением других неотложных задач, не внесла документ для повторного обсуждения, и в октябре 2003 года он был снят с повестки дня Госдумы.
В январе 2005-го парламенту был предложен другой законопроект – «Об альтернативном топливе для двигателей». Он предусматривал федеральные субсидии регионам, производящим нетрадиционные энергоносители, а также государственно-частное партнерство для осуществления масштабных инвестиций в производство биотоплива для нужд транспорта. Однако в сентябре 2007 года правительство отозвало документ на том основании, что в нем отсутствуют четкие формулировки и он плохо проработан.
Весной прошлого года Совет Федерации и Министерство сельского хозяйства объявили, что в ближайшем будущем на рассмотрение в Госдуму будет представлен законопроект «Об основах развития биоэнергии в Российской Федерации». В этом документе предлагалось снизить акцизные сборы на топливный этанол и предоставить льготное налогообложение нефтеперерабатывающим заводам, смешивающим бензин и дизельное горючее с этанолом.
В конце ноября 2007-го президент Владимир Путин поручил министру сельского хозяйства Алексею Гордееву создать «благоприятные условия для бизнеса, занимающегося производством биотоплива». Некоторые руководители предприятий пошли еще дальше, предложив законодательно обязать производителей добавлять биоэтанол и биологическое дизельное топливо в моторное горючее и внести соответствующие изменения в налоговое и таможенное законодательство. Однако, несмотря на то что в стране имеется 20 млн гектаров неиспользуемых пахотных земель, критики высказали озабоченность по поводу влияния производства биотоплива из зерновых культур на рыночные цены зерна в России, а также растущей конкуренции между западными производителями биотоплива и призвали не спешить.
Министерство промышленности и энергетики неоднократно заявляло о необходимости расширить применение нетрадиционных энергоносителей. В начале 2006 года министерство в сотрудничестве с РАО «ЕЭС» подготовило законопроект «О поддержке использования возобновляемой энергии». В конце прошлого года был принят новый федеральный закон о реформировании РАО «ЕЭС», который может способствовать выделению государственных субсидий для коммунальных предприятий, использующих возобновляемые источники для генерирования электроэнергии.
* * *
В западных странах высокие цены на энергоносители являются мощным стимулом для развития технологий получения солнечной и ветровой энергии, создания топливных элементов, приливных и геотермальных электростанций, производства возобновляемой энергии из биомассы, равно как и других подобных технологий.
У России нет серьезных экономических стимулов для того, чтобы снижать зависимость от ископаемого топлива. Вследствие этого, а также в силу недофинансирования опытного производства и недостаточных инвестиций в нетрадиционные источники энергии она отстает в развитии конкурентоспособного производства в данной области.
Правда, в последнее время правительство начало уделять больше внимания технологиям генерации возобновляемых энергоресурсов. В январе 2008 года на совещании Совета безопасности президент Владимир Путин заявил, что «у России имеются финансово-экономические возможности для более широкого использования чистых технологий». После этой речи, посвященной экологической безопасности страны, бывший вице-премьер Дмитрий Медведев выразил мнение, что Россия «должна быстро действовать, чтобы застолбить себе место» на мировом рынке технологий производства чистой и возобновляемой энергии.
Но чтобы это стало реальностью, нужны соответствующие политические, экономические и юридические условия, а также использование значительного научно-технического потенциала России.

Поле битвы – ОБСЕ
Аркадий Дубнов
© "Россия в глобальной политике". № 4, Июль - Август 2008
А.Ю. Дубнов – обозреватель газеты «Время новостей».
Резюме Казахстан не претендует на то, чтобы изменить формат ОБСЕ. Астане в соответствии с ее геополитическим весом вполне достаточно извлечь собственную выгоду, Москва же ставит перед собой цель переписать правила игры, что заведомо сложнее. Впрочем, и рычагов воздействия у России несопоставимо больше, чем у Казахстана.
В 2010 году общеевропейский процесс, старт которому был дан на хельсинкском Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в августе 1975-го, отметит очередную годовщину – 35-летие. Принимать поздравления от лица «именинника» будет, скорее всего, страна-председатель – Казахстан. У руля ОБСЕ впервые окажется государство не только азиатское, но и имеющее, мягко говоря, неоднозначный послужной список в области демократии и прав человека. А ведь данным темам традиционно отводилось заметное место в повестке дня этой международной структуры.
Как говорит бывший министр иностранных дел Киргизии, ныне президент бишкекского Института общественной политики Муратбек Иманалиев, вступление центральноазиатских стран в региональную европейскую организацию в 1992 году стало «историко-политическим капризом, обусловленным событиями начала 1990-х и определенными пристрастиями ведущих держав».
Путь Астаны к руководству крупнейшей европейской структурой был извилист. И он отражает не столько вехи становления казахстанской государственности, сколько, с одной стороны, соперничество России и Запада за энергоресурсы Каспия и Центральной Азии, а с другой – конкуренцию между Москвой и Астаной за позиции на энергетическом рынке и на постсоветском пространстве.
«КАВАЛЕРИЙСКАЯ АТАКА» РАХАТА АЛИЕВА
В феврале 2003 года посол Казахстана в Австрии и при ОБСЕ Рахат Алиев на заседании Постоянного совета ОБСЕ попросил от имени руководства своей страны рассматривать Казахстан в качестве претендента на председательство в организации в 2009-м. К Алиеву, зятю президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, конечно, относились не как к рядовому диппредставителю, но всерьез это заявление тогда мало кто воспринял. Ведь к тому моменту Астану связывали с ОБСЕ более чем напряженные отношения.
Еще в 1999 году, когда Нурсултан Назарбаев продлил свои полномочия на досрочных президентских выборах и подвергся за это острой критике на Западе, он открыто обвинил представителей ОБСЕ во вмешательстве во внутренние дела Казахстана. В интервью телеканалу «Хабар» Назарбаев сравнил европейских визитеров с партийно-советскими чиновниками, наезжавшими в республику из Москвы для всевозможных проверок, и дал понять, что его страна не очень-то дорожит членством в организации.
В сентябре 2000-го подкомитет по делам Азии и Тихого океана Палаты представителей Конгресса США одобрил резолюцию 397, в которой выражалась озабоченность состоянием прав человека и демократии в Центральной Азии, в том числе в Казахстане, и поставил вопрос о целесообразности дальнейшего членства в ОБСЕ государств этого региона.
Ответом стало выступление в ноябре того же года министра иностранных дел Казахстана Ерлана Идрисова на 8-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Вене. Он обвинил организацию в том, что она больше внимания уделяет вопросам человеческого измерения в ущерб военно-политическому, экономическому и экологическому. Выводы министра звучали жестко: эволюционные процессы в рамках ОБСЕ не соответствуют потребностям Казахстана, а ее оценки ситуации в республике имеют преимущественно негативный, предвзятый и менторский характер.
В октябре 2003 года постпредство Казахстана при ОБСЕ обнародовало конфиденциальный меморандум «К вопросу о реформировании деятельности ОБСЕ в регионах». В этом шестистраничном документе организация обвинялась в правозащитном уклоне: она «сосредоточила основное внимание на гуманитарном измерении в отдельных регионах» и «ошибочно отказалась от проведения активного диалога по этим вопросам с властными структурами стран, где она работает, сосредоточив вместо этого основное внимание на т. н. независимых оценках, зачастую базирующихся на субъективных мнениях и непроверенной информации».
Резкой критике подверглась деятельность страновых миссий, которые общались в основном с неправительственными и правозащитными структурами. Предлагалось формировать миссии по согласованию с властями страны пребывания, ограничить их мандат одним годом с условием продления только по решению Постоянного совета ОБСЕ. При этом сотрудники миссий должны опираться в своей работе на правительственные структуры.
Меморандум был подготовлен в преддверии выступления Нурсултана Назарбаева на заседании Постоянного совета, назначенном на 20 ноября 2003-го. Попытки Алиева получить поддержку документа среди послов, представленных в штаб-квартире ОБСЕ, провалились. И 18 ноября пресс-служба президента Казахстана сообщила, что «в связи с простудным заболеванием Нурсултан Назарбаев госпитализирован в республиканскую клиническую больницу в Астане для прохождения стационарного лечения, и его визит в Австрию 20 ноября, во время которого он планировал выступить в ОБСЕ, откладывается».
Непонятно, чем руководствовался Рахат Алиев, предпринимая столь лихую «кавалерийскую атаку» на механизмы ОБСЕ. Ведь предложения меморандума ставили под сомнение основополагающие принципы, сформулированные в гуманитарной «третьей корзине» Хельсинкских договоренностей. Но следует отметить, что события пятилетней давности предвосхитили основные мотивы схватки Москвы с ОБСЕ на рубеже 2007 и 2008 годов, в период парламентских и президентских выборов в России. Алиевская атака захлебнулась, возможно, еще и потому, что не была активно поддержана партнерами по СНГ (хотя в преамбуле меморандума указывалось, что он подготовлен совместно с миссиями России, Белоруссии и Киргизии). Сейчас же противостоять ОБСЕ пытается в одиночку Москва. Казахстан, кстати, поддерживать Россию, судя по всему, не собирается. Но об этом ниже.
«ОЧИЩАЮЩАЯ ВОЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА»
Отношения, казалось, вернулись в прежнее русло, а февральское заявление Рахата Алиева было благополучно забыто. Серьезный перелом в подходе Астаны наметился в 2004 году, когда Алиев и его супруга Дарига Назарбаева начинают работать с американской компанией Global Options, с которой сотрудничали бывшие высокопоставленные политические и военные чиновники США. Некоторые подробности стали известны весной 2008-го после публикаций в американской прессе.
В частности, по утверждению The Wall Street Journal, старшая дочь президента Казахстана пыталась использовать Global Options, чтобы повлиять на ход расследования скандального дела о коррупции, получившего в мировой прессе название «казахгейт». Главным обвиняемым является американский финансист Джеймс Гиффен, которого подозревают в коррумпировании высших представителей казахстанского руководства, в том числе и президента.
Сам Назарбаев в мае 2004 года назвал «инсинуацией, провокацией и подтасовкой» свидетельства своей причастности к «казахгейту», полученные американскими прокурорами. Несколько дней спустя посол США в ОБСЕ Стефан Миникес, находясь в Астане, с несвойственной дипломатам прямотой поставил Казахстану диагноз: «Раковой опухолью, пожирающей вашу страну изнутри, является опухоль коррупции». И выписал рецепт от этой тяжелой болезни – окунуться в «очищающую волну демократического процесса». В преддверии обсуждения казахстанской заявки на председательство в ОБСЕ Миникес призывал руководство страны воспользоваться «великой возможностью» и очистить запятнанную репутацию. Он имел в виду свободное и справедливое проведение предстоявших в 2005-м парламентских и президентских выборов.
Источники, близкие к Алиеву, утверждают, что именно тогда, в 2004 году, партнеры из Global Options рекомендовали ему отказаться от конфронтации с ОБСЕ и начать искать для своей страны «европейский» путь.
К этому же времени относятся и новые инициативы российской дипломатии, направленные на изменение ситуации, когда ОБСЕ выполняет функцию «инструмента» для «обслуживания отдельных государств и группировок». В июле 2004-го на заседании Постоянного совета был оглашен текст инициированного Москвой совместного заявления стран СНГ – членов ОБСЕ (за исключением Грузии).
Организацию упрекали за неспособность «адаптироваться к требованиям меняющегося мира и обеспечить эффективное решение вопросов безопасности и сотрудничества на евро-атлантическом пространстве» и за несоблюдение таких «хельсинкских принципов», как невмешательство во внутренние дела и уважение суверенитета отдельных государств. В заявлении стран СНГ предлагалось выработать «единые объективные критерии» для «оценки избирательного процесса на всем пространстве ОБСЕ», сократить состав миссий наблюдателей за выборами до 50 человек, запретить их представителям комментировать избирательный процесс до официального подведения итогов голосования...
«РЕДКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ»
Парламентские выборы в Казахстане 19 сентября 2005 года должны были стать решающим аргументом в дискуссии вокруг председательства в ОБСЕ. Буквально за неделю до голосования интересы своей страны среди послов западных государств в штаб-квартире организации пытался лоббировать сам президент Казахстана. Как сообщали тогда автору дипломатические источники в Вене, Нурсултану Назарбаеву дали понять, что западные страны приветствовали бы добровольный отказ Астаны от своей заявки. Турция, например, которая претендовала на председательство в ОБСЕ в 2007-м, отступилась от этой идеи ввиду недостаточного уровня демократических свобод у себя в стране.
Вердикт наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) относительно голосования в Казахстане был неутешительным: «Выборы не отвечали международным стандартам ОБСЕ». Негативная оценка не обескуражила Астану. «Увязка решения о председательстве в ОБСЕ с оценкой выборов имеет важное значение, но надо думать еще и о перспективах демократии в Казахстане», – заявил в ноябре 2005 года в интервью газете «Время новостей» Касымжомарт Токаев, в ту пору министр иностранных дел.
«Казахстан, будучи евразийской страной, отражает нынешний характер ОБСЕ, в которой состоят чисто азиатские государства нашего региона, и, сделав очень много для продвижения к демократии, нуждается в своего рода поощрении… Поэтому мы считаем, что Казахстан достоин быть председателем этой очень уважаемой организации», – сказал Токаев.
В мае 2008-го, спустя полгода после получения вожделенного права возглавить ОБСЕ (правда, на год позже, в 2010 году), госсекретарь Казахстана Канат Саудабаев почти в тех же выражениях рассуждал о «редкой возможности», которую предоставит это председательство для «укрепления диалога между Востоком и Западом». «Причем в понятие “Восток” в этом случае мы включаем как страны – участницы ОБСЕ к востоку от Вены, так и страны мусульманского Востока», – делился своими геополитическими изысканиями Саудабаев.
Но тогда, в ноябре 2005-го, спустя более месяца после парламентских выборов, Касымжомарт Токаев не испытывал оптимизма в отношении предстоявших уже через месяц и президентских выборов. «За одну ночь исполнить все наши намерения невозможно», – комментировал он пожелания Запада демократизировать избирательную систему в Казахстане. «Я согласен, что предстоящие выборы должны быть честными, без ущемления прав оппозиции, – говорил Токаев, – хотя я и не сомневаюсь в результате выборов».
Эти результаты и вправду выглядели ошеломляюще. Нурсултану Назарбаеву, согласно официальным данным, отдали голоса 91,01 % избирателей. Координатор миссии ОБСЕ Брюс Джордж уныло объявил, что «без особой радости наблюдатели ОБСЕ вынуждены сообщить, что выборы в Казахстане прошли с рядом нарушений и не соответствовали ряду обязательств страны в области международных стандартов».
До декабря 2006 года, когда на заседании СМИДа ОБСЕ в Брюсселе должна была решаться судьба казахстанского председательства, оставался год, и все складывалось для Астаны отнюдь не лучшим образом. Тем не менее новый посол Великобритании в Казахстане Пол Бреммер, прибывший в Астану в январе 2006-го, заметил, что «очень важно, чтобы в течение этого года Казахстан продемонстрировал свою приверженность принципам ОБСЕ». Он заявил, что «можно ожидать большего прогресса, который должен наступить во всей сфере демократизации». Посол напомнил об отчете БДИПЧ по итогам президентских выборов, в котором «отмечается несколько положительных моментов» и указывается «одновременно несколько направлений, в которых следует продолжать работу».
За несколько дней до решающего заседания СМИДа поддержать заявку Казахстана в Брюссель прибыл сам президент страны. Поводом для его визита в Бельгию (Назарбаев по статусу был не вправе присутствовать лично на министерском заседании) стало приуроченное к этому событию подписание меморандума между Казахстаном и Европейским союзом о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области энергетики. После встречи с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлом Дураном Баррозу Нурсултан Назарбаев заявил, что «было бы очень важно обеспечить поддержку со стороны Евросоюза кандидатуре Казахстана», поскольку «мирное совместное проживание (в Казахстане) представителей 130 национальностей и 46 религий» имеет «неоценимый опыт для ОБСЕ». Этот пассаж поставил Баррозу в неловкое положение и вынудил его ответить жестко: «Извините, но у Еврокомиссии нет абсолютно никакой позиции по этому вопросу и нет необходимости этот вопрос решать».
Консенсуса по кандидатуре Казахстана как председателя ОБСЕ в 2009 году в Брюсселе достичь не удалось, несмотря на поддержку Германии, Италии, Нидерландов и Франции. Против высказались Великобритания и США. А попытки действующего председателя ОБСЕ, главы МИДа Бельгии Карела де Гюхта уговорить Астану добровольно перенести заявку на 2011-й (ради этого за неделю до заседания СМИДа в Брюсселе он даже съездил в Минск, где проходил саммит СНГ, и встретился там с представителями казахстанского руководства) оказались безуспешными.
Решение было отложено до мадридского заседания СМИДа в ноябре 2007 года. Как заметил немецкий эксперт по Центральной Азии, директор Евразийской транзитной группы Михаэль Лаубш, это «событие уникально для ОБСЕ, за 30 лет ее существования никогда не случалось такого, чтобы члены организации не сумели достичь согласия по вопросу лидерства в своих рядах».
СВОЯ ИГРА «КАЗАХСКИХ ДРУЗЕЙ»
2007 год начался в Казахстане с драматических событий. В январе были похищены и, возможно, убиты два топ-менеджера «Нурбанка», крупнейшим акционером которого являлся ставший первым замминистра иностранных дел Рахат Алиев. В феврале Назарбаев снял зятя с поста и во второй раз отправил его послом в Австрию и по совместительству в ОБСЕ. Но уже в конце мая Назарбаев дал указание провести тщательное, «не взирая на должности и положение», расследование уголовного дела о похищении. Алиева обвинили в причастности к этому и другим преступлениям. Ему удалось покинуть Казахстан и просить политического убежища в Вене. Реакция президента Назарбаева была предельно жесткой: он уволил Алиева со всех постов, заставил свою дочь Даригу заочно развестись с мужем, а его самого объявил в международный розыск. На время о заявке «ОБСЕ-2009» пришлось забыть.
Тем более что 21 мая, за несколько дней до возбуждения уголовного дела против Алиева, президент подписывает указ о внесении поправок в Конституцию Казахстана, которые среди прочего предполагают «переход от президентской к президентско-парламентской форме правления» и позволяют Назарбаеву баллотироваться на президентский пост неограниченное число раз.
К принятию решения объявить себя практически пожизненным президентом, что существенно снизило шансы Астаны получить заветное председательство в ОБСЕ, Назарбаева вынудили новая схватка за власть, начавшаяся в его окружении, и объявление Рахата Алиева о готовности баллотироваться в кандидаты на президентский пост через пять лет.
Вслед за этим Назарбаев распускает парламент (в третий раз за 17 лет правления) и назначает досрочные выборы на 18 августа 2007-го. На них 7-процентный проходной барьер преодолевает только президентская суперпартия «Нур Отан», и страна возвращается к однопартийной системе. Глава миссии ОБСЕ в Казахстане Любомир Копай не скрывает разочарования: «Не знаю ни одной демократической страны, где в парламенте была бы представлена только одна партия».
Но на следующий день после выборов становится очевидно: в Астане не забыли о проекте председательства в ОБСЕ. Назарбаев заполняет пустующее место посла Казахстана в Вене, направляя туда замминистра иностранных дел Кайрата Абдрахманова. В те же дни Алиев шлет сигналы SOS своим бывшим коллегам по штаб-квартире ОБСЕ, призывая не допустить его экстрадиции на родину. Он напоминает, что «всегда боролся за демократический, проевропейский выбор» своей страны и ради этого выдвинул «амбициозную идею» председательства Казахстана в ОБСЕ. Теперь же, предупреждает пострадавший «за демократию» бывший казахстанский посол, его страна «стремительно превращается в монархическое – де-факто – государство полицейского типа».
С приближением ноябрьского заседания СМИДа ОБСЕ в Мадриде к интриге вокруг заявки Казахстана добавляется еще одна – выдадут ли австрийские власти президентского экс-зятя. Тот защищается, как может, в том числе шантажируя бывшего родственника возможностью выступить свидетелем обвинения по делу «казахгейт».
За пару недель до встречи в Мадриде госсекретарь Казахстана, экс-посол в США Канат Саудабаев наносит чрезвычайно важный визит в Вашингтон. Официальная Астана сообщает, что Соединенные Штаты выразили заинтересованность в «дальнейшем наращивании сотрудничества с Казахстаном в сфере энергетики и развития экспортных маршрутов для казахстанских энергоресурсов». Это должно было послужить сигналом того, что Вашингтон не готов рисковать своими интересами в Казахстане и отталкивать Астану, накладывая вето на принятие решения о ее председательстве в ОБСЕ.
20 ноября 2007 года, за неделю до решающего заседания в Мадриде, министр иностранных дел Казахстана Марат Тажин направляет в адрес своего испанского коллеги Мигеля Моратиноса, действующего председателя ОБСЕ, письмо, в котором «информирует, что Казахстан подтверждает свою неизменную готовность следовать основным принципам ОБСЕ». «Наша страна, – пишет Тажин, – выступает за развитие всех трех измерений деятельности ОБСЕ без умаления роли и значения ни одного из них... Необходимо и дальше развивать гуманитарную составляющую для укрепления демократической ситуации во всех государствах-участниках». Глава МИДа Казахстана подтвердил, что в его стране «будут продолжены реформы законодательства о выборах, СМИ, политических партиях...». Содержание и даже сам факт этого письма оставались неизвестными вплоть до окончания мадридской встречи 30 ноября: только тогда оно появилось на официальном сайте ОБСЕ.
Ничего не было известно о письме Марата Тажина и главе российской делегации в Мадриде министру иностранных дел Сергею Лаврову, когда он выступал с жесткой критикой ОБСЕ, упрекая ее в том, что она остается «на обочине главного хода событий» в мире. Лавров бескомпромиссно вступился за «наших казахских друзей, которых, в отличие от всех тех, кто беспроблемно до сих пор утверждался на роль “рулевых” в ОБСЕ, пытались принудить как-то дополнительно доказывать свою “пригодность”».
Не ведая того, что «казахские друзья» к тому моменту уже почти доказали «свою пригодность», глава российской дипломатии настаивал на новых правилах работы БДИПЧ. Ближайшие союзники России по СНГ, включая Казахстан, внесли на СМИД проект документа «Базовые принципы организации наблюдения за общенациональными выборами по линии БДИПЧ ОБСЕ», говорил Лавров и предлагал внимательно изучить проект Устава ОБСЕ, подготовленный российскими союзниками.
Москва была готова бескомпромиссно отстаивать заявку Казахстана на 2009-й, вплоть до блокирования избрания председателей ОБСЕ на 2010 и 2011 годы. В этом случае с начала 2008-го, когда во главе организации оказывалась Финляндия, ОБСЕ могла оказаться без руководящей «тройки», состоящей из действующего председателя, его предшественника и преемника.
Но «бросаться на амбразуру» не требовалось. Это выяснилось, когда на трибуну поднялся казахстанский министр Тажин. Он пообещал, что его страна «учтет рекомендации ОБСЕ при реализации демократических реформ», при «реформировании выборного законодательства», «в работе над новым законом о СМИ», а также «при имплементации рекомендаций БДИПЧ в законодательстве в отношении политических партий». «Мы считаем человеческое измерение важнейшим направлением деятельности ОБСЕ», – заверил Марат Тажин, опровергая основной российский тезис, согласно которому в работе ОБСЕ наблюдается «перекос» в сторону именно этого направления.
Затем Тажин сделал и вовсе обескуражившее Москву заявление, что «в качестве потенциального председателя» Казахстан «обязуется сохранить БДИПЧ и его существующий мандат и не будет поддерживать какие-либо попытки ослабить их», а также «не будет участником каких-либо предложений, которые создают проблемы для БДИПЧ и его мандата».
Эффективность «закулисной дипломатии» Астаны и ее западных партнеров выхолостила пафос российского наступления на ОБСЕ. Все предложенные Сергеем Лавровым проекты документов были в Мадриде отвергнуты. Сложившаяся ситуация не оставляла главному российскому дипломату простора для маневрирования, и в ходе его переговоров с главой делегации США заместителем госсекретаря Николасом Бёрнсом за два часа до завершения заседания СМИДа был достигнут компромисс: Казахстан получит председательство в ОБСЕ, но годом позже, в 2010 году. В 2009-м главой организации станет Греция, а в 2011-м – Литва.
Стоит заметить, что по сведениям, полученным автором из дипломатических кругов в штаб-квартире ОБСЕ, предполагаемый перенос председательства Казахстана на 2011 год оказался неприемлемым для «известной группы стран». В год, предшествующий выборам-2012 в России, западные страны не хотели бы иметь во главе ОБСЕ государство, российское влияние на которое может оказаться существенным...
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В Казахстане победу в Мадриде восприняли как признание заслуг своей страны, но главным образом ее президента. «Харизматическая фигура Нурсултана Назарбаева и его деятельность явились, пожалуй, самым ценным активом заявки Казахстана», – утверждал, выражая эту позицию, российский эксперт Юрий Солозобов.
Похожей точки зрения стал, как ни странно, придерживаться и бывший премьер-министр Казахстана (1994–1997) Акежан Кажегельдин, который вот уже почти десять лет живет в изгнании на Западе. Экс-премьер, который на рубеже 2007 и 2008 годов провел ряд консультаций с ведущими европейскими политиками, уверен, что именно Назарбаев наравне с созревшей элитой страны и ее населением делает Казахстан по сравнению с остальными государствами Центральной Азии наиболее готовым к проведению масштабных демократических реформ эволюционным путем, исключая опасные революционные потрясения.
Правда, к концу весны нынешнего года обнаружилось, что за истекшие шесть месяцев Астана не сделала ни одного шага в направлении изменений, обещанных Тажином в Мадриде. Западноевропейские страны – члены ОБСЕ поддержали предложение о мониторинге подготовки Казахстана к предстоящему председательству в организации.
Что же касается политической воли президента Назарбаева к проведению реформ, то лучше всего о ней говорят его слова в интервью агентству Рейтер в апреле этого года. «Нас избрали как полноправного члена ОБСЕ, и никаких дополнительных обязательств мы не берем», – заявил глава государства. Впоследствии эта фраза странным образом исчезла с ленты агентства и осталась только в изложении казахстанского агентства «Хабар». Есть основания считать, что это произошло по взаимному согласованию сторон, чтобы не ставить в неловкое положение западных партнеров Астаны. Они-то считают, что мадридское решение было авансом, выданным Казахстану в ожидании выполнения данных им обещаний…
Из сказанной Назарбаевым фразы стало известно только ее продолжение: «Если вы говорите о демократизации нашего общества, я бы хотел построить демократию, как в США, но где мне взять в Казахстане столько американцев?! У нас казахстанцы, понимаете...»
В начале мая в Казахстане был заблокирован интернет-сайт «Радио Свобода», и доступ к нему был закрыт в течение месяца. На многочисленные запросы руководства радиостанции, направленные правительству, ответов не последовало. Сайт разблокировали только после вмешательства представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Миколы Харашти, который в письме на имя главы МИДа Марата Тажина выразил надежду, что «государственный интернет-провайдер был уведомлен Вашим Правительством о том, что вмешательство в работу службы нарушает обязательства Казахстана касательно свободы прессы».
В начале июня в Хельсинки по инициативе председательствующей в ОБСЕ в 2008-м Финляндии была проведена встреча «квинтета» министров иностранных дел стран – председателей ОБСЕ в составе нынешней «тройки» (Испания, Финляндия, Греция), а также Казахстана и Литвы, которые возглавят организацию соответственно в 2010 и 2011 годах. Это беспрецедентное мероприятие, не имеющее аналогов в истории ОБСЕ, было вызвано растущей обеспокоенностью Запада отсутствием обещанных Астаной демократических реформ. Однако никаких конкретных обещаний в духе тех, что были даны в Мадриде, Марат Тажин в Хельсинки уже не давал. Он ограничился заверениями в том, что «при выработке приоритетов казахстанского председательства будут учитываться интересы всех государств – участников ОБСЕ, их соответствие общей повестке дня ОБСЕ, связь с приоритетами предыдущих председательств».
Очевидно, что в Астане пришли к выводу, что отнять право лидерства в ОБСЕ у Казахстана уже невозможно хотя бы потому, что в организации не существует подобной процедуры. Впрочем, следует заметить, что до 2006 года не существовало и процедуры переноса решения о председательстве.
С другой стороны, в действиях Астаны есть своя логика: вряд ли Запад станет портить отношения с Казахстаном, рискуя своими энергетическими интересами, во-первых, и толкая его в этом случае в объятия России и Китая, во-вторых.
Тем не менее, подтверждение обязательств, взятых на себя Казахстаном, все-таки прозвучало, причем из уст лично Нурсултана Назарбаева. Произошло это в конце июня в ходе состоявшейся в Астане 17-й сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Президент выразил надежду на «создание (в Казахстане. – А.Д.) правового механизма, позволяющего формировать парламент с учетом не менее двух партий, создание более благоприятных условий для государственной регистрации политических партий, совершенствование процедурных моментов электорального процесса и снятие излишних барьеров, регулирующих деятельность СМИ».
Иными словами, Назарбаев пообещал практически все, что от него хотели услышать на Западе: разрешить деятельность оппозиционных партий, сделать прозрачным избирательный процесс и обеспечить свободу прессы. По всей вероятности, еще до конца нынешнего года парламент, избранный в прошлом году, будет распущен, и в Казахстане пройдут очередные досрочные выборы. На них предварительно сниженный проходной барьер (с 7 до 4 или 5 %) «обязаны» будут преодолеть «не менее двух партий». В результате, в конце 2008 года Казахстан вполне будет отвечать демократическим стандартам ОБСЕ, которые исключают однопартийную политическую систему, и сможет занять достойное место в рядах руководящей «тройки» ОБСЕ (Финляндия, Греция и Казахстан).
* * *
Точку в захватывающей истории восхождения Казахстана на вершину европейских «безопасности и сотрудничества» можно будет поставить через полтора года, когда Астана официально приступит к исполнению своих обязанностей председателя ОБСЕ. Однако уже сегодня есть основания для выводов, не лишенных интереса и для российской политики.
Как и Россия, Казахстан делал выбор – обострять конфликт с ОБСЕ, вплоть до возможного выхода из этой организации, или попытаться использовать ее для укрепления своего престижа и влияния. Предпочтение было отдано второму варианту, и своих целей Астана пока добивается. Такой успех стал возможен, поскольку сама ОБСЕ – организация, конечно, прежде всего политическая, а не правозащитная. И стратегические интересы наиболее влиятельных государств-членов, как правило, перевешивают более абстрактные либо идеалистические соображения. На этом вполне способны сыграть страны, представляющие тот или иной интерес для ведущих игроков.
Правда, в отличие от России Казахстан не претендует на то, чтобы изменить формат функционирования ОБСЕ. Астане в соответствии с ее геополитическим весом вполне достаточно извлечь собственную выгоду. Москва же ставит перед собой цель переписать правила игры, что заведомо намного сложнее. Впрочем, и рычагов воздействия у России несопоставимо больше, чем у Казахстана.
Председательство в ОБСЕ станет важной вехой внешней политики Казахстана, которую он, без сомнения, захочет использовать и для того, чтобы заявить себя в качестве регионального лидера. Для России это обещает скорее проблемы, чем возможности. Примечательный звонок прозвучал в апреле, когда Астана демонстративно отказалась выйти из режима санкций против Абхазии, тем самым противопоставив себя российской позиции. И едва ли Москве стоит рассчитывать на то, что председательство Казахстана в ОБСЕ поможет продвинуть позицию России.

Интеграция в стиле фанк
© "Россия в глобальной политике". № 5, Сентябрь - Октябрь 2007
О.В. Буторина – д. э. н., профессор, советник ректора МГИМО (У) МИД России, заведующая кафедрой европейской интеграции МГИМО (У) МИД России, член научно-консультативного совета журнала «Россия в глобальной политике».
Будущее принадлежит тем, кто выбивается за всякие рамки, тем, кто рискует, пренебрегает нормами и устанавливает новые правила. Будущее принадлежит тем, кто использует любую возможность, чтобы самому создавать это будущее.
Кьелль Нордстрём, Йонас Риддерстрале. Бизнес в стиле фанк
Европейский союз меняется. Меняются его география, институты и механизмы. Меняется сама философия региональной интеграции. Однонаправленное движение уступает место далеко не очевидной совокупности беспрестанно варьирующихся сюжетов.
Европейскую интеграцию привычно сравнивать с поездом, движущимся к единой и понятной всем пассажирам цели. Но сейчас наиболее адекватная метафора европейской интеграции – это гипермаркет с бесчисленными магазинами и кафе, интернет-центрами и салонами красоты, прачечными и кинозалами.
Больше нет вагонов, где пассажиры читают одну и ту же утреннюю газету и вместе рассматривают пейзаж за окном, нет расписания поездов. Но самое главное – отсутствует станция назначения.
Вместо этого появились общие часы работы, автостоянка, чистые полы и туалеты, исправные эскалаторы. А также фонтан, зимний сад и музыка, играющая по вечерам. Места здесь хватает всем: государственным служащим, бизнесменам, семьям с детьми, пенсионерам, подросткам. Отсюда можно выйти с плазменным телевизором или со связкой уцененных бананов, с модным маникюром или с двухтомником об этрусках, с банкой кофе или с уведомлением о покупке пая в инвестиционном фонде. Кому как нравится.
Трансформация поезда в гипермаркет произошла так быстро, что ее не успели осознать ни сами государства – члены ЕС, ни их соседи. Отсюда и частые сбои в интеграционных планах Евросоюза, и не имеющая рационального объяснения напряженность в отношениях с третьими странами, включая Россию.
ГЛОБАЛЬНАЯ ГОНКА
Начнем с того, что же представляет собой региональная интеграция и зачем она нужна. В современной европейской мысли можно выделить четыре основных определения этого феномена.
Первое отталкивается от фактического опыта Европейского союза, прежде всего в сфере экономики: интеграция – это процесс взаимного переплетения и сращивания национальных хозяйств.
Три других определения имеют в своей основе теоретические конструкции, принадлежащие тем или иным политическим школам.
Представители европейского федерализма, вдохновляемые вековыми мечтами о единстве Европы, видят конечную цель в создании сверхгосударства. Решающим признаком интеграции они считают наличие наднациональных органов, которым отдельные государства передают часть национального суверенитета.
Теория коммуникации понимает интеграцию как сплоченное сообщество, основанное на общих ценностях и ведущее к развитию совместной идентичности. Признаком интеграции считается наличие между его участниками более тесных связей, нежели с партнерами извне.
В рамках неофункционализма интеграция – коллективное средство решения практических задач. При этом национальные власти могут делегировать органам союза исполнительные полномочия, но не суверенитет. Население, видя полезность союзных институтов, признаёт их и проявляет к ним лояльность.
Существующие определения заметно отличаются друг от друга, но им присущи два общих недостатка. Они не дают ответа на главный вопрос – о стратегической миссии интеграции. И затушевывают разницу между целями и средствами.
Так, по федералистской концепции, ЕС, создав сильные наднациональные органы, уже прошел наибольшую часть пути. Однако заветная цель – федерация либо конфедерация – в обозримой перспективе недостижима. Значит ли это, что нынешняя деятельность Евросоюза лишена смысла? Конечно же нет.
С позиций теории коммуникации крупным успехом Европейского союза является укоренение общих ценностей. Однако идентичность ЕС пока крайне слаба, ее формирование тормозят не только культурные различия, но и отсутствие в Евросоюзе единой политической системы, а также примат национального гражданства над общеевропейским гражданством.
Еще сложнее дело обстоит с плотностью региональных экономических связей. Интенсивность торговых потоков – доля торговли между странами – членами Европейского союза в их общем внешнеторговом обороте – возрастала только на начальной стадии интеграции. С 1970-х годов и по сегодняшний день она составляет около 60 %. Это и понятно: дальнейшая ориентация партнеров друг на друга вывела бы их из системы международных отношений, отрезав от привлекательных рынков сбыта и источников сырья.
Не выдерживает проверки главный тезис экономистов-практиков о том, что целью интеграции является создание общего рынка и единого хозяйственного комплекса. Хотя единый внутренний рынок ЕС в целом функционирует с 1993-го, закон единой цены действует лишь частично. Любой турист знает, что в Швеции цены высоки, в Испании – умеренны, а в Болгарии – низки. Для многих видов услуг, а тем более для фондовых активов, конвергенция цен невозможна в принципе или ставится как задача для будущих поколений европейцев.
Потеряла актуальность схема известного экономиста Белы Балаши, согласно которой интеграция проходит в своем развитии четыре стадии – от зоны свободной торговли до валютного союза. Согласно этой логике, теперь у Евросоюза осталась одна цель – расширить зону евро до 27 членов, не расточая силы на общую оборонную идентичность либо на научно-техническую политику.
В 2005 году кафедра европейской интеграции МГИМО (У) выдвинула после серии научных семинаров новое определение региональной интеграции. Оно базируется на ее понимании в контексте процесса глобализации, который имеет два начала: объединяющее и разъединяющее.
С одной стороны, глобализация ведет к усилению взаимосвязей между странами и регионами, с другой – к разделению на страты и установлению жесткой иерархии. Страты формируются по уровню благосостояния, по степени мирового политического, экономического и культурного влияния, по доступу к ресурсам и информации, по использованию передовых технологий…
В этих условиях глубинной движущей силой региональной интеграции выступает стремление стран-участниц попасть в лучшую страту (или совместно сформировать лучшую страту), нежели та, к которой они объективно принадлежали бы без интеграции. Объединение Европы не случайно начинается после Второй мировой войны. Именно тогда колониальные империи, задававшие правила стратификации в предыдущую эпоху, рассыпаются, а США и СССР становятся главными мировыми силами.
Отсюда правомерно следующее определение: региональная интеграция представляет собой модель сознательного и активного участия группы стран в процессе стратификации мира, обусловленной глобализацией. Как уже было сказано, главная общая цель – создание максимально успешной страты, то есть укрепление позиций объединения в сферах, наиболее важных для данного этапа глобализации. Задача каждой отдельно взятой страны – обеспечить себе максимально благоприятную стратегическую перспективу. Интеграция позволяет наилучшим образом использовать преимущества глобализации и одновременно минимизировать ее отрицательное воздействие.
Таким образом, региональная интеграция представляет собой модель коллективного поведения в условиях глобальной стратификации. Создание наднациональных органов, расширение региональной торговли, введение единой валюты либо общего гражданства – все это ее инструменты или продукты. Если завтра мировое лидерство будет зависеть от того, умеет ли страна выращивать квадратные помидоры, ЕС немедленно примет подробный и жесткий план действий.
Важнейшим элементом региональной интеграции является идея об общей будущей судьбе народов. Именно будущей, а не прошлой. Общая история, схожесть культуры, политических и экономических систем – это необходимые, но недостаточные условия успешной интеграции. Ее незримый фундамент – общее представление о настоящей и будущей глобальной идентичности. Недаром европейская Конституция начинается со следующих слов: «Отвечая воле граждан и государств Европы построить общее будущее, эта Конституция учреждает Европейский союз…» (статья 1-1).
Интеграция – это мечта о светлом будущем для себя, своих детей и внуков. Как любая мечта, она может сбыться или нет. Но наличие мечты, тем более подкрепленной действенными планами, лучше, чем ее отсутствие. Поэтому интеграция – мечта и действующий проект одновременно.
Сегодняшний Евросоюз в данном смысле на самом деле сродни гипермаркету. Для человека с достатком – это место, где можно быстро и удобно решить бытовые проблемы. Для подростка с окраины – модель лучшей, желанной жизни. Выставка достижений мирового хозяйства, куда он может запросто войти, чтобы проехаться на сияющем эскалаторе, послушать диск модной группы, купить на распродаже стильную футболку либо обсудить с продавцом новую модель мобильного телефона. И быть как все! Как те уважаемые господа, что приезжают на красивых автомобилях и элегантно расплачиваются кредиткой за ворох покупок.
В этом – огромная притягательная сила Европейского союза.
СЛОМАННОЕ ЕДИНООБРАЗИЕ
После того как в 1992-м Маастрихтский договор разрешил отдельным странам не вводить евро, специалисты заговорили об интеграции на разных скоростях. В очередной раз возникло сравнение ЕС с поездом. Но только ли в динамике дело?
Чтобы ответить на этот вопрос, автор провела блиц-анализ социально-экономических показателей 34 стран Европы, Кипра и Турции на основе данных Всемирного банка. В обзор не включались государства с населением менее 1 миллиона человек, так как их социально-экономические показатели формируются иначе, чем в более крупных государствах. Все страны ранжировались по показателю благосостояния, в качестве которого был принят валовой национальный доход (ВНД) на душу населения в 2004 году (рис. 1).
Это позволило сформировать пять групп. В первую, наименее обеспеченную, вошли десять стран: шесть из Южной Европы (Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Македония, Румыния, Сербия и Черногория), три из СНГ (Белоруссия, Молдавия, Украина) и Турция. Во вторую группу попали семь новых членов Евросоюза из Центральной Европы (Венгрия, Польша, Латвия, Литва, Словакия, Чехия, Эстония) и Хорватия. Третью группу составили три отстающие страны ЕС-15 (Греция, Испания, Португалия) и два самых успешных новичка (Кипр, Словения). Четвертая группа включает в себя 11 сильнейших западноевропейских участников Европейского союза. Пятую группу представляют два богатейших аутсайдера – Норвегия и Швейцария.
Далее для каждой группы был рассчитан средний ВНД на душу населения (среднее арифметическое этих показателей для каждой из входящих в данную группу стран). В первой группе средний ВНД составил 2 077 дол., во второй – 6 913 дол., в третьей – 16 752 дол., в четвертой – 32 767 дол., в пятой – 50 705 долларов. Конечно, такой метод достаточно условен и имеет ограничения. Некоторую трудность создают малочисленность пятой группы, а также тот факт, что третья в основном состоит из средиземноморских стран. Вместе с тем избранный метод прост и дает ясные, легко интерпретируемые результаты. Его важное преимущество – отсутствие временных рядов, которые сильно затрудняют выявление тенденций из-за неравномерной инфляции и структурных изменений. Полученные данные предоставляют в наше распоряжение моментальный отпечаток экономического состояния Европы-2004. Они позволяют судить о переменах в обществе по мере роста душевого дохода, так же как семейная фотография дает представление о возрастных изменениях человека.
Человеческие ресурсы. По ожидаемой продолжительности жизни разница между первой и пятой группами составляет 16 лет, соответственно 65 лет и 81 год (рис. 2). При этом подъем на одну ступень, то есть переход из первой группы во вторую, дает половину искомого прироста – 8 лет, и еще 5 лет добавляется при втором шаге. Уже в третьей группе продолжительность жизни приближается к наивысшему европейскому и мировому уровню.
В беднейших странах (кроме Болгарии) не для всех взрослых оказалось доступным среднее образование. Но уже во второй группе эта проблема практически решена, а в четвертой каждый пятый гражданин имеет второе среднее образование. Распространение высшего образования во многом зависит от национальной модели. Больше всего людей с университетскими дипломами в Скандинавских странах – Норвегии, Швеции и Финляндии (80–87 % взрослого населения). В высокоразвитых государствах Западной Европы этот показатель в среднем составляет 62 % (в том числе в Австрии – 49 %, в Германии – 50 %). В беднейших странах Южной Европы и в Турции высшее образование имеют только 31 % взрослых, а в странах Центральной Европы – 53 %. Как и в случае с продолжительностью жизни, основной рывок наблюдается при переходе из первой группы во вторую.
Та же закономерность – важнейший первый сдвиг и значимый второй – характерна для показателей младенческой и детской смертности (рис. 3.) Уже в третьей группе (при душевом доходе от 14 тыс. дол.) общество теряет не более девяти из тысячи рожденных детей до достижения ими пяти лет. В первой группе этот показатель почти вдвое выше. Особенно сложная ситуация в Турции, где из тысячи родившихся детей до пяти лет не доживают 60. В Польше данный показатель равен 15, в Германии – 9, в Финляндии – 7, в Швейцарии – 10.
Интересны данные по числу новорожденных на одну женщину (коэффициент фертильности). Страны первой группы имеют две разные модели. Первая характерна для бывших социалистических государств – Белоруссии, Болгарии, Молдавии, Румынии и Украины. Там среднее число рождений на одну женщину колеблется от 1,2 до 1,4. В Албании и Турции (где сильны мусульманские традиции) этот показатель равен 2,2, в Македонии, Сербии и Черногории – 1,7. Зато вторая и третья группы в высшей степени однородны: на одну женщину в среднем приходится 1,2–1,4 ребенка.
Явное увеличение числа новорожденных в расчете на одну женщину происходит в четвертой группе. Тем самым опровергается распространенное мнение, будто с ростом доходов рождаемость только снижается. В Нидерландах и Финляндии рождаемость выше, чем в Греции и Испании. Возможно, более высокая рождаемость в благополучных странах обусловлена притоком иммигрантов из третьего мира, социальной моделью (особенно в Скандинавии) и программами поддержки семьи. Так или иначе, в Европе в богатых странах (кроме Германии и Италии) старение населения идет медленнее, чем в относительно бедных.
Модернизация и новые технологии. В наименее обеспеченных странах сельское хозяйство дает от 11 до 21 % ВВП, а в наиболее развитых – от 1 до 3 % (рис. 4). Но можно ли объяснить столь низкий процент аграрного сектора в ВВП Западной Европы огромными масштабами сферы услуг? Чтобы исключить этот фактор, для каждой страны была рассчитана доля промышленности в материальном производстве. Результаты убедительно показали, что развитие экономики сопряжено с неуклонным ростом индустриализации. Так, в Болгарии промышленность дает 74 % материального производства, в Португалии – 87 %, во Франции – 92 %.
Между странами ЕС существует значительный разрыв в качестве международной специализации. Высокотехнологичная продукция в общем экспорте обрабатывающей промышленности составляет 3 % в первой группе, 11 % во второй и третьей группах и 19 % в четвертой группе. Примечательно, что кривая экспорта технически сложных товаров зеркальна по отношению к графику доли сельского хозяйства в ВВП.
По степени развития телефонных сетей и распространения Интернета ведущие государства Евросоюза превосходят наиболее слабых участников в 3–4 раза (рис. 5). Численность стационарных телефонных линий и абонентов мобильной связи увеличивается по мере роста душевого дохода более равномерно, чем, например, продолжительность жизни либо охват населения высшим образованием. Хотя постепенное замедление темпов обнаруживается и здесь.
Необычная форма графиков, отражающих процесс индустриализации (рис. 4) и распространение Интернета (рис. 5), а именно равенство или даже превосходство показателей второй группы над показателями третьей группы, возможно, имеет следующее объяснение. Третью группу составили государства, являющиеся крупнейшими производителями продуктов средиземноморского земледелия. Сельское хозяйство имеет там глубокие исторические и культурные корни. Во вторую группу, напротив, вошли бывшие социалистические страны, где в период действия Совета экономической взаимопомощи проводилась активная индустриализация с ориентированной на экспорт специализацией. В Венгрии, например, на высокотехнологичную продукцию приходится 29 % экспорта промышленных изделий; наряду с Германией она занимает второе место в Европе по этому показателю.
Совершенно особую картину демонстрируют финансовые рынки. В отличие от большинства рассмотренных ранее показателей, капитализация фондового рынка растет не по горизонтально расположенной параболе, а по экспоненте (вверх). Отношение стоимости обращающихся в стране акций и облигаций к национальному ВВП увеличивается при переходе из первой группы во вторую на 11 процентных пунктов, из второй в третью – на 23, из третьей в четвертую – на 40 и из четвертой в пятую – на 53 пункта.
Кластерные стратегии. Проведенный анализ показывает, что внутри Европейского союза те или иные группы стран не только движутся к интеграции на разных скоростях, но и ставят перед собой разные первоочередные задачи этого движения.
Болгарии, Румынии и государствам-кандидатам предстоит завершить индустриализацию, поднять на более высокий уровень системы образования и здравоохранения, нарастить инфраструктуру. Им нужно провести реструктуризацию сельского хозяйства, повысить его рентабельность и усилить специализацию. Перспективы развития промышленности связаны с четким определением приоритетов, а также с привлечением зарубежных инвестиций и технологий. В ближайшие 10–15 лет данные страны не смогут заметно повысить технический уровень промышленности и увеличить экспорт высокотехнологичной продукции.
Государствам Центральной Европы также важно развивать здравоохранение и высшее образование. При взвешенной экономической политике они имеют реальный шанс догнать страны – лидеры ЕС по продолжительности жизни и уровню детской смертности. Однако, согласно прогнозам Европейской комиссии, до 2050 года старение населения в Центрально-Европейском регионе будет продолжаться. В Венгрии, Польше, Словакии, Чехии и государствах Балтии индустриализация практически завершена, но им предстоят многолетние усилия в целях модернизации промышленности и становления современных производств. Их возможности делать и осваивать масштабные вложения в НИОКР останутся в обозримой перспективе ограниченными.
В Греции, Испании, Португалии, Словении и на Кипре продолжительность жизни, показатели детской смертности, а также охват населения средним и высшим образованием практически соответствуют уровню ведущих стран Евросоюза. Приоритетная задача – завершить технологическое перевооружение промышленности, кардинально повысить в ней долю новейших, наукоемких производств. Судя по опыту Ирландии, это вполне возможно. В Испании, Португалии и Словении сложились предпосылки для нового рывка в развитии национальных НИОКР и современного информационного общества.
Группе из 11 наиболее обеспеченных стран Европейского союза выпадает особая миссия. Благодаря своему экономическому и политическому весу именно они задают приоритеты, формы и темп интеграционного движения. Они же несут наибольшую ответственность за судьбу объединения. Важнейшая задача – удержать занятые высокие позиции. Главные усилия направляются на то, чтобы не допускать снижения нынешних социальных стандартов, обеспечить стабильные (пусть невысокие) темпы экономического роста и преуспеть в глобальной конкуренции. Стратегические перспективы связаны с развитием общества знаний: улучшением качества образования, разработкой высоких технологий, совершенствованием информационных систем, повышением ликвидности финансовых рынков.
Итак, стратификация происходит не только во всем мире, но и внутри ЕС как следствие глобальной конкуренции и нарастающей дифференциации стран Евросоюза. В европейском гипермаркете одни запасаются стиральным порошком в экономичной упаковке, другие радуются пятидесяти сортам мороженого, а третьи придирчиво выбирают морепродукты. Только не надо думать, что жизнь первых тяжела, а третьих легка. Важно понять, что гипермаркет – не поезд, спешащий доставить пассажиров на станцию назначения. Гипермаркет – продукт глобализации. Он предлагает посетителям товары со всего света, отвечающие международным стандартам. В отличие от поезда, где выбор делается единожды, в гипермаркете бремя свободы постоянно. Каждый должен поминутно решать, на что потратить деньги и время.
ВЛАСТЬ ЭМОЦИЙ
Шестьдесят лет мира и окончание холодной войны повлияли на европейскую политику так же, как товарное изобилие – на поведение потребителей. Сегодня, покупая реперскую куртку либо кашемировый пиджак, человек в последнюю очередь думает о тепле, а в первую – о самоидентификации. Конкретной вещью он заявляет другим и себе о принадлежности к социальной группе, ценности разделяет. Если раньше главным вопросом политической повестки дня был вопрос о войне (реальной или вероятной), то теперь на первый план вышла проблема идентичности, а также связанные с нею эмоции.
В начале нового столетия задача строительства общей европейской идентичности приобрела первостепенное значение и одновременно резко усложнилась.
Во-первых, существенно возросла разнородность Европейского союза. Потоки иммигрантов изменили культурное и религиозное пространство многих европейских стран. Массовый прием новых членов не только увеличил число официальных языков ЕС, но и многократно усугубил экономическое неравенство. В 1951 году при подписании Договора об учреждении Европейского объединения угля и стали бельгийский ВВП на душу населения (по текущему обменному курсу) был в 2,3 раза выше, чем в Италии. Сегодня аналогичный разрыв между самой богатой и самой бедной страной Евросоюза (Дания и Болгария) увеличился почти до 15 раз. Кстати, на рис. 1 видно, что по уровню благосостояния государства – основатели ЕЭС до сих пор представляют собой удивительно сплоченную группу.
Во-вторых, после распада советского блока у Европейского союза исчез идеологический противник, наличие которого помогало европейским народам, непохожим и не всегда симпатизирующим друг другу, почувствовать себя некой общностью. Надо признать, что СССР был для Западной Европы идеальным комплиментарным «другим». И его не могут заменить ни США, ни прочие мировые силы или регионы.
В-третьих, механизмы ЕС усложнились настолько, что подавляющее большинство населения объективно не в состоянии в них разобраться. Но широкая общественная поддержка крайне важна в целях поступательного движения интеграции и становления общеевропейской идентичности.
Резкая смена глобальной системы координат породила у западноевропейцев два противоположных чувства. С одной стороны, гордость, подчас переходящую в самодовольство, за историческую правильность рыночной системы. С другой – растерянность и страх за свое будущее. Следует понимать, что приспосабливаться к новой стадии глобализации Западной Европе психологически труднее, чем любой другой части света. Европейская цивилизация держится на строгом рационализме, на стремлении к наиболее эффективным алгоритмам действий и на прямолинейной морали. А глобализация повсеместно ломает стереотипы, заставляет принимать неожиданные решения, требует креативности. Большинство простых европейцев чувствуют себя в этой обстановке крайне некомфортно.
Необходимость укрепить чувство безопасности и сформировать позитивную европейскую идентичность заставила Евросоюз обратить особое внимание на ценности. В 1993-м были впервые оглашены знаменитые Копенгагенские критерии, которые адресовались кандидатам на вступление. Так возник набор характеристик, позволяющих выделить страны – члены Европейского союза из огромного числа других государств мира. Среди этих характеристик демократия, правовое государство, соблюдение прав человека и меньшинств, рыночная экономика. Добавим, что утвержденная система ценностей дала ЕС еще одно важное средство глобальной стратификации – право требовать от других выполнения данных норм (и именно в том смысле, какой вкладывает в них официальный Брюссель).
Необходимость крепить общеевропейскую идентичность существенно повлияла на повседневную практику. Общие заявления лидеров Евросоюза и документы руководящих органов становятся в последнее время все более приглаженными. Открытые дебаты, создавшие славу европейской культуре, уступают место отполированным профессиональным текстам. В Европейском союзе говорят и пишут на особом языке. «Полностью реализовать потенциал» – значит устранить отставание. «Добиться лучшего баланса между гибкостью и защищенностью рынков труда» – сдержать рост зарплаты. «Обеспечить прочность государственных финансов» – ликвидировать дефицит госбюджета. «Внести новый динамизм» – преодолеть застой. Задача европейских функционеров – не допустить возникновения у граждан отрицательных эмоций. Что ж, им это неплохо удается.
Отдельным жанром стал «потребительский тюнинг» программ и ежедневных действий институтов ЕС. Так, агитационная кампания в пользу валютного союза строилась на том, что люди сэкономят на конвертировании и в Европе будут создаваться новые рабочие места. Первое – чистая правда, второе – сильная натяжка, но ни то ни другое не имеет отношения к настоящим целям проекта. Его главное предназначение – обеспечить Европе новые глобальные преимущества и ускорить модернизацию экономики за счет активизации рыночных сил. Но население этим не убедишь. Каждый раз, когда Европейский центральный банк (ЕЦБ) повышает ставку рефинансирования, он обосновывает это угрозой роста цен, хотя реальной причиной может быть снижение курса евро или изменение процентных ставок в США. Но публика должна верить, что ЕЦБ стоит на страже ее интересов.
Замечательным образцом той же практики стала финансовая стратегия Евросоюза на 2007–2013 годы. Ее главным приоритетом считается обеспечение устойчивого роста, в соответствии с которым действуют две бюджетные линии: «конкурентоспособность в целях роста и занятости» и «сплочение в целях роста и занятости».
На первую, куда входят научно-техническая политика и инновации, образование, трансъевропейские сети, социальная политика и функционирование единого внутреннего рынка, выделено 9 % всех расходов общего бюджета. На вторую, предполагающую помощь отстающим регионам, пойдут все 36 %. Так традиционная региональная политика Европейского союза (половина средств которой направляется отстающим районам весьма состоятельных западноевропейских стран) оказалась под респектабельной вывеской стратегии устойчивого роста. Гораздо больше лукавства во втором приоритете: под заголовком «сохранение и управление природными ресурсами» скрывается давно не соответствующая времени и непозволительно дорогая для ЕС (43 % всех расходов общего бюджета) сельскохозяйственная политика.
Еще один узел сильных и во многом скрытых эмоций связан с расширением на восток. Многие жители Западной Европы отнеслись к этому с недоверием: они резонно опасались перераспределения бюджетных средств в пользу новых бедных окраин. Жителей Центральной Европы перспектива вступления в ЕС окрыляла и вдохновляла. Они были полны самых светлых надежд, в том числе на значительный подъем уровня жизни. Членство в клубе преуспевающих стран решало и вопрос престижа, являлось источником национальной гордости, средством изжить комплекс «младшего брата».
В то же время философия Копенгагенских критериев и осуждение всего, что имело место в советском блоке, вызывали острое чувство неполноценности. Страны-кандидаты в лице своих лидеров и элит принялись доказывать Западу, что они всегда были стопроцентными европейцами. Перед сторонним наблюдателем представала по-настоящему грустная картина. В некоторых странах всплыли обиды по отношению к новым партнерам. На повестку дня вышли проблемы, уходящие корнями во Вторую мировую войну и послевоенное устройство мира.
Многие в государствах Центральной Европы оказались не в состоянии принять собственную историю. Это привело к распространению фантазий о старых добрых временах. А так как большинство рассматриваемых стран появились на карте после Первой мировой войны, то объектом воспевания стал межвоенный период, отмеченный разгулом национализма и жестокости. Подобными измышлениями обезболивались и более свежие обиды. Например, в официальном издании «Эстонский паспорт» говорилось, что в 1980 году олимпийскую регату в Таллине бойкотировали свыше 60 стран мира в знак солидарности с оккупированной Эстонской Республикой.
Вольно или невольно Брюссель совершает крупную ошибку, изымая из общественного дискурса тему социалистического прошлого стран ЦВЕ. Ее серьезное осмысление, как правило, подменяется идеологизированной карикатурой. По сути, жизнь двух либо трех поколений – отцов, дедов и прадедов нынешних молодых венгров, поляков, чехов – окружена заговором молчания или порицания. Но без уважения к своим предкам, к истории своей страны не может быть подлинного чувства собственного достоинства, дающего силы принимать жизненно важные решения.
Почему Евросоюз избегает данной темы, понятно. Дискуссия о советском прошлом лишит его нынешние ценности и с трудом формируемую европейскую идентичность четких контуров. Брюссель также не спешит выступить с собственной официальной позицией, избегает разногласий в обществе и очередной корректировки координат в отношениях с США, Россией, государствами СНГ.
Однако опасность данной практики заключается не только в том, что Европа играет своими ценнейшими активами – демократией и рациональным мышлением. Ее продолжение может привести к тому, что страны Центральной Европы не почувствуют себя полноценными участниками объединения, не проникнутся его общими целями и не сумеют нести ответственность за его будущее. Пока данное предположение подтверждается. Неоднократно на самых разных уровнях я задавала коллегам из стран Центральной Европы вопрос о том, какой вклад они готовы внести в достижение общих целей Европейского союза. Каждый раз он вызывал непонимание, удивление или растерянность. И ни разу я не получила ответа по существу.
Снижение инициативности, неготовность делать будущее собственными руками, неумение творчески осмысливать происходящее – величайшие грехи эпохи глобализации. Утверждение лучших мировых стандартов, инновации, способность к многомерному восприятию действительности, высокая степень принятия себя и других – ее важнейшие достижения. Это касается как ЕС в целом, так и всех стран-членов. Новая модель европейской интеграции отвечает условиям глобализации лучше, чем предыдущая, но и управление ею гораздо сложнее.
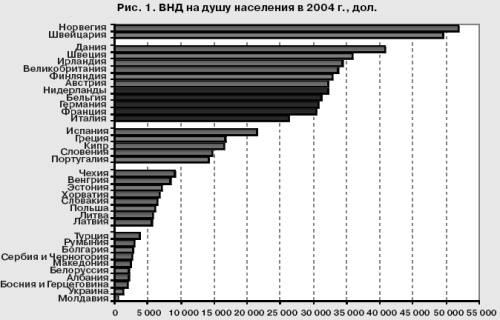
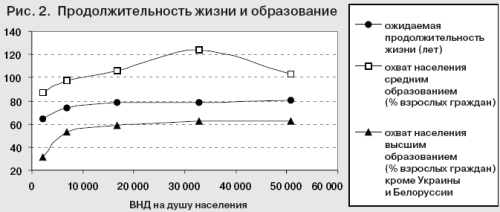
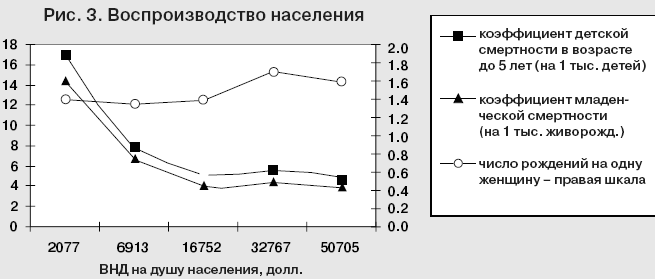
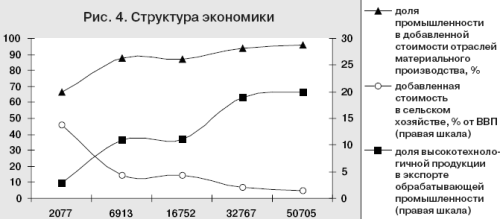
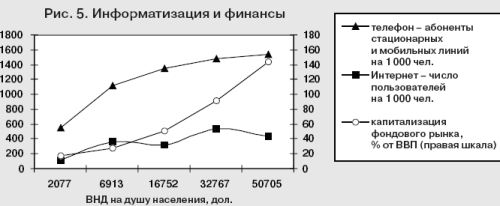

Неравносторонний треугольник
© "Россия в глобальной политике". № 3, Май - Июнь 2007
Даниэль Гроцки – научный сотрудник, Ирис Кемпе – старший научный сотрудник Центра прикладных политических исследований при Мюнхенском университете имени Людвига Максимилиана.Статья подготовлена в рамках проекта «Россия, ЕС и балтийские страны. Расширить потенциал кооперации», организованного московским отделением Фонда Фридриха Эберта и Центром прикладных политических исследований (Мюнхен).
Резюме Балтийский подход к новой политике Европейского союза предполагает не сотрудничество с Россией, а скорее создание ей противовеса. Таким образом, будущая роль Москвы в восточной политике ЕС зависит от ее отношений со странами – членами Евросоюза, в том числе (и не в последнюю очередь) и государствами Балтии.
Членство балтийских государств в Европейском союзе и изменения общего геополитического ландшафта бросают вызов исторически отягощенным отношениям Россия – Балтия. Перенос памятника жертвам Второй мировой войны из центра Таллина на военное кладбище за несколько дней до Дня Победы (и в преддверии саммита Россия – ЕС в Самаре) привел к масштабному конфликту. В ходе беспорядков, последовавших за демонтажом монумента, один человек погиб и более 150 ранены. Вместе с тем есть и позитивные признаки: не далее чем в марте 2007 года Латвия и Россия после многолетних споров подписали, наконец, договор о границе.
Как взаимоотношения между Москвой и балтийскими столицами повлияют на три крупные проблемы, с которыми сталкиваются Евросоюз и Российская Федерация? Это прежде всего обустройство прилежащих территорий, выработка энергетической политики и новой институциональной базы сотрудничества.
НОВЫЙ СКОРОСТНОЙ РЯД НА ИЗВИЛИСТОЙ ДОРОГЕ?
Российско-латвийский договор о границе – это и знак надежды на потепление российско-балтийских отношений, и символ их обремененности тяжелым историческим наследием. Латвия опустила преамбулу, упоминавшую Рижский мирный договор 1920-го, согласно которому район Пыталово в Псковской области являлся частью латвийской территории (аналогичные разногласия существуют и с Таллином по поводу Нарвы, принадлежавшей Эстонии по Тартускому договору того же года). Так был расчищен путь к окончательной договоренности, которую планировалось достичь еще в 2005 году.
Договор о границе с Россией – главное условие присоединения Латвии к Шенгенскому пространству. Без этого документа и РФ не добьется ранее заявленной цели обеспечить безвизовый въезд своих граждан в государства – участники Шенгенской зоны.
Хотя возможны любые откаты, это событие являет собой положительный сдвиг в отношениях (в целом конфронтационных) между Москвой и балтийскими странами. Он резко контрастирует с состоянием российско-эстонских связей. Скорее всего, давление Брюсселя на Эстонию, единственную, еще не подписавшую пограничный договор с Россией, теперь увеличится: Европейский союз призывает Таллин последовать примеру Риги и отказаться от территориальных притязаний.
Членство в ЕС не устранило тяжелое наследие прошлого в отношениях стран Балтии с Москвой. Для народов Литвы, Латвии и Эстонии память о советской оккупации, последовавшей за подписанием пакта Молотова – Риббентропа, не только стала неотъемлемой частью их национального самосознания, но и обусловила многочисленные препятствия на пути практического сотрудничества.
Достаточно вспомнить, что в 2005-м президенты Литвы и Эстонии Валдас Адамкус и Арнольд Рюйтель отвергли приглашение Кремля прибыть в Москву на празднование 60-летия разгрома нацистской Германии. И только их коллега из Латвии Вайра Вике-Фрейберга почтила это событие своим присутствием. Бывшему латвийскому лидеру делает честь тот факт, что свой политический вес она все-таки пыталась использовать для налаживания отношений с Россией.
Болезненным вопросом остаются советские депортации. Когда посол России в Эстонии Константин Провалов выразил «соболезнования» в связи с депортацией тысяч эстонских граждан в 1941 году, но не «извинился», это вызвало бурю лестных и критических замечаний в его адрес.
Споры по поводу «Бронзового солдата» в Таллине, закончившиеся беспорядками, блокадой эстонского посольства, хакерскими атаками, призывами бойкотировать эстонские товары и даже разорвать дипломатические отношения, – ярчайший пример разлада. Многие эстонцы видят в памятнике и захоронении советских солдат символ угнетения, в то время как Россия и значительная часть русскоязычного населения Эстонии почитают монумент как символ победы над фашизмом.
В свою очередь Москва обвиняет государства Балтии в игнорировании случаев сотрудничества с нацистами. Латвия, Литва и Эстония, утверждает Кремль, присоединились к СССР добровольно и не имеют права ни на какие компенсации от России.
Эти события вышли далеко за рамки двусторонних отношений и омрачили атмосферу самарской встречи Россия – Евросоюз, на которой не было достигнуто никаких конкретных результатов.
Балтийские государства начинают воспринимать Европейский союз как рычаг для решения своих споров с Москвой, правда, этот рычаг может действовать как в негативном, так и в позитивном ключе. Так, Литва пригрозила присоединиться к польскому вето на подготовку нового документа взамен Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) ЕС – Россия, если Москва не возобновит поставки нефти. Но еще до ее вступления в Евросоюз именно Литва стала движущей силой в вопросе выработки приемлемого визового режима для граждан, перемещающихся между Калининградской областью и «материковой» Россией. Конструктивная роль Вильнюса проявилась и в создании Объединенного комитета регионального развития с участием представителей Литвы и Калининграда.
Россия по-прежнему недовольна положением русскоязычного населения в Латвии и Эстонии, но нельзя не признать, что в рамках усилий по евроинтеграции власти обеих стран значительно улучшили свое отношение к этой категории жителей.
Можно спорить, что больше напоминают российско-балтийские отношения – «наполовину наполненный» или «наполовину пустой» сосуд, однако игровое поле меняется. Членство стран Балтии в Европейском союзе может подвигнуть Брюссель к проведению политики, которая далеко не всегда будет нравиться Москве. Но в долгосрочной перспективе и участие в ЕС, и постоянно меняющаяся политическая ситуация подтолкнут Балтию к тому, чтобы играть более конструктивную роль как в двусторонних отношениях, так и внутри Евросоюза, а также исключить исторические темы из текущей политики.
КОНЕЦ ЧЕРНО-БЕЛОЙ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ?
Расширение Европейского союза в 2004-м, когда в его ряды влились восемь стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), перевернуло новую страницу в истории сообщества. ЕС теперь непосредственно граничит с регионом, некогда считавшимся «задворками» России, или ее «ближним зарубежьем». Вступление в НАТО и Евросоюз государств, некогда находившихся в сфере влияния Москвы, вынуждает последнюю «отступать» на протяжении последних пятнадцати лет. Кремль намерен положить конец такому фундаментальному геополитическому сдвигу.
До «цветных» революций в Грузии и Украине Москве удавалось сохранять сеть лояльных политиков в соседних странах, тем самым влияя на их внутриполитические и экономические решения. Местные элиты активно поддерживали российские инициативы, направленные на углубление экономической интеграции.
Поворот Тбилиси и Киева к НАТО, их намерение сблизиться с Соединенными Штатами и присоединиться к Европейскому союзу напомнили России события начала 1990-х, когда балтийские государства и бывшие союзники по Варшавскому договору моментально переориентировались на Запад. Учитывая рост антироссийских настроений в Польше и странах Балтии, Москва опасается общего укрепления в Европе проамериканского лагеря.
Еще одно подтверждение тому – скандал в связи с развертыванием американского противоракетного комплекса в Восточной Европе. Данный проект не угрожает российской ракетной мощи. Но, как писал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Financial Times от 7 апреля 2007 года, Россия считает «неприемлемым», чтобы Соединенные Штаты или НАТО вели себя в Европе как на «своей собственной стратегической территории».
С 2004 года Россия начинает приводить в соответствие с мировыми цены на углеводороды, поставляемые в страны Закавказья и Восточной Европы. Такая политика имеет веские экономические обоснования. Но перекрытие трубопровода, сопровождаемое шумихой в СМИ, а также возникновение технических проблем, совпадающее по времени с неугодными Москве политическими событиями, встревожили Европу, особенно балтийские государства, и ударили по репутации России.
Под председательством Германии ЕС пытается выработать новую восточную политику, соответствующую современным геополитическим реалиям. Главным инструментом остается Европейская политика соседства (ЕПС), принятая в 2004-м после очередного расширения. Ее цель – способствовать стабильности, распространяя на соседние государства «четыре свободы» Евросоюза (свобода передвижения товаров, людей, услуг и капитала) .
Эта политика не оправдала надежд, поскольку не учитывала колоссальных региональных различий между восточноевропейскими и средиземноморскими странами. Она не смогла адекватно ответить и на такие новые явления, как напористая тактика России и «оранжевая революция» в Украине. Европейский союз вывел Минск за рамки своей стратегии, не стимулируя ни перехода Белоруссии к рыночной экономике, ни отказа от авторитарного правления. Вместо того чтобы открыть перед Киевом долгосрочную перспективу присоединения, ЕС лишь подготовил проект Углубленного соглашения о свободной торговле, да и то только в период германского председательства.
В 2007 году региональная политика изменилась. В Киеве вновь разразился острый политический кризис, а Минск вступил в конфликт с Москвой из-за цен на газ и транзитных пошлин на нефть. Россия видит угрозу дальнейшего расширения НАТО, хотя оно, как и новое расширение Евросоюза, вряд ли возможно в ближайшие годы. Европейский союз остается сторонним наблюдателем в разрастающемся российско-грузинском конфликте и едва ли способен что-то противопоставить Кремлю в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии. Похоже, Запад и Россия исчерпали все привлекательные сценарии интеграции Восточной Европы, оставив открытым вопрос о том, как ее обустроить.
Хотя ЕС считает демократию и свободный рынок предпосылками региональной стабильности, в нем нет единодушия относительно новой восточной политики. Есть понимание, что необходим новый подход. Продолжается поиск соответствующего инструмента, который не означает расширения, не является вмешательством, но обеспечивает действенные стимулы и четкие условия развития. Не прекращаются и дискуссии о роли России. Балтийские государства отстаивают такой курс, который исключал бы согласование важных решений с Москвой и поощрял интеграцию Восточной Европы в европейские и трансатлантические структуры.
В неофициальном литовском документе (сентябрь 2006 г.) поддержано предложение Германии разграничить такие понятия, как «европейские соседи» и «соседи Европы», чтобы провести в рамках ЕПС водораздел между Средиземноморьем и Восточной Европой. Важность подобного разделения признаюЂт многие государства-члены.
Германский МИД предполагает строить новую восточную политику на фундаменте стратегического партнерства с Россией и «ЕПС плюс» (учитывающей особенности Восточной Европы). Балтийские же государства доказывают, что Европе следует активно укреплять прозападные и продемократические силы в соседних странах и в принципе согласиться с идеей членства Украины и Грузии в Евросоюзе. Такой подход противоречит давно укоренившимся представлениям западноевропейских политиков, которые стремятся избежать конфликта между европейской поддержкой демократизации и интересами безопасности России.
С точки зрения стран Балтии, приоритетами должны стать «европеизация» и «модернизация» Восточной Европы. «Европеизация» подразумевает расширение общих пространств с Украиной и республиками Южного Кавказа. Так эти страны оказались бы «привязаны» к Европейскому союзу за счет более открытых визовых режимов, более масштабной помощи и финансирования, а также расширенных соглашений о свободной торговле. В отдаленной перспективе маячит их вступление в ЕС.
На двустороннем уровне балтийские государства оказывают активную помощь в развитии и техническую поддержку восточноевропейским и кавказским странам. В Балтии звучит озабоченность по поводу отсутствия четкой стратегии в отношениях с Минском. Для Литвы соседство с Белоруссией обернулось более тесным сотрудничеством с ее гражданским обществом. В Вильнюсе обосновался Европейский гуманитарный университет, изгнанный из Минска. Литва также вносит вклад в региональное развитие, особенно в Гродненской области, где проживает немало этнических поляков.
«Оранжевая революция» в Украине дала новый импульс черноморско-балтийскому региональному сотрудничеству. Вильнюс, Рига и Таллин поддержали идею создания Сообщества демократического выбора, которая была выдвинута в Боржомской декларации 2006 года, подписанной президентами Грузии и Украины.
Между тем последние события в Восточной Европе, и в частности в Украине, ставят под сомнение вероятность дальнейшего продвижения демократии. Кроме того, все страны-члены признаюЂт, что стратегические проблемы, касающиеся Украины, Грузии, Белоруссии и других бывших республик Советского Союза и угрожающие европейской безопасности, не могут быть решены без участия Москвы. Статус России в новой восточной политике Евросоюза будет во многом определяться ее двусторонними отношениями с европейскими соседями.
Убийства Анны Политковской и Александра Литвиненко, речь Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года и скандал с Белоруссией в январе, негативно сказались на российском имидже. В этих условиях улучшение отношений со странами Балтии представляется удачным способом снять испытываемое Москвой давление, а также не допустить дальнейшего разворота курса Европейского союза в сторону отказа от принципа «Сначала – Россия» (Russia First) в политике по отношению к государствам-соседям.
СЛОЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ
Россия снова ощущает себя одной из ведущих мировых держав, рассматривая свою роль энергопоставщика не только в экономическом, но и в политическом свете. А в ЕС об энергетической безопасности теперь говорят куда больше, чем об энергетическом сотрудничестве. Ведущие политики и стратеги Европы предлагают включить энергетику в будущее рамочное соглашение с Россией, что должно стать заменой так и не ратифицированной Москвой Европейской энергетической хартии.
«Газпром» заинтересован в приобретении акций европейских распределительных энергетических компаний и доступе на рынки сбыта. Эта компания владеет крупными пакетами акций многих европейских национальных поставщиков газа, таких, как Eesti Gaas, Latvija Gaze и Lietuvos Dujos. Однако европейские регулирующие органы и энергетические компании настороженно относятся к «Газпрому», видя в нем политический инструмент. Свободный доступ России на европейский энергетический рынок затрудняется ее неоднозначным отношением к западным инвестициям в собственный энергетический и сырьевой сектор, что наглядно проявилось в мощном давлении, которое вынудило компанию Shell передать «Газпрому» контрольный пакет акций сахалинского проекта.
Хотя европейские инвесторы опасаются российского дефицита законности, они уже осуществили немалые вложения в растущую экономику. Брюссель и европейские столицы нуждаются в улучшении условий работы своих компаний в России, включая более твердые гарантии по инвестициям в энергетический сектор.
Крупные экономики Западной Европы, в частности Франция, Великобритания и Германия, импортируют немалые объемы российских газа и нефти. Но это только часть их энергетического импорта. Западноевропейские правительства могут воспринимать РФ как дополнительный источник энергоресурсов, дающий возможность диверсифицировать импорт, а большие суммы, выплачиваемые России, – как гарантию надежности поставок. Они также полагаются на двусторонние договоры с Москвой.
С другой стороны, Россия обеспечивает от 60 до 100 % совокупного импорта газа новых стран – членов Евросоюза. Поэтому вполне объяснима позиция правительств стран ЦВЕ, которые требуют выработки единой европейской энергетической стратегии, чтобы снизить зависимость от Москвы. Самый яркий пример – призыв Варшавы создать «энергетическую НАТО».
Из всех стран – членов Евросоюза балтийские государства сталкивались с наиболее сложными проблемами в плане российских поставок. Усиливает ли участие в Европейском союзе их позиции?
В 2002 году Россия прекратила прокачку нефти в латвийский порт Вентспилс, пытаясь добиться, чтобы Рига позволила «Транснефти» приобрести акции ее нефтеперерабатывающего завода. В 2003-м министр иностранных дел Латвии обратился за поддержкой к ЕС, но Европейская комиссия реагировала весьма вяло. Трубы пусты и по сей день.
В 2006 году Литва обвинила Россию в умышленном прекращении поставок на нефтеперерабатывающий завод Mazeikiu Nafta (обеспечивает 14 % литовского ВВП) после того, как польская PKN Orlen выиграла тендер на приобретение контрольного пакета акций Mazeikiu, оставив за бортом российские компании. Хотя Москва объясняет этот шаг техническими причинами, Mazeikiu Nafta достучалась до руководителей Евросоюза на самом высоком уровне. Пригрозив стать «второй Польшей» и заблокировать возобновление переговоров о заключении нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Европейским союзом и Россией, Литва заставила вмешаться в ситуацию председателя Еврокомиссии Жозе Мануэла Дурана Баррозу.
По сути, «Газпром» покрывает 100 % потребностей всех трех стран в газе (около 5 миллиардов кубометров в год); импорт нефти и нефтепродуктов, газа и минеральных удобрений из России составляет 75 % литовского, 60 % латвийского и 50 % эстонского импорта. На доходы от транзита российских энергоносителей приходится 25 % латвийского и по 20 % эстонского и литовского государственного бюджета. В долгосрочной перспективе такая структурная близость может все-таки перевесить разногласия.
Двойственный характер ситуации демонстрируют события вокруг Северо-Европейского газопровода (СЕГ). Его прокладывают от российского Выборга к немецкому Грайфсвальду в обход балтийских государств, и последние воспринимают проект как посягательство на свои экономические и геостратегические интересы. Действительно, СЕГ дает России по крайней мере теоретическую возможность перекрыть поставки газа в страны Балтии и Польшу, но продолжить снабжение Западной Европы. Но в то же время он может оказаться и весьма выгодным начинанием и для балтийских государств, тем более что ссора между Москвой и Минском заставила Россию глубже задуматься над диверсификацией потоков.
Латвия выразила заинтересованность в присоединении к проекту – возможно, посредством строительства газохранилищ. Deutsche Welle сообщила, что исходя из экологических соображений операционная компания Nord Stream рассматривает другой маршрут трубопровода – ближе к эстонской границе и собирается провести дополнительный анализ экономической целесообразности участия балтийских государств. Правда, из-за последнего конфликта с Россией Эстония пока отказалась даже обсуждать такую возможность.
Страны Балтии стремятся облегчить совместный доступ на бурно развивающийся российский рынок, избежав при этом дискриминационных мер в налогообложении, транспортном и энергетическом секторах. Если поддержка ЕС поможет этим государствам чувствовать себя более комфортно и безопасно, то в долгосрочной перспективе это сыграет на руку и Москве.
БУДУЩЕЕ РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Поиск нового формата отношений между Евросоюзом и Россией взамен истекающего Соглашения о партнерстве и сотрудничестве сталкивается с большими трудностями. Переговоры так и не удалось запустить ни и в Хельсинки (ноябрь 2006 г.), ни в Самаре (май 2007 г.). Но и когда они начнутся, неизбежна острая полемика вокруг «общих ценностей» и энергетической политики. Балтийские государства, а также страны ЦВЕ, вероятно, используют этот процесс в качестве повода раскритиковать откат России от демократических ценностей и ее склонность проводить гегемонистскую внешнюю политику.
Варшава уже наложила вето на переговоры о новом соглашении до тех пор, пока Москва не отменит запрет на импорт польского мяса, а Вильнюс угрожает к присоединиться к бойкоту, требуя официального графика возобновления функционирования нефтепровода «Дружба». Рига поддержала работу над новым соглашением, но заявила, что понимает Польшу. Разрастание конфликта, начавшегося с демонтажа памятника, может подтолкнуть Таллин к действиям по блокированию переговоров. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт и до последнего конфликта, еще в октябре 2006 года, говорил, что не нужно торопиться с подписанием нового соглашения, которое должно быть более значительным, чем предыдущее.
Страны Балтии выступают за более решительную поддержку гражданского общества в России и более строгий контроль за соблюдением там прав и свобод человека, считая эти меры необходимым элементом отношений. Призывы увязать подписание нового документа с состоянием демократии звучат в балтийских столицах гораздо громче, чем где бы то ни было. Вильнюс, Рига и Таллин добиваются от Европейского союза последовательной и единой политики в отношении России. Но возможно ли это?
Если СПС останется в силе или принципиально не изменится, то больше всего проиграет именно Балтия. Ведь данный документ был согласован еще до того, как они вступили в ЕС. Уже сегодня СПС, по сути, не определяет политику Евросоюза в отношении России. Если возобладает курс на двусторонние договоренности, то страны Балтии могут и вовсе остаться за бортом.
Не исключено, однако, что и они используют ратификацию нового соглашения как инструмент для решения двусторонних проблем. Следовательно, пересмотр СПС создаст стимулы для «нормализации» и «экономизации» отношений. Ключ к успеху лежит в изменении менталитета как российских, так и балтийских лидеров. Если они желают реализовать в будущем потенциал сотрудничества, то это придется делать без оглядки на историю.
***
Сложные российско-балтийские отношения нельзя рассматривать в отрыве от членства Латвии, Литвы и Эстонии в Европейском союзе. Подписывая с Россией договор о границе, Латвия как член ЕС руководствовалась не только собственными, но и общими интересами (Шенген, безвизовый режим). В то же время нынешние эстонско-российские страсти показывают, к чему приводит нежелание отделить историю от сегодняшнего политического курса.
Страны Балтии активизируют свою деятельность и включаются в выработку новой восточной политики Евросоюза. Они стали важным фактором в создании единого пространства, проведении единой энергетической политики и поиске основ для нового договора о партнерстве и сотрудничестве.
Европейскому союзу, России и балтийским государствам предстоит найти способы обустройства их непосредственных соседей – стран Восточной Европы, прежде находившихся в сфере влияния Москвы. Надежды на то, что Украина или Грузия автоматически станут на западный путь развития, столь же безосновательны, как и планы создания единого российско-белорусского государства. Ни Россия, ни ЕС не способны предложить соседям жизнестойкую политическую альтернативу.
Будущая позиция Москвы на европейской сцене не в последнюю очередь зависит от ее отношений с балтийскими соседями. Правда, их сегодняшний подход предполагает не сотрудничество с Россией, а скорее создание ей противовеса.
Евросоюз раскололся на крупных и богатых «ветеранов», менее зависимых от российских энергоносителей, и «новичков». Интересы одних и других в энергетической области не совпадают. В то же время Европейский союз мог бы стать для балтийских стран площадкой, позволяющей высказывать опасения по поводу энергобезопасности. Это разрядило бы ситуацию и дало возможность в полной мере реализовать потенциал географически близких быстрорастущих рынков России и Балтии.
Провал переговоров по новому СПС особенно невыгоден именно балтийским государствам. Поэтому не исключено, что, хотя Вильнюс, Рига и Таллин занимают наиболее жесткую позицию в вопросе обусловленности «общими ценностями», они в конце концов довольствуются более прагматичным соглашением, в большей степени ориентированным на экономику, чем на политику. Но чтобы произошли положительные сдвиги, придется исходить из современных, а не исторических реалий.
Подписывая договор о границе, Россия и Латвия следовали как раз этой логике – переориентации на имеющиеся возможности. Это событие может стать первым шагом и важным прецедентом, предвосхищающим достижение аналогичной договоренности с Эстонией. Такой сценарий может заложить основу для долговременного потепления в российско-балтийских отношениях и открыть новые возможности сотрудничества.

Два хельсинкских принципа и «атлас конфликтов»
© "Россия в глобальной политике". № 2, Март -Апрель 2007
В.Н. Казимиров - Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов.
Резюме Западники, отвергая все советское, считают прежние административные границы внутри СССР незыблемыми. Но откуда взялась идея неприкасаемости бывших союзных республик? Административные границы в Советском Союзе были порой произвольными. Достаточно вспомнить чехарду решений Кавбюро по Карабаху и волюнтаристскую передачу Крыма.
Стороны вооруженных этнополитических конфликтов, притушенных, но не разрешенных окончательно, упорно апеллируют к наиболее выгодному для себя международно-правовому принципу. Одни - к территориальной целостности государств, другие - к праву народов распоряжаться своей судьбой. Их интерес очевиден и понятен.
Но громогласность либо частота ссылок на «милый сердцу» принцип никого не убедит. Давно назрела необходимость углубленной (прежде всего правовой, и не только) работы по сопряжению этих двух положений Заключительного акта СБСЕ в Хельсинки. Тематика весьма деликатна, но уходить от нее нельзя.
ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШНЕЕ
Само собой разумеется, что оба этих принципа, как и все остальные из хельсинкской «десятки», равноценны. Каждый из них надо брать в совокупности с остальными. Однако для одних лиц они чуть ли не взаимоисключающие, другие склонны усматривать в первом постулате защиту прав и интересов государства, а во втором - отстаивание прав личности или сообщества людей. Иначе говоря, подобным образом оспаривается приоритет прав государства над правами человека.
В некоторых случаях устранить противоречия пытаются, «разводя» сферы применения двух положений. Так, принцип территориальной целостности рассматривается в качестве внешнего (как гарантия от посягательств со стороны других государств), а право народов на самоопределение - в качестве внутреннего. Однако зачастую мы наблюдаем попытки ряда государств развернуть первый принцип именно против внутренних движений за самоопределение.
При согласии последних на автономию, которая оставляет в неприкосновенности внешние границы государства, коллизия между обоими принципами смягчается. А как при попытках отделения, сецессии? Ни одна Конституция (кроме Конституции СССР) не дает на нее права, но сколько отпочкований от государств уже состоялось, иногда мирных, чаще кровавых?! Есть немало примеров, когда верх берет то первый, то второй принцип. Особенно сложны смешанные случаи - тут движение за самоопределение внутри государства опирается на активную поддержку извне (Косово и Албания, Нагорный Карабах и Армения, Южная и Северная Осетия).
Чаще всего первая реакция на противопоставление двух принципов - это вполне естественная консервативная защита территориальной целостности и неприкосновенности границ. И лишь по мере того как невозможность сохранить прежний порядок жизни в одном государстве становится очевидной, постепенно приходит осознание прав самоопределяющихся, признание их хотя бы стороной в конфликте. Лидеры национальных движений, как правило, настаивают на праве наций на самоопределение, но, придя к власти, превозносят принцип территориальной целостности государств.
Отсюда первый вопрос: насколько применим данный принцип к конкретной конфликтной ситуации? И второй: насколько действенен каждый из них в конкретной историко-географической обстановке? Важно выявить логику, внутренние пружины, связи с другими нормами и правилами. Это помогло бы снижать накал конфликтов, избежать того, чтобы стороны делали слепую ставку на мнимое автоматическое главенство более выгодного принципа.
Необходима концепция соизмерения действенности обоих исходных положений с четким набором критериев. И комплексный, системный, а не только прецедентный подход (прецедент удобен в тактическом плане, но нужна более основательная проработка темы).
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
Постановка вопроса о косовском прецеденте вызвала шквал возражений с Запада. При этом указывается на различие конфликтов, даже уникальность каждого из них. Но различие - не то же самое, что полное отсутствие общих черт, отдельных сходств. Да феномен «прецедента» и не требует всеохватывающей аналогии. В данном случае он сводится к узкому, но принципиальному вопросу: возможно ли обретение независимости без согласия государства, от которого отделяется новообразуемое? Поэтому многие различия между конфликтами и не имеют коренного значения. Вся кампания против «прецедентности» Косово бьет мимо цели.
Но в первую очередь важно разобраться с самими принципами.
Во-первых, принцип (тем более в увязке с другими) - это вовсе не догма. Уж если и возводить в абсолют какие-то из хельсинкских положений, то скорее два других, прописанных как раз для конфликтных ситуаций: неприменение силы или угрозы силой, мирное урегулирование споров.
Во-вторых, принцип - это абстракция, в реальности он не работает вне конкретных обстоятельств. От них, по сути, и зависит действенность обоих постулатов, которая относительна и в известной степени сопоставима, но нужна шкала замеров. Применение их в увязке с «противосиловыми» принципами - требование цивилизации: в ХХI веке мировое сообщество должно повышать эту планку.
В-третьих, важен такой подход к анализу процессов и событий, как историзм, предполагающий связь с эпохой. Ведь рассматриваемые принципы - не от Рождества Христова, нелепо примерять их к Крестовым походам или войнам Наполеона. Даже Устав ООН намечает лишь их контуры. Набор исходных положений Заключительного акта - продукт своей эпохи, он определен итогами Второй мировой войны в Европе, наличием двух систем и противостоящих лагерей плюс ядерного оружия. Это своего рода «перемирие» между антагонистами, чтобы избежать Третьей мировой. 10 хельсинкских принципов подвели базу под баланс интересов двух центров силы, стали «правилами игры» для межгосударственных отношений в ту эпоху. Но та эпоха уже ушла.
Связь принципов со своим времением не означает, что они исторически «мимолетны», не имеют будущего. Смысловое ядро каждого из них - важный вклад в регулирование отношений между государствами, даже в мировую цивилизацию.
Эпоха, регион, конкретная обстановка имеют огромное значение. Оба принципа сами по себе неприкасаемы, но акцент следует перенести на их применимость и - особенно - действенность здесь и сейчас. Нет международных процессов и событий вне конкретных обстоятельств.
Мало ссылаться на само по себе верное положение, каждая сторона должна еще обосновать его применимость и действенность. Когда одни взывают к целостности территории, другие - к праву на самоопределение, то выход - в учете всей конкретики и специфики конфликтной ситуации.
Чем характеризовались 1990-е годы? Это уже не 1975 год, а эпоха крушения мировой системы, распада в Евразии одних и создания других государств. В данный тектонический, форс-мажорный период и как раз в зоне распада принцип территориальной целостности не оказался столь же безотказным, как прежде. Если данное положение непререкаемо, как утверждают некоторые, отчего же оно не спасло Советский Союз, Югославию, Чехословакию, Эфиопию? Право на самоопределение предоставило суверенитет 23 союзным республикам (пятнадцать в СССР, шесть в СФРЮ, две в ЧССР), а также Эритрее.
А откуда взялась идея неприкасаемости союзных республик? Косово, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Нагорный Карабах - и акторы, и продукты объективных обстоятельств: демографических и политических сдвигов, распада государств, войн. Важно постичь логику изменений. Не для того, чтобы дробить все мельче, а лишь чтобы учитывать объективные реалии.
Косово может стать еще одним, но лишь дополнительным доводом в ту или иную сторону. А исходный посыл - та самая характеристика эпохи и региона, конкретных обстоятельств.
НЕКОТОРЫЕ КРИТЕРИИ
На применимость и действенность принципов в каждом конфликте должна влиять масса факторов, прежде всего цивилизационные требования. Вот лишь некоторые из них.
«Стаж» пребывания в одном государстве, или, если употребить лексику Рима, где рожден феномен «сецессии», особенности пребывания «плебеев» под началом «патрициев». Идет ли речь действительно о выживании сторон - «плебеев» как этноса на своих землях либо государства «патрициев»? Или только о престиже и выгодах последнего, а то и просто о его стремлении удержать земли при полном безразличии к судьбе «плебеев»?
Динамика этнического состава населения территории, ставшей предметом спора (примерно за век). Что тут - движение масс за независимость, выступления мафиозных структур либо лишь кучки пассионариев? Используются ли «плебеями» мирные или террористические методы борьбы? Эффективно ли и как давно «плебеи» контролируют свою территорию? Готовы ли «патриции» пойти им навстречу либо только третируют и подавляют? Состоялись ли уже пробы сил «плебеев» с «патрициями»? Насколько частыми, продолжительными, ожесточенными они были?
Безусловно, важны и ход, и особенности вооруженного конфликта. Все ли привержены идее о том, что мирному разрешению конфликта нет альтернативы? Кто выступает за его мирное урегулирование, а кто склоняется к силовому варианту? Какая из сторон готова подкрепить свое обязательство мирно решать споры подписанием соглашения о невозобновлении военных действий, а какая нет? Кто за налаживание диалога, прямые контакты, меры доверия, а кто против? Есть ли оккупированные в ходе боев территории, как это произошло, почему они не освобождаются, что мешает этому? Есть ли вынужденные переселенцы и беженцы, сколько с каждой стороны? Есть ли уже условия для их добровольного возвращения в родные места, или что-то мешает этому? Кто соблюдал и соблюдает договоренности, а кто нет? Нарушались ли нормы международного гуманитарного права (совершенно очевидно, что их грубые и массовые нарушения серьезно влияют на действенность любого из двух принципов)? Отношение к пострадавшим от конфликта - своим и «чужим»?
Предпринимались ли попытки разойтись мирно - скажем, путем волеизъявления населения? Как оно было организовано? Или как его организовать? Обладает ли субъект реальными атрибутами государственности, самоуправляемостью? Насколько его система представительна, демократична - особенно в сравнении с порядками у «патрициев»? Имеет ли государственное новообразование шансы выжить?
Крайне важно четко разграничить причины и следствия конфликта - ведь в каждом из них есть и своя предыстория, и своя юридическая специфика. Не последнюю роль играют форма выхода республики из союза либо образования из республики, мера правопреемственности суверенного государства от прежней структуры, четкость в оформлении этой правопреемственности.
Нередко используется довод, будто границы государства признаны ООН, ОБСЕ, Советом Европы и т. д. Он, конечно же, имеет некоторый политический вес, но не юридический, поскольку международные организации при приеме новых членов не утверждают их социально-экономическую или политическую систему, границы или господствующую религию. Любое признание государства - акт политический, а не правообразующий (его правовой эффект вряд ли выходит за рамки отношений между двумя субъектами).
Есть и курьезы. Административные границы в СССР были порой довольно произвольны (общеизвестны чехарда решений Кавбюро по Карабаху, волюнтаристская передача Крыма). Западники, отвергая все советское, молятся теперь на административные границы, существовавшие внутри СССР. Хорошо это или плохо? Хорошо, чтобы не плодить новые конфликты. А как быть там, где уже пролита кровь, и немалая? Делать вид, будто ничего не произошло?
Словом, нужна детальная шкала критериев. Все элементы необходимо свести в единую систему, ранжировать по удельному весу (для нужд общественного мнения ее можно потом даже «математизировать»). Хорошим подспорьем стала бы широкая дискуссия по разработке такой системы с участием всех заинтересованных в мирном решении споров: международники (особенно юристы), политологи, СМИ, народная дипломатия...
Такой «политический атлас» противостояния, то есть совокупность характерных признаков эпохи, региона, специфики конфликта, позволит получить своего рода коэффициент действенности каждого из двух принципов, о которых идет речь. Конечно, это не точные величины, а примерные пропорции. Многослойный набор доводов убедительнее голого апеллирования к «выгодному» принципу. Это могло бы способствовать некоторому отрезвлению сторон и послужило бы неплохим системным ориентиром для многоликого мирового сообщества (а не выборочным и заведомо политизированным в угоду какому-то «центру силы»).
Но и важное средство - это всего лишь подспорье. Судьбу же конфликтов должны решать переговоры, если же не решают они, то волеизъявление населения. При этом совершенно исключаются угрозы и ссылки на «свой» принцип без полноты учета всех существенных обстоятельств конфликта.
РАЗРАБОТАТЬ «АТЛАС КОНФЛИКТОВ»
Мировое сообщество, без сомнения, заинтересовано в мирном урегулировании спорных проблем между государствами или сторонами конфликтов, в максимальном уважении ими прав человека и соблюдении норм международного гуманитарного права. Об этом свидетельствует и увязка обоих принципов с другими в рамках хельсинкской «десятки», особенно, как уже отмечалось, с теми, которые прямо относятся к конфликтным ситуациям: мирное решение споров, неиспользование силы или угрозы силой.
Применительно к конфликтам мы вправе настаивать на прямой увязке любого из тех двух принципов с категорическими требованиями мирного решения споров. Международным организациям надо быть более последовательными и настойчивыми в этом. Все хельсинкские принципы - это составляющие цивилизации, чего не скажешь о войне, какой бы современной и «точечной» она ни была.
Поэтому шкала критериев должна строиться в цивилизационном, даже цивилизаторском ключе, с упором на упомянутые требования мирового сообщества к сторонам конфликта. Исключены какие-либо вознаграждения той стороне, которая продолжает угрожать силовым решением, отказывается от всего того, что благоприятствует мирному урегулированию, разжигает ненависть и вражду, дестабилизирует обстановку.
Фактически разработка «политического атласа» любого конфликта состоит из следующих трех основных фаз:
разработка общей шкалы критериев или характеристик конфликтов;
нахождение относительного удельного веса каждого критерия в зависимости от того, насколько он полезен для мирного решения и преодоления силовых атавизмов;
наложение этих разработок на конкретный конфликт с учетом эпохи, региона, особенностей конфликта для выяснения того, какой из двух принципов усиливается в данных условиях с точки зрения своей действенности и какой ослабляется. Конечно, тут речь идет не о выводе каких-то цифровых показателей, а лишь об общих ориентирах и пропорциях.

Признание «непризнанных» и международное право
© "Россия в глобальной политике". № 1, Январь - Февраль 2007
Г.М. Вельяминов – д. ю. н., профессор, главный научный сотрудник Института государства и права РАН; арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
Резюме Россия для начала могла бы признать «непризнанные» республики в «мягкой» форме de facto – возможно, в виде заключения договоров об экономических и торговых отношениях, о гуманитарной помощи и т. п. Для этого у Москвы, кроме формального права, имеются и веские политические основания.
Политико-юридическая коллизия вокруг автономного края Косово, а также события, связанные с так называемыми «непризнанными» республиками на постсоветском пространстве, сделали актуальным вопрос о современной трактовке права наций на самоопределение. В журнале «Россия в глобальной политике» (№ 5 за 2006 год) опубликована статья Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ Александра Аксенёнка на точно сформулированную тему «Самоопределение: между правом и политикой». В этом материале резонно говорится о том, что одним из факторов проблемы «непризнанных» республик являются такие принципы, подлежащие соблюдению международным сообществом, как территориальная целостность и право на самоопределение.
Налицо противостояние между обоими этими принципами, с одной стороны, и реальной политикой – с другой. А вот противоречия между самими принципами нет. Согласно Заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, Хельсинки, 1975 г.), все зафиксированные в нем принципы (в том числе упомянутые выше) должны «одинаково и неукоснительно применяться при интерпретации каждого из них с учетом других». Для более четкого понимания политической и правовой ситуации стоит вернуться к истокам современной международно-правовой системы.
ЭВОЛЮЦИЯ ПРИНЦИПА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ НАРОДОВ
Принцип самоопределения народов был включен в проект, а затем и в текст Устава ООН в 1945 году на Конференции Объединенных Наций в Сан-Франциско. Это событие знаменовало собой победу советской дипломатии: придание принципу самоопределения столь высокого статуса инициировал именно Советский Союз, и его делегации пришлось немало потрудиться, чтобы преодолеть жесткое сопротивление со стороны западных держав.
СССР боролся за деколонизацию и становление новых государственных режимов, которые, как он резонно предполагал, будут проводить антиимпериалистический курс и соответственно станут союзниками Москвы в противостоянии с Западом. Последний же – точнее, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды и другие страны, владевшие обширными колониями, – естественно, не был заинтересован в утверждении права народов на самоопределение.
Принцип самоопределения закреплен в статьях 1.2 и 55 Устава ООН. Кроме того в статье 76.8 (глава «Международная система опеки») (тоже по настоянию СССР), говорится о прогрессивном развитии населения территорий под опекой в направлении к самоуправлению и независимости.
Говоря точнее, в Уставе ООН фигурирует «принцип равноправия и самоопределения народов». Данная формулировка объединяет, по сути, два принципа, которые могут трактоваться и как самостоятельные. Такая увязка отнюдь не случайна. Нет равноправия между народами, если одни из них обладают государственностью, независимы и суверенны, а другие – нет. То же касается и самоопределения: поскольку все нации имеют на него равные права, любой самоопределившийся, вплоть до обретения государственной независимости, народ вправе, равно с другими народами, рассчитывать на признание своей государственности.
Между тем в Декларации принципов, которыми государства-участники будут руководствоваться во взаимных отношениях, содержащейся в Заключительном акте СБСЕ, с принципом самоопределения произошла некая метаморфоза.
Вместо привычной ооновской формулы «равноправие и самоопределение народов» находим иную: «равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой» (принцип VIII Декларации). Правда, здесь же указывается, что, «исходя из принципа равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой, все народы всегда имеют право в условиях полной свободы определять, когда и как они желают, свой внутренний и внешний политический статус (курсив мой. – Г.В.) без вмешательства извне…» Словосочетание «определять внешний политический статус», которое, очевидно, может пониматься и как определение суверенно-независимого государственного статуса, подменило собой, причем не вполне точно, слово «самоопределение».
Хельсинкское «право народов распоряжаться своей судьбой» может, казалось бы, интерпретироваться в качестве некой специальной нормы (lex specialis) по отношению к записанной в Уставе ООН общей формуле (lex generalis) «самоопределение народов». Причем юридически «специальный» закон перекрывает «общий» закон. Но, во-первых, уровень Устава ООН предполагает общепризнанный правовой принцип (jus cogens), не подлежащий произвольным изменениям отдельными (и даже многими) государствами. Посему формулировка в Заключительном акте может толковаться лишь как некий парафраз уставной формулы, но не ее изменение, а тем более отмена. Во-вторых, в широком смысле слова «право распоряжаться своей судьбой» не может исключать право и на самоопределение (разновидность «внешнего политического статуса»).
Кроме того, надо иметь в виду, что страны – участницы СБСЕ, подписавшие хельсинкский Заключительный акт, придавая ему статус официального документа ООН «с высоким политическим значением», постановили, что он не подлежит регистрации на основании статьи 102 Устава ООН, в силу чего не рассматривается как международный договор. Таким образом, изложенный в нем принцип самоопределения народов и соответствующие положения Устава ООН (который, напротив, является международным договором) далеко не равнозначны с точки зрения их обязательной силы.
Отсутствие в Заключительном акте формулы «самоопределение народов» – это своего рода реванш западной дипломатии. Охранительный, легитимистский крен документа особенно проявляется в четком установлении обязанности государств уважать территориальную целостность друг друга и воздерживаться от любых действий «против территориальной целостности, политической независимости и единства (курсив мой. – Г.В.) любого государства-участника». «Никакая оккупация или приобретение» не будут признаваться законными.
Невольно вспоминается легитимистский Священный союз первой половины XIX века с его аналогичным стремлением утвердить международный status quo. Вообще, в истории накопилось немало свидетельств тщеты и непрочности попыток законсервировать политическое равновесие. Так, николаевская Россия, выступая в роли «европейского жандарма», подавила (правда, по просьбе Австрийской империи) венгерскую национально-освободительную революцию 1847–1849 годов. В наши дни роль глобального жандарма (но уже без всяких приглашений) взяли на себя США. Результаты их вмешательства, например, в урегулирование ситуаций в Палестине, Югославии, Ираке представляются столь же бесперспективными и, по сути, антинародными, сколь и международная политика позапрошлого столетия.
Трансформация уставной формулы самоопределения народов, как и тот факт, что формально действие Заключительного акта распространяется только на страны – участницы СБСЕ (и на их государства-правопреемники), не умаляет значения этого документа, содержащего наиболее развернутое и авторитетное толкование записанных в этом акте основных десяти общепризнанных принципов международного права. Главное же для нас то, что Россия как страна – участница СБСЕ привержена соблюдению Заключительного акта; этого, впрочем, придерживаются и другие государства-участники.
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕРЕЛОМЕ ВЕКОВ
Прошло более шестидесяти лет со дня принятия Устава ООН, более тридцати после Хельсинки – и политические декорации в мире, и в частности в Европе, к концу XX столетия резко изменились. В 1945 году принцип самоопределения задумывался и мыслился (прежде всего Советским Союзом) в категориях деколонизации, а в 1975-м на передний план выдвигается (уже Западом) идеологема защиты прав и свобод человека. В начале же 1990-х годов мир неожиданно столкнулся с быстрым распадом и всего социалистического блока, и таких государств, как Советский Союз, Чехословакия, Югославия. Но и в новой ситуации вопросы самоопределения народов регулируются тем же самым нормативно-правовым инструментарием, что применялся в послевоенное время.
Как и прежде, стабильность в таких взрывоопасных европейских регионах, требующих независимости, как Ольстер, Страна Басков и Корсика, более или менее успешно поддерживается на основе соблюдения принципа территориальной целостности государств (Великобритании, Испании, Франции). Менее эффективно решаются проблемы с разделом Кипра и отделением Тайваня от Китайской Народной Республики. В последних случаях хотя вроде бы и можно говорить о некоем «самоопределении», но оно вряд ли правомерно. Причем не столько ввиду того, что идет вразрез с принципом территориальной целостности и Республики Кипр, и КНР, сколько потому, что оно было скорее не «само»определением, а привнесением нового статуса извне.
Развал Югославии сопровождался вопиющим внешним вмешательством – вплоть до прямой вооруженной агрессии. По отношению к Сербии Соединенные Штаты, НАТО, Европейский союз откровенно придерживаются политики двойных стандартов. С одной стороны, когда речь идет о сужении территории Сербии, Запад демонстрирует ранее нетрадиционную для него приверженность идеологии «самоопределения» (Косово, отчасти Черногория). С другой – право Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) на присоединение к Сербии (точнее, к тогда еще сохранявшемуся остатку Югославии) было решительно отвергнуто.
Не менее острые проблемы возникли и при распаде СССР. После развала страны минуло более пятнадцати лет, а вопросы, связанные со статусом Абхазии, Нагорного Карабаха, Приднестровья, Южной Осетии, по-прежнему не урегулированы. Проблемы, возникшие вокруг принадлежности Крыма к Украине, были формально решены лишь благодаря российскому традиционному миролюбию.
Наверное, будь Россия столь же слаба в военном плане, сколь злосчастная Сербия, известные силы вряд ли упустили бы шанс применить и к нашей стране югославские схемы. У многих недругов России «чесались руки» признать «независимость» Ичкерии. Они не погнушались бы злоупотребить и формулой «самоопределения», несмотря на массированную интервенцию и боевиков-террористов, а также зарубежные финансовые вливания в котел сепаратизма.
Между тем Абхазия, Приднестровье, Южная Осетия открыто и настойчиво стремятся быть с Россией и даже в России, что выражается как в красноречивых результатах референдумов, так и в том факте, что значительная часть местного населения предпочитает иметь российское гражданство.
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ
«Территориальная целостность государств» является одной из ипостасей главного международно-правового принципа уважения государственного суверенитета наряду с такими его составляющими, как принципы суверенного равенства, уважения прав, присущих суверенитету, нерушимости границ, невмешательства во внутренние дела. Все эти положения сводятся, по сути, к генеральной обязанности государства не вмешиваться в осуществление другими суверенными государствами их властных функций. Иначе говоря, речь идет о сугубо межгосударственных отношениях.
Напротив, проблема самоопределения решается прежде всего внутри того или иного государства. Его бенефициаром в реальности являются не сами государства, как таковые, а их народ, причем не обязательно весь, а, возможно, лишь один либо несколько из его «самоопределяющихся» этносов. Высшее проявление самоопределения – образование нового самостоятельного государства, то есть особой социальной общности людей, которая функционирует на отдельной территории и контролируется независимыми властями.
Как из Устава Организации Объединенных Наций (статьи 1.2 и 55), так и из Заключительного акта (принцип VIII Декларации) аналогично вытекает обязанность государств уважать равноправие и самоопределение народов (право распоряжаться своей судьбой), то есть обязанность проводить не только внутреннюю, но и внешнюю политику для обеспечения данного принципа. Более того, равноправие и самоопределение являются, согласно Уставу ООН, важнейшей основой всеобщего мира. Разумеется, каждая страна может суверенно определять условия, порядок и методы самоопределения внутри своей подвластной территории. Но это вовсе не значит, что такие условия и порядки могут нарушать принципиальные международно-правовые обязательства по уважению прав человека, основных свобод и права на самоопределение.
Наряду с этим международное право в силу принципа территориальной целостности запрещает любые действия, направленные на нарушение данного принципа в межгосударственных взаимоотношениях. Однако действие этой нормы отнюдь не распространяется на внутригосударственные пертурбации, влекущие за собой распад целостности и единства того или иного государства. Так, например, внутренние разделы бывших СССР и Чехословакии происходили без силового вмешательства извне, а поэтому не имели места и какие-либо нарушения международно-правовых обязательств в части территориальной целостности. Иное дело – развал Югославии под прямым воздействием иностранной интервенции.
Нельзя вмешиваться извне в процессы самоопределения, превращать территорию, связанную с этими процессами в объект оккупации, аннексии в любых формах. В этом, и только в этом – смысл принципа территориальной целостности применительно к ситуациям самоопределения. Иначе говоря, нет никаких правовых противоречий между принципами самоопределения народов и территориальной целостности государств.
ПРИЗНАНИЕ САМООПРЕДЕЛИВШИХСЯ ГОСУДАРСТВ
Международное право не содержит норм, которые ограничивали бы суверенное право любого государства признавать другое государство, возникшее в результате самоопределения. Не содержит оно и норм, препятствующих признанию нового государственного образования в случае, если последнее отделяется от другого государства невзирая на его несогласие. А вот любое вмешательство одного государства в процесс самоопределения в другой стране, тем более оккупация или приобретение (полностью либо частично) самоопределяющейся территории, является, как уже говорилось выше, несомненным нарушением международного права.
Например, Турция признала так называемую Турецкую республику Северного Кипра, отколовшуюся от единой Республики Кипр. Само по себе признание являлось бы законным, но противоправным было введение на Кипр турецких войск, обеспечивших возникновение в 1983 году сепаратистского государственного новообразования, что подрывало и правомерность самого самоопределения, как такового. Другой схожий пример – признание de facto Тайваня Вашингтоном, увязываемое с его активной военной поддержкой этого образования. Также и отделение Косово от Сербии не вполне самостоятельная акция, поскольку сопровождается военным вмешательством извне, в том числе прямой агрессией.
Но коль скоро и когда самоопределение фактически и правомерно свершилось в рамках того либо другого государства, другие страны вольны определять для себя, признаЂют ли они (в том числе, возможно, дипломатическим путем) новое возникшее государство. Признание имеет свои градации: различаются признание de jure или de facto, признание с оговорками, признание нации, борющейся за свою независимость, признание воюющей стороны и т. д. При этом признание de facto может быть не только формальным, но и подразумеваемым – в частности, выражаться в заключении крупного двустороннего договора, например, о торгово-экономических связях, всесторонне определяющего отношения между двумя государствами.
Формы и степени признания определяются требованиями реальной политики, что отчетливо проявилось, к примеру, в признании разными странами арабского государства Палестины.
В настоящее время немало говорится о возможном признании (со стороны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ЕС, НАТО и пр.) независимости «албанизированного» Косово вопреки воле Белграда. Такое признание может оказаться важным прецедентом, но не правовым, а лишь политическим.
Во-первых, прецедент не является в международном праве источником нормотворчества, то есть не создает формально (ipso jure) новую универсальную правовую норму. Во-вторых, признание новых самоопределяющихся государств имело место и ранее, в том числе наперекор государствам, от которых отделялись их части. Так, еще в 1777 году Франция, а затем в 1779-м и Испания признали отколовшиеся от Англии Соединенные Штаты Америки, заключив с ними торговый и политический договоры. Наконец, касательно «казуса Косово» нельзя сбрасывать со счетов и то, что строго юридически, как уже отмечалось выше, дефектна правомерность самого самоопределения края.
РОССИЯ И ПРОБЛЕМА НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВ
Непризнанные государства иногда несколько пренебрежительно именуют самопровозглашенными. Но ведь любая страна – это изначально самопровозглашенное государственное образование, даже когда оно возникает вследствие «внешних» решений (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 1947 года о создании Государства Израиль и Палестины или Дейтонские соглашения 1995-го о создании конфедерации Босния и Герцеговина).
«Непризнанные», «самопровозглашенные»... В самих этих определениях звучат нотки несправедливости, высокомерного презрения к «несанкционированному» (со стороны неких международных организаций либо могущественных государств), но одновременно «просматривается» стремление к ясно выраженному и свободному волеизъявлению целого народа, желающего жить в собственном независимом государстве. Тем более когда речь идет о государстве, существующем и успешно функционирующем уже на протяжении многих лет.
Как же должна вести себя любая страна в отношении непризнанных государственных новообразований, если она стремится оставаться в рамках международного права?
Во-первых, она должна исходить из того, что в данном случае у нее есть полное право признавать или не признавать такое образование. Строго говоря, юридически с точки зрения равноправия народов – это не только право, но и обязанность, однако не безусловная обязанность. Государство само анализирует реальные параметры государственности самоопределившегося новообразования, определяет обоснованность, разновидности, формы признания и т. д. На практике это происходит с учетом собственных интересов, задач и требований реальной политики.
Во-вторых, недопустимо вмешиваться в процесс самоопределения. Тем более нельзя прибегать к оккупации нового государства, к присоединению его либо к объединению с ним (в том числе в форматах федерации, конфедерации, ассоциации, протектората и т. п.). Вместе с тем подписание с ним международного договора (о ненападении, сотрудничестве, взаимной помощи и пр.) не будет являться нарушением норм международного права. Сотрудничество, с одной стороны, и территориальная целостность, с другой, – это совершенно разные вещи.
Что же касается конкретно России, то изначально признание ею «непризнанных» республик предпочтительнее могло бы произойти в «мягкой» форме de facto – возможно, в виде заключения широкоформатных межгосударственных договоров об экономических и торговых отношениях, о гуманитарной помощи и т. п. В целом, как четко определено президентом РФ в его телевизионном выступлении 25 октября 2006 года, политика России, в частности, в отношении Абхазии и Южной Осетии основывается на двух постулатах: во-первых, мы «не можем допустить кровопролитие в этом регионе», во-вторых, мы отнюдь «не стремимся к тому, чтобы расширять нашу территорию».
Признание Россией «непризнанных» вполне вписывается в эту политику. Для подобного подхода к «непризнанным» республикам у Москвы помимо формального права имеются и веские политические основания. Прежде всего следует обеспечить гуманитарные права и потребности населения, в том числе значительного числа тамошних жителей, имеющих российское гражданство. Кроме того, необходимо не допускать у наших границ нестабильности и тем более военных действий и кровопролития, а для этого требуются сотрудничество и контакты с правящими режимами республик. К тому же их правительства в известной мере уже фактически легитимированы на международной арене и, по крайней мере отчасти, признаны в качестве сторон международных переговоров по вопросу своего статуса.
Практически заключение Россией международных договоров с «непризнанными» республиками, по сути, лишь оформляло бы уже реально сложившиеся взаимоотношения, то есть подводило бы более цивилизованные основы под существующее состояние, status praesens, не затрагивая при этом возможностей продолжения урегулирования отношений «непризнанных» республик с государствами, из которых они самоопределяются.
Другое дело – признание этих республик de jure. В нынешних условиях такое признание может принести им действительные выгоды только в том случае, если оно будет достаточно многосторонним.

Самоопределение: между правом и политикой
© "Россия в глобальной политике". № 5, Сентябрь - Октябрь 2006
А.Г. Аксенёнок – к. ю. н., Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в отставке, в 1995–1998 годах – спецпредставитель МИДа РФ по Боснии и Восточной Славонии.
Резюме Любое решение о будущем статусе Косово создаст международно-правовой прецедент, который невозможно будет игнорировать при решении конфликтов на постсоветском пространстве, прежде всего на Южном Кавказе.
Последствия геополитических катаклизмов, потрясших мир в конце прошлого столетия, до конца еще не осмыслены, но их влияние на мировую политику все очевиднее. Нарастает разрыв между общепризнанными нормами международного права и новыми реалиями. Эрозия бесспорных ранее принципов заставляет по-новому взглянуть, в частности, на то, как сегодня соотносятся две часто входящие в противоречие друг с другом международные нормы – территориальная целостность государств и право на национальное самоопределение. Какова практика их применения, что можно считать прецедентами, а что – нет, где, в конце концов, объективные критерии оценок?
Хаотичный распад Советского Союза, цивилизованный «развод» чехов и словаков, кровопролитный развал Югославии – эти и некоторые другие события, по сути, перечеркнули торжественно провозглашенный в 1975 году в Хельсинки принцип нерушимости послевоенных границ в Европе. А международное признание новых государств узаконило изменения, будь то насильственные либо мирные.
Нарушение территориальной целостности в Европе, каковы бы ни были причины тех или иных дезинтеграционных процессов, явилось мощным импульсом к самоутверждению (в том числе в крайних формах этносепаратизма) национальных меньшинств в составе многонациональных государств. Проявления межэтнической напряженности можно рассматривать и как побочный эффект, вызванный процессами демократической трансформации, в частности децентрализации системы государственного управления, особенно в России и в странах Восточной Европы
Но самым серьезным стимулом к переосмыслению реального соотношения понятий «территориальная целостность» и «национальное самоопределение» послужили драматический поворот событий в Косово в конце 1990-х и, главное, одномерная реакция на это стран – членов НАТО. Остается мало сомнений в том, что этот населенный преимущественно албанцами край в составе Сербии близок к получению независимости из рук международного сообщества.
Вопрос, на который предстоит теперь ответить, ставится так: можно ли считать грядущую независимость Косово прецедентом при урегулировании других внутригосударственных конфликтов, в том числе в бывших советских республиках, или это лишь исключительный случай в международной практике?
На Западе категорично отвечают: нет, нельзя. В России говорят: да, можно. Развернутую аргументацию не дает пока ни та, ни другая сторона. Между тем из предмета академического спора в области международного права эта проблема превратилась во взрывоопасный фактор реальной политики. В первую очередь это касается неразрешенных конфликтов вокруг так называемых «непризнанных государств» на постсоветском пространстве – Приднестровья, Нагорного Карабаха, Абхазии и Южной Осетии.
Поискам универсальных подходов к развязке сложных межэтнических проблем последнего времени мог бы способствовать сравнительный анализ конфликтов вокруг Косово на территории бывшей Югославии и вокруг Абхазии и Южной Осетии на территории бывшего Советского Союза. Предпринимая попытку такого анализа, автор сознательно не затрагивает исторических аспектов. У каждого народа своя «правда», и решение подобных конфликтов путем апелляции к прошлому невозможно по определению.
ПУТЬ КОСОВО К НЕЗАВИСИМОСТИ
Как составная часть бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославия, Косово имело статус автономной области, а затем и автономного края. По Конституции 1974 года Косово получило право избирать собственный парламент, формировать правительство и Конституционный суд, а также обрело полную культурную и даже экономическую автономию. То есть уже в 1970–1980-е объем полномочий краевых властей если и не превышал, то во всяком случае приближался к критериям, закрепленным позднее в Конвенции Евросоюза о защите прав национальных меньшинств.
В очаг межэтнической и межконфессиональной напряженности Косово превращается только с конца 1980-х годов, когда по инициативе президента страны Слободана Милошевича центральная власть в Белграде взялась «исправлять ошибки» децентрализации. Сопротивление албанского большинства носило изначально политический гражданский характер, но постепенно перешло в форму вооруженной борьбы.
После ликвидации расширенной автономии края властные полномочия оказались в руках назначаемых из Белграда окружных начальников, опиравшихся на сербские по этническому составу силовые структуры. Албанское население прибегло к тактике бойкота новой власти, создав собственные параллельные органы управления, образования, здравоохранения и социального обеспечения. В июле 1990-го в Приштине учредительное заседание самопровозглашенного парламента приняло Декларацию о независимости, а затем и Конституцию Республики Косово. В 1991 году состоялся не признанный Белградом референдум, на котором косовары-албанцы высказались за независимость. В мае 1992-го избраны «парламент» и «президент» так называемой Республики Косово. Параллельно с оформлением политических структур непризнанного государства укреплялась военная организация албанских боевиков, известная как Освободительная армия Косово (ОАК).
Следующий этап в развитии косовской ситуации можно охарактеризовать как шаткое равновесие в начавшемся вооруженном противостоянии. В ответ на участившиеся теракты против официальных структур и сербского меньшинства в Косово Белград наращивал там полицейское присутствие, сделав ставку на силу. После того как выявилась неэффективность действий внутренних войск, в Косово были введены армейские подразделения.
Международное сообщество оказалось напрямую вовлечено в урегулирование этой внутриюгославской проблемы вследствие крупных столкновений войск и полиции с боевиками ОАК в феврале 1998 года в районе Дремницы, приведших к многочисленным жертвам, в том числе среди гражданского населения. Крупномасштабные военные действия продолжались несколько месяцев, в результате чего край оказался на грани гуманитарной катастрофы. Ответственность возложили исключительно на Белград, хотя в большинстве случаев сербская сторона лишь отвечала, пусть и не всегда соразмерно, на вооруженные провокации албанских боевиков. К тому же никто не доказал, что проблема беженцев и перемещенных лиц возникла из-за преднамеренных действий сербской стороны. Последующие конфликты с участием незаконных вооруженных формирований, к примеру, в Чечне или совсем недавно в Ливане показали, что террористические организации широко применяют тактику использования мирного населения в качестве живого щита, рассчитывая на реакцию международного сообщества.
Как бы то ни было, вести поиски задним числом, кто прав, а кто виноват в трагических событиях 1998–1999 годов, – дело теперь уже бессмысленное. Для сопоставления косовского прецедента с грузино-абхазским и грузино-осетинским важно другое – объективное понимание природы конфликтов и роли в них внешних факторов.
Отправным пунктом для внесения косовской проблемы в международную повестку дня стало именно предотвращение гуманитарной катастрофы. Но поскольку ответственность с самого начала априори возлагалась Западом на сербов и лично на Слободана Милошевича, в соответствующем ключе проходили все дискуссии в формате ОБСЕ, Контактной группы по Косово и на международной конференции в Рамбуйе (Франция) по политическому урегулированию в Косово (конец 1998 г. – начало 1999 г.). Сербское руководство в свою очередь недооценило серьезность момента и проявило в ходе переговорного процесса легкомысленную закоснелость. В результате сложились субъективные условия, предоставившие Североатлантическому альянсу формальный повод для военного вмешательства.
Другая особенность косовской ситуации состоит в том, что ООН как инструмент урегулирования вышла на сцену уже постфактум. Говоря об «уникальности» косовского случая, западные партнеры России по Контактной группе ссылаются на резолюцию 1244 СБ ООН и нарушение ее Милошевичем. Такие ссылки по меньшей мере некорректны. Указанная резолюция была принята 10 июня 1999 года, то есть после того, как Югославия более двух месяцев непрерывно подвергалась массированным ракетно-бомбовым ударам (военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия началась 24 марта 1999-го). Главная задача в то время состояла в том, чтобы прекратить бомбардировки, поставившие один народ – сербов на грань национальной катастрофы во имя «спасения» другого народа – албанских косоваров.
Резолюция 1244, собственно, и явилась ценой прекращения бомбардировок. Она закрепила за ООН и ее Советом Безопасности центральную роль в урегулировании и санкционировала наземное присутствие международных миротворческих сил под названием Силы для Косово (СДК), а также развертывание гражданской Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК). По сути дела, Белград силой принудили покинуть часть своей территории и согласиться на замену собственного военного присутствия на иностранное – СДК, ведомые НАТО.
С тех пор руководители МООНК, признаваемой упомянутой резолюцией в качестве высшей политической и административной власти в Косово вплоть до определения его окончательного статуса, исподволь, но последовательно проводят курс на максимальное обособление Косово от Сербии и создание на территории бывшей Югославии еще одного независимого государства. Бывший министр иностранных дел Словакии Эдуард Кукан, в 2000–2001 годах неоднократно посещавший Косово в качестве спецпредставителя Генерального секретаря ООН, так охарактеризовал ситуацию: «Забавно было видеть, как бывшие боевики, сменившие пятнистую форму на цивильные одежды, теперь уже с дипломатическими улыбками, но столь же категорично требуют полной независимости».
Несмотря на декларации о создании в Косово демократического мультиэтнического общества, обстановка для сербского меньшинства остается там крайне опасной. Не решены основные проблемы мирного урегулирования: возвращение более 200 тысяч неалбанских беженцев и временно перемещенных лиц, предоставление равных условий безопасности и свободы передвижения для представителей национальных меньшинств, создание подлинной многонациональной среды. В результате массового вытеснения неалбанского населения на большей части территории сложилось этнически гомогенное албанское пространство.
Последовательно реализуя установки на независимость, косовские албанцы всеми средствами (вплоть до актов насилия против сербов) стремятся поддерживать международный интерес к Косово. Действия экстремистов преследуют цель продемонстрировать, что если дело не пойдет по «обособленческому» сценарию, то жестокие межэтнические столкновения, подобные мартовским 2004-го, возобновятся. В этих условиях Запад серьезно опасается непредсказуемости поведения своих воинственно настроенных албанских протеже, готовых применить силу не только против сербов. А это означало бы полный провал всей политики НАТО в косовском конфликте с далеко идущими последствиями для других очагов региональной напряженности. В этой связи становится понятной тактика мощного давления на ослабленную Сербию, выдвинувшую для Косово компромиссную формулу: «больше, чем автономия, меньше, чем независимость».
Подводя итог ретроспективному рассмотрению косовского случая, следует отметить, что окончательный статус этой территории, по сути, изначально был предрешен сочетанием следующих трех важнейших факторов внутреннего и внешнего порядка:
требования албанского национального меньшинства в Югославии, сопровождающиеся применением методов насилия и шантажа международного сообщества;
совпадение на тот момент интересов США и Европы, продиктованных простой политической целесообразностью, в устранении националистического режима Милошевича;
возможность без риска глобальной конфронтации навязать эту целесообразность военно-политическим путем в условиях нового расклада сил на международной арене.
КАВКАЗ: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ
Динамика грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов, приведших к образованию двух так называемых «непризнанных государств», демонстрирует целый ряд аналогий с Косово. А имеющиеся различия, на мой взгляд, только подтверждают необходимость проведения упорядоченной международной универсализации принципов, положенных в основу урегулирования подобного рода внутригосударственных конфликтов.
В конце 1980-х в обоих случаях был самым грубым образом осуществлен переход к унитаризму. Поводом к новой вспышке застарелых межэтнических распрей послужила отмена соответствующими центральными правительствами широких привилегий, которыми пользовались национальные меньшинства, как в федеративном государстве – Югославии, так и в субъекте Советского Союза – Грузии. То есть отпадение Южной Осетии и Абхазии началось в период, когда Грузия не была независимым государством. И это важно подчеркнуть в связи с аргументами о ее территориальной целостности.
В 1989–1990 годах, еще до распада Союза ССР, Верховный Совет Грузинской ССР принял решения, направленные на отмену Конституции Грузинской ССР 1978-го и восстановление действия Конституции Грузинской Демократической Республики 1918-го, исключавшей существование территориальных автономий. В ответ на это в июле 1992 года Сухуми объявило об отмене Конституции Абхазской автономной республики в составе Грузинской ССР и о восстановлении действия абхазской Конституции 1925-го, провозглашавшей суверенитет Абхазии.
По сходному сценарию развивались события и в Южной Осетии, когда грузинские власти в конце 1989 года ввели в Цхинвали формирования МВД Грузии, а в ноябре 1990-го Верховный Совет Грузии принял закон об упразднении Юго-Оосетинской автономной области, что привело к вспышке боевых действий. На этом фоне 19 января 1992 года в Южной Осетии состоялся референдум, в ходе которого население проголосовало за независимость и присоединение к России. Спустя несколько месяцев Верховный Совет Республики Южная Осетия принял Акт о государственной независимости.
Точно так же как в Косово, на территории бывшей Грузинской ССР внутренние конфликты прошли тяжелые военные фазы с большим числом жертв и трагическими гуманитарными последствиями для грузинского и абхазского населения. Из 550 тыс. граждан довоенной Абхазии 7 тыс. человек было убито, 200–250 тыс. составляли беженцы преимущественно грузинской национальности. Аналогию с Косово можно видеть еще и в том, что оба этих конфликта были заморожены с вовлечением внешних сил, которые и обеспечили себе ведущую роль в процессе урегулирования. В косовском случае это государства – члены НАТО при маргинальной роли России в миротворческих форматах и механизмах урегулирования. В грузино-абхазском – Россия при столь же маргинальной роли Запада. Причем согласие на действующие форматы политического урегулирования было дано обеими сторонами и зафиксировано в целом ряде международных документов.
Если Косово в течение семи лет формально находится под юрисдикцией Организации Объединенных Наций, то к ситуации в Абхазии также применима резолюция Совета Безопасности ООН 858 (1993). В соответствии с этой резолюцией учреждена Миссия ООН по наблюдению в Грузии (МООНГ), которая функционирует по настоящее время. Кроме того, Организация Объединенных Наций вовлечена и через спецпредставителя Генерального секретаря ООН, возглавляющего Координационный совет грузинской и абхазской сторон с участием ОБСЕ, России, Великобритании, Германии, Франции и США. Размещенные в зоне грузино-абхазского конфликта Коллективные силы по поддержанию мира, укомплектованные российскими миротворцами, имеют мандат СНГ, который взаимосвязан с мандатом МООНГ. Такая увязка вновь подтверждена резолюцией СБ ООН 1666 от 31 марта нынешнего года.
Что касается Южной Осетии, то и в этом случае четырехсторонний механизм урегулирования – Смешанные силы по поддержанию мира и Смешанная контрольная комиссия (СКК), – созданный при посредничестве России в 1992-м, дополняется усилиями международных организаций. С декабря 1992 года в Грузии и в Южной Осетии работает миссия ОБСЕ, с 1999-го в работе СКК в качестве наблюдателей участвуют представители Еврокомиссии.
Однако главным, в чем сходятся рассматриваемые ситуации следует, пожалуй, считать политическую волю этнической общности, гомогенно населяющей территории Косово, Абхазии, Южной Осетии и составляющей там национальное большинство. Референдумы подтвердили наличие такой воли, причем гораздо убедительнее, чем проведенный под эгидой Евросоюза плебисцит по Черногории, получивший признание международного сообщества. Более того, многие годы раздельного существования албанцев и сербов в Косово, грузин, абхазов и осетин в Грузии вкупе с тяжелым наследием прошлых трагедий и старых счетов создали во взаимоотношениях этих народов психологическую атмосферу недоверия, подозрительности и даже вражды.
На указанных территориях государственность складывалась таким же образом и в тех же временных рамках, что и во всех постсоветских республиках. Геополитическая реальность такова, что Абхазия уже более десяти лет вполне успешно существует как независимое государство со всеми атрибутами власти, сформированными с соблюдением демократических стандартов, с собственной армией и другими силовыми структурами. Ее экономика самостоятельно функционирует в отрыве от Грузии. Абхазы однозначно ассоциируют себя с гражданством в собственном национальном государственном образовании, многие связывают свою дальнейшую судьбу и экономическое благосостояние с включением этой республики в состав России. Но на нынешнем этапе требование признать независимый статус Абхазии является первостепенным.
Большинство абхазов воспринимают отказ в праве на независимость как удержание целого народа в «плену сталинских границ». В беседе с экспертом по Кавказу, сотрудником Института войны и мира Томом де Ваалем президент непризнанной Республики Абхазия Сергей Багапш подчеркнул, что Абхазия имеет больше оснований получить независимый статус, чем Косово, поскольку она силой была присоединена к советской Грузии. Соглашаясь с тем, что состоятельность этого аргумента можно оспаривать, де Вааль в газете Finanсial Times все же отмечает, что «не встречал ни одного человека в Абхазии, кто видел бы свое будущее вновь в составе Грузии».
Стремление к воссоединению с Россией особенно сильно в Южной Осетии – территории, экономически весьма слабой и населенной народом, родственно связанным с Северной Осетией. Жители Южной Осетии считают себя вынужденно отделенными от своих «кровных братьев» в силу субъективных и несправедливых исторических причин.
ПОЗИЦИИ «МЕТРОПОЛИЙ»
При всем сходстве ситуаций в Косово, Абхазии и Южной Осетии как независимых государств де-факто (юрисдикция ООН над Косово лишь формально прикрывает этот статус) имеется одно весьма существенное различие. Речь идет о несовпадении подходов Сербии и Грузии, то есть государств титульной нации.
Окончательное решение по статусу Косово – серьезное испытание для демократических сил Сербии, пришедших на смену авторитарному режиму Милошевича. Для новых властей согласиться на отторжение исторической колыбели сербской культуры и православия равносильно тому, чтобы навлечь на себя опасность быть свергнутыми под напором великосербского национализма. Оказать сопротивление нажиму извне – значит отказаться от надежд на начало переговоров о членстве в Европейском союзе, в то время как все другие Балканские страны, в том числе бывшие югославские республики, двигаются в этом направлении. В данном случае, как и в ситуации с отделением Черногории от Сербии, вступление в ЕС служит хорошей приманкой, стимулирующей завершение «балканизации».
Однако при всей сложности момента сербское руководство проводит достаточно трезвую, взвешенную линию, принимая в расчет тяжелое наследие правления Милошевича и реально складывающуюся обстановку в Косово и вокруг него. Во главу угла возможного компромисса оно ставит высокие демократические стандарты по обеспечению в Косово законных прав сербов, защите православных святынь и децентрализации краевой власти. Эти проблемы так и остаются нерешенными, несмотря на многочисленные декларации и обещания администраторов ООН и командования СДК. Данные вопросы возглавляют сейчас повестку дня на проходящих в Вене прямых переговорах между сербской и албанской сторонами при посредничестве спецпредставителя Генерального секретаря ООН.
Совершенно иначе складывается переговорный процесс по Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси твердо стоит на позиции территориальной целостности Грузии, но именно в тех границах, в которых она находилась в составе Советского Союза, предлагая абхазам и осетинам «широкую автономию». Сухуми и Цхинвали считают непременным условием урегулирования международную легитимацию их де-факто независимого статуса в качестве логического завершения распада СССР при полном обеспечении национальных прав грузинского населения.
Судя по всему, шансов на преодоление противоречий в позициях сторон все меньше, а обстановка накаляется все сильнее. Линия поведения Тбилиси, всегда трудно предсказуемая и зигзагообразная, с приходом к власти Михаила Саакашвили становится все более деструктивной. Участились факты нарушения действующих соглашений и режима безопасности в зоне конфликта, усиленно наращиваются наступательные вооружения, мишенью провокаций оказываются миротворцы, к которым предъявляются неправомерные требования, раздается воинственная риторика. Все это дает абхазам и осетинам основание полагать, что руководство Грузии сделало выбор в пользу силового сценария, для чего в первую очередь необходимо разрушить действующие механизмы урегулирования и скомпрометировать миссию российских миротворцев. Постановление парламента Грузии «О миротворческих силах в конфликтных зонах» обязывает правительство начать процедуры по скорейшему выводу из Абхазии и Южной Осетии российских миротворцев, аннулированию соответствующих международных договоров и структур с последующей заменой их на новый формат с размещением «международных полицейских сил». Наметившееся сближение Грузии с НАТО только подхлестывает наиболее радикальные элементы в руководстве страны.
Между тем опыт миротворческих операций в других районах мира говорит о том, что их успешное завершение невозможно без заинтересованности каждой из сторон конфликта поддерживать по ходу переговоров атмосферу доверия, воздерживаться от шагов, которые могут оказаться неправильно истолкованными. Именно в обстановке такой заинтересованности проходила, за редкими случаями быстро устранявшихся осложнений, реинтеграция Восточной Славонии в состав Хорватии под эгидой Временной администрации ООН и при непосредственном содействии России, которая участвовала в военном и гражданском компонентах этой операции.
Другой вариант успешной миротворческой операции – добровольное принятие сторонами конфликта условий «навязанного урегулирования». Эти операции известны под названием «принуждение к миру» (enforcement for peace) и, как правило, связаны с «государственным строительством» (nation building). Характерный пример такой операции – Дейтонские соглашения о мирном процессе на территории Боснии и Герцеговины, положившие конец гражданской войне (1992–1995) в бывшей Югославии. Гарантией выполнения этих соглашений послужили развернутые там в 1996 году многонациональные силы под руководством НАТО, имевшие «жесткий мандат», в том числе в отношении применения силы. Такой мандат придавал дополнительный рычаг воздействия верховному представителю, наделенному международным сообществом особыми функциями, близкими к генерал-губернаторским.
Миротворческие операции в Абхазии и Южной Осетии осуществляются по более узкому мандату и в рамках международных механизмов, не предусматривающих навязывание тех или иных решений какой-либо из сторон. В обоих случаях Россия выступает только как содействующая сторона в урегулировании обоих конфликтов. Мандат самих миротворцев сводится главным образом к разъединению сил, поддержанию режима безопасности и невозобновлению огня.
С учетом отличий по содержанию мандатов и механизмов урегулирования выпады грузинского руководства против России, обвинения ее в обструкции миротворческого процесса обнаруживают стремление любой ценой навязать другой формат, предусматривающий функции принуждения, разумеется, в отношении «сепаратистов». В то же время хорошо известно, что изменение мандата предполагает в качестве обязательного условия согласие обеих сторон. Но ни Абхазия, ни Южная Осетия такого согласия не дают, не без основания опасаясь, что уход российских миротворцев может возыметь катастрофические последствия для гражданского населения, приведет к широкой дестабилизации. Постановление грузинского парламента расценено в непризнанных республиках как шаг, свидетельствующий о намерении официального Тбилиси решать проблему военным путем.
Реальная ситуация вокруг урегулирования национально-территориальных конфликтов на Южном Кавказе таит в себе угрозу перерастания в перманентный очаг региональной напряженности. В стремлении во что бы то ни стало продавить нужное решение Грузия, видимо, исходит из того, что затяжка с восстановлением территориальной целостности еще на несколько лет чревата увековечиванием статус-кво с последующим его международным признанием. Есть и внутриполитические соображения: необходимо подкрепить переживающий трудности правящий режим хорошо испытанными в прошлом националистическими аргументами. Но дело не только в этом. В полном соответствии с косовским сюжетом важную роль здесь играют внешние факторы.
Развитие обстановки вокруг непризнанных государств – Абхазии и Южной Осетии – зачастую отражает логику старой «игры с нулевой суммой» (zero sum game), но уже в новых неконфронтационных условиях. Вызывающие действия Тбилиси в отношении российских представителей едва ли могли быть возможны без открытой поддержки или попустительства со стороны Соединенных Штатов. Если политика Вашингтона действительно направлена на то, чтобы в пику России «подтягивать» Грузию к членству в НАТО, даже закрывая глаза на явные несоответствия установленным критериям, в Тбилиси это не преминут истолковать и как карт-бланш на одностороннее решение проблемы Абхазии и Южной Осетии. Неверные выводы о характере международной поддержки будут и дальше толкать грузинское руководство на непродуманные действия, что чревато усилением военной напряженности во всем регионе.
По мере ухудшения обстановки на месте, в самой зоне конфликта, а также ужесточения переговорных позиций сторон в деликатной ситуации оказывается прежде всего Российская Федерация, как соседнее государство, наиболее глубоко вовлеченное в процессы урегулирования. Уже в силу географического положения России конечный исход и способы разрешения конфликта имеют для нее жизненно важное значение, может быть даже большее, чем Косово для Европы.
Сегодня политическое содержание российской позиции сводится к признанию двух принципов – территориальной целостности с оговоркой, что в случае Грузии это лишь возможное состояние, но не «политико-правовая реальность», и прЗва на самоопределение. Причем последний принцип пользуется отнюдь не меньшим признанием со стороны международного сообщества. Тем самым Москва дает понять, что принцип территориальной целостности не абсолют и не действует автоматически.
Такая двуединая позиция оставляла определенное поле для маневра. Но это поле все больше сужается, и все вероятнее становится опасность для России оказаться зажатой в тисках между двумя крайностями, если обе стороны – абхазо-осетинская и грузинская – возложат на нее ответственность за замораживание конфликта.
Деликатность ситуации состоит в том, что каждая из двух возможных развязок – в пользу территориальной целостности или в пользу отделения – сопряжена для Москвы как с плюсами, так и с минусами. Однозначных преимуществ не просматривается ни в том, ни в другом случае.
В бурлящем этническом котле Кавказа, где все тесно переплетено и взаимосвязано, силовое принуждение Абхазии и Южной Осетии к возврату в лоно Грузии неминуемо создаст новые очаги напряженности на юге России – в Северной Осетии, Адыгее, Чечне, Карачаево-Черкесии и далее по цепочке. Рассчитывать же при этом на лояльность Тбилиси не приходится. При всем при том ответственность за судьбу местных малых народов в новых условиях имеет для России и моральный аспект. Российское государство, как и любое другое, обязано защищать интересы своих граждан, коими, насколько известно, является значительная часть населения Абхазии и Южной Осетии, которое было лишено права на демократическое волеизъявление в рамках Советского Союза и – позднее – независимой Грузии.
Абхазам и осетинам никто пока вразумительно не ответил, почему косовары и черногорцы имеют право на отделение, а они – нет. Ссылки на «уникальность» косовского случая звучат для жителей непризнанных республик неубедительно. К тому же в случае оформления независимости Косово де-юре парадоксы реальной политики по национально-территориальной проблеме будут слишком очевидны даже для непрофессиональных политиков. С одной стороны, США и Европа в наказание неугодного им «деспотического» режима в Сербии способствуют ползучему отторжению от нее части территории, а с другой – та же группа самых влиятельных государств лишает иные народы права на отделение, поддерживая угодный им «демократический» режим в Грузии.
Как бы то ни было, в свете реалий постконфронтационной политики в международной повестке дня все более актуальным становится вопрос: существуют ли все-таки критерии, позволяющие найти справедливое соотношение между принципами территориальной целостности и национальным самоопределением?
Разумеется, отделение во имя отделения – порочный путь, ведущий к мировому хаосу. Есть иные формы самоопределения, как, например, культурная автономия, различные типы федеративного и конфедеративного государственного устройства, варианты национально-территориальных образований, пользующихся разной степенью экономической самостоятельности, и, наконец, межгосударственная интеграция с добровольным делегированием центру части национального суверенитета. Но во всех этих случаях решающими условиями являются высокая степень доверия между государствообразующей нацией и национальным меньшинством, гарантия равных конституционных прав и свобод, уверенность в наличии здравого смысла у центральных властей, в их способности обеспечить всем своим гражданам достойную жизнь.
Примерами цивилизованного разрешения существующих национальных проблем могут служить Канада и Испания. Итоги референдума в Квебеке показали, что франкоязычное население доверяет историческому государству, в котором проживает. Расширение автономии Каталонии, получившей статус отдельного национального образования внутри страны, также свидетельствует о том, что самоопределение не сводится только к обретению государственной независимости.
В то же время мировое сообщество не может не видеть случаи, когда в силу непреодолимых межнациональных проблем самого разного характера – исторического, психологического, имущественного – отделение национального меньшинства больше соответствует устоявшимся реалиям, чем сохранение непризнанного статус-кво на неопределенное время. К таким случаям и относятся, на мой взгляд, в целом однотипные национально-территориальные конфликты в Косово, Абхазии и Южной Осетии. Ответственность за сложившееся положение в большей степени несут в конечном итоге центральные власти, оттолкнувшие от себя своих граждан высокомерной шовинистической политикой. И главным критерием здесь должно быть достижение международного консенсуса о правовом оформлении отделения национальных меньшинств на базе соблюдения общепринятых демократических и гуманитарных стандартов.

Европейский «центр» и его «окраины»
© "Россия в глобальной политике". № 5, Сентябрь - Октябрь 2006
В.Л. Иноземцев – д. э. н., главный редактор русского издания газеты Le Monde diplomatique, издатель и редактор журнала «Свободная мысль».
Резюме Тезис об особости России принимается ныне как данность, не требующая доказательств. Между тем нынешняя Россия если и кажется уникальной, то не более, чем другая «окраина» Европы – Соединенные Штаты. Россия и Америка очень схожи друг с другом и резко отличаются от Европы.
В конце первой трети XIX столетия два проницательных француза, Алексис де Токвиль и Астольф де Кюстин, предприняли путешествия по тогдашним «окраинам» Европы. Их впечатления нашли отражение в двух книгах – «Демократия в Америке» и «Россия в 1839 году», где описывается государственный строй Соединенных Штатов и Российской империи – европейских, по своей культурно-цивилизационной сути, держав, но лежавших вне географических границ традиционной Европы.
В те годы только Америка и Россия были «окраинами» Европы: Восток считался совершенно чуждым, а колонии не принимались в расчет. Казалось, что эти «окраины» были совершенно непохожи на «центр», однако последовавшие в дальнейшем события заставили европейцев пересмотреть такое мнение. Менее чем через сто лет США уже являлись самой мощной в экономическом отношении державой мира и новой родиной для миллионов мигрантов из Старого Света; на месте же прежней России вырос Советский Союз, распространявший по всему миру новую идеологию, число сторонников которой стремительно росло. В середине ХХ века СССР и Соединенные Штаты «вытащили» Европу из самой страшной войны в истории человечества, они же фактически разделили континент на зоны влияния. Создав ядерное оружие и вырвавшись в космос, две сверхдержавы еще раз показали превосходство над Европой, ставшей чуть ли не их покорной провинцией.
Но конец ХХ столетия оказался столь же богат на события, как и его начало. Советский Союз проиграл в холодной войне и распался на составлявшие его национальные республики. Воспользовавшись ситуацией, Соединенные Штаты дали волю своим гегемонистским устремлениям – и через десять лет оказались вовлечены в конфликт чуть ли не со всем исламским миром, итоги которого непредсказуемы. В то же время европейцам 1990-е годы принесли богатые плоды. Их интеграционный проект развивался успешно: ЕЭС стало Европейским союзом, появилась единая валюта – евро, а число входящих в ЕС стран выросло с 12 до 25. Европа освободилась и от угроз, исходивших от СССР, и от рабской зависимости от Америки. В результате мир второй половины ХХ века с его «двумя Европами и одним Западом» сменился миром XXI столетия, где имеются «одна Европа, но два Запада». Книги о превосходстве европейской «мечты» над «американской» заполонили прилавки магазинов.
Российская же «мечта» так и не встала в один ряд с европейской или американской. Последние пятнадцать лет привили россиянам лишь дополнительное отвращение к «нормальности». Доминировавшая сначала самоуничижительная констатация «мы не можем стать такими, как все» затем сменилась надменной максимой «нам не следует быть такими, как все». Обе эти формулы, применимые в периоды низких либо высоких цен на нефть, позволяют не задумываться о проекте развития страны. А это так приятно, что тезис об особости России принимается как данность, не требующая доказательств. Между тем нынешняя Россия если и кажется мне уникальной, то не более чем другая «окраина» Европы – Соединенные Штаты. Россия и Америка очень похожи друг на друга и резко отличаются от Европы. Их сходные черты столь многообразны, что мне хотелось бы в этой статье отметить некоторые из них, предоставив читателям возможность самим сделать надлежащие выводы.
«ОЩУЩЕНИЕ НАЦИИ»
Первое, что бросается в глаза при сравнении Соединенных Штатов и России, – это поразительное сходство двух народов, каждый из которых воспринимает себя совершенно особым: избранным и мессианским. Разумеется, представления европейцев о собственных роли и предназначении также не всегда скромны и адекватны. Но народы Старого Света основывают свою идентичность на истории и традициях, в которых и черпают вдохновение и уверенность в будущем. Эта идентичность не идеологизирована: еще Уинстон Черчилль, возражая в 1940 году в Палате общин против запрета Коммунистической партии Великобритании, говорил о том, что никакие убеждения не делают англичанина «не-британцем» (un-British). Ориентированность на ценности прошлого и настоящего, а не устремленность в будущее порождает ту европейскую толерантность, которая иногда кажется излишней.
Соединенные Штаты устроены иначе. С XVII века первые поселенцы осознавали себя особым народом – «лучшими» и «избранными», которым суждено построить на другом берегу океана «новую обетованную землю», «Город на холме», второй Иерусалим, откуда свет божественной истины разольется по всему миру. Резолюция, учредившая в 1640-м провинцию Новая Англия, заканчивалась словами: «Господь может отдать Землю или ее часть избранному Им народу. Принято. Мы являемся избранным Им народом. Принято». Эта простая аргументация до сих пор определяет американское мировоззрение. Американский историк Ричард Хофстедтер подчеркивал, что «нашим предназначением как нации было не обладать идеологией, а быть ею», а британец Гилберт Кит Честертон называл этот народ «нацией с душой Церкви».
Отчасти это понятно: новый народ не мог искать идентичность в истории (которой не было) и не мог не ставить перед собой амбициозные цели (поскольку их ставили перед собой все составлявшие его люди). И то и другое сослужили ему хорошую службу. Не останавливаясь ни перед чем в развитии собственной страны и пользуясь неудачами соперников, Соединенные Штаты набирали силу, а вместе с этим росло и их мессианство. Сегодня Америка начисто забыла, что «универсальные принципы», которые она якобы несет миру, изобретены не ею, что она является своего рода «вторичной» цивилизацией, «отпочковавшейся» от европейской. Американское ощущение ответственности за судьбы мира тем более странно, что ныне сами США зависят от притока денег из других стран и от их готовности поставлять в Америку товары в обмен на зеленые бумажки. Путь, по которому идет страна, крайне опасен, но он задан уверенностью американцев в том, что им не грозят неудачи.
Россия также представляет собой «отдельную ветвь» европейской цивилизации; ее история не менее необычна, чем американская, и при этом весьма на нее похожа. Русь дважды подвергалась «европеизации». В первый раз – в IX–XI столетиях, когда она приняла христианство восточного образца и тем самым вошла в «зону влияния» Византии. Упадок последней совпал с подъемом Московии, которая, переняв византийские традиции доминирования светской власти над духовной, а также символику бывшей империи, самоидентифицировалась в образе Третьего Рима. Во второй раз Россия обратилась к Европе в конце XVII века, рискнув использовать европейские достижения для защиты от самих европейцев. Результаты были впечатляющими: менее чем через сто лет страна стала самой мощной державой Старого Света.
К концу XIX века Россия была «европейской» по форме, но оставалась «вне» Европы психологически и культурно. Ее народ находился в плену мифов о «евразийской особости» и исторической избранности. Как и США, Россия была одновременно страной европейской и неевропейской. Можно лишь удивляться, сколь синхронно два государства отказались от крепостничества и рабства, пережили период острых споров о своей роли в мире (дискуссии славянофилов и западников в России, изоляционистов и экспансионистов в Америке). Все изменилось после Первой мировой войны, итоги которой открыли всемирно-исторические цели и перспективы как перед Соединенными Штатами, так и перед Россией, которая в результате мощных потрясений 1917–1922 годов стала Союзом Советских Социалистических Республик.
На протяжении большей части ХХ столетия Советский Союз и США были государствами, сущностное сходство которых еще не осмыслено надлежащим образом. Две великие «идеологические» державы, исполненные ощущения собственной великой исторической миссии, – единственные страны, названия которых не содержали даже малейшего указания на исторические и национальные корни. Их увлекали перспективы бесклассового и вненационального общества («плавильный котел» в США и «новая историческая общность людей» в СССР). Они схожим образом использовали силу «универсальных» идей (свобода и демократия – в США, ликвидация эксплуатации и социальная справедливость – в СССР). Их очаровывали горизонты технического прогресса и собственная территориальная безграничность. Победив во Второй мировой войне, обе доказали самим себе и всем остальным силу собственных идеологий и прочность социальных основ, широту возможностей дальнейшего развития.
Однако итоги ХХ века оказались для двух сверхдержав совершенно различными. Это не противоречит утверждению об их сходстве, а скорее говорит о несинхронности его проявлений. Соединенные Штаты, как общество менее этатистское (и в этом отношении более «европейское», чем Советский Союз), не искали искусственной мобилизации и отчасти поэтому смогли не столько победить, сколько пережить Советский Союз. Но и сегодня ни Россия, ни Соединенные Штаты, в отличие от европейских стран, не позиционируют себя как «одни из многих» государств многообразного мира и менее всего стремятся быть «нормальными» в европейском понимании. К каким последствиям приведет все это в наступившем столетии, пока сложно даже предположить.
ОТНОШЕНИЕ К МИРУ
Отношение к миру у Соединенных Штатов и России также удивительно схоже. Это обусловлено историей обеих европейских «окраин», сочетающей в себе, во-первых, продолжительные периоды экспансии, во-вторых, известную заданность пространства, на которое распространялось их влияние, и, в-третьих, присущее им в критические моменты превалирование политического могущества над экономическим.
Стремление к экспансии – характерная черта почти всех европейских государств; их завоевания сравнимы разве что с нашествиями кочевников в IV–XIII столетиях. Более того, когда экспансии азиатских народов шли на убыль (последними можно считать походы арабов в VII–X веках и турок в XV–XVII веках), расширение европейских империй только активизировалось. В этом отношении развитие России и США отличается от исторического развития стран Западной Европы. С одной стороны, их возвышение шло не вопреки успехам Европы, а экспансия и России, и Соединенных Штатов происходила не за счет земель, которые входили во владения европейцев. С другой стороны, в отличие от европейских стран – Испании, Франции и Великобритании, – ни Россия, ни США не создали глобальных империй в европейском понимании; они превратились в «континентальные» державы и не стремились владеть территориями далеко за пределами своих границ. Это определяет принципиальное отличие России и Америки от Европы: страны Старого Света уже прошли пик своей экспансии, тогда как в России многие полагают (а в США, пожалуй, даже уверены), что еще не достигли своего политического «зенита». Противоположность европейского и «окраинного» подходов хорошо отражается в политической риторике наших дней.
Что касается «заданности пространства», то в XIX столетии и в первой половине XX века Россия и Соединенные Штаты не имели того глобального присутствия в мире, какое обеспечили себе Великобритания и Франция, а в более отдаленном прошлом – Испания, Португалия и Голландия. Вплоть до Второй мировой войны Америке не были известны методы строительства заморских империй. Примечательно, что, как только СССР и США укрепились в военном отношении, их соперничество стало приводить к серьезным военным конфликтам на мировой периферии – от Корейского полуострова и Индокитая до Египта и Кубы. Это тоже отличало их от европейцев, не сходившихся друг с другом в колониальных войнах с конца XVIII столетия. Сверхдержавы выстраивали свою политику, ориентируясь прежде всего на геополитические интересы и идеологические цели, в то время как европейцы стремились добиться хозяйственных выгод. Уход европейцев из колоний сделал последние ареной борьбы между США и СССР, которая в итоге привела к истощению и краху Советский Союз. В наши дни советский путь повторяют с мазохистской увлеченностью Соединенные Штаты.
Такое историческое наследие искажает восприятие мира как Россией, так и Америкой. Обе страны склонны переоценивать значение фактора силы в международных отношениях. Российские и американские стратеги исходят из того, что врага следует уничтожать, а не подчинять. Правы те, кто различает Америку и Европу как «зону Марса» и «зону Венеры» (Россия, безусловно, также входит в «зону Марса»). Кроме того, и Москва, и Вашингтон считают себя центрами мировой политики, а к остальному миру относятся как к пространству, где могут найтись союзники, но никогда – образцы для подражания. Время от времени они задают себе вопрос «Кто наши союзники?», но никогда не переводят его в плоскость «Чьими союзниками можем стать мы сами?».
Эта высокомерная спесь не свойственна странам современной Европы, что делает их гораздо более приспособленными к политическим реалиям XXI века. И Россия, и США рассматривают внешний мир в первую очередь в качестве источника угроз; риторика их нынешних руководителей подчеркивает это с такой ясностью, что потребность в комментариях отпадает сама собой. Европейцы, напротив, считают происходящее в мире источником скорее вызовов, чем прямых опасностей, и действуют соответственно. Наконец, в отличие от США, которые навязывают миру свои ценности, и России, претендующей на оригинальное видение политических контуров будущего, европейцы подчеркивают: их модель ценна прежде всего оригинальностью и уникальностью, они не претендуют на то, чтобы быть образцом для остального мира.
Экономическое развитие не только России, но и Соединенных Штатов отстает от их политических претензий. В начале XX века Великобритания и Франция были крупнейшими нетто-экспортерами товаров и капитала. Ни Россия, ни Америка не могут похвастаться ничем подобным. Опыт СССР показал, сколь опасен отрыв политики от экономических возможностей; Соединенные Штаты начинают ощущать это в наши дни, и этому ощущению, похоже, суждено обостряться.
ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО, ГРАЖДАНИН И ГОСУДАРСТВО
Социальная структура, взаимное позиционирование человека и общества, отношения между гражданином и государством, глубина социализации – на примере этих проблем также несложно проследить близость «окраин» друг к другу и их отличия от европейского «центра», хотя иногда они менее заметны, чем в сфере геополитики.
Единственный пункт, по которому нет явного сходства между Россией и Америкой, – отношения между человеком и государством. В США власть отчасти отделена от общества, но не враждебна ему. Баланс интересов народа и правительства издавна находили через судебные решения; поэтому Америка – это скорее страна прецедентов, нежели законов. Власти крайне озабочены внутренней безопасностью: в тюрьмах и в камерах предварительного заключения находятся 2,09 млн человек, или 715 на 100 тыс. жителей – в семь раз больше, чем в ЕС (103 на 100 тыс. жителей). В России государство – своего рода антипод общества. Власть у нас никогда не воспринималась как нечто, проистекающее из воли народа и воплощающее ее; престиж участия во власти велик, но доверие к чиновникам минимально.
Власть в России не уравновешена ни экономической состоятельностью граждан, ни независимой судебной системой, но желание отказаться от «сильного государства» выражено в обществе слабо. Как и в США, власть у нас не слишком озабочена тем, чтобы помогать гражданам. Она предпочитает заниматься обеспечением «безопасности» (ее жесткость заметна повсюду: почти как в США, в России в местах лишения свободы находятся 526 человек на 100 тыс. жителей, а до 15 % активной рабочей силы занято в Вооруженных силах, госбезопасности, органах обеспечения правопорядка, а также в частных охранных или сыскных агентствах).
В Европе государству отводится иная роль. Во-первых, доля ВВП, перераспределяемая через бюджеты разных уровней, составляет в Европейском союзе 47,8 %, тогда как в США – 28 %, а в России – 29 %. Во-вторых, доля расходов на обеспечение внешней и внутренней безопасности составляет здесь 3–4 % ВВП, в то время как в России и Америке – почти 10 %. В-третьих, европейские государства более ориентированы на решение социальных проблем, чем американское и российское; в странах ЕС на эти цели расходуется до 60 % бюджетных средств, тогда как в США – 38 %, а в России – всего 18 %. На протяжении столетий европейцы выработали в себе чувство уважения к закону и относятся к власти как к их исполнителю, как к «слуге сообщества». В Америке (в меньшей мере) и в России (в большей) государство оторвано от общества и хочет задавать его цели; большинство населения не ждет от него помощи и разными способами стремится сократить масштаб своих обязательств перед ним.
Место государства в обществе определяется отношениями между людьми, и здесь отличия «центра» от «окраин» более заметны. Сегодняшние Америка и Россия – жесткие индивидуалистские общества, похожие на Европу если не конца XIX века, то первых послевоенных лет. О чем бы ни рассуждали адепты «евразийскости», сложно говорить о коллективизме общества, в котором заборы воздвигаются не только вокруг вилл богачей, но и даже вокруг могил бедняков на деревенских кладбищах; в котором народ давно разучился формулировать собственный интерес иначе как по подсказке власти; в котором не вызывает протеста невиданное имущественное неравенство. Самый точный индикатор «общинности» – коэффициент Джини, который в России и США практически одинаков: ныне 10 % самых обеспеченных граждан владеют в России в 16 раз большей долей национального богатства, чем наименее обеспеченные 10 %; в США этот показатель составляет 14,8 раза, тогда как в 15 странах ЕС – всего 7,6.
Ответом общества на индивидуализм становится поиск суррогатов коллективности – и тут вспоминают о религии, в отношении которой европейцы движутся в одном направлении, а американцы и россияне – в противоположном. До Первой мировой войны религиозность всех трех обществ была сравнимой; сегодня в европейских государствах граждане, называющие себя религиозными, составляют меньшинство в 12–17 %. В Америке же, как и в новой России, число жителей, считающих, что религия играет в их жизни «важную» или «очень важную» роль, устойчиво растет.
Элиты обеих стран все чаще рассматривают религиозные практики в контексте решения политических задач. Ни в одной европейской стране глава государства не пытается, подобно Джорджу Бушу-младшему, объяснять свои внешнеполитические шаги указаниями Господа; нигде в Европе первосвященник не сочтет достойным, в отличие от патриарха Алексия II, благодарить президента за прекрасную жизнь своей паствы. США и Россия с большим отрывом лидируют по масштабам трансляции церковных проповедей и служб; в обеих странах активно развиваются те направления христианства, которые лежат в основе национальной идентичности. Америка и Россия «соревнуются» и в привлечении «высших сил» для решения экономических задач: американцы напоминают каждому, кто пожелает расплатиться долларами, что in God we trust, а российские топ-менеджеры, кажется, всерьез хотят преобразить автомобильную промышленность принесением на АвтоВАЗ мощей св. Иоанна Крестителя.
Завершая этот раздел, рискну сказать, что Европа постепенно превращается в своего рода сообщество личностей, а обе «окраины» активно используют религиозно-мессианские мотивы, укрепляя этим сомнительным образом свою идентичность.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ
Экономика и деньги – вот что, пожалуй, в наибольшей мере сближает сегодня «окраины», противопоставляя их «центру». В Америке, а с недавнего времени и в России деньги являются объектом поклонения, мерилом успеха и главным критерием человеческой значимости. Отсюда – растущее социальное расслоение и неэффективность экономики, ориентированной на прибыль, а не на максимизацию общественной полезности. В отличие от Европы, где доходы директоров компаний превышают уровень зарплат их работников не более чем в 30 раз, в США руководители зарабатывают в 160–250 раз больше своих работников, в России же разрыв еще ощутимее. Характерно, что такие вознаграждения не отражают экономической успешности; Европа, которая в последние годы должна была бы из-за социальных издержек оказаться неконкурентоспособной, обнаружила, напротив, невиданную эффективность. В первые годы нового столетия ЕС производит в 1,1 раза больше автомобилей, чем США; в 1,6 раза больше продукции химической и в 1,75 раза – фармацевтической промышленности; в 2 раза больше стали; в текстильной и легкой индустрии разрыв еще больше.
Россия же на протяжении 1990-х вообще перестала существовать для мира как промышленная держава, превратившись в «экономику трубы». Конечно, в этом мало общего с Америкой, переключившейся на информационный сектор, но нельзя не признать, что в конце ХХ века «окраины» практически «самоликвидировались» как индустриальные регионы. Правительства обеих стран стремятся контролировать не производство, а транспортную, информационную и финансовую инфраструктуры. В США это проявляется в прогрессирующем увеличении роли финансовых, банковских и биржевых услуг и контроле над глобальными информационными сетями, в России – в трубопроводной «сверхдержавности» и назойливо повторяемой идее «моста» между Европой и Азией, которым могла бы стать страна в наступившем столетии. Однако история показывает, что сохранять политическое влияние в условиях неконкурентоспособности и упадка промышленного производства пока не получалось ни у одной из великих наций, чье влияние выходило далеко за их границы.
Это не значит, что «окраины» отстали, а «центр» вырвался вперед, но экономическое развитие Европы в наши дни выглядит гораздо более сбалансированным, чем России или Соединенных Штатов. И это проявляется не только в интенсивном хозяйственном росте, постоянном сокращении продолжительности рабочего времени, ужесточении экологических стандартов и сбалансированности внешней торговли, но и в распространении высокотехнологичной продукции, разработанной за пределами Европейского союза. Не секрет, что в США распространенность мобильной связи сегодня составляет 56 %, тогда как в ЕС – почти 100 %, что только 19 % новых американских автомобилей оснащаются системой позиционирования на местности, в то время как в Европе – 65 %, и т. д. Похоже, что в превращении технологических достижений в инструмент повышения качества жизни европейцы не знали и не знают себе равных…
В США и России человек воспринимается как потребитель. Его стремление – купить больше, дешевле и по возможности лучшего качества. Экономия не приветствуется. Основной аргумент американских рекламных кампаний – «теперь вы можете за ту же цену получить больше!» (вторую котлетку в гамбургере, на треть больше колы и т. п.). Когда потребительский бум выдыхается, его поддерживают массовым кредитованием. У нас эти тенденции воспроизводятся в тех группах населения, которые приближаются к западным стандартам потребления. Сегодня Россия – самый выгодный рынок для международных торговых сетей. Продажа товаров в кредит растет на 30–40 % ежегодно; так же увеличиваются и объемы продаж дорогих автомобилей.
Россия тут идет даже впереди Америки: если там вызывают восторги разного рода «истории успеха», повествующие, как человек добился богатства и известности, то в России культовыми стали богатство и известность, как таковые, вне зависимости от их источника. Телевидение, газеты и журналы умиляются выходкам «новых русских», а с недавних пор – и чиновников. Америка и Россия схожи и в том, что у них особое значение придается понятию «роскошь», причем нередко только она и отличает представителей «элиты» от «низов», во всех прочих отношениях похожих как две капли воды. В США, куда бы вы ни кинули взор, какой бы телеканал ни включили, наиболее часто встречающимся словом будет luxury. Оно относится к домам во Флориде, собранным из гипсокартонных конструкций; к джипам, сиденья которых напоминают диваны начала прошлого века; к любой одежде, кроме джинсов; почти ко всем гостиницам, кроме тех, что расположены у больших автострад. В России «роскошь» превращена в «элитность» (что еще раз подчеркивает идентификацию богатства и статуса в общественном сознании). «Элитным» у нас становится все – от бижутерии и косметики до ресторанов, от автомобилей до квартир и домов.
Все это диссонирует с европейским подходом: слово «элитный» здесь вообще отсутствует в рекламном лексиконе, понятие luxury встречается крайне редко (обычно его заменяют разные версии термина upscale), а исключительность чего-либо подчеркивается в первую очередь его малодоступностью или «закрытостью» (например, тех клубов, которые издавна и традиционно именуются private, но никак не elitist).
Еще одна особенность, присущая как Америке, так и России, но чуждая Европе – мелкий и крупный обман, ощущение которого сопровождает новичка, не привыкшего к реалиям страны. Например, в США все цены указаны без налогов, которые удорожают покупку иногда почти на четверть. Особенно обескураживает сфера обслуживания с повсеместно распространенными «рекомендованными чаевыми» (suggested gratuity), прибавляющими до 20 % к ресторанному чеку средней стоимости. Ситуация, когда пассажир платит таксисту двадцать долларов при указанных на счетчике пятнадцати и в ответ слышит: «А где чаевые?» – стала обыденной и не вызывает удивления. В России роль американских барменов и таксистов выполняют клерки и госслужащие – не секрет, что размер «низовой» коррупции составляет от 10 до 15 % ВВП.
Когда я бываю в Америке, мне кажется, что в сравнении с Европой эта страна представляет собой даже не «окраину», а самую что ни есть провинцию – со всеми присущими ей чертами, неумело прикрытыми красивой упаковкой. В России такие же ощущения возникают у иностранцев, пытающихся понять особенности местной реальности, – правда, не сразу же, а по мере того, как они начинают втягиваться в нашу повседневную жизнь, переставая судить о ней только по витринам магазинов.
* * *
В завершение отмечу еще одно красноречивое обстоятельство. Принято считать, что Соединенные Штаты сделали великой страной люди, которыми двигала «американская мечта» – мечта о собственном деле или карьерном росте и, разумеется, о финансовом благополучии. Ее распространенность объясняет отсутствие в Америке социальных движений, столь характерных для Европы: европейскому стремлению к равенству результатов американцы предпочитают пусть иллюзорное, но равенство возможностей. В России сегодня также не наблюдается оживления эгалитаристских движений. Не стоит ли за этим надежда, подобная той, что так успешно сдерживает развитие социальных движений в США? Мне кажется, что здесь есть параллели, если и не явно обусловленные сходством как американской, так и российской «мечты», то проявляющиеся в том, как россияне и американцы организуют свои общества.
В обществе американской «мечты» преклонение перед успехом не означает почитания всех успешных. Отношение к капиталистам может быть критичным, но в то же время сам капитализм, как воплощение личной независимости, автономности и свободы, оказывается «вне подозрений». «Российская мечта» похожа на американскую – только в наших представлениях об обществе центром выступает не рынок, а государство. Ныне никто не вызывает в обществе такого презрения, как коррумпированные представители власти. Но президент, назначивший часть из них и создавший условия для неподотчетности остальных, обладает огромным запасом доверия как олицетворение государства. Ну чем не отношение американцев к процветающим капиталистам и к капитализму, как таковому? «Государевы люди» в логике россиянина могут быть противны, но государство почти всегда остается незапятнанным.
Таким образом, в какой-то мере наш подход схож с американским: да, власть в России с безразличием относится к своим гражданам, но значительная их часть так же наивно полагает, что сможет к ней приобщиться, как разносчик газет в провинциальном американском городке надеется стать миллионером. Даже российские демократы в начале 1990-х годов разработали авторитарную по своей сути Конституцию – отчасти и потому, что писали ее «под себя», а не для страны. Именно такое предпочтение радужных иллюзий сиюминутной основательной нормальности разительно отличает русских и американцев от европейцев и придает им сходство. Оно и не удивительно – ведь в любом мегаполисе легко отличить коренных горожан от провинциалов, а сами провинциалы всегда так похожи друг на друга...

Венгерское восстание: было ли поражение неизбежным
© "Россия в глобальной политике". № 4, Июль - Август 2006
Чарльз Гати – профессор Школы современных международных исследований им. Пола Нитце при Университете Джона Гопкинса. Возглавлял делегацию США на первой советско-американской конференции «Место и роль Восточной Европы в разрядке напряженности между Соединенными Штатами и СССР», состоявшейся в Александрии (штат Вирджиния) в июле 1988 года. Данная статья печатается в журнальной редакции и представляет собой выдержки из новой книги «Failed Illusions. Moscow, Washington, Budapest, and Hungarian Revolt». («Обманутые ожидания. Москва, Вашингтон, Будапешт и венгерское восстание 1956 года»). На русском языке книга выходит в издательстве Московской школы политических исследований.
Резюме Антикоммунистическое восстание в Венгрии, 50-летие которого отмечается в этом году, давно стало достоянием истории. Однако трезвый анализ тогдашних событий представляет не только академический интерес.
В октябре 2006 года исполняется 50 лет антикоммунистическому восстанию в Венгрии, которое было жестоко подавлено Советской армией. Материал, который мы публикуем, представляет собой отрывок из новой книги американского историка Чарльза Гати. Оно одновременно выйдет на английском и русском языках осенью этого года. Автор, эмигрировавший из Венгрии в ноябре 1956-го, подробно рассматривает обстоятельства тогдашних событий, уделяя особое внимание поведению великих держав. «В данной работе, – пишет он, – я не преследовал цели прославлять храбрость участников восстания или выступать против несправедливости, но пытался прояснить, насколько более успешной могла бы быть революция, если бы мужество сочеталось с мудростью и осмотрительностью». Подобный вывод представляется в высшей степени актуальным и сегодня, когда мир переживает очередной период нестабильности и социально-политических потрясений.
Редакция благодарит руководителя издательских программ Московской школы политических исследований Ю.П. Сенокосова, любезно предоставившего нам рукопись до выхода книги в свет.
Специалисты, изучающие историю венгерского восстания 1956 года, как правило, утверждают, что его исход отражал баланс сил в холодной войне и, следовательно, являлся предсказуемым и неизбежным. Дескать, и Советский Союз, и Соединенные Штаты опасались непрогнозируемых последствий изменения послевоенного статус-кво. Восстание не могло не потерпеть поражение – и точка!
В 2002-м выдающийся венгерский историк Ксаба Бекеш опубликовал вызвавшую немало споров работу «Могла ли венгерская революция 1956 года увенчаться успехом?». Основываясь на принципах «реальной политики» (Realpolitik), Бекеш утверждает, что подвергать сомнению неизбежность поражения венгерского восстания антиисторично. Используя общедоступные и недавно открывшиеся архивные источники, он рассматривает четыре основных внешних фактора, обусловившие ход восстания: Суэцкий кризис, Соединенные Штаты, Организация Объединенных Наций и, разумеется, Советский Союз. По его мнению, Суэц служил для Вашингтона не более чем удобным предлогом. США не изменили бы своей политики в отношении Венгрии и не случись Суэцкого кризиса. ООН находилась в тупике неразрешимых разногласий, и поэтому она была бесполезна. А что касается Кремля, где из всех членов политбюро наибольшую терпимость к венграм проявлял Анастас Микоян (полагавший, будто правительство Имре Надя сможет взять ситуацию под контроль, что, возможно, отменит необходимость вторжения), то ни один советский правитель не мог бы позволить Венгрии «уйти на Запад», не потеряв при этом своего поста.
Следовательно, заключает Бекеш, главную роль в венгерском кризисе сыграли «замороженные» отношения между Москвой и Вашингтоном и логика холодной войны, которая предполагала незыблемость границы, разделявшей Европу на Восточную и Западную, и не могла быть нарушена без того, чтобы между двумя главными антагонистами не разразилась война. Таким образом, восстание было обречено с самого начала. Тот факт, что соперники в холодной войне достигли молчаливого согласия в отношении разделения Европы, не осознавали ни венгры, ни значительная часть американской общественности, которые продолжали верить пустым лозунгам об освобождении, провозглашаемым лицемерными западными политиками и пропагандистами. Бекеш приводит данные социологического опроса февраля 1957-го, согласно которым не менее 96 % (!) находившихся в Австрии венгерских беженцев ожидали, что Вашингтон в той или иной форме окажет помощь их восставшей родине.
Что же касается излишней горячности самих повстанцев и «подстрекательской» роли радио «Свободная Европа» (РСЕ), то многие авторы полагали, что умерить требования восставших не удалось бы ни венгерскому правительству, ни РСЕ. […] Дьюла Борбанди, автор обстоятельной и вдумчивой работы по истории венгерской редакции РСЕ, категорически отвергает саму возможность сдерживающего влияния РСЕ на повстанцев в тогдашних обстоятельствах. В течение почти четырех лет управляющие и сотрудники «Свободной Европы» питались громогласной риторикой Вашингтона об освобождении. Более того, после начала восстания они работали в условиях недостатка информации, почти неизвестности. Они искренне верили, что их тяжелая работа во имя венгерского народа наконец начинает приносить плоды.
Так или иначе, считает Бекеш, сложившийся в Европе статус-кво не подлежал изменению, несмотря на все декларации США об освобождении и советские лозунги, провозглашавшие неизбежный триумф социализма. С одной стороны, Вашингтон молчаливо соглашался с существующим порядком, понимая, что Москва не «отпустит» страну, граничащую с нейтральной, но прозападной Австрией и независимой Югославией, и проливал крокодиловы слезы по поводу советской жестокости, не забывая использовать возникшие в этой связи пропагандистские возможности. А с другой – поощрял антикоммунистическую деятельность в Восточной Европе, в то время как Москва финансировала прокоммунистическое движение в Западной Европе. В сложившихся обстоятельствах вряд ли стоило ожидать от повстанцев умеренности: в конце концов, они восстали против одной из стран – участниц холодной войны, в то время как другая манипулировала их страданиями, как если бы они были пешками в великой шахматной партии.
Причина, по которой спустя 13 драматических дней восстание потерпело поражение, не составляет секрета. Оно провалилось, потому что Москва позволила себе пойти на поводу у страха перед потерей сателлитов; потому что Будапешт – сначала повстанцы, а потом и венгерское правительство – преследовал цели, неприемлемые для Кремля; потому что Вашингтон, не будучи готовым оказать действенную помощь, не выдвинул никаких альтернативных предложений и при этом позволил РСЕ пропагандировать невыполнимые задачи. Иными словами, повстанцы насмерть стояли на своем; венгерское правительство оказалось слишком слабым, чтобы добиться взаимоприемлемой сделки с Москвой; Вашингтон ни разу не призвал революционеров к сдержанности, что, надо признаться, было бы мудрым советом, а Кремль решил сокрушить венгров, не видя в них сильного противника.
Все это не означает, что если бы революционеры, венгерское правительство и Соединенные Штаты действовали более изобретательно или осторожно, то Москва уступила бы. Скорее всего, появления пусть даже полусвободной, полунезависимой Венгрии Кремль не допустил бы ни при каких условиях. Но этого мы никогда не узнаем. Известно лишь то, что умеренные подходы не возобладали ни в Будапеште, ни в Вашингтоне, ни, конечно же, в Москве. Бал правили эмоции, но не мудрость. В результате, вместо того чтобы завоевать хотя бы немного простора, как это случилось в Польше, доблестные венгры не получили ничего.
Исход венгерского восстания 1956 года зависел от следующих факторов:
- выбор Кремля между прежними, имперскими инстинктами и новым, не вполне оформившимся постсталинским курсом;
- стойкость повстанцев и их политическое мастерство;
- способность венгерского правительства удовлетворить требования как восставших, так и советского руководства;
- сдерживающее воздействие со стороны Вашингтона.
Что позволило бы убедить Кремль продолжить курс на невмешательство, принятый 30 октября и отвергнутый уже на следующий день? Имелись ли обстоятельства, способные вынудить большинство членов советского политбюро принять сторону Микояна и в течение еще нескольких дней поддерживать попытки Надя восстановить порядок? Могли ли сами венгры каким-то образом повлиять на решение Москвы?
Ответы на эти вопросы ставят под сомнение расхожую истину о неизбежности поражения венгерского восстания.
Первое. Вопреки широко распространенному мнению, Кремль как до, так и после 1956 года вовсе не был склонен проявлять бездумную воинственность в отношениях со странами-сателлитами: порой Москва, стремясь приспособиться к изменившейся реальности, шла на благоразумные, хотя и тактические уступки. В критических обстоятельствах СССР не намеревался терпеть сепаратизм своих мнимых союзников: свидетельством тому – ввод войск в Восточную Германию в 1953-м и в Чехословакию в 1968 году. Но в некоторых случаях Кремль, пусть и неохотно, мирился с отклонениями от «генеральной линии». Так, Советы отказались от планов вторжения в Югославию, Польшу, Албанию и Румынию, несмотря на стойкое сопротивление жестким требованиям Москвы со стороны достаточно независимых коммунистических правительств этих стран.
Процесс десталинизации, начавшийся в СССР в первые месяцы 1956-го, мог означать, что реакция Москвы на события в Венгрии тоже окажется относительно мягкой. Учитывая курс на десталинизацию и примирение с Тито, Кремль имел веские причины отдавать приоритет не «сплоченности блока», а «жизнеспособности режима». То есть проводить политику, способную придать правителям центрально- и восточноевропейских стран хотя бы толику легитимности, с тем чтобы те могли обрести поддержку собственного народа («сплоченность блока», напротив, предполагала, что страны-сателлиты должны следовать в фарватере советской политики).
Второе. Польша всегда имела для Москвы гораздо большее значение, чем Венгрия. Это объяснялось ее нахождением между Германией и Советским Союзом и значительными размерами, славянскими корнями ее народа и историческими связями с Россией; к тому же она играла роль витрины прославляемых завоеваний социализма. Венгрия же была важна только в контексте «социалистического единства» в регионе. Однако Советская армия вторглась в Венгрию, а не в Польшу.
Дело в том, что советское руководство ставило во главу угла устойчивость власти. Первый секретарь Центрального комитета Польской объединенной рабочей партии Владислав Гомулка точно знал, что он делает. Он крепко держал власть, и его не мучили внутренние противоречия. Поляк и коммунист, он был другом Советского Союза, но не марионеткой Кремля. После того как прежние правители Польши, в первую очередь Эдвард Охаб, уступили ему главенство в стране, а католическая церковь и РСЕ одобрили его курс на «националистический коммунизм», власть Гомулки – несмотря на его коммунистические убеждения – получила поддержку народа. Хрущёв хорошо понимал и ценил нового лидера Польши. Вот почему, несмотря на их первоначальный конфликт, советский и польский руководители пришли к взаимопониманию и впоследствии часто консультировались между собой. Хрущёв хотел, чтобы Гомулка нашел политическое решение польского кризиса, и верил, что тот на это способен.
Хрущёв ожидал, что и в Венгрии Надь скорейшим образом возьмет в свои руки всю полноту власти и удержит ситуацию под контролем. Вести, доходившие до Хрущёва в первые дни восстания, внушали опасения, однако затем последовало относительное затишье и советское политбюро решило вывести войска из Будапешта. Увы, Надь не обладал решительностью Гомулки. В течение первых пяти дней Надь, казалось, пребывал в состоянии совершенной растерянности и неохотно поддержал советскую интервенцию против контрреволюционных, с точки зрения коммуниста, элементов. Затем (опять-таки неохотно) он перешел на сторону восставших, но не смог предотвратить массовое убийство партийных работников и агентов тайной полиции на площади Республики 30 октября. Хрущёв да и все остальные члены политической верхушки за исключением Микояна не могли смириться с произошедшим.
Конечно, были и другие факторы, обусловившие внезапный поворот кремлевского курса, но глубоко укорененный в российской политической культуре страх перед беспорядками сыграл, видимо, решающую роль. Если бы Надю удалось предотвратить зверства на площади Республики и выставить себя решительным, твердым, расчетливым, хотя и независимо мыслящим коммунистом, Хрущёв, весьма вероятно, увидел бы в нем второго Гомулку и дал ему возможность самостоятельно навести порядок в стране. Но в глазах советских эмиссаров Надь был измученным, сомневающимся человеком.
Третье. 30 октября советское политбюро единодушно постановило: оно против военного вмешательства в венгерские дела. Хрущёв явно не желал рисковать курсом на внутреннюю десталинизацию и возможностью разрядки во внешней политике ради укрепления «сталинистской» стабильности в одной из беспокойных провинций империи. Интригующий вопрос, однако, в том, почему он и его коллеги в конечном итоге передумали и сделали ставку на «сплоченность блока», а не на «жизнеспособность режима». Ведь к 30 октября венгры по обе стороны баррикад в основном разрешили существовавшие противоречия, подтвердили объединявшую многих веру в социалистические ценности, а в стране наступил период относительного затишья.
Одна из возможных причин, объясняющих, почему Кремль переменил решение на диаметрально противоположное, состояла в ухудшавшихся отношениях между Анастасом Микояном и Михаилом Сусловым, курсировавшими во время кризиса между Москвой и Будапештом. По советским стандартам Микоян был умеренным антисталинистом, а Суслов – догматичным сторонником жесткой линии. До последних дней восстания они успешно сотрудничали друг с другом, причем оба предпочитали опираться на Надя, а не на советские войска. Однако 30 октября их пути разошлись. В этот день Микоян сказал заместителю Надя Золтану Тильди, что Кремль одобрил формирование в Венгрии многопартийной политической системы. Однако он действовал от своего лица. Советское политбюро не санкционировало этот шаг, а Суслов, который, вероятно, перестал в тот роковой день верить в способность Надя обеспечить социалистическое будущее Венгрии в рамках советского блока, уже не был «вторым я» Микояна. Когда 31 октября эмиссары летели в Москву, политбюро, несмотря на возражения Микояна, проголосовало за интервенцию.
Микоян и Суслов находились в Будапеште, когда на площади Республики убивали коммунистов. Они были там, когда венгерское правительство начало после беседы Микояна с Тильди готовиться к введению в стране многопартийной системы западного образца. В тот же день – 30 октября – Микоян и Суслов встретились с Надем и нашли его другим человеком. Этот некогда «московский» премьер-министр превратился в венгерского патриота и революционера. И хотя он все же остался марксистом и ленинцем, Суслову, который ожидал полного послушания, этого было недостаточно. Нам неизвестно, когда и как он сообщил в Москву, что не согласен с Микояном, однако из записей совещаний в Кремле очевидно, что Суслов не возражал против отказа от идеи невмешательства.
Возможно, к тому времени Хрущёв, предчувствуя политические проблемы и не желая рисковать потерей поддержки со стороны коллег, предпочел равняться на Суслова, который ранее всегда поддерживал все хрущёвские решения в отношении Венгрии, а также на посла Андропова и главу КГБ Серова, а не прислушиваться к советам своего самого верного товарища и сторонника Микояна.
Нечаянно превратившись в революционера, Надь не сумел предотвратить внезапный всплеск насилия 30 октября, и это стало главной причиной, по которой он лишился доверия Москвы. В принятии решения о подавлении революции известную роль сыграл и Китай, негласно поддержавший вердикт Хрущёва. Высокопоставленная китайская делегация, прибывшая в то время в Москву, поначалу стремилась убедить Кремль не вмешиваться в польские и венгерские дела, несомненно опасаясь утраты собственной независимости от постсталинского политбюро. Однако ужас перед народной яростью пересилил иные соображения, и Китай проявил солидарность с Москвой.
Окончательное решение Советов о вторжении было, таким образом, вызвано всплеском насилия на площади Республики, перспективой укрепления союза между правительством Надя и повстанцами, решением о восстановлении в Венгрии многопартийной системы, принятым венгерским правительством утром 30 октября после беседы с Микояном, всего за 16 или 18 часов до изменения Москвой своего решения, а также страхом Кремля перед возможностью роста беспорядков в странах советского блока. Предотвращение кровопролития на площади Республики и неприятие Надем требований восставших отказаться от однопартийного правления позволили бы Москве придерживаться поистине исторического решения, принятого 30 октября, то есть постсталинского подхода к советским сателлитам в Центральной и Восточной Европе.
Если не отличавшиеся политической искушенностью венгерские повстанцы преподали миру урок доблести, то венгерское правительство, столкнувшееся с двуличностью Кремля и угрозой военного вторжения, в последние дни восстания почти не имело пространства для маневров.
Что могло дать венгерским лидерам шансы на победу? Во-первых, следовало всячески избегать участия в кровавых бесчинствах – в особенности 30 октября, на площади Республики. Во-вторых, не стоило ждать пять судьбоносных дней, прежде чем примкнуть к восставшим; приняв же в конце концов сторону революции, правительство должно было убедить повстанцев смягчить свои требования и отложить осуществление революционных планов.
То, что движение за реформирование системы превратилось в восстание против нее, – исключительная особенность венгерской революции. Студенты, а также вставшие рядом с ними молодые рабочие и солдаты верили в социалистические идеалы; они также верили в независимую Венгрию. Первоначальные требования восставших, выдвинутые 23 октября, вполне сообразовывались с политической действительностью в Югославии Тито, а поэтому их трансляция по радио «Кошут» не представляла угрозы коммунистическому режиму.
Первая возможность «титоистской» развязки была упущена в тот день, когда «Кошут» отказалось передать требования студентов в эфир и таким образом еще больше разогрело революционный пыл молодежи. Вторая – когда Надь не заявил публично о своих глубоких разногласиях с руководителем компартии Герё и его приспешниками. Еще одна ошибка состояла в том, что никто из коалиционного правительства, за исключением генерала Пала Малетера, не вышел к повстанцам с призывом умерить требования и отказаться от прямых оскорблений в адрес Советов. В своих многочисленных речах Надь ни разу не призвал к спокойствию. Он мог бы объяснить, что храбрость без рассудительности равнозначна ребяческому романтизму и что Венгрия нуждается не только в отваге, чтобы избавиться от угнетателей, но и в осторожности, которая вынудит последних отступить не применяя оружия.
Свою относительную бездеятельность на первой стадии восстания Надь пытался компенсировать в течение его третьего этапа. Он полностью встал на сторону восставших, поддержав даже самые радикальные требования. Между тем, будучи опытным 60-летним политиком, он должен был осознавать, что в политике есть время идти вперед и время отступать, время прислушиваться к зову сердца и время действовать с холодной головой. И прежде всего время, когда приходится идти на компромисс. Для такой маленькой страны, как Венгрия, частичная победа – это большая победа. Если бы с первого дня революции Надь, ведя корабль революции между надеждами повстанцев и опасениями Кремля, стремился к тому, что уже получила Польша Гомулки или Югославия Тито, то первоначальные – реформистские, социалистические – цели восстания могли бы быть достигнуты.
Человек большого личного обаяния и одновременно природного упрямства, Имре Надь являлся в известном смысле производным и от коммунистической идеологии, и от венгерского романтизма – учений, делящих мир на хорошее и дурное, правое и неправое. Обладая энциклопедическими познаниями в области венгерской истории, он любил цитировать близких ему по духу поэтов или государственных деятелей. Похоже, что герои и мученики импонировали ему больше, чем рассудительные, мудрые политики. Люди, подобные Шандору Петефи – поэту и герою венгерского восстания 1848–1849 годов против иноземного ига, впечатляли его гораздо больше, нежели, к примеру, Ференц Деак. Последний в 1867-м добился компромисса с Австрией, его оппортунистическая политика не принесла Венгрии полной независимости, но сыграла ключевую роль в экономическом подъеме страны и в удивительном архитектурном ренессансе.
Опыт и склад политического мышления Надя не подготовили его к роли вождя революции, который бы добился в 1956 году Великого компромисса. Его одинокие попытки реформировать сталинистскую систему в бытность председателем правительства в 1953–1955 годах, его честность и благонамеренность в 1956-м и его беспредельное мужество и мученичество в 1957–1958 годах не должны затенять его политическую слабость в дни восстания. В конечном итоге ему не удалось убедить московских властителей и будапештских повстанцев довольствоваться малой победой.
Что касается политики США в отношении Венгрии, то ее характеризовало главным образом лицемерие. Оно проявлялось не только в отсутствии конкретных действий на фоне официальной риторики «освобождения», но и в противоречии между тайными решениями и неспособностью или нежеланием проводить их в жизнь. Непостижимая с точки зрения политического анализа правда состоит в том, что, декларируя намерение заставить коммунистов отступить, правительство США ввело в заблуждение остальной мир и обмануло само себя. Американские должностные лица – от президента Эйзенхауэра до Фрэнка Уиснера в ЦРУ и Уильяма Гриффита на радио «Свободная Европа» – были искренне удивлены и глубоко разочарованы тем, что их слова надежды не принесли венграм свободу. Похоже, они испытывали чрезмерную, почти религиозную веру в могущество слов.
В этом смысле они являлись подлинными идеалистами, жертвами собственных иллюзий. Другие же чиновники были попросту циничны. Вице-президент Ричард Никсон, не считая возможную советскую интервенцию «однозначным злом» (поскольку она позволит США эксплуатировать тему жестокости Кремля), впоследствии встречался с венгерскими беженцами в Австрии, в Кэмп-Килмере и штате Нью-Джерси. Возможно, он исходил из высших политических интересов: его заботил вопрос об освобождении Конгресса от демократов.
В целом в своей венгерской политике Соединенные Штаты допустили в 1950-х годах три серьезные ошибки.
Во-первых, идея достижения умеренных целей не получила должную политическую поддержку в Вашингтоне. В дни восстания радио «Свободная Европа» по прямому указанию из штаб-квартиры в Нью-Йорке и от вашингтонских чиновников из Госдепартамента и ЦРУ призывало венгерских слушателей не отступать от радикальных требований и даже давало советы по изготовлению оружия для борьбы с советскими оккупантами. Если РСЕ и не «подстрекало» венгров к вооруженной борьбе, оно, безусловно, «поощряло» их максималистские притязания.
Во-вторых, Соединенные Штаты едва ли замечали Надя и уж точно не испытывали к нему приязни. Не желая признавать незаурядность и подлинную популярность этого «москвича», Вашингтон и Мюнхен считали его просто еще одним коммунистом, не лучшим и не худшим из них. Вашингтон и Мюнхен не хотели думать о возможном единстве в среде коммунистических сторонников Надя и понять суть «полицентризма», начавшего развиваться в социалистическом лагере с появлением Югославии Тито.
В-третьих, американская администрация не выступила во время восстания ни с одной дипломатической инициативой, которая могла бы привлечь внимание Кремля и по крайней мере отсрочить поражение. Зато госсекретарь Джон Фостер Даллес поспешил 27 октября заверить Хрущёва в том, что Вашингтон не заинтересован в Венгрии как в возможном военном союзнике. Даже когда 1 ноября мировая пресса сообщила о начале второго и последнего советского вторжения в Венгрию, Соединенные Штаты не выступили с рекомендацией о поездке в Будапешт, например, Генерального секретаря ООН, который своим присутствием мог бы попытаться сдержать или отсрочить интервенцию. Администрация президента США не предложила обсудить обоюдное сокращение вооруженных сил в Европе или вывод американских войск из небольшой западноевропейской страны в обмен на вывод Советской армии из Венгрии. Вашингтон упустил всякую возможность сохранить верность венграм – и предал самого себя.
Слишком многие представители советской политической элиты питали иллюзии в отношении возможности построения жизнеспособного государства на основе принуждения, а не убеждения. Слишком многим венграм казалось, будто их отважное восстание способно заставить Советский Союз отступить. Слишком многие американцы надеялись, что их громогласная риторика отведет руку Москвы. Чересчур многие венгры и американцы верили в победу только потому, что были убеждены в собственной правоте.
Действенное противоядие от подобных иллюзий следует искать в зрелости и готовности к постепенным переменам. Если бы главные действующие лица в венгерской драме 1956-го не ставили недостижимых целей, исход восстания мог быть совсем иным. Если бы Соединенные Штаты убедили венгров проявить сдержанность и умерить свои требования, то принятое Кремлем решение о невмешательстве не изменилось бы на прямо противоположное уже через сутки.
В США подавление венгерской революции вызвало негодование и было воспринято как откат в отношениях с советским блоком, однако поражение восстания создало и новые политические возможности. Те, кто ожидал от постсталинского Кремля более либеральной политики, были разочарованы. Иные, пользуясь случаем, стремились доказать всем вокруг, насколько ужасной и дьявольски коварной была Москва. Третьи, возможно пытаясь компенсировать бездействие Вашингтона, стали помогать беженцам.
Непосредственно после венгерского кризиса в политических кругах Соединенных Штатов было модно заниматься кабинетной стратегией. Известный кремленолог Ричард Лёвенталь убедительно писал в The New Republic, что Запад «мог бы сделать потерю сателлитов в Восточной Европе более приемлемой для России, если бы уход Cоветской армии из Восточной Европы сопровождался выводом американских войск из Западной Европы… В ситуации, когда советская коммунистическая система в Восточной Европе трещала по швам, предложение американцев о выводе войск [из Западной Европы] при условии полного освобождения Восточной Европы [Советами] могло бы кардинально изменить обстановку в регионе. …Подобное предложение могло бы внести в расчеты советских правителей новое измерение и побудить их отступить».
В 1961 году, экстраполируя венгерский опыт на общую концепцию новой политики в отношении Восточной Европы, Збигнев Бжезинский, тогда преподаватель Колумбийского университета, и Уильям Гриффит, бывший политический директор радио «Свободная Европа», опубликовали совместную статью в журнале Foreign Affairs. Извлекая уроки из венгерского кризиса, авторы исходили из предпосылки, что «освобождение» Восточной Европы в обозримом будущем – химера и, следовательно, Соединенным Штатам следует стремиться к достижению реалистичных целей. Обозначенные ими цели включали стимулирование многообразия в странах коммунистического блока (обратите внимание: не демократии, а многообразия); содействие получению ими большей независимости от Москвы (обратите внимание: не полному освобождению, а получению большей независимости); создание пояса нейтральных государств, подобных Финляндии, которые пользовались бы свободой во внутриполитических делах, не вступая в западные альянсы (обратите внимание: свободных во внутренней, а не во внешней политике).
Выступая за принятие умеренного курса, балансирующего между желаемым и возможным, авторы статьи считали, что некоторые конкретные шаги США, такие, как либерализация торговых соглашений и расширение программ образовательного обмена, смогут в течение лет привести к эффективным, хотя и ограниченным уступкам со стороны правительств стран-сателлитов Советского Союза.
По мере того как администрация Кеннеди начала проводить эти и подобные идеи в жизнь, политика США в отношении Восточной Европы стала более прагматичной: фундаменталистская риторика «освобождения» 1950-х отошла в прошлое. После венгерской трагедии Вашингтон осознал, что внешняя политика должна строиться не только на вдохновляющих словах, но и на мудрости и искусстве маневра. Сделав выбор в пользу тактики содействия эволюционным изменениям, Соединенные Штаты выработали умеренный внешнеполитический курс, который с течением времени принес плоды и помог восточноевропейским странам обрести подлинную независимость. Как жаль, что столь много людей в Венгрии и других странах коммунистического блока утратили доверие к Америке и пострадали из-за своих иллюзий прежде, чем Вашингтон понял, как именно он может содействовать преобразованиям в Центральной и Восточной Европе.

Экономическая свобода и международный мир
© "Россия в глобальной политике". № 3, Май - Июнь 2006
Эрик Гартцке – профессор Колумбийского университета (США), исследователь вопросов происхождения войн и конфликтов в современном мире. Данный материал представляет собой выдержки из главы II «Обзора экономической свободы в мире: доклад за 2005 год». Текст любезно предоставлен интернет-порталом www.cato.ru, где публикуется полный вариант обзора.
Резюме Свободный рынок так формирует сферу межгосударственной конкуренции, что возникающие конфликты могут быть урегулированы без обращения к военной силе. Преобразование торговли, как результат экономической свободы, также ведет к трансформации международных отношений.
Период сравнительно мирного существования продолжается на большей части нашей планеты уже довольно давно – с тех пор, как закончилась Вторая мировая война. Чтобы и впредь избежать губительных войн, необходимо выяснить причины, по которым сегодняшние державы менее склонны к конфликтам, чем их предшественники.
ЧТО ДВИЖЕТ МИРОМ?
Классическая либеральная теория обуславливает состояние мира между государствами двумя факторами. Первый из них связан с формой и практикой правления. Он был выявлен еще Иммануилом Кантом, который ошибочно считал, что республиканской форме правления свойственна наименьшая степень воинственности. Современные исследователи установили, что демократические страны, как правило, не воюют друг с другом, но в целом их готовность применить оружие не уступает боевому настрою других государств. Более того, оказалось, что развивающиеся демократические страны и развивающиеся диктаторские режимы одинаково воинственны. Политика, призванная сделать бедные страны демократическими, не может гарантировать ни политической стабильности, ни мира между народами.
Второе условие установления мира — наличие свободного рынка и частной собственности. Именно экономическая свобода является одним из немногих факторов, в целом препятствующих межгосударственным конфликтам. Капитализм позитивно сказывается на межгосударственном сотрудничестве, поскольку формирует ситуацию, когда война становится малопривлекательной или ненужной. Свободный рынок создает такую сферу межгосударственной конкуренции, в которой возникающие конфликты могут быть урегулированы без обращения к военной силе. Преобразование торговли, ставшее возможным благодаря экономической свободе, также ведет к трансформации международных отношений. Вооруженный захват становится делом дорогостоящим и неприбыльным: не так-то просто «присвоить» силой изобилие, порождаемое современной экономикой.
Ричард Кобден (британский политик XIX века, лидер движения за свободу торговли. – Ред.) называл торговлю «великой панацеей, которая, подобно благотворному медицинскому открытию, позволит привить здоровый и спасительный вкус к цивилизации всем странам мира». Кант верил, что «дух торговли, несовместимый с войной, рано или поздно возобладает в любом государстве». По мнению Джона Стюарта Милля, «именно торговля быстро делает войну ненужной, поддерживая и приумножая личные интересы, находящиеся в естественной оппозиции к войне». Проблема, конечно, заключается в том, что Милль был неправ. Многочисленные войны и локальные конфликты отделяют сегодняшний день от XIX столетия – эпохи целомудренного оптимизма либеральных политэкономистов.
Идеи приходят и уходят в зависимости от имеющих место событий. Когда на рынке царит изобилие, легко утверждать, что капитализм делает государства менее воинственными. Государственные деятели и мыслители конца XIX века связывали свободный рынок с миром между народами, но в результате в 1914 году Европу охватила война. Когда же миру угрожают экономические и политические кризисы, несложно принять точку зрения Томаса Гоббса («война всех против всех»).
Несмотря на свидетельства того, что свободные и трудолюбивые нации обычно оказываются менее воинственными, ученые времен холодной войны, сторонники так называемой «реалистической школы» в международных отношениях (такие, как Кеннет Уолтс и Джон Меерсхеймер) утверждали, что всемирные экономические связи не играют большой роли в делах государства. Гораздо более правдоподобной выглядит идея о том, что связи между экономической свободой и миром между народами и странами не носят абсолютного характера, а представляют собой тенденцию, которая осложняется вероятностной природой социальных явлений и которой противостоят многочисленные стимулы, побуждающие к войне.
На сегодняшний день существует множество доказательств того, что наличие стран со свободной экономикой содействует сокращению числа международных конфликтов. Разработана методология, позволяющая установить относительно прочную корреляцию между этими явлениями. Применяя статистический анализ к мировой политике, мы можем избавиться от постоянных столкновений между различными теориями, основанными лишь на многочисленных, не подтвержденных фактами гипотезах. Более глубокое понимание того, как свободный рынок освобождает государство от необходимости вступать в войну, способно упрочить и даже приумножить мир между развитыми капиталистическими государствами.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СВОБОДА И МИРОВЫЕ ВОЙНЫ
Норман Энджелл, горячий сторонник либерализма, удостоенный Нобелевской премии мира (1934. – Ред.), полагал, что международный мир является результатом экономического прогресса. Мол, развитие приводит к таким изменениям в производственном процессе, которые делают вторжение и завоевание неприбыльным, а значит, и непривлекательным.
«За последнюю четверть X века, – писал Энджелл, – викинг Анлаф трижды вторгался в Эссекс и каждый раз хорошо на этом наживался. […] Помня о том, что движущие силы истории и мотивы человеческих поступков остались неизменными, я попытался представить себе британцев […] тысячу лет спустя: и вот наши моряки нагружают корабли сельскохозяйственными и промышленными товарами Скандинавского полуострова».
Трудно, однако, вообразить моряков британского военно-морского флота в роли мародеров-викингов. Гораздо легче представить себе на их месте Гитлера, Муссолини и Хидэки Тодзио. Эти лидеры заглядывались на эпохи, когда государственная мощь усиливалась благодаря территориальному росту. И все же можно утверждать, что в ходе Второй мировой войны экономическое развитие в определенных ситуациях удерживало страны от конфликтов. Война с Западной Европой была задумана из стратегических соображений — для запугивания Франции и Великобритании, а не для захвата ресурсов. Что касается территориальных претензий стран «оси», то они касались бедных государств на экономической периферии Европы.
За исключением Финляндии, ни одна из Скандинавских стран не была атакована с целью захвата территории. Германское вторжение в Норвегию имело целью прежде всего предотвратить запланированную высадку войск Англии и Франции. Последние со своей стороны стремились защитить северные морские пути и отрезать Германии доступ к сырьевым ресурсам, что приобретало смысл только в широком военном контексте.
Гитлер не ударил по Швеции – богатейшей стране и ключевому поставщику железной руды. Это не значит, что ее не затронула война. Нацистские чиновники использовали значительный дисбаланс сил, чтобы оказывать давление на шведское правительство по самым разным вопросам, особенно таким, как перемещение припасов и передвижение людей по нейтральной территории. Швеция сохранила независимость не только потому, что благоразумно и дипломатично смирилась, когда была покорена Норвегия. Гитлер не нападал на Швецию, поскольку торговля с ней приносила больше выгод, чем ее оккупация. Речь шла о простом расчете: покупать необходимые шведские ресурсы было дешевле, чем захватывать их силой.
Еще одно явление, на которое Энджелл указывает как на обстоятельство, усиливающее неприятие развитыми странами вооруженных действий, – это либерализация экономики. Растущая интеграция мировых рынков приводит к тому, что приобрести товары и услуги посредством торговли становится проще, а отделаться от беспокойных инвесторов путем ведения войны — сложнее.
Энджел задается вопросом о том, что случилось бы, если б Германия оккупировала Лондон. Какие бы преимущества ни получил германский бюджет от захвата британского золота, ущерб вследствие беспощадных шагов германского правительства все равно оказался бы гораздо более серьезным. Страна, которая способна прикарманить чужие банковские резервы, вряд ли привлечет иностранных инвесторов: сущность кредита заключается в доверии, а те, кто его не оправдывает, дорого платят за свои действия. Может быть, немецкий генералиссимус вел бы себя в Лондоне не более цивилизованно, чем сам Анлаф, но он быстро увидел бы, в чем различие между ним и его норманнским предшественником. Анлафу не было нужды беспокоиться о банковской процентной ставке и тому подобных вещах. Немецкий же генерал, попытавшийся присвоить резервы Английского банка, в один прекрасный день может обнаружить, что его собственный счет в Немецком банке опустел, а стоимость даже самых удачных его инвестиций снизилась.
На первый взгляд Энджелл ошибается – ведь Первую мировую войну, в конце концов, ничто не остановило. Однако вспомним: та война разразилась на Балканах – в наиболее отсталом в экономическом плане регионе Европы, тогда как серия кризисов в экономически взаимозависимых западных державах, длившаяся вплоть до 1914-го, не вылилась в вооруженные действия. Таким образом, балканский конфликт легко объяснить с точки зрения отсутствия экономической свободы. Быстрое распространение локальной войны, начатой Австро-Венгрией против Сербии, произошло благодаря налаженной системе союзных договоров.
В 1914 году проблема Европы состояла как раз в том, что процессы либерализации и интеграции шли неровно, а политические союзы сводили на нет значение экономической взаимозависимости стран Запада. Наиболее развитые нации активизировали свою политику на балканском направлении, чтобы получить дополнительные рычаги давления друг на друга. Пока соблюдались договоры о военном союзе, решения по мобилизации оказывались в руках тех самых стран, действия которых не были обусловлены принципами экономической взаимозависимости. Хотя эта взаимозависимость оказалась неспособна погасить вспыхнувшую войну, ей удалось отсрочить ее начало.
Послевоенные события, по-видимому, подтверждают правоту Энджелла: современная экономика уже не предрасположена к военным завоеваниям. Однако энджелловская теория мотивов возникновения межгосударственных конфликтов нуждается в расширении. Государства конкурируют на мировой арене не только за обладание ресурсами, но и по политическим и стратегическим соображениям. Важную роль играет географическое положение государства, особенно в случае, если оно находится между двумя протагонистами кризисной ситуации.
Имеют значение и притязания той или иной страны (независимо от ценности ее собственной территории или ресурсов), поскольку исходя из ее претензий другие государства решают, как ей противостоять и не стоит ли даже объявить ей войну.
«КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ» МИР
Экономическая свобода подразумевает, что ее можно взять с собой. Когда внутренние условия ухудшаются, капитал может покинуть страну, что приводит к экономическому, а следовательно, и политическому истощению общества. Ясно, что государство не желает оттока денег. Однако, поскольку суверены не могут остановить утечку капитала, им приходится создавать условия, благоприятствующие добровольному нахождению денег в пределах страны.
Либеральная теория об экономической свободе как факторе отсутствия войны утверждает, что у капитализма есть немало возможностей для поддержания международного мира. Вероятно, наиболее универсальное обоснование этой идеи состоит в том, что экономическая взаимозависимость создает одинаково ценные условия для развития различных стран, и государства в дальнейшем не склонны воевать из-за опасения потерять имеющиеся у них экономические выгоды. Это объяснение выглядит убедительно, но оно предполагает, что эти общие ценности, как таковые, не разжигают войну и не способствуют конфликтам.
Томас Шеллинг рассказывает притчу о двух альпинистах, связанных одной веревкой, от которой зависит их общая судьба. Ученый показывает, как с помощью этой общей ценности один из партнеров манипулирует другим. Так и государства, связанные экономическими взаимоотношениями, могут использовать их для оказания давления друг на друга, для своеобразной «игры в гляделки»: чем более ценны связи, тем эффективнее и показательнее игра. Даже если государство не хочет поставить под удар потенциальные выгоды от благоприятных экономических связей, это не означает, что межгосударственного конфликта не будет. В уклонении от «драки» иные страны могут усмотреть уязвимость. Чтобы восторжествовал мир, все участники должны отказаться от «игры в гляделки» или, другими словами, отказаться от потенциального использования своей военной силы.
Индивиды, социальные группы и страны нередко расходятся во мнениях, но имея разные интересы, они, как правило, находят способы договориться, чтобы избежать более дорогостоящих или взрывоопасных последствий. От чего же тогда зависят дипломатические успехи и провалы?
Одна из основополагающих проблем в международных отношениях — распознать, когда оппонент говорит правду, а когда лукавит. Подобно тому как игроки в покер скрывают друг от друга свои карты, политические лидеры порой притворяются для того, чтобы выиграть, и часто блефуют, заявляя о готовности применить силу. Если оппонент решит, что война — это слишком затратный метод решения спора, он предпочтет ей переговоры. Но из-за стремления игроков к блефу и, следовательно, неопределенности ситуации дипломатические усилия могут оказаться неудачными, и тогда разгорается конфликт. Военные действия вынуждают игроков «раскрыть карты» (т. е. предоставить информацию об относительных возможностях государства и его намерениях).
Что в этих условиях может дать экономическая свобода? Во-первых, свободный рынок играет роль резонатора политической активности. Действия, вызывающие обеспокоенность рынка, отпугивают инвесторов, приводят к ухудшению экономических условий в стране, и поэтому ее лидеры, скорее всего, будут избегать подобных шагов. Использование военной силы за пределами страны часто ассоциируется с сокращением объема инвестиций в экономику и оттоком капитала. Исходя из того, насколько глава государства готов выступать с внешнеполитическими заявлениями, способными напугать фондовый рынок, и в какой мере сохраняется денежная политика, мешающая правительству влиять на потоки капитала, международное сообщество может делать выводы о действительных намерениях того или иного лидера. Представление об истинных помыслах оппонента позволяет проводить переговорный процесс более эффективно, так что обращение к силовым действиям становится все менее необходимым. Таким образом, свободный глобальный рынок создает механизм, посредством которого лидеры смогут добиться признания собственного авторитета (собственной надежности) без обращения к военной силе.
Во-вторых, страны, обладающие интеллектуальным и финансовым капиталом, в меньшей степени заинтересованы или нуждаются в оккупации чужих территорий. Как показали действия американской армии в Ираке, одержать военную победу — это самая легкая часть завоевания. Военные, нацеленные на быстрый и легкий разгром врага на современном поле сражения, всё в меньшей степени способны взять на себя трудоемкую работу по поддержанию общественного порядка в густонаселенной стране, особенно когда ее жители неоднозначно относятся к иностранной оккупации.
Исторически богатство создавалось за счет обладания плодородными землями. Страны, занимавшие обширные территории, считались богатыми. Быть другом короля означало иметь землю, а значит, и власть. Современные общества устроены иначе. Земля уже не является основным источником благосостояния. Теперь деньги делаются или сохраняются благодаря новаторским идеям и духу предпринимательства. Содержать оккупационную армию дорого, а доходы от использования завоеванных ресурсов падают. То есть при том что экономическая свобода препятствует завоеваниям, ее воздействие на другие виды конфликтов, в том числе в сфере международной политики, может оказаться незначительным или вообще отсутствовать. Экономическое развитие приводит к снижению вероятности военных действий на данной территории, но это же самое развитие способствует росту экстратерриториальных споров. Либеральные демократические режимы, как правило, не воюют друг с другом, но они не менее других склонны применять военную силу по отношению к тем, кого они называют «врагами демократии».
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
В наступившем столетии страны со свободной и процветающей экономикой имеют хороший шанс сохранить и даже упрочить международный мир, характерный для второй половины XX века. Переход к постиндустриальному производству здесь уже произошел и снизил выгоды от ведения войны. Капитализм и свободный рынок также укрепили свои позиции. Но есть и серьезные проблемы, например существование коммерческих и финансовых систем, не отвечающих современным «глобальным» реалиям. Окончательно не изжит протекционизм. Соединенные Штаты должны удержать лидирующую роль в развитии глобального капитализма.
Перемены в природе производства, стимулирующие экономически благополучные страны к отказу от завоевательных войн, могут быть обращены вспять или сведены к минимуму последующими технологическими, социальными, военными или экологическими факторами. В настоящее время развитые страны обладают эффективными военными средствами, но находят задачу охраны правопорядка и государственного управления на завоеванной территории слишком трудоемкой и неприбыльной. Выгадать от захвата чужих территорий могут развивающиеся страны, но они зачастую оказываются не в состоянии содержать или развертывать достаточно мощные военные силы. Саддам Хусейн хотел оккупировать Кувейт, но не смог удержать его. Соединенные Штаты и их союзники по коалиции смогли овладеть Кувейтом, но он оказался им ненужен, по крайней мере в качестве недвижимого имущества. Если кража ресурсов вновь станет прибыльным делом, как это бывало в прошлом, мы снова увидим, как богатые государства завоевывают территории других стран.
Однако стоит помнить, что сырая нефть, как бы высоко ни поднималась ее цена, по-прежнему значительно дешевле соответствующего объема бутилированной воды, потребляемой солдатами оккупационных армий. Пентагон недавно подсчитал, что стоимость содержания одного солдата в течение его жизненного цикла превышает 4 миллиона долларов США. Снижение затрат на оккупацию решает только половину задачи. Главное, что страны с информационной экономикой будут в обозримом будущем оставаться малопривлекательной целью с точки зрения расширения территории; распространение глобальной информационной экономики само по себе способствует упрочению мира.
Перспективы развивающихся стран видятся не в столь радужном свете. Чтобы повлиять на их политический курс или стратегию, крупнейшие экономически развитые державы по-прежнему готовы взяться за оружие. Войны не исчезнут до тех пор, пока государства не перестанут по-разному вести себя на международной арене. Страны-«изгои» будут по-прежнему проявлять непокорность. Экономический и политический рост Китая делает вполне вероятным столкновение идеологий и сфер влияния в Азии. Опыт показывает, что курс на либерализацию экономики выбран верно. Политическая свобода должна прийти в Поднебесную, и это непременно произойдет, но сама по себе демократизация вряд ли сделает Китай более миролюбивым. В реальности рост националистических чувств в странах, ставших на путь демократизации, связан с их возрастающим военным авантюризмом.
«Капиталистический» мир не будет оказывать никакого воздействия на войны между развивающимися странами, пока экономика последних скована государственным контролем. Кроме того, без экономического развития не возрастет роль интеллектуального и финансового капитала, который не так-то просто приобрести с помощью силы. Проблемы возникают по мере того, как рост изобилия и внутренней политической стабильности дает развивающимся странам возможность действовать силовыми методами за пределами своих границ. БОльшая часть территории Африки и Южной Америки поделена на страны по прихоти давно умерших европейских дипломатов, и существующие границы не отражают ни исторических, ни современных этнических, лингвистических или культурных реалий. Экономическое развитие может обеспечить развивающиеся страны оружием, которое они будут использовать друг против друга.
Но Южное полушарие не обязательно превратится в очаг напряженности. Этого не случится, если повышение благосостояния совпадет как с относительным снижением ценности, приписываемой территории, так и с ростом зависимости Юга от всемирного капитала. Преимущество поздно индустриализовавшихся стран состоит в том, что они могут перескочить через самые опасные стадии индустриализации. Ранняя индустриализация формирует потребность в естественных ресурсах и в средствах их присвоения; в ходе войны ценные активы и ресурсы могут стать объектом мародерства. Затраты на рабочую силу низки, что позволяет укомплектовать оккупационную армию. Информационная экономика требует уже бОльших инвестиций капитала и человеческой изобретательности, но мало что в ней может быть присвоено захватчиками. Аутсорсинг (перенос производства за границу), вызывающий немало беспокойства в развивающихся странах, способствует созданию в них экономики, обуздывающей склонность к агрессии.
Конфликт между Индией и Пакистаном не раз приводил к кровопролитию, но лидеры обеих стран в конце концов поняли, что активные военные действия причиняют значительный ущерб их достаточно открытым экономикам. Растущая зависимость от международного капитала и снижение ценности спорных территорий по сравнению с ценностью технологических инноваций означают, что стимулы к мирному существованию возросли, а привлекательность войны снизилась. На Кипре на смену тридцатилетней напряженности постепенно пришло понимание того, что доступ к информационной экономике Европы гораздо более важен для процветания страны, чем владение садами и пастбищами.
У демократии много очевидных преимуществ, и текущие политические инициативы Соединенных Штатов и других стран по поддержанию — и даже принудительному установлению — демократии в принципе могут быть оправданы только внутриполитическими выгодами.
редставляется, что гораздо эффективнее мирное существование можно упрочить с помощью свободного рынка: во-первых, укрепляя, а во-вторых, используя его для поддержки распространения демократии. Предполагающие демократизацию усилия по укреплению мира на Ближнем Востоке и в других находящихся под властью автократических правительств регионах обладают весьма спорной эффективностью. Еще нет ясности в том, реально ли установить стабильную демократию в Ираке, но и успех такого предприятия вряд ли приведет к серьезному снижению накала и числа межгосударственных конфликтов, если параллельно не будут проведены значительные и действенные экономические реформы.
Учитывая ограниченность ресурсов, внимание развитых стран должно быть направлено на укрепление и пропаганду принципов свободного рынка и тех практик, которые уже привели к установлению мира на большей части Северного полушария. Соединенные Штаты чаще других в современной истории использовали свой статус мировой державы для продвижения капитализма и поощрения экономического развития. Эти усилия не должны ослабнуть в наши дни, когда терроризм и завершение холодной войны сделали ненужной политику сдерживания Советского Союза и подвигли Вашингтон к более активным шагам на международной арене. Демократию нужно поддерживать, но опыт свидетельствует о том, что, как таковая, она не обеспечивает мир на планете, а народное правление оказывается нестабильным при отсутствии определенного уровня экономического благосостояния. Короче говоря, если развитые страны хотят достигнуть мира и свободы, они не могут себе позволить прекратить спонсировать распространение капиталистических институтов и практик.
***
Мир во всем мире нельзя установить посредством одной только экономической свободы. Глупо разделять оптимизм либералов XVIII–XIX веков и верить, будто свобода во всех сферах – ключ к международному миру. Уже давно признано, что свобода позволяет проявляться не только лучшему, но и всему худшему, что есть в человечестве. Тем не менее не следует сбрасывать со счетов явные возможности экономической свободы способствовать усилиям по поддержанию мира.
Политика, направленная на распространение капитализма и свободного рынка, не «подкладывала бесчисленные мины под здание международного мира», как утверждают и утверждали многие критики. Напротив, глобализация капитализма и распространение свободного рынка создали условия, при которых применение силы перестало быть наиболее эффективным средством достижения цели.
На первый взгляд принцип «капиталистического мира» кажется парадоксальным. Фирмы конкурируют между собой, и эту конкуренцию часто сравнивают с военными действиями. Студенты в бизнес-школах буквально проглатывают такие книги, как «Искусство войны» Сунь Цзы и «О войне» Карла Клаузевица, в надежде поднабраться опыта в делах соперничества. Западная интеллектуальная традиция и борцы за мир привыкли видеть в своекорыстии один из главных корней мирового зла. Казалось бы, жизнь на Земле может стать лучше только благодаря альтруизму, но его, к сожалению, часто оказывается недостаточно. Утопические взгляды не могут быть воплощены в жизнь именно потому, что они рассчитаны на изменение индивидуальной и социальной природы человека. Современные исследователи, особенно те, кто отождествляет себя с неолиберальной школой, особо указывали на национальные и наднациональные институты как на возможные лекарства против межгосударственных конфликтов. Их логика мало отличается от логики сторонников расширения полномочий государства ради решения внутренних социальных проблем. Хотя мы не в силах изменить врожденную склонность людей (или стран) к неблаговидным поступкам, мы можем изменить поведенческие стимулы или ограничения. Можно показать, что международные институты способствуют миру, хотя эффект и невелик.
Двести лет назад Адам Смит сделал великое открытие: своекорыстие, т.е. личный интерес, не стесненный бюрократическими ограничениями, служит общему благу лучше, чем государственный контроль. Рыночные силы действуют как «невидимая рука», освобождающая производственный потенциал народов. Сегодня у нас накапливается все больше данных в пользу того, что «невидимая рука» также воздействует на внешнюю политику государств. Процветание экономической свободы, которую иные насмешливо именуют «погоней за наживой», начало приводить к снижению военной агрессии, которая казалась многим вечным и неотъемлемым элементом самой цивилизации.

Косово: точка или многоточие?
© "Россия в глобальной политике". № 1, Январь - Февраль 2006
П.Е. Кандель – к. и. н., ведущий научный сотрудник Института Европы РАН.
Резюме Большинство поборников косовской независимости упорно не желают признавать, что создаваемый прецедент будет иметь широкие международно-правовые и политические последствия. Он не может не послужить стимулом и предлогом для всех непризнанных государств добиваться аналогичного решения.
2006 год международное сообщество (говоря точнее, США и Европейский союз) решило сделать датой окончательного определения статуса края Косово, поставив точку в последней главе «югославского кризиса». Поспешность трудно объяснимая, если на минуту принять всерьез декларированную цель – создать в Косово демократическое мультиэтническое общество.
Конечно, реальные мотивы и задачи тех, кто извне определял развитие событий в косовском конфликте, имели мало общего с декларациями. Руководители Миссии Организации Объединенных Наций в Косово (МООНК) – высшей власти в этом международном протекторате – с самого начала последовательно проводили курс на его максимальное обособление от Союзной Республики Югославия (Сербии и Черногории) и строительство самостоятельной государственности. Но в ООН, несмотря на постоянные требования косовских албанцев как можно скорее предоставить им независимость, долго придерживались формулы «сначала стандарты, потом статус»: определению статуса Косово должно предшествовать достижение европейских стандартов демократии и соблюдение прав меньшинств.
В 2005-м формула изменилась на противоположную: «стандарты в процессе и после определения статуса». При этом смена позиции обосновывалась не успехами в осуществлении поставленных задач, а, напротив, их отсутствием. Это наглядно продемонстрировал доклад Кая Эйде – специального посланника генерального секретаря ООН. Дипломат подготовил документ под названием «Всеобъемлющий обзор положения в Косово», на основании которого и должно было приниматься решение.
КОСОВО КАК ОНО ЕСТЬ
«Обзор» производит странное впечатление. Типичная для подобных документов попытка соблюсти баланс позитива и негатива сама по себе неудивительна. Но об успехах говорится в нем преимущественно в сфере институционально-организационного строительства, и притом в самых общих выражениях. В оценке же реального положения дел доклад настолько критичен, что фактически равнозначен приговору пятилетней деятельности международных миротворцев. Подобной оценке в свою очередь прямо противоречат выводы, сделанные в полном соответствии с задачей, заранее поставленной перед автором: обосновать необходимость безотлагательно начать процесс определения статуса края.
Основные тезисы обзора почти исчерпывающе описывают ситуацию в Косово. «Особого прогресса удалось добиться в деле закрепления новых институциональных рамок… К настоящему времени в крае сформирован весь комплекс институтов, включающий исполнительные, законодательные и судебные органы, действующие на центральном и местном уровнях. Существенный прогресс достигнут также в деле создания устойчивой правовой основы».
Однако приводимые далее факты полностью опровергают оптимистические реляции. Косовские албанцы и их политические лидеры рассматривают установление европейских стандартов как навязанное извне требование, продвинуться вперед удается зачастую лишь благодаря международному давлению. «Созданию новых институтов препятствует весьма распространенная среди политических деятелей тенденция считать себя ответственными перед своими политическими партиями, а не перед народом… Назначения на должности, как правило, осуществляются на основе политической и клановой принадлежности без учета компетентности». Утверждению правопорядка «препятствует отсутствие возможностей и готовности обеспечивать соблюдение законности на всех уровнях… Система правосудия Косово считается самым слабым его институтом… объем нерассмотренных дел постоянно увеличивается, и на сегодняшний день он уже составляет несколько десятков тысяч…» Косовской полицейской службе не под силу бороться с особо опасными правонарушениями, связанными с организованной и межэтнической преступностью, коррупцией, да и правительство не принимает необходимых законодательных и административных мер для их пресечения. «Борьбу… затрудняют семейная или клановая солидарность, практика запугивания свидетелей, а также сотрудников правоохранительных и судебных органов».
Не внушает оптимизма и положение дел в экономике: сохраняется предельно высокий уровень безработицы, нищета – повсеместное явление, недостаточные поступления в бюджет приводят к серьезному дефициту, потребители практически не оплачивают электроэнергию, превышает разумные нормы импорт сельскохозяйственных продуктов.
Безотрадная картина складывается в сфере межнациональных отношений. Несмотря на низкий показатель зарегистрированных преступлений, совершенных на этнической почве, часты нефиксируемые случаи преследований, грабежей, похищения скота. Широко распространен незаконный захват собственности, особенно сельскохозяйственных угодий и жилых построек. Имущественные права косовских сербов не соблюдаются, они находятся в фактической изоляции и не рискуют проверять, «является ли свобода передвижения и безопасность иллюзией или реальностью». Подавляющее большинство тех, кто покинул Косово после июня 1999 года, не вернулись, а после антисербских погромов 17–19 марта 2004-го процесс возвращения беженцев обратился вспять. Многие из сербских церквей и монастырей, составляющих часть всемирного культурного наследия, серьезно повреждены или разрушены. Сейчас должно начаться их восстановление, но они и впредь будут нуждаться в международной защите.
Вопреки обещаниям, до недавнего времени не отмечалось реальных попыток и не было проявлено политической воли по децентрализации управления. Параллельные структуры косовских сербов в здравоохранении и образовании – единственное, на что они могут рассчитывать при осуществлении своего права в этих областях. Представители меньшинств привлекаются в органы власти и управления главным образом для заполнения предписанных квот, а не для действительного участия. Опасаясь быть использованными лишь в качестве ширмы, косовские сербы предпочитают бойкотировать центральные органы. Косовские албанцы со своей стороны практически ничего не предприняли, чтобы развеять эти опасения.
Доклад завершается примечательной рекомендацией: оказав активное содействие албанскому населению Македонии и Южной Сербии, отстаивающему свои интересы и самобытность, международное сообщество «теперь должно проявить готовность действовать с той же решимостью для защиты интересов косовских сербов и других общин меньшинств». Не ясно, что мешало это делать в течение пяти прошедших лет и какие мотивы побудят ныне к такой активности?
В полном соответствии с общим содержанием доклада столь же двусмыслен и противоречив вывод, к которому приходит его автор: «Для определения будущего статуса Косово не предвидится какого-либо подходящего момента. Урегулирование статуса по-прежнему будет оставаться крайне чувствительным политическим вопросом. Тем не менее общая оценка ситуации позволяет сделать вывод о том, что пришло время начать этот процесс».
Но если хотя бы декларировавшие свое стремление к нормализации положения и реализации демократических стандартов международные протекторы (впрочем, для этого мало сделавшие) не смогли за пять лет добиться прогресса, то наивно ожидать усердия от будущих албанских властей Косово (уже показавших свою полную незаинтересованность). Вместе с тем некоторые «проговорки» автора обзора свидетельствуют, что он не страдает наивностью. Например, предлагается способствовать возвращению беженцев как на прежние места жительства, в частности в столицу края Приштину, так и туда, где они реально могут жить. Тем самым фактически признается, что добрососедское сосуществование косовских албанцев и сербов – задача не только нерешенная, но и нерешаемая.
Каким быть окончательному статусу края Косово, ни в данном докладе, ни в других документах ООН прямо не говорится – он должен стать итогом переговорного процесса между Белградом и Приштиной при международном посредничестве. Но и в Вашингтоне, и в Брюсселе, откуда ведет свое происхождение данная инициатива, не скрывают, что речь идет об «условной независимости». Косово получит независимость от Сербии, под суверенитетом которой этот край формально еще числится. Однако «международное присутствие» сохранится при большей роли Европейского союза, нежели ООН. «Полную независимость» Косово должно обрести при вступлении в ЕС, в рамках которого это понятие в принципе неприменимо. Остается необъяснимым, зачем спешить с предоставлением независимости, тем более «условной» и промежуточной, требующей продолжения «международного присутствия»?
Реальная причина в том, что западные покровители попросту опасаются своих албанских подопечных, которые погромами 2004 года показали, что для достижения своих целей готовы применить силу (и не только против сербов). Это могло бы вынудить США и ЕС на активные действия против албанцев, что означало бы крах всей западной политики в косовском конфликте, а заодно послужило бы дурным примером для Ирака и Афганистана.
КОСОВСКИЙ ТЕСТ ДЛЯ СЕРБИИ
Перспектива независимости Косово, пусть и «условной», неприемлема для Белграда, но с ним, похоже, решили не слишком церемониться. Об этом говорят принятые в ноябре 2005-го Контактной группой по Косово (Великобритания, Италия, Россия, США, Франция и ФРГ) Руководящие принципы по выработке решения о будущем статусе Косово. Документ, воспроизведя положенные «мантры» о том, что решение косовской проблемы должно соответствовать международным стандартам прав человека, нормам демократии и международного права, включил и положения, во многом предрешающие ход и исход переговорного процесса.
Так, не допускаются раздел Косово и его объединение с какой-либо страной или частью страны, как и возвращение к ситуации до марта 1999 года. Утверждается необходимость соблюдать территориальную целостность и стабильность соседей по региону (хотя предполагаемая независимость Косово прямо нарушает территориальную целостность Сербии). Раз начавшийся, переговорный процесс не может быть блокирован и должен быть доведен до конца, а специальный посланник генерального секретаря ООН по статусному процессу в Косово, бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари имеет право на приостановку полномочий и отстранение от переговоров любого лица или группы, которые, по его мнению, не способствуют прогрессу. Запрещается создание «Великой Албании», но не исключается существование двух албанских государств. Белград же заранее лишается наиболее выигрышных запросных позиций и свободы маневра (предложение раздела Косово, потенциальное требование аналогичных решений для Косово и Республики Сербской в Боснии и Герцеговине, затягивание переговоров или непризнание навязываемых решений). Сторонам конфликта как бы предложено сыграть шахматную партию, но арбитр заранее лишил одного из игроков наиболее значимых фигур. По сути, сербским властям оставлен лишь выбор способа капитуляции.
В долговременной перспективе сохранение «бумажного» сербского суверенитета над Косово после фактического отторжения края от СРЮ в 1999-м и не нужно, и убыточно для Сербии. Остающийся крайне высоким уровень рождаемости среди косовских албанцев, намного превышающий аналогичные показатели у сербов, аграрная перенаселенность и избыток рабочей силы в крае превращают Косово в пределах сербского государства в постоянный очаг демографической экспансии, грозящей серьезно изменить его национальный состав. Еще в бытность СФРЮ край считался наименее экономически развитым и пользовался значительными дотациями федерации. Возобновление дотирования даже на прежнем уровне при нынешнем состоянии сербской экономики является непосильной ношей. Наконец, трудно вообразить край (для которого албанцы еще в социалистической Югославии добивались статуса субъекта федерации de jure, хотя в 1974–1990 годах он стал таковым de facto) в качестве третьего члена государственного сообщества Сербии и Черногории, если само оно сохранится. Трехчленная политическая конструкция этого сообщества придаст ему крайне невыгодную для Белграда конфигурацию, где Косово будет постоянным дополнительным источником политической конфронтации и непременным участником антисербской коалиции.
Но край этот некогда был колыбелью сербской государственности и является святыней национальной истории, религии и культуры (старинные православные церкви и монастыри, легендарное Косово поле). Отречься от такого наследия не может позволить и влиятельная Сербская православная церковь. Поэтому отказ от Косово, который воспринимается как покушение на национальную идентичность, для любого сербского политика равносилен политическому самоубийству. Не случайно сербский премьер Воислав Коштуница до начала переговоров счел нужным поделиться ответственностью за их исход, заручившись резолюцией парламента и включив в делегацию переговорщиков представителей всех ведущих политических сил.
Косовские албанцы в ультимативной форме настаивают на независимости, тогда как предложения сербской стороны выглядят скорее компромиссными. Они сводятся к тому, чтобы избежать формального провозглашения независимости Косово, примирившись с ней фактически и обеспечив дальнейшее существование косовских сербов путем предоставления им автономии на территории Косово. Сербское общество, как свидетельствуют опросы, сегодня более склонно считаться с нежелательной реальностью. Так, доля согласившихся с тем, что Косово потеряно для Сербии, выросла с 39 % в 2000-м до 48 % в декабре 2004 года. При этом раздел края – вариант, отвергнутый международным сообществом, – большинство находит оптимальным (57 %) и наиболее реальным (35 %). Вместе с тем 64 % опрошенных далеки от того, чтобы принять любое решение, предложенное ООН.
Быть может, сербы и примирились бы с независимостью Косово, если бы святые для них места остались за Сербией, а ей были предоставлены ощутимые компенсации. Но, похоже, Сербию решили «дожать», предложив в качестве единственного вознаграждения «за кооперативность» перспективу заключения Соглашения о стабилизации и ассоциации с Евросоюзом. Вряд ли случайно начало переговоров о его подписании совмещено с первыми шагами в процессе урегулирования статуса Косово.
Слабость нынешних белградских властей порождает надежды на то, что их удастся принудить к подобной сделке. Ведь премьер-министр Сербии Воислав Коштуница (Демократическая партия Сербии) и президент Сербии Борис Тадич (Демократическая партия) представляют политические силы, почти постоянно находящиеся в состоянии жесткой конфронтации с того времени, как был свергнут режим Слободана Милошевича. И сегодня первая находится у власти, а вторая – в оппозиции. Нынешний коалиционный кабинет меньшинства, возглавляемый Коштуницей, удерживается лишь благодаря содействию в парламенте со стороны малочисленной фракции Социалистической партии Сербии – партии Милошевича. Любое серьезное потрясение (а независимость Косово, безусловно, будет таковым) способно свалить его и лишить правительственные партии, и без того постоянно теряющие популярность, каких-либо политических перспектив.
Ситуацию осложняет и предстоящий (предположительно в апреле с. г.) референдум о независимости Черногории. Вопреки своим заявлениям о предпочтительности сохранения сообщества Сербии и Черногории, представители ЕС воздержались от шагов, которые сделали бы такой исход более вероятным. Черногорцы, как показывают результаты многочисленных выборов и опросов, делятся на сторонников и противников независимости примерно поровну. Хотя эта пропорция временами меняется в зависимости от политической конъюнктуры, число противников отделения растет. Так, в декабре 2004-го в Черногории за сохранение общего государства высказывалось 49 % опрошенных, а за независимость – 30 % (в Сербии: 50 % и 29 % соответственно). Поэтому результат волеизъявления предрешается тем или иным определением круга голосующих и способом подведения его итогов. Вокруг этих, казалось бы, процедурных вопросов и развернулась острая борьба между сепаратистскими властями республики и оппозиционными федералистскими партиями.
Согласно принятому властями закону о референдуме, участвовать в нем могут только проживающие на территории Черногории (около 460 тыс. человек). В планы же оппозиции входило распространение этого права на всех ее граждан, что увеличивало бы число голосующих примерно на 260 тыс. человек, для которых местом жительства является Сербия. Власти Черногории заинтересованы в том, чтобы референдум можно было признать состоявшимся при минимальной явке его участников, а решение принималось бы большинством от числа проголосовавших. Это позволит провозгласить независимость на основе вердикта менее четверти граждан. Оппозиция, наоборот, стремится к тому, чтобы необходимая явка составляла более 50 % избирателей, а решение о независимости требовало бы более половины от списочного состава голосующих. Она настаивала также на предусмотренном черногорской Конституцией утверждении итогов референдума в парламенте большинством в две трети голосов.
Венецианская комиссия Совета Европы, на суд которой были вынесены эти спорные вопросы, заняла двусмысленную позицию. Она поддержала власти, сочтя неприемлемым участие в референдуме граждан Черногории, проживающих в Сербии. Но частично удовлетворены были и требования оппозиции: явка для признания референдума состоявшимся рекомендована на уровне не менее 50 %, а утверждение его итогов в парламенте должно соответствовать конституционным нормам. Правда, в окончательной редакции документа формулировки смягчены и лишены обязательной силы, а властям и оппозиции предложено самим договориться, какое большинство будет решающим. Это они заведомо не могут сделать без нового посредничества ЕС, каковое и было предложено. Таким образом, исход политических баталий в Черногории и результат референдума как бы повисают в воздухе, что дает Брюсселю дополнительное средство воздействия на Белград. Последний рискует оказаться и без Косово, и без Черногории, если не пойдет навстречу тому решению косовской проблемы, которое сочтут оптимальным в Европейском союзе.
ЦЕНА ВОПРОСА
Не нужно быть провидцем, чтобы предсказать наиболее вероятные последствия признания любой формы независимости Косово. Первым результатом станет окончательный исход сербов из края. Руководители Сербии и основные политические партии откажутся признавать навязываемое решение, но это не спасет от политического кризиса в стране, досрочных выборов и прихода к власти националистической Сербской радикальной партии, чей лидер Воислав Шешель вместе со Слободаном Милошевичем коротает время в камерах Гаагского трибунала.
Еще более возрастет вероятность (едва ли «бархатного») распада сообщества Сербии и Черногории. Не исключено резкое обострение межнациональных отношений в Воеводине со значительным венгерским меньшинством и в трех южных общинах Сербии, где проживает достаточно многочисленное албанское меньшинство, что способно вызвать новые потоки беженцев и вынужденных переселенцев.
Пришедшие к власти радикалы, возможно, и не решатся на силовое противоборство с Евросоюзом и США. Пример их идейных собратьев в Боснии и Герцеговине (три националистические партии босняков-мусульман, сербов и хорватов, в свое время развязавшие войну и поныне доминирующие на политической сцене) и в Хорватии (националистическая партия Хорватское демократическое содружество покойного президента Франьо Туджмана, в настоящее время находящаяся у власти и проводящая проевропейский курс) показывает: даже подобные силы достаточно податливы «кнуту и прянику» и управляемы извне. Но в ситуации новой нестабильности многое будет зависеть даже не от лидеров националистов, а от степени народного возмущения. В любом случае демократия в «веймарской» Сербии будет отброшена далеко назад, а ее европейские перспективы окажутся еще более туманными.
Нет оснований полагать, что в «условно независимом» Косово начнут реализовываться европейские стандарты демократии и прав меньшинств. Ведь, как следует из просочившихся в швейцарскую прессу секретных документов германской разведки и полиции ООН, там и сегодня под сенью созданных государственных институтов реально заправляют структуры организованной преступности и наркомафии, сросшиеся с традиционными кланами и группировками бывших боевиков Освободительной армии Косово (ОАК). Они находятся под покровительством ведущих политических деятелей (бывшего политического руководителя ОАК, а ныне лидера второй по влиятельности Демократической партии Косово Хашима Тачи, его заместителя по партии и члена Президиума парламента Ксавита Халити, главы Альянса за будущее Косово и экс-премьера Рамуша Харадиная). Этим поборникам независимости она нужна не для строительства правового демократического государства: в условиях независимости они надеются создать максимально благоприятный климат для криминальной деятельности.
Конечно, с уходом сербов проблема межнациональных отношений утратит остроту сама собой. Но, показав свою податливость силовому шантажу косовско-албанских националистов и наркодельцов, западные покровители сами провоцируют и поощряют их на продолжение подобной тактики. Почувствовав свою мощь, они будут теми же методами вымогать новые уступки. И основным объектом их давления, за отсутствием сербов, окажутся представители международного сообщества, мешающие в осуществлении идеала «пиратской республики». Конечно, «входной билет» в Европейский союз остается большим соблазном для политической элиты Косово, а потому перспектива членства в ЕС представляется относительно эффективным средством управления ею из Брюсселя. Но, привыкнув навязывать собственные условия в диалоге с западными попечителями, косовары вряд ли легко откажутся от этой наклонности. К тому же косовские криминальные структуры без всякого пропуска уже вполне освоились в Европе, контролируя значительный сегмент рынка незаконного оборота наркотиков, оружия и торговли «живым товаром».
Может статься, что понятие «условный» больше подойдет не для характеристики суверенитета Косово, а для международного запрета на объединение с Албанией и присоединения населенных албанцами сопредельных территорий Македонии, Черногории и Южной Сербии. В сегодняшней ситуации независимость Косово будет не средством его «европеизации», а очередным шагом по пути архаизации края и окончательного превращения его в общеевропейский центр международной оргпреступности.
Большинство поборников косовской независимости упорно не желают признавать, что создаваемый прецедент будет иметь широкие международно-правовые и политические последствия. Между тем уже первые разговоры о возможном предоставлении краю независимости вызвали живейший отклик в непризнанных постсоветских образованиях – Приднестровье и Нагорном Карабахе. За ними неизбежно последуют Абхазия и Южная Осетия. И если независимость Косово станет правовой реальностью, это, безусловно, не может не послужить стимулом и предлогом для всех непризнанных, чтобы добиваться аналогичного решения. Легко предположить, что эхо прокатится от Басконии до Курдистана.
Вызывает сожаление, что Россия стала соучастником процесса движения Косово к независимости, поддержав его начало в Совете Безопасности ООН и поставив свою подпись под двусмысленным документом Контактной группы по Косово. Не соглашусь с мнением многих, будто апелляция к истории, религии и культуре является достаточным основанием причислять Балканы к зоне приоритетов Российской Федерации. Учитывая крайне малый удельный вес стран Юго-Восточной Европы в структуре внешнеэкономических и внешнеполитических связей России и присущее им стремление к вступлению в ЕС и НАТО, российские интересы здесь в основном сводятся к тому, чтобы заблаговременно занять выгодные экономические позиции в регионе, который рано или поздно станет частью Евросоюза. Едва ли поэтому стоит тратить значительные политические ресурсы на ссору с Вашингтоном и Брюсселем по косовскому вопросу – делу тем более уже фактически проигранному ранее. Но и ассистировать антисербскому курсу западных партнеров, обесценивая свой авторитет среди сербов, нет резона.
Выразив свое неодобрение и отказавшись участвовать в подобной политике, Россия могла бы выиграть больше не только в сербском общественном мнении. Впрочем, слова президента РФ Владимира. Путина о значимости косовского прецендента для постсоветского пространства на недавней пресс-конференции указывают, где Москва собирается искать свою выгоду.

Гарантировать энергетическую безопасность
Дэниел Ергин
© "Россия в глобальной политике". № 1, Январь - Февраль 2006
Дэниел Ергин – председатель Кембриджской ассоциации энергетических исследований (CERA) и автор книги The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power («Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть»). В настоящее время пишет новую книгу о геополитике и нефти. Данная статья опубликована в журнале Foreign Affairs, № 2 (март – апрель) за 2006 год. © Council on Foreign Relations Inc.
Резюме Институты и политика, утвердившиеся после арабского нефтяного эмбарго 1973 года, более не способны удовлетворять потребности производителей и потребителей энергии.
СТАРЫЕ ВОПРОСЫ, НОВЫЕ ОТВЕТЫ
Накануне Первой мировой войны Первый лорд Адмиралтейства Уинстон Черчилль принял историческое решение: заменить уголь нефтью в качестве топлива для кораблей британских ВМС. Он намеревался это сделать, чтобы британский флот превосходил по быстроходности немецкий. Но данная замена также означала, что отныне Королевские ВМС должны были полагаться не на уголь из месторождений в Уэльсе, а на ненадежные поставки нефти из Персии. Таким образом, энергетическая безопасность превратилась в вопрос государственной стратегии. Как Черчилль рассматривал эту проблему? «Стабильность и надежность нефтяного сектора, — отметил он, — обеспечиваются многообразием, и только многообразием поставок».
Со времени принятия Черчиллем этого решения тема энергетической безопасности вновь и вновь возникала в качестве важнейшей проблемы, и сегодня данный вопрос опять в центре внимания. Но теперь он требует переосмысления, ибо то, что на протяжении последних трех десятилетий являлось парадигмой энергетической безопасности, приняло слишком ограниченный характер и нуждается в расширении для того, чтобы включить в себя множество новых факторов. Более того, необходимо осознать, что энергетическая безопасность не существует сама по себе, а напрямую связана с более широкими отношениями между государствами и способами их взаимодействия друг с другом.
Энергетическая безопасность станет темой номер один в повестке дня встречи лидеров восьми индустриально развитых стран, которая пройдет в Санкт-Петербурге в июле 2006 года. Повышенное внимание к энергетической безопасности отчасти вызвано дефицитом предложения на нефтяном рынке и высокими ценами на нефть, которые удвоились за последние три года. Но интерес к этой теме также подогревается террористической угрозой, нестабильностью в некоторых государствах-экспортерах, националистическими настроениями, страхом перед конфликтами в борьбе за поставки, геополитическим соперничеством и фундаментальной потребностью стран в энергоносителях для поддержки экономического роста.
А на заднем плане (хотя не такой уж он и задний) — возрастание тревоги по поводу того, хватит ли в грядущие десятилетия ресурсов для удовлетворения мировых потребностей в энергоносителях.
Озабоченность состоянием энергетической безопасности не ограничивается нефтяной тематикой. Отключения электричества на обоих – Восточном и Западном – побережьях Соединенных Штатов, в Европе и в России, а также хроническая нехватка электроэнергии в Китае, Индии и других развивающихся странах заставили обеспокоиться надежностью систем электроснабжения. Что касается природного газа, то растущие потребности и ограниченные поставки означают, что Северная Америка больше не может полагаться исключительно на свои возможности и поэтому Соединенные Штаты присоединяются к новому мировому рынку природного газа, который беспрецедентным образом свяжет между собой страны, континенты и цены.
В то же самое время более очевидным становится наличие ряда новых «слабых» мест. «Аль-Каида» пригрозила атаками на то, что Усама бен Ладен называет «стержнями» мировой экономики, то есть на ее ключевую инфраструктуру, в которой одним из наиболее важных звеньев является энергетика. Мир будет все больше зависеть от новых источников энергоресурсов, расположенных там, где системы безопасности пока еще находятся в стадии разработки, – таких, например, как нефтяные и газовые месторождения в прибрежных водах Западной Африки и в Каспийском море. Но незащищенность не ограничивается уязвимостью перед лицом угроз, создаваемых терроризмом, политическими волнениями, вооруженными конфликтами и разбоем. В августе и сентябре 2005-го ураганы «Катрина» и «Рита» нанесли первый широкомасштабный удар по мировой энергетике, одновременно обусловив сбой в поступлении нефти, природного газа и электроэнергии.
События, которые произошли с начала этого года, подчеркнули значимость данной проблемы. Российско-украинский спор по поводу цены природного газа привел к приостановке поставок в Европу. Растущая напряженность вокруг ядерной программы Тегерана вылилась в угрозы со стороны Ирана, второго по величине производителя в ОПЕК, «вызвать нефтяной кризис». А разрозненные атаки на некоторые объекты нефтяного промысла сократили экспорт из Нигерии, одного из основных поставщиков в Соединенные Штаты.
Со времен Черчилля ключом к энергетической безопасности была диверсификация. Это справедливо и сегодня, но требуется более широкий подход, учитывающий быстрое развитие мировой торговли энергоресурсами, уязвимые места в цепи поставок, терроризм и интеграцию в мировой рынок новых крупных экономик.
Хотя в развитых странах привычное определение термина «энергетическая безопасность» сводится просто к обеспечению достаточного объема поставок по доступным ценам, разные страны по-разному трактуют данное понятие применительно к своим условиям. Страны – экспортеры энергоресурсов главный упор делают на поддержании «стабильности спроса» на их экспорт, который в конце концов обеспечивает преобладающую долю их государственных доходов. Россия видит свою задачу в том, чтобы восстановить государственный контроль над «стратегическими ресурсами», а также над основными трубопроводами и каналами сбыта, по которым ее углеводороды поступают на мировые рынки. Развивающиеся страны озабочены тем, как изменение цен на энергоносители влияет на их платежный баланс. Для Китая и Индии энергетическая безопасность – способность быстро приспосабливаться к новой зависимости от мировых рынков, что знаменует собой серьезный отход от их прежнего стремления к самодостаточности. Для Японии же это компенсация острой нехватки внутренних ресурсов за счет диверсификации, торговли и инвестиций. В Европе главная дискуссия сосредоточена на том, как лучше контролировать зависимость от импортируемого природного газа; большинство европейских стран (за исключением Франции и Финляндии) также обсуждают перспективы строительства новых атомных станций и, возможно, возврата к (чистому) углю. А Соединенным Штатам приходится признать тот неприятный факт, что их цель – достижение «энергетической независимости» (фраза, ставшая своего рода мантрой с тех пор, как четыре недели спустя после ввода в 1973-м эмбарго она впервые прозвучала из уст Ричарда Никсона) — все больше расходится с действительностью.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СПРОС ПОД УДАРОМ
После войны в Персидском заливе беспокойство по поводу энергетической безопасности, казалось, улеглось. Настойчивые попытки Саддама Хусейна установить свое доминирование в зоне Персидского залива потерпели крах, и представлялось, что мировой рынок нефти останется рынком (а не орудием политического манипулирования в руках Саддама), а обильные поставки будут осуществляться по ценам, не препятствующим развитию мировой экономики. Но по прошествии 15 лет цены стали высокими, а на рынках энергоносителей царит страх перед нехваткой ресурсов. Что произошло? Ответ необходимо искать как в рынках, так и в политике.
В последнее десятилетие мы стали свидетелями существенного увеличения мировой потребности в нефти — в основном по причине бурного экономического роста в развивающихся странах, особенно в Китае и Индии. Еще в 1993 году Пекину хватало собственной нефти. С тех пор китайский ВВП почти утроился, а потребность в нефти выросла более чем вдвое. Сегодня Китай импортирует 3 млн баррелей нефти в день, почти половину своего совокупного потребления. Доля Китая на мировом рынке нефти — примерно 8 %, но его доля в общем росте спроса с 2000 года составляет примерно 30 %. Мировая потребность в нефти выросла с 2000-го на 7 млн баррелей в день, причем 2 из этих 7 млн приходились на КНР. Потребление нефти в Индии в настоящее время составляет менее 40 % от объема потребления в Китае, но поскольку первая уже вступила на путь, который экономист Виджей Келкар называет «винтовой лестницей роста», то ее спрос на нефть будет резко возрастать. (По иронии судьбы нынешнему быстрому росту индийской экономики отчасти способствовал скачок цен на нефть во время кризиса в Персидском заливе 1990–1991 годов. Последовавший удар по ее платежному балансу оставил Индию почти без резервов иностранной валюты, тем самым открыв дверь реформам Манмохана Сингха – тогдашнего министра финансов и нынешнего премьер-министра Индии).
Экономический рост в Китае, Индии и других странах оказал далекоидущее влияние на мировую потребность в энергоносителях. В 1970-е Северная Америка потребляла в два раза больше нефти, чем Азия. В прошлом году, впервые за все время, потребление в Азии превысило показатель Северной Америки. Данная тенденция будет продолжаться: согласно прогнозам Кембриджской ассоциации энергетических исследований (CERA), на Азию в течение следующих 15 лет придется половина совокупного роста потребления нефти. Однако возрастающая роль Азии в этом вопросе стала очевидной для всех лишь в 2004 году, когда наиболее высокие за последнее тридцатилетие показатели глобального экономического роста вылились в «потрясение спроса». Неожиданно резкий рост потребления нефти во всем мире проявился в увеличении темпов роста более чем вдвое по сравнению с соответствующим среднегодовым значением в предшествующем десятилетии. В Китае спрос-2004 превысил спрос-2003 на целых 16 %, что отчасти было спровоцировано перебоями в электроснабжении, повлекшими за собой резкое увеличение потребления нефти, которую использовали для импровизированных электрогенераторов. Потребление в США и других странах тоже значительно выросло в 2004 году. В результате на нефтяном рынке возник самый большой дефицит предложения за три десятилетия (если не считать первых двух месяцев после вторжения Саддама в Кувейт в 1990-м). При этом скважин для производства дополнительной нефти почти не осталось. То же положение наблюдается и сегодня, но имеется еще и другая загвоздка. Ту дополнительную нефть, которую могли бы добыть, не так-то легко продать, потому что ее невысокое качество не позволяет использовать ее на имеющихся в разных частях мира нефтеперерабатывающих заводах.
Перерабатывающие мощности являются серьезным ограничительным фактором поставок, потому что налицо существенное расхождение между потребностью мировых потребителей в продукции и возможностями нефтеперерабатывающих заводов. Хотя данная проблема часто представляется исключительно американской, нехватка перерабатывающих мощностей — это фактически общемировое явление. Больше всего вырос мировой спрос на так называемые промежуточные дистилляты (дистиллят – продукт перегонки или выпаривания. – Ред.): дизельное, реактивное и печное топливо. Дизель — излюбленный вид топлива европейских автомобилистов, половина из которых покупает машины с дизельными двигателями, и это топливо все чаще используется для поддержания экономического роста в Азии, где его применяют не только в транспортных средствах, но и в электрогенераторах. Но в мировой системе переработки не хватает так называемых мощностей глубокой переработки для преобразования более тяжелых сортов сырой нефти в промежуточные дистилляты. Этот дефицит мощностей породил дополнительный спрос на более легкие сорта нефти-сырца, такие, как эталонные марки нефти WTI (западнотехасская средняя), что способствует дальнейшему росту цен.
Другие факторы, включая проблемы в некоторых крупных странах-экспортерах, также внесли свой вклад в повышение цен. Нынешняя эра высоких цен на нефть в действительности началась в конце 2002 – начале 2003 года, непосредственно накануне войны в Ираке, когда действия Уго Чавеса по усилению контроля над политической системой Венесуэлы, а также над государственной нефтяной компанией и нефтяными доходами вызвали забастовки и акции протеста. Это привело к прекращению добычи нефти в Венесуэле – стране, числившейся в ряду наиболее надежных экспортеров со времен Второй мировой войны. Потеря нефти вследствие этих забастовок оказалась для мирового рынка весьма существенной — более весомой, чем ущерб, причиненный поставкам войной в Ираке. Уровень добычи нефти в Венесуэле так и не восстановился полностью, и в настоящее время там ежедневно добывается почти на 500 тыс. баррелей меньше, чем до забастовки.
Вопреки распространенному опасению, терпящий крах режим Саддама не спровоцировал поджог нефтяных установок во время войны 2003-го; но и резкого послевоенного скачка в объемах добычи, на который многие надеялись, в Ираке, конечно же, не произошло. Десятки миллиардов долларов, необходимых для того, чтобы вернуть производство на максимальный довоенный уровень в 3,5 млн баррелей в день (1978), не были вложены как из-за продолжавшихся террористических атак на инфраструктуру и нападений на рабочих и специалистов, так и в силу неопределенности в сфере политического и правового устройства послевоенного Ирака и отсутствия четкой договорной основы инвестирования. В результате Ирак экспортирует на 30–40 % меньше, чем до начала войны.
Нефтяные месторождения России, напротив, имели в последние пять лет решающее значение для роста мирового предложения, обеспечивая почти 40 % совокупного увеличения мировой добычи с 2000 года. Но в прошлом году рост нефтедобычи в России ощутимо замедлился по причине политических рисков, недостаточных капиталовложений, нестабильной государственной политики, препятствий со стороны регулирующих органов, а в некоторых регионах и из-за геологических трудностей. Несмотря на подобные проблемы в некоторых крупных странах-поставщиках, нефтедобыча на других месторождениях, не привлекших к себе столь пристального внимания (например, в прибрежных водах Бразилии и Анголы) тем временем увеличивалась – до тех пор, пока ураганы «Катрина» и «Рита» не привели к остановке 27 % нефтедобывающих (а также 21 % нефтеперерабатывающих) предприятий США. Даже в январе 2006-го американские нефтепромысловые объекты, производившие до удара стихии 400 тысяч баррелей нефти в день, всё еще не работали. В целом опыт последних двух лет подтверждает истину, что рынок, характеризующийся дефицитом предложения, не защищен от влияния разного рода событий.
Все эти проблемы спровоцировали новую волну опасений по поводу того, что мировые нефтяные запасы подходят к концу. Подобные тревожные пароксизмы эпизодически случались с 1880-х. Однако глобальное производство фактически выросло на 60 % с 70-х годов прошлого века – времени, когда человечество в последний раз находилось в тревожном ожидании скорого истощения мировых нефтяных ресурсов. (Резкое ускорение роста спроса в 2004-м привлекло больше внимания, чем его замедление в 2005-м, когда потребление нефти в Китае вообще не увеличилось, а мировой рост вернулся к средним темпам, характерным для периода 1994–2003 годов.) В определенных кругах всё чаще говорят о надвигающемся пике производства нефти и последующем быстром спаде. Однако анализ проектов и планов развития, проведенный CERA в отношении всех основных месторождений, показывает, что в течение следующего десятилетия чистая производственная мощность может вырасти на 20–25 %. Несмотря на нынешний пессимизм, более высокие цены на нефть сделают то, что обычно делают возросшие цены на любой другой товар: они приведут к росту новых поставок за счет существенного увеличения инвестиций и превращения минимальных возможностей в коммерческие перспективы (а также, конечно, и к обузданию спроса и стимулированию развития альтернативных источников энергии).
Добрая часть этого прироста мощности налицо. Значительная его доля будет обусловлена эксплуатацией нетрадиционных источников: от нефтеносных песков Канады (известных также как битуминозные пески) до залежей в сверхглубоких водах. Все это возможно благодаря непрерывному совершенствованию технологий (к примеру, из природного газа получают очень высококачественное топливо типа дизельного). Но объемы традиционного снабжения тоже будут расти: Саудовская Аравия работает над тем, чтобы увеличить свою производственную мощность на 15 % и выйти к 2009-му на уровень добычи, превышающий 12 млн баррелей в сутки. Реализуются также проекты в других местах, в частности в Каспийском море и даже в Соединенных Штатах, где идет разработка месторождений в прибрежных водах. Хотя энергетическим компаниям придется вести изыскания в более трудных природных условиях, главное препятствие на пути развертывания новых поставок — это не геология, а то, что происходит на поверхности земли, а именно: международные отношения, мировая политика, принятие решений правительствами, а также инвестиции в энергетику и в новые технологические разработки. Однако следует отметить: в имеющихся прогнозах действительно утверждается, что после 2010 года основной рост поставок будет исходить от меньшего числа стран, чем сегодня, и это не может не усилить тревогу по поводу энергетической безопасности.
НОВЫЕ РАМКИ
Нынешняя система энергетической безопасности была создана в ответ на нефтяное эмбарго, введенное арабскими странами в 1973 году. Ее цель – обеспечить координацию действий индустриальных стран в случае срыва поставок, стимулировать сотрудничество в области энергетической политики, избежать болезненной конфронтации в борьбе за поставки и не допустить никакого использования «нефтяного оружия» экспортерами в дальнейшем. Ключевыми элементами этой системы являются базирующееся в Париже Международное энергетическое агентство (МЭА), членами которого являются индустриальные страны; стратегические запасы нефти, включая стратегические нефтяные запасы США (U.S. Strategic Petroleum Reserve); непрерывный мониторинг и анализ рынков энергоносителей и политики в области энергетики, а также экономия энергии и согласованное экстренное распределение стратегических запасов в случае нарушения поставок. Система мер на случай чрезвычайных обстоятельств была разработана для противодействия крупным сбоям в поставках, угрожающим мировой экономике и стабильности, а не для управления ценами и товарным циклом. С момента возникновения этой системы в 1970-х согласованное экстренное вскрытие стратегических запасов происходило лишь дважды: накануне войны в Персидском заливе (1991) и осенью 2005-го после урагана «Катрина». (Система также была приведена в состояние готовности перед 1 января 2000-го в связи с потенциальными последствиями действия компьютерного червя Y2K, вызывающими тревогу во всем мире; во время прекращения нефтедобычи в Венесуэле в 2002–2003 годах и весной 2003-го перед вторжением в Ирак).
Опыт показывает, что в целях поддержания энергетической безопасности странам следует придерживаться нескольких принципов. Первый и наиболее известный — это то, к чему призвал Черчилль более чем 90 лет тому назад: диверсификация поставок. Умножение числа источников снижает ущерб от срыва поставок из какого-либо одного источника, предоставляя возможность получать сырье из других, альтернативных, источников, что служит интересам как потребителей, так и производителей, для которых стабильность рынков – главный приоритет. Но одной диверсификации недостаточно.
Второй принцип — это устойчивость, «запас надежности» в системе энергоснабжения, который смягчает воздействие потрясений и облегчает процесс восстановления после сбоев. Такая эластичность может быть следствием многих факторов, включая достаточные незадействованные производственные мощности, стратегические запасы, резервное электропитание оборудования, необходимую вместимость резервуаров вдоль всей цепи снабжения, накопление важных составных частей для производства и распределения электроэнергии, а также тщательно разработанные планы оперативного реагирования на сбои, от которых могут пострадать крупные регионы.
Отсюда вытекает третий принцип: признание реальности интеграции. Существует только один рынок нефти — сложная мировая система, перемещающая и потребляющая около 86 млн баррелей ежедневно. Для всех потребителей безопасность кроется в стабильности этого рынка. Изоляция совершенно исключена.
Четвертый принцип – важность информирования. В основе хорошо функционирующих рынков лежит высококачественная информация. На международном уровне МЭА возглавило усилия по налаживанию потока информации о мировых рынках и энергетических перспективах. Эта работа дополняется шагами нового Международного энергетического форума, который будет стремиться объединить информацию, поступающую от производителей и потребителей (Международный энергетический форум, International Energy Forum – создан в 1991 году как площадка для неофициальных многосторонних и двусторонних дискуссий и консультаций по актуальным вопросам развития мировой энергетики и энергетической безопасности. – Ред.). Информация не менее важна и во время кризиса, когда фактические сбои, обрастая слухами и страхами, способны раздувать панику. Реальное положение вещей может оказаться скрытым за шквалом обвинений, за раздражением, за проявлением негодования, за лихорадочным поиском заговоров, что в состоянии значительно осложнить и без того непростую ситуацию. В таких случаях правительства и частный сектор должны сообща противодействовать возникновению паники с помощью высококачественной и своевременной информации. Правительство США может способствовать гибкости и корректировке рынка, оперативно связываясь с компаниями и позволяя им обмениваться информацией, принимая при необходимости соответствующие антитрестовские меры.
Какими бы важными ни были эти принципы, последние несколько лет высветили потребность в расширении понятия энергетической безопасности в двух таких важных аспектах, как признание необходимости глобализации системы энергетической безопасности, которой можно добиться главным образом путем вовлечения Китая и Индии, и принятие того факта, что нужно защищать всю цепь энергоснабжения.
Китай, жаждущий энергоресурсов, превратился в основной элемент сюжета многих литературных и кинематографических триллеров. Даже если говорить о реальной жизни, то и здесь нет недостатка в подозрениях: некоторые в Соединенных Штатах видят генеральную линию КНР в том, чтобы добиваться преимущества над США и Западом в приобретении нефти и газа за счет новых поставок. В свою очередь часть стратегов в Пекине опасаются, что Соединенные Штаты могут когда-нибудь попытаться ввести запрет на поставки энергоносителей в Китай из-за рубежа. На самом же деле ситуация не столь драматична. Несмотря на все внимание к усилиям Китая получить доступ к мировым нефтяным резервам: например, совокупный объем нынешней ежедневной нефтедобычи Китая за его границами равнозначен всего лишь 10 % ежедневной нефтедобычи одной из крупнейших нефтяных компаний мира. Если между Вашингтоном и Пекином когда-нибудь и возникнут серьезные разногласия по поводу нефти или газа, они, скорее всего, будут обусловлены не конкуренцией за сами энергоресурсы, а тем, что явится частью международных проблем более широкого масштаба (к примеру, спор вокруг какого-либо режима или по поводу надлежащей реакции на ядерную программу Ирана). На самом деле, с точки зрения североамериканских, европейских и японских потребителей, китайские и индийские инвестиции в разработку новых энергоресурсов по всему миру — это не угроза, а нечто желанное. Ведь в грядущие годы, когда спрос на энергоресурсы в Китае и Индии будет расти, каждый сможет пользоваться бОльшим количеством энергии.
Было бы разумнее (в действительности совершенно необходимо сделать это безотлагательно) включить этих двух гигантов во всемирную сеть торговли и инвестиций вместо того, чтобы стать свидетелями их сползания к меркантильному подходу, основанному исключительно на двусторонней основе. Вовлечение Китая и Индии в глобальную систему потребует понимания того, чтО означает для них энергетическая безопасность. Обе страны быстро движутся от самодостаточности к интеграции в мировую экономику. Это предполагает, что они станут всё больше зависеть от мировых рынков – причем как раз тогда, когда их правительства будут испытывать на себе огромное давление, поскольку от них потребуется обеспечить экономический рост своему громадному населению, ежедневно сталкивающемуся с нехваткой энергоресурсов и отключениями электричества. Таким образом, главная задача Китая и Индии — обеспечить себя энергоресурсами, достаточными для поддержания экономического роста и предотвращения дефицита энергии, ослабляющего нацию и чреватого социально-политическими волнениями.
Для Индии, где политики пока еще не могут забыть кризис платежного баланса 1990-го, нефтедобыча за рубежом — это тоже способ оградить себя от высоких цен. Таким образом, нужно помочь Индии, Китаю и другим ключевым странам, таким, в частности, как Бразилия, действовать в координации с существующей в рамках МЭА системой энергетической безопасности, с тем чтобы предоставить им гарантию защиты их интересов в случае каких-либо потрясений и чтобы повысить эффективность самой системы.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ГИБКОСТЬ
Нынешняя модель энергетической безопасности, родившаяся на свет во время кризиса 1973 года, делает упор в основном на том, как справиться с любым срывом поставок нефти из добывающих стран. Понятие энергетической безопасности необходимо сегодня расширить так, чтобы включить в него защиту всей инфраструктуры и цепи энергоснабжения, а это – грандиозная задача. В одних только Соединенных Штатах имеется: более 150 нефтеперерабатывающих предприятий, 4 тыс. шельфовых нефтяных платформ, 160 тыс. миль (257 488 км) нефтепроводов, оборудование с суточной пропускной способностью 15 млн баррелей импортируемой и экспортируемой нефти, 10 400 электростанций, 160 тыс. миль высоковольтных линий электропередач и миллионы миль проводов для распределения электроэнергии, 410 подземных промысловых газохранилищ и 1,4 млн миль (2 253 020 км) газопроводов. Ни одна из сложных, интегрированных цепей снабжения в мире не создавалась с учетом безопасности, трактуемой в этом широком смысле. Ураганы «Катрина» и «Рита» заставили по-новому взглянуть на проблему безопасности, показав фундаментальное значение электрической сети для всех других аспектов энергоснабжения. После ураганов нефтеперерабатывающие предприятия на северной части побережья Мексиканского залива и крупные американские нефтепроводы не могли функционировать не потому, что были повреждены, а потому, что не получали электропитания.
Энергетическая взаимозависимость и растущие масштабы торговли энергоносителями требуют постоянного сотрудничества производителей и потребителей для обеспечения безопасности всей цепи энергоснабжения. Трансграничные трубопроводы большой протяженности становятся всё более важным элементом в мировой энергетической торговле. Существуют также многочисленные узкие коридоры на маршрутах морской транспортировки нефти и во многих случаях – сжиженного природного газа (СПГ), которые делают весь процесс особенно уязвимым: это Ормузский пролив у входа в Персидский залив; Суэцкий канал, соединяющий Красное и Средиземное моря; Баб-эль-Мандебский пролив, ведущий в Красное море; пролив Босфор – главный экспортный канал для российской и каспийской нефти; Малаккский пролив, через который проходит 80 % японской и южнокорейской нефти, а также около половины китайской. Захват и повреждение танкеров на этих стратегических водных путях способны перекрыть каналы поставки на длительное время. Безопасность трубопроводов и узких коридоров в морской акватории потребует дополнительного мониторинга, равно как и создания многосторонних сил быстрого реагирования.
Проблемы в сфере энергетической безопасности станут в грядущие годы всё более насущными, поскольку масштабы мировой торговли энергоресурсами существенно увеличатся по мере углубления интеграции мировых рынков. В настоящее время около 40 млн баррелей нефти ежедневно пересекают просторы Мирового океана в танкерах; к 2020 году этот показатель может подскочить до 67 млн баррелей. К тому времени Соединенные Штаты, возможно, будут импортировать 70 % всей своей нефти (в сравнении с нынешними 58 % и 33 % в 1973-м); то же самое, похоже, ожидает и Китай. Объемы природного газа, пересекающего Мировой океан в виде СПГ, могут к 2020 году утроиться до 460 млн тонн. Америка будет важной частью этого рынка: хотя сегодня СПГ покрывает лишь около 3 % потребностей США, к 2020-му его доля может превысить 25 %. Обеспечение безопасности мировых рынков энергоносителей потребует согласованных действий как на международном, так и на внутригосударственном уровне со стороны компаний и правительств, включая энергетические, экологические, военные, правоохранительные и разведывательные ведомства.
Однако в Соединенных Штатах, так же как и в других странах, далеко не всегда очевидно, кто обеспечивает финансирование и кто за что отвечает в области защиты критически важной инфраструктуры, прежде всего энергетической, и каковы источники ее финансирования. Частному сектору, федеральному правительству, властям штатов и местным органам самоуправления следует предпринять шаги в направлении улучшения координации деятельности. Сохранение приверженности к согласованным действиям в периоды низких или умеренных цен потребует дисциплинированности и бдительности. Как заметил Стивен Флинн, специалист по внутренней безопасности при Совете по международным отношениям, «безопасность не бесплатна». И государственному, и частному сектору нужно вкладывать средства в повышение уровня безопасности энергетической системы – это означает, что обеспечение энергетической безопасности повлияет как на стоимость энергоносителей, так и на расходы на национальную безопасность.
Сами рынки необходимо признать источником безопасности. Система энергетической безопасности создавалась в то время, когда в Соединенных Штатах действовали регулируемые цены на энергоносители, торговля энергоресурсами только начиналась, а до формирования фьючерсных рынков оставалось еще несколько лет. Сегодня крупные, гибкие и хорошо функционирующие рынки энергоресурсов обеспечивают безопасность, смягчая потрясения и позволяя спросу и предложению реагировать на них более оперативно и искусно, чем это могла делать управляемая система. Такие рынки явятся гарантией безопасности растущего рынка СПГ, что укрепит уверенность стран-импортеров. Таким образом, правительства должны сопротивляться искушению поддаться политическому давлению и осуществлять назойливое управление рынком. Вмешательство и регулирование, какими бы благими мотивами они ни оправдывались, могут привести к обратным результатам, замедляя и даже не допуская перемещения ресурсов, необходимого для устранения последствий сбоя.
По крайней мере в Соединенных Штатах воспоминания о пресловутых очередях за бензином в 1970-х возникают после любого скачка цен или сбоя даже у тех, кто в те времена еще только начинал ходить (и, быть может, даже у тех, кто тогда еще не родился). Тем не менее эти очереди в значительной степени являлись плодом собственных ошибок — следствием контроля за ценами и существования неповоротливой системы распределения, при которой бензин отправлялся туда, где в нем не нуждались, и не поставлялся в районы, страдавшие от его нехватки.
Противопоставьте это тому, что произошло сразу после урагана «Катрина». Крупный сбой поставок нефти в США сопровождался сообщениями о раздувании цен и начинающемся дефиците бензина на автозаправочных станциях – все это вместе взятое могло привести к появлению вдоль Восточного побережья новых «бензиновых» очередей. Однако рынки пришли в равновесие и цены упали гораздо быстрее, чем ожидалось. Были осуществлены экстренные поставки из стратегических нефтяных запасов США и других запасов МЭА, что стало для рынка сигналом «не паниковать». В то же время правительство ослабило два важных регулирующих ограничения. Один из них – закон Джонса (запрещавший кораблям не под американскими флагами перемещать грузы между американскими портами), действие которого было временно приостановлено с целью разрешить неамериканским танкерам доставлять, огибая Флориду, топливо, застрявшее в узком коридоре у северной части побережья Мексиканского залива, на Восточное побережье, где в нем остро нуждались. Другое ограничение – серия постановлений о «бензине улучшенных сортов», которые требовали поставлять бензин разного качества в разные города. Их также временно отменили, чтобы поставки бензина можно было перенаправить на юго-восток страны из других регионов. Этот опыт ясно высвечивает необходимость включить в механизм энергетической безопасности гибкий подход к регулирующей деятельности и к окружающим условиям (а также ясное осознание факторов, препятствующих усилиям по корректировке), чтобы как можно более эффективно справляться со сбоями и аварийными ситуациями.
Правительство США и частный сектор тоже должны взять на себя новые обязательства в области эффективного использования и экономии энергии. Хотя воздействие энергосбережения на экономику часто недооценивается, в течение последних нескольких десятилетий оно было огромным. За последние 30 лет американский ВВП вырос на 150 %, тогда как потребление энергии увеличилось лишь на 25 %. В 70-е и 80-е годы прошлого столетия многие считали такое расхождение невозможным или, по крайней мере, определенно губительным для экономики. Верно то, что более эффективное использование энергии стало возможно во многом благодаря тому, что экономика США теперь «легче», чем три десятилетия назад, как выразился бывший председатель Федеральной резервной системы Алан Гринспен. Иными словами, ВВП сегодня в меньшей степени складывается из производства и в большей — из услуг (особенно в области информационных технологий), чем это можно было представить себе в 1970-е. Но главное остается в силе: экономия дала плоды. Нынешние и будущие достижения в области технологий могут способствовать получению существенных дополнительных выгод, которые принесут громадную пользу не только таким передовым экономикам, как американская, но и экономикам таких стран, как Индия и Китай (на самом деле в последнее время Пекин сделал энергосбережение своим приоритетом).
Наконец, благоприятный инвестиционный климат, как таковой, должен стать ключевой задачей в сфере обеспечения энергетической безопасности. Для разработки новых ресурсов необходим постоянный поток инвестиций и технологий. По последним оценкам МЭА, в ближайшие 25 лет потребуется 17 трлн долларов для внедрения новых разработок в области энергетики. Эти денежные потоки не материализуются без создания разумных и стабильных механизмов инвестирования, без своевременного принятия решений на правительственном уровне и без открытых рынков. Способы облегчения инвестиций в энергетику станут одним из важнейших вопросов, которые лидеры стран – членов «Большой восьмерки» обсудят на своей встрече в 2006 году в рамках посвященной проблемам энергетической безопасности повестки дня.
ГРЯДУЩИЕ ПОТРЯСЕНИЯ
В будущем рынки энергоносителей станут неизбежно испытывать потрясения. Некоторые из их возможных причин можно примерно предвидеть: это скоординированные террористические атаки, сбои поставок с Ближнего Востока и из Африки или беспорядки в Латинской Америке, которые скажутся на нефтедобыче в Венесуэле — третьем по величине производителе ОПЕК. Однако другие возможные причины могут стать неожиданностью. В прибрежной нефтяной индустрии давно уже возводятся такие сооружения, которые могли бы выдержать «столетний шторм» (геологический термин, означающий сильнейший шторм, вероятность которого условно равна одному разу в столетие. – Ред.), но никто не мог предугадать, что в течение нескольких недель два таких разрушительных урагана ударят по энергетическому комплексу в Мексиканском заливе. А те, кто создавал систему экстренного распределения стратегических запасов МЭА, не могли даже на мгновение представить себе, что эти резервы могут быть вскрыты для того, чтобы смягчить последствия аварий, произошедших в Соединенных Штатах.
Диверсификация останется основополагающим отправным принципом энергетической безопасности и в нефтяной, и в газовой отраслях. Однако вполне вероятно, что теперь она потребует и разработки нового поколения технологий, которые используются в ядерной энергетике или применяются при «чистом» сжигании угля, а также поддержки возрастающей роли разнообразных возобновляемых источников энергии по мере того, как те будут становиться все более конкурентоспособными. Диверсификация также обусловит необходимость инвестиций в новые технологии, начиная с тех, которые должны появиться в ближайшей перспективе (преобразование природного газа в жидкое топливо), и до технологий более отдаленного будущего, пока еще находящихся в стадии лабораторной разработки, таких, как создание биологических источников энергии. Сегодня наблюдается рост инвестиций в технологии по всему энергетическому спектру, и это окажет позитивное воздействие не только на энергетику будущего, но и на окружающую среду.
Но энергетическая безопасность существует и в более широком контексте. В мире, который характеризуется усиливающейся взаимозависимостью, энергетическая безопасность будет во многом зависеть от того, как государства выстроят отношения друг с другом, будь то на двусторонней или на многосторонней основе. Вот почему энергетическая безопасность окажется одной из главных проблем американской внешней политики в грядущие годы. Частью этой проблемы станет необходимость предвидеть и оценивать различные вероятные сценарии. А для этого надо не только заглядывать за угол, но и уметь рассмотреть за цикличными взлетами и спадами как реальность существования все более сложной и более интегрированной всемирной энергетической системы, так и значимость отношений между вовлеченными в эту систему странами.

Турция: привычка управлять
© "Россия в глобальной политике". № 6, Ноябрь - Декабрь 2005
С.Б. Дружиловский – к. и. н., профессор кафедры востоковедения МГИМО(У) МИД РФ.
Резюме Идеи пантюркизма и проявления крайнего национализма уходят корнями в эпоху Османской империи. Стремление к созданию единого тюркоязычного пространства под патронатом Анкары в сочетании с исламским мессианизмом формирует специфическую идеологическую атмосферу.
Нынешней осенью Европейский союз приступил к официальным переговорам с Турецкой Республикой о ее вступлении в это объединение. Решение далось руководителям стран – членов ЕС с большим трудом: большинство жителей единой Европы не хотят видеть Турцию в составе главного клуба Старого Света. Брюссель уже пообещал жестко добиваться неукоснительного соблюдения всех многочисленных условий членства. По сути, от страны требуется прорыв, который по своему историческому масштабу был бы сопоставим с тем, что совершил в свое время Мустафа Кемаль Ататюрк – создатель новой турецкой государственности на обломках Османской империи. На пути в Европу XXI века Турции придется окончательно преодолеть имперское наследие, до сих пор накладывающее отпечаток на политическое сознание. Не случайно одной из самых болезненных проблем, которые придется решить туркам, станет переосмысление событий 1915 года. Европейский союз требует четко и недвусмысленно признать их геноцидом армянского народа, Анкара же от этого категорически отказывается.
Нежелание пересмотреть собственное прошлое – не единственное напоминание о былом великодержавном статусе. Идеи пантюркизма, которые до сих пор разделяет часть турецкого политического класса, и проявления крайнего национализма уходят корнями именно в эпоху Османской империи. Стремление к созданию единого тюркоязычного пространства под патронатом Анкары, с одной стороны, и исламский мессианизм – с другой, формируют специфическую идеологическую атмосферу.
ИСТОРИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
Распад Османской империи после Первой мировой войны явился тяжелым испытанием для турок, привыкших рассматривать себя ядром и титульной нацией огромного государства, перед мощью которого некогда склонялись крупнейшие европейские державы. Однако в отличие, например, от коллапса СССР, это событие не стало неожиданностью. Об Османской империи как о «больном человеке» заговорили в Европе еще в начале XIX века, а к середине этого столетия появились первые планы ее раздела.
Все это время турецкие правящие круги предпринимали многочисленные попытки спасти агонизирующее государство. Им даже удалось осуществить ряд радикальных реформ – от ликвидации янычарского корпуса в 1826-м до принятия первой на Востоке Конституции в 1876 году.
Свои рецепты сохранения империи предлагали и турецкие интеллектуалы. Так, в середине XIX века возникло несколько тайных обществ, которые после своего объединения стали называться «Новые Османы». Они предлагали упразднить деление населения на различные этнические и конфессиональные группы и объединить народы империи в единую «османскую» нацию. В 1908 году к власти пришли младотурки (европейское название членов организации «Единение и прогресс», основанной в 1889-м. – Ред.). Осознавая неизбежность распада империи, они призвали объединить все тюркоязычные народы в единое государственное образование с центром в Анатолии. Именно эта идея во многом толкнула Турцию к вступлению в Первую мировую войну на стороне германского блока. Надежда воспользоваться ослаблением России и прибрать к рукам принадлежавшие ей территории с тюркоязычным населением рухнула с поражением в войне. Оно не только положило конец правлению младотурок, но и девальвировало саму идеологию пантюркизма.
Основатель Турецкой Республики (провозглашена в 1923 году) Мустафа Кемаль-паша (Ататюрк) отказался от имперской политики. Он выдвинул лозунг турецкого национализма – концепцию создания государства на территориях, исторически принадлежавших туркам. Политика Кемаль-паши способствовала сохранению государственности, а положение национальных меньшинств, оказавшихся включенными в состав Турецкой Республики, или было слишком ослабленным, или не входило в противоречие с выдвинутой Ататюрком концепцией. Даже курды, восставшие в 1925-м под предводительством шейха Саида, действовали скорее по указке Англии, чем руководствуясь собственным стремлением к независимости.
Руководство страны не поддерживало имперскую ностальгию. Выработке экспансионистских планов во внешней политике препятствовал провозглашенный Ататюрком принцип «Мир в Турции, мир во всем мире». Так, урегулирование кемалистами территориальных споров с Советской Россией позволило приступить к нормализации отношений и заключить Договор о дружбе и братстве (1921), заложивший основы добрососедства между давними непримиримыми противниками.
Тем не менее деятельности пантюркистов не был положен конец. Известный теоретик Зия Гек-Альп опубликовал в 1923 году свою работу «Основные принципы тюркизма», которая на долгие годы стала манифестом его сторонников и последователей. После смерти Ататюрка (1938) в условиях фашистской экспансии правительство страны стало отходить от внешнеполитических принципов, провозглашенных основателем Турецкой Республики. Нападение гитлеровской Германии на СССР всколыхнуло пантюркистские настроения. Анкара стояла на грани вступления в войну на стороне Германии, и только победы советских войск в сражениях под Москвой, а затем под Сталинградом удержали ее от этого шага. Лишь в 1944-м деятельность пантюркистской организации была запрещена, а ее руководители отданы под суд. Впрочем, все они в конечном итоге были оправданы и вскоре вышли на свободу.
Передача власти в Турции. Художник Мим Уйкусуз. 1966 г.
Возросшая военно-политическая мощь СССР даже теоретически не оставляла туркам шансов на ревизию послевоенного мирового устройства. Вступление в 1952 году в НАТО, а также присоединение спустя 11 с половиной лет к Европейскому экономическому сообществу в качестве ассоциированного члена превратило Турцию в младшего партнера европейских держав без права решающего голоса.
Почти с полным подчинением западному влиянию Анкару в какой-то степени должна была примирить ее лидирующая роль в СЕНТО (Организация центрального договора, до 1959-го известна под названием «Багдадский пакт») – антисоветской мусульманской военно-политической группировке из арабских стран, входивших ранее в состав Османской империи. Полностью эту идею реализовать не удалось, поскольку в Багдадский пакт (учрежден в 1955 году) кроме Ирака и Турции, а также Великобритании, принимавшей в нем формальное участие, вошли только два, причем не арабских, государства, никогда не имевших ничего общего с Османской империей, – Иран и Пакистан. Антимонархическая революция в Ираке способствовала его выходу из блока (1958), и штаб-квартира СЕНТО с 1959-го до распада этой организации в 1979 году находилась в Анкаре.
Активное участие в военном блоке вряд ли можно напрямую соотнести с проявлениями имперских амбиций Турции, но оно подчеркивает сложившуюся за века привычку турок управлять, а не быть управляемыми. Несомненно, стремление к господству и почитание «старых добрых времен» стало чертой национального характера, которая культивируется в послевоенной Турецкой Республике. Так, манифестации по случаю государственных праздников непременно возглавляет колонна солдат, одетых в янычарскую униформу, а ежегодно отмечаемая годовщина взятия Константинополя оформляется как костюмированное шествие.
Выйти из-под контроля своих западных союзников Анкара попыталась в период кипрского кризиса 1974 года. Несмотря на протесты Запада, Турция оккупировала северные области Кипра под предлогом оказания помощи тюркскому меньшинству, якобы притесняемому греческим большинством. Несколько десятков тысяч турецких добровольцев были перемещены на Кипр для «выравнивания» пропорции в этническом составе населения острова. Анкара единственная признала самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) и оказала ей всю возможную, в том числе военную, помощь и поддержку в последующие годы. Сегодня судьба ТРСК является еще одним камнем преткновения на пути Анкары в Евросоюз.
НОВЫЙ «СТАРШИЙ БРАТ» ВМЕСТО СТАРОГО
С исчезновением СССР роль Турции в качестве южного фланга НАТО существенно снизилась. Это сопровождалось как сокращением экономической и военной помощи, так и болезненным для Анкары отказом ЕС ускорить принятие Турецкой Республики в свои ряды. Зато впервые с момента крушения Османской империи туркам представилась возможность распространить свое влияние за пределы собственных границ. С возникновением новых независимых тюркоязычных государств Центральной Азии и Закавказья перед Анкарой замаячил новый шанс на возрождение былого величия и повышение своей значимости в мировых делах. В начале 1990-х вновь возрождаются традиционные пантюркистские идеи о создании Великого Турана.
Турецкие руководители всерьез заговорили о новой тюркоязычной общности от Адриатического моря до Великой Китайской стены. При этом Анкара не сомневалась в своей способности не только заменить Москву в роли «старшего брата» тюркских народов, но и исключить возможность прямого влияния Запада в регионе. На страницах турецких СМИ стала настойчиво проводиться мысль об историческом шансе «восстановить тюркское единство». Вместо слов «узбек», «киргиз», «татарин» и прочих для обозначения этнической принадлежности стали употребляться такие словосочетания, как «узбекский турок», «киргизский турок», «крымский турок». В обращение вошел термин «внешние турки», под которыми стали подразумеваться тюркские народы, проживающие за пределами Турции.
Прогресс по-турецки: дополтопные орудия уступают место современной американской технике. Журнал "Стрышел" (Болгария), 1954 г.
В декабре 1991 года Анкара первой поспешила признать новые тюркоязычные государства Центральной Азии вскоре после провозглашения ими независимости. А уже в январе 1992-го премьер-министр Турции Сулейман Демирель на встрече с президентом США Джорджем Бушем-старшим заявил об изменении регионального статуса своей страны ввиду открывающихся перед ней возможностей определять политическое будущее мусульманских республик Содружества Независимых Государств (СНГ). В этой связи Турции, по мнению Демиреля, предстояло взять на себя решение двуединой задачи: обеспечить необходимый уровень контактов Запада с этими республиками и убедить их руководителей в том, что Анкара способна служить проводником интересов мусульманских стран СНГ на Западе.
В результате переговоров была достигнута очень важная для Турции договоренность: на нее возлагалось оказание материальной и финансовой помощи тюркоязычным республикам бывшего СССР, при этом понесенные затраты компенсировались Соединенными Штатами и другими западными странами, в том числе через предоставление торговых льгот. При турецком МИДе было создано Агентство тюркского сотрудничества и развития (ТIКА) с целью координации на государственном уровне всех видов деятельности, направленных на единение тюрок, а в правительстве появилась должность министра по связям с тюркоязычными республиками СНГ.
В октябре 1992 года по инициативе президента Турции Тургута Озала в Анкаре состоялась встреча на высшем уровне, в которой участвовали тогдашний президент Азербайджана Абульфаз Эльчибей, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Аскар Акаев, президент Туркменистана Сапармурат Ниязов и президент Узбекистана Ислам Каримов. Уже в самом начале переговоров обнаружились серьезные разногласия. Анкара ставила во главу угла вопрос о наднациональном тюркском экономическом пространстве, включая формирование общего рынка, единой региональной энергосистемы и системы транспортировки энергоресурсов, учреждение регионального банка развития, создание условий для безвизового передвижения граждан и капиталов, а также определение общего языка для тюркских государств. Лидеры же центральноазиатских республик видели главную задачу лишь в координации совместной деятельности с упором на развитие двусторонних отношений. Так, Назарбаев недвусмысленно заявил, что «создание обособленного национального сообщества по этническому и языковому принципу не сближает, а лишь разъединяет народы».
Анкара, тем не менее, не отказалась от политики, нацеленной на объединение тюркоязычных народов под своим патронатом. Особая роль возлагалась на так называемые курултаи братства и сотрудничества, которые с 1993-го постоянно проводились как в самой Турции, так и за ее пределами, включая субъекты Российской Федерации. Уже на первом таком форуме в Анталье, на котором кроме президента Озала и премьер-министра Демиреля присутствовали руководители других тюркоязычных государств и представители многочисленных общественных организаций, Турция добилась принятия решения о создании наднациональной общественной организации – Высшего совета тюркских республик. На шестом курултае в Бурсе в 1998 году, на котором Сулейман Демирель был провозглашен «отцом тюркского мира», присутствовало 550 делегатов; на восьмом, состоявшемся в марте 2000-го в Самсуне, зарегистрировалось уже 900 делегатов.
ЭКСПОРТ ТУРЕЦКОЙ МОДЕЛИ
С 1992 года на все тюркоязычные республики бывшего СССР транслируются передачи турецкого спутникового телевидения. Кроме уже упомянутого ТIКА свою деятельность в тюркских регионах активизировали Турецкий директорат по религиозным вопросам (TDRA), Образовательный центр религиозной общины Фетхуллаха Гюлена, Турецкий международный исследовательский центр Турана Язгана, фонд «Аврасия Бир» и др.
В активе этих организаций – пропаганда турецкой модели развития, противостояние арабским и иранским исламистам и, пожалуй, самое главное – подготовка кадров различного профиля для центральноазиатских и закавказских республик. Например, Турецкий директорат по религиозным вопросам ставит своей целью укрепление позиций Анкары в тюркоязычных республиках, а также противодействие экспансии здесь шиитского и ваххабитского толков ислама. В противоположность им тип ислама, пропагандируемый TDRA, включает аполитичность, секуляризм, ограничение религии рамками частной жизни граждан. Эта организация занимается также распространением исламских знаний, подготовкой священнослужителей, ремонтом и строительством культовых сооружений.
Из всех неправительственных организаций с наибольшим размахом действовал религиозный центр Фетхуллаха Гюлена. (В конце 1990-х годов Гюлен был вынужден покинуть родину, вскоре против него возбудили уголовное дело за пропаганду исламских взглядов, выходившую за рамки закона.) В Турции общине Гюлена принадлежат 88 фондов, 20 обществ, 128 частных школ, 218 фирм, а также 17 печатных органов, телестанция, две радиостанции, беспроцентный исламский банк и страховое общество. «Асия Финанс банк» с капиталом в 125 млн дол., которым Гюлен владеет с начала 1990-х, инвестировал в различные проекты в республиках Центральной Азии и в Азербайджане: было построено более 80 школ и 4 университета, где преподавание ведется по программам турецких учебных заведений. Турецкий аналитик Шахин Алпай указывает, что в последующем их выпускники, как правило, занимали видное положение в общественной и политической жизни своих республик. Вообще же Анкара ежегодно выделяет несколько тысяч стипендий для обучения студентов и преподавателей из тюркоязычных республик в высших учебных заведениях и научно-исследовательских центрах Турции.
Большую активность по консолидации тюркоязычных народов проявлял турецкий министр по связям с тюркоязычными республиками СНГ Абдульхалюк Чай. Российский МИД, а также руководство отдельных республик неоднократно критиковали его высказывания как вмешательство во внутренние дела суверенных государств. Однако какая-либо реакция со стороны турецкого правительства долгое время практически отсутствовала.
И все же политика Турции по созданию единого тюркского политического и культурно-идеологического пространства постепенно стала заходить в тупик. Руководители тюркоязычных республик открыто заговорили о нежелании менять русского «старшего брата» на турецкого и стали дистанцироваться от попыток Турции сблизиться на этой основе. Нурсултан Назарбаев в своей книге «На пороге XXI века», изданной в 1996 году, писал: «Многим казалось, что Турция сможет решить все наши проблемы… Но что это означало на деле? Это значило отказаться от только что обретенной независимости, разорвать традиционные отношения с соседями, вместо одного “старшего брата” посадить себе на шею другого». Приблизительно тогда же президент Азербайджана Гейдар Алиев заявил, что определенные круги в Турции поддерживают некоторых лидеров и их вооруженные группы, пытающихся дестабилизировать обстановку в Азербайджане. Как бы в подтверждение предъявленного обвинения турецкая пресса вслед за провалом попытки государственного переворота в Баку, предпринятого 17 марта 1995-го, сообщала, что отдельные министры и сотрудники Службы национальной безопасности Турции были осведомлены о готовившихся событиях.
Признаки охлаждения отношений между Ташкентом и Анкарой появились позже, но зато в более радикальной форме. В 2000 году правительство Узбекистана закрыло все школы, открытые религиозными организациями Турции, и прежде всего учебные заведения, опекаемые Фетхуллахом Гюленом. Из страны власти выслали турецкого атташе по образованию, а все узбекские студенты, обучавшиеся в Турции, были отозваны на родину.
Анкара осознала, что политическая и культурная близость, приверженность новых независимых тюркоязычных республик исламу и тюркизму были преувеличены, а реальностью является государственный национализм, глубоко укоренившийся в самосознании узбеков, туркмен, киргизов и казахов. Ни правящая элита, ни простые граждане не захотят жертвовать своей идентичностью во имя сверхнациональной общности, тюркской или исламской.
В конце 2000 года новый президент Турции Ахмет Неджет Сезер совершил поездку по тюркоязычным республикам и, как свидетельствовала пресса, с пониманием отнесся к предложению развивать дальнейшие отношения на принципах «равноправного партнерства». Конкретным проявлением готовности Анкары скорректировать политическую линию стала отставка в начале 2002-го Абдульхалюка Чая. Несмотря на возражения многих влиятельных членов правительства, он организовал в конце 2001 года очередной курултай тюркских народов, на котором фигурировали лозунги, не созвучные новой политической линии Анкары.
С начала 1990-х Турция пыталась проводить пантюркистскую политику не только в отдельных республиках, но и в других регионах на постсоветском пространстве с компактным проживанием тюркоязычного населения. Ярким примером тому явилось ее отношение к развитию ситуации на Крымском полуострове, куда к концу 1993 года вернулись около 250 тысяч крымских татар, депортированных во время Второй мировой войны. Созданный ими неправительственный орган крымско-татарского народа Меджлис потребовал провозглашения Крымско-татарской республики в составе Украины.
В 1995-м председатель этого Меджлиса Мустафа Кырымоглу опубликовал в Турции статью, в которой обвинил Россию в шовинистической, империалистической политике и попытках добиться контроля над полуостровом методом «демократического фашизма», призывами к русскоговорящему большинству населения провести референдум о дальнейшей судьбе Крыма.
Крымские татары с самого начала стали получать политическую и материальную поддержку. Анкара с пониманием относилась к их призывам возвратить на историческую родину 5 миллионов проживающих в Турции беженцев с целью изменить демографическую ситуацию на полуострове.
В 1994 году тогдашний президент Турции Сулейман Демирель побывал в Киеве, где впервые официально заговорил о российской угрозе на Черном море и предложил в целях «сдерживания» России предоставить всем, имеющим татарские корни, возможность возвратиться в Крым. По мнению Демиреля, число желающих могло достигнуть порядка 600 тысяч. При благоприятном решении данного вопроса Украине была обещана экономическая помощь и политическое содействие для ее утверждения на международной арене.
Как бы то ни было, пантюркистский натиск на Восток забуксовал, и наиболее оголтелые сторонники создания Великого Турана как в самой Турции, так и за ее пределами ушли в тень. Но от своих целей они отказываться не собираются. Об этом красноречиво свидетельствует статья в выходящем в Лондоне журнале «Тюркоман» за декабрь 1998-го под названием «Пантюркизм: прошлое, настоящее и будущее». «Пантюркизм неизбежно встречает враждебность и злобу в окружающих тюркский мир странах, – говорится в статье. – В России, Китае, Иране, Болгарии, Греции и Афганистане проживает значительное число тюркских меньшинств, всякое движение которых к единению эти страны склонны рассматривать как угрозу своей территориальной целостности. Над большинством государств Запада тяготеют исторические предрассудки в отношении тюрков. Учитывая данную ситуацию, развитие пантюркизма должно происходить поэтапно и скрытно. Россия и Запад всегда относились с подозрением к турецкому экспансионизму, поэтому было бы уместно ослабить политический аспект лидерства Турции на начальной стадии тюркской интеграции и за счет этого усилить культурный аспект».
ФАКТОР ИСЛАМСКОГО МЕССИАНСТВА
Немаловажным компонентом имперского прошлого, до сих пор оказывающим влияние на самосознание турецкого общества, является исламское мессианство. Авторы фундаментального труда «Турция между Европой и Азией» справедливо считают, что Османское государство, по сути, было теократическим. Критерием самоидентификации для подданных являлась принадлежность к последователям Мухаммеда, во-первых, и к приверженцам дома Османов, во-вторых. На протяжении столетий на территориях, вошедших затем в состав Турции, слово «мусульманин» напрямую ассоциировалось со словом «свой», и антитеза «мы – они» строилась по конфессиональному признаку. При этом прилагательное «турецкий» в европейской литературе того времени зачастую соответствовало понятию «мусульманский».
Проведение кемалистами секуляристской политики в начале ХХ века способствовало упразднению халифата, отделению мечети от государства и ограничению религии сферой частной жизни. Однако после смерти Ататюрка завещанные им принципы светского государства постепенно подверглись эрозии.
Вскоре после окончания Второй мировой войны создаются первые политические группировки исламистов, которые в 1960-е основывают Партию национального спасения во главе с Неджметтином Эрбаканом. Год от года его сторонники усиливали свое влияние, получая все больше голосов избирателей и неоднократно входя в правительственные коалиции. В 1995-м партия Эрбакана, называвшаяся в то время Партией благоденствия, впервые победила на парламентских выборах. Сам он возглавил правительство и в течение года (1996–1997) руководил государством. Предвыборная программа Партии благоденствия, привлекшая к ней симпатии турецких избирателей, ориентировалась на исламские ценности. На предвыборных митингах лидер партии призывал к объединению исламского мира от Казахстана до Марокко, к созданию исламского общего рынка, исламских НАТО и ООН. Кроме того, он требовал пересмотреть курс Турции на ее присоединение к Евросоюзу.
Впрочем, после прихода к власти Неджметтину Эрбакану пришлось отказаться под давлением военных от многих лозунгов. В результате по-прежнему выдерживался курс на интеграцию с Европой, оставались тесными союзнические отношения с США и НАТО и даже не изменился характер стратегического сотрудничества с Израилем. Вместе с тем Эрбакан добился создания «исламской восьмерки» в составе Турции, Ирана, Пакистана, Бангладеш, Малайзии, Индонезии, Египта и Нигерии, предлагая рассматривать ее в качестве альтернативы «семерке» развитых капиталистических государств. После этого турецкий генералитет объявил деятельность правительства Эрбакана несовместимой со светским характером государства. Кабинет был отправлен в отставку, Партия благоденствия распущена, а сам экс-премьер подвергся судебному преследованию.
Но политический ислам в Турции не утратил свои позиции. Напротив, в 2002 году вновь созданная происламская Партия справедливости и развития во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом победила на очередных парламентских выборах, получив абсолютное большинство в Великом национальном собрании. Это позволило ей сформировать однопартийное правительство и уже без особой оглядки на конкурентов проводить избранную политическую линию.
Нынешние турецкие исламисты извлекли урок из прошлого и отказались от экстремистских подходов. Главной своей задачей правительство Эрдогана видит полноправное членство Турции в Евросоюзе. Успешное решение поставленной задачи позволит Анкаре превратиться в одну из ведущих столиц Старого Света. 70-миллионное мусульманское население Турции единовременно вольется в состав пока еще не до конца интегрированной Европы, где уже проживает 20-миллионное мусульманское меньшинство (насчитывающее порядка 4 млн турок). Преодолев остатки старого имперского мышления, Турция имеет шанс выйти на новый уровень влияния.

Российские углеводороды и мировые рынки
© "Россия в глобальной политике". № 5, Сентябрь - Октябрь 2005
А.А. Арбатов – заместитель председателя Совета по изучению производительных сил Министерства экономического развития и торговли и Российской академии наук. М.А. Белова – эксперт департамента энергетики Института энергетики и финансов, В.И. Фейгин – главный директор Института энергетики и финансов.
Резюме Важная роль России на мировой арене в значительной степени обусловлена богатством ее природных ресурсов. Успешное участие в современном мировом разделении труда предполагает полноценное использование подобных преимуществ.
Важная роль России на мировой арене в значительной степени обусловлена богатством ее природных ресурсов. На территории России сосредоточено около 13 % всех мировых разведанных запасов нефти и 34 % запасов природного газа. Успешное участие в современном мировом разделении труда предполагает полноценное использование подобных преимуществ, хотя и не должно сводиться к нему.
Ежегодное производство первичных энергоресурсов в стране составляет более 12 % от общего мирового производства. На долю топливно-энергетического комплекса (ТЭК) приходится сегодня около четверти производства валового внутреннего продукта (ВВП) России и трети объема промышленного производства, около половины доходов федерального бюджета, экспорта и валютных поступлений страны. В отличие от большинства стран – экспортеров углеводородов, в России имеется крупный внутренний рынок их переработки и потребления. Важно, чтобы внешний спрос не входил в противоречие с динамикой и приоритетами внутреннего рынка.
СИТУАЦИЯ НА ОСНОВНЫХ МИРОВЫХ РЫНКАХ УГЛЕВОДОРОДОВ
В последние полтора десятилетия на мировом рынке нефти происходило наращивание ежегодных темпов прироста потребления нефти. В период с 1991 по 2000 год этот показатель увеличился на 9,8 млн бар./сут., а в 2001–2004 годах – на 6,3 млн бар./сут. При этом рынок был сбалансирован, а вот в том, что касалось спроса и предложения, ключевая роль отводилась на том или ином этапе разным регионам.
Если в начале указанного периода спрос расширялся за счет роста объемов потребления нефти в Северной Америке, Европе и странах Азии, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), то в последние годы лидерство по темпам роста перешло к Китаю. Годовой прирост увеличился там с 0,32 до 0,4 млн бар./сут, в то время как в Северной Америке этот показатель упал с 0,5 до 0,3 млн бар./сут, в Европе – с 0,2 до 0,15 млн бар./сут, а в азиатских странах – членах ОЭСР приблизился к нулю.
Растущий спрос начала 1990-х в основном удовлетворялся за счет увеличения добычи нефти в государствах, входящих в Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК): среднегодовой темп роста составлял 0,6 млн бар./сут. В странах же бывшего СССР наблюдалось значительное падение объемов добычи. Однако к началу XXI века ситуация в корне изменилась: при сохранении среднегодовых темпов увеличения добычи нефти в странах ОПЕК, падении объемов добычи в Европе и замедлении темпов роста в Северной Америке именно Россия стала главным стабилизатором мирового рынка нефти.
В 2002–2004 годах на фоне беспрецедентного роста нефтяных цен среднегодовые темпы прироста потребления удвоились, достигнув 2 %. В прошлом году при среднегодовой цене нефти марки Brent 38,3 дол./бар. потребление нефти в мире увеличилось на 3,3 %. Однако сочетание высоких цен и замедления темпов роста мировой экономики может привести к снижению темпов прироста потребления нефти в 2005–2006 годах до 2,5–2,7 % и ниже.
Тем не менее в течение последних 2–3 лет темпы увеличения спроса на рынках превысили ожидания, поскольку в полной мере не были учтены ни фактор «новых экономик» – прежде всего Китая и в значительной мере Индии, ни быстрый рост в этих странах промышленного производства, в том числе энергоемкого (например, черная металлургия, производство цемента и т. п.), ни растущее потребление (например, начавшаяся в Китае автомобилизация). Если процессы бурного экономического подъема этих стран продолжатся и будут сопровождаться ростом среднего класса и формированием характерного для него стандарта жизни и потребностей, то общее увеличение спроса может опережать рост суммарного мирового ВВП – явление, не отмечавшееся с 1970-х.
Конечно, трудно предположить, что быстрый рост цен и спроса составят долговременную устойчивую тенденцию. Параллельное существование этих двух явлений, как таковое, несет в себе противоречие. Высокие цены позволяют как осваивать новые, ранее считавшиеся нерентабельными ресурсы нефти, так и расширять круг ее заменителей. Последнее может особенно сильно повлиять на снижение спроса.
Что касается предложения, то с ним пока не все так безоблачно, как представляется. Освоение новых месторождений требует больше времени и средств, при этом добыча не всегда способна вовремя восполнить продукцию истощающихся месторождений.
Неясность с ресурсной базой, резкое снижение числа вновь открытых крупных нефтяных ресурсов (и фактическое отсутствие новых нефтеносных провинций, в прошлом служивших основным фактором развития глобальной нефтедобычи) добавили нервозности и иррациональности игрокам на рынке, повысили обеспокоенность политических кругов. Не вызывает оптимизма и уровень политической стабильности в целом ряде основных стран-экспортеров. Скорее всего, тенденция к увеличению спроса сохранится, но темп роста будет подвержен резким колебаниям как в силу внутренних и внешних конфликтов, так и по причине возможного появления новых быстроразвивающихся экономик.
В 1980–1990 годы преодоление последствий нефтяных кризисов, обусловленных эмбарго со стороны арабских стран или договоренностями стран – членов ОПЕК об уровнях добычи, связывалось с развитием ликвидного глобального рынка нефти и соответствующими инструментами преимущественно краткосрочного характера. Однако в последнее время упор делается на построение двусторонних преференциальных связей между потребителями и поставщиками нефти, что особенно характерно как для политики США последних лет, так и для «нефтяной дипломатии» Китая и Индии, активной и по-своему тоже глобальной.
Рекордные цены на нефть и соответственно на газ (на либерализованных рынках цены на газ связаны также и с высоким спросом на него) способны в определенной степени «развернуть» ситуацию или уменьшить степень ее драматизма, но вряд ли приведут к радикальным переменам в краткосрочной перспективе. С другой стороны, до сих пор, как известно, развитым странам удавалось так или иначе справляться с угрозами такого рода, и на этом простом доводе основывают свою позицию ряд оптимистов.
«НЕФТЯНЫЕ» ПОЗИЦИИ РОССИИ
С 2000 по 2004 год Россия, выступая на мировом рынке нефти в качестве главного стабилизирующего фактора, обеспечила самый высокий прирост добычи в мире – в три раза выше, чем у ОПЕК. Однако ввиду падения в последние месяцы темпов прироста добычи нефти и воздействия других, более фундаментальных факторов Россия вряд ли сможет в дальнейшем сохранить эту роль, хотя и продолжит оказывать существенное влияние на развитие мирового рынка.
К настоящему моменту в России уже открыто и разведано более трех тысяч месторождений углеводородного сырья, причем разрабатывается примерно половина из них. Более половины российской нефтедобычи и более 90 % добычи газа сосредоточены в районе Волго-Урала и Западной Сибири. Большинство этих месторождений отличаются высокой степенью выработанности, поэтому возникает необходимость развивать и альтернативные регионы добычи. В долгосрочной перспективе такими приоритетными регионами нефте- и газодобычи являются Тимано-Печора, полуостров Ямал, западная часть арктического шельфа, Каспийский шельф, Прикаспий, Восточная Сибирь и Дальний Восток. Однако в обозримой перспективе в России не ожидается открытия нефтегазоносной провинции, сопоставимой по масштабам с Волго-Уральской или тем более с Западно-Сибирской и способной кардинально повлиять на уровень добычи. Другие центры нефтедобычи будут в основном смягчать последствия истощения наиболее крупных старых центров. Поэтому в ближайшее десятилетие вероятно снижение темпов роста добычи с их последующей стабилизацией. При этом не исключаются колебания в ту или другую сторону, вызванные конъюнктурой мирового рынка.
Экспорт нефти из России зависит как от добычи нефти, так и от ее потребления на внутреннем рынке. Внутреннее потребление нефти растет медленно вследствие резкого падения производства наиболее энергоемких отраслей. Поэтому доля экспорта нефти и нефтепродуктов еще долго будет превалировать над долей внутреннего потребления в российской нефтедобыче. Тем не менее экономический рост в условиях неразвитости энергосберегающих технологий приведет к росту внутреннего потребления.
Основные районы нефтедобычи связаны единой системой нефтепроводов акционерной компании «Транснефть», которая обеспечивает транспортировку 95 % нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) России, а также к экспортным терминалам по системе нефтепроводов «Дружба» и через глубоководные нефтеналивные терминалы на Черном и Балтийском морях.
Потенциально Россия имеет возможность выхода на все три крупнейших мировых рынка нефти и нефтепродуктов – европейский, североамериканский и рынок Юго-Восточной и Южной Азии. Но пока наша страна наиболее тесно связана с европейским рынком (включая республики бывшего СССР). До 70-х годов прошлого столетия бЧльшая часть нефти добывалась в европейской части России, после освоения Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции ее транспортная инфраструктура была подключена к уже сложившимся мощностям, ориентированным на европейский рынок. Исключение составляли только восточное и южное ответвления, сравнительно незначительные по своим возможностям (они поставляют нефть на Омский, Ачинский, Ангарский и центральноазиатские НПЗ бывшего СССР).
Постепенно растут поставки нефти на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). На этом рынке преобладают поставки в Китай, они же обеспечивают и основной прирост. При нынешней степени разведанности и уровня разработки ресурсов Восточной Сибири (и даже с учетом поставок из Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции) экспорт нефти из России в страны АТР может составить 60–70 млн т, что не превысит 15 % объема китайского потребления. Таким образом, Россия не только будет не в состоянии удовлетворить потребности стран АТР в нефти, но и рискует вообще потерять этот рынок в случае промедления с развитием транспортной инфраструктуры или сахалинских проектов. Вместе с тем большая емкость нефтяного рынка АТР позволяет рассчитывать на рост экспорта российской нефти в ряд стран этого региона.
Если после 2010 года в основных нефтепроизводящих странах АТР – Китае, Индонезии, Малайзии, Австралии – произойдет, как ожидается, снижение добычи, то для удовлетворения растущего здесь спроса на нефть потребуется значительное увеличение поставок из других районов мира. Главным источником окажется Ближний Восток, также увеличится объем импорта из Северной и Центральной Африки, будут организованы крупномасштабные поставки из Центральной Азии (в том числе из Каспийского региона) и России.
До сооружения Восточного нефтепровода Россия планирует дальнейшее наращивание железнодорожных поставок нефти в КНР. В целом экспорт нефти в Китай по железной дороге в этом году составит более 11 млн т. К 2010-му железнодорожные поставки нефти российских компаний в КНР должны увеличиться до 20 млн т/г. В перспективе возможно увеличение этого показателя до 30 млн т/г. Сдерживающим фактором являются железнодорожные тарифы. Однако, по информации РАО «Российские железные дороги», при возрастающих объемах транспортировки нефти через Забайкальск предусматривается возможность уменьшения тарифа с 72 дол./т до 30. Что, кстати, может сделать железнодорожный маршрут более привлекательным по сравнению с «восточной трубой».
На американском рынке главным потребителем российской нефти являются США, но эти поставки не играют заметной роли (в 2004 году они составили всего 7,3 млн т – 4 % суммарного российского нефтяного экспорта). По словам президента «Транснефти» Семена Вайнштока, США не готовы гарантировать достаточные объемы закупки российской нефти. Более того, у компании «нет уверенности в том, что США действительно требуются не только заявленные 30 млн., но и даже 20 млн т российской нефти».
Европейский рынок нефти является наиболее «скромным» по объемам потребления, ценам и темпам роста. Тем не менее сложившаяся транспортная инфраструктура продолжает поддерживать российско-европейские «нефтяные» связи. На этом направлении возникают проблемы Черноморских проливов, прохождения танкеров в Финском заливе, Балтийском море и Датских проливах. Благоприятное для России решение этих вопросов позволит закрепить ее роль стабильного масштабного поставщика нефти на европейский рынок. Россия заинтересована в том, чтобы в максимальной степени осуществлять экспорт нефти со своей территории непосредственно потребителю, сокращая транзит. Поэтому она будет стремиться к сохранению имеющихся трубопроводных и терминальных мощностей и их наращиванию (расширение Балтийской трубопроводной системы, строительство терминалов в Варандее, Индиге, на Кольском полуострове). Только в порту Приморск на Балтийском море, ориентированном на увеличение экспорта в Европу, предусматривается развитие мощностей до 62 млн. т в год.
Обсуждаемый сейчас вопрос о перенасыщенности европейского рынка тяжелой высокосернистой нефтью, к которой относится российская экспортная смесь Urals, кардинально разрешим только путем раздельной транспортировки различных сортов нефти. А этого, в свою очередь, можно добиться через строительство новых нефтепроводов из районов, в которых добываются малосернистые сорта. Перенасыщенность европейского рынка – не столько следствие увеличения предложения, сколько результат роста цен на саму нефть. В период относительно низких цен за рубежом было введено в действие значительное количество перерабатывающих мощностей, ориентированных на тяжелую сернистую нефть, относительно дешевую. Разница в цене в 2–4 дол./бар. делала сложные и дорогие процессы переработки экономически эффективными. Когда цены удвоились и даже утроились, подобная разница в цене утратила всякий смысл и соответствующие перерабатывающие мощности стали выводиться из эксплуатации, как неконкурентоспособные. Выжившим предприятиям пришлось установить разницу в цене в размере 6–8 долларов против стандартных сортов. Остается ждать снижения цен до прежнего уровня, что маловероятно, или строить новые трубопроводы для транспортировки более дорогих сортов нефти.
Конечно, есть еще один вариант – перерабатывать всю высокосернистую нефть в России, но он потребует не только осуществления крупной технической программы модернизации нефтепереработки в районе Урала и Поволжья, но и принятия эффективных политических и законодательных решений. Дело в том, что в данном случае целые компании будут отключены от экспорта своей нефти и это потребует компенсации за счет тех компаний, которые выигрывают от такого решения.
В настоящее время правительство РФ предусматривает максимально увеличить экспорт на растущий рынок АТР, переадресовав туда значительную часть поставок со стагнирующего европейского рынка. Эту, безусловно, актуальную задачу можно решить разными способами: интенсифицировать поставки железнодорожным транспортом, реанимировать «спящие» сахалинские проекты и возобновить работы на других перспективных участках шельфа Охотского моря, использовать возможности строящегося нефтепровода Казахстан – Китай, воспользоваться нефтяным потенциалом Восточной Сибири. Как уже упоминалось выше, принято решение первоначально транспортировать нефть из Западной Сибири, что при предполагаемых тарифах ставит нефтяные компании в трудное положение. При всем оптимизме руководства страны успех этого предприятия далеко не очевиден – прежде всего из-за неопределенности с сырьевой базой Восточной Сибири.
НЕФТЕПРОДУКТЫ: СДЕЛАНО В РОССИИ
В условиях относительно низких внутренних цен на сырье и отсутствия возможности существенно увеличить экспорт нефти многие российские компании вплотную занялись наращиванием производства нефтепродуктов и продажи их за рубеж. Основные экспортные продукты – мазут (45 % экспорта) и дизтопливо. Экспорт бензина (5 % в структуре экспорта в физическом объеме и около 6,5 % в структуре экспортной выручки) пока относительно невыгоден, так как внутри страны на него существует устойчивый платежеспособный спрос по достаточно привлекательным для поставщиков ценам. Кроме того, введение в Европе еще более жестких требований к качеству нефтепродуктов заставляет российские компании все больше тратить на модернизацию перерабатывающих мощностей.
В Энергетической стратегии страны до 2020 года об увеличении поставок за рубеж нефтепродуктов и переработке растущей части предназначенных на экспорт объемов нефти говорится как об одном из важных приоритетов.
Оператором соответствующих статей экспорта по нефтепродуктопроводам является государственная компания «Транснефтепродукт» (ТНП). По сравнению с «Транснефтью», контролирующей подавляющую часть нефтяного транспорта и экспорта, позиции ТНП скромнее: более 23 % российского транспорта светлых нефтепродуктов, около 60 % экспорта дизельного топлива и примерно четверть экспортного автобензина. Остальные нефтепродукты вывозятся железнодорожным транспортом, который фактически составляет конкуренцию ТНП. Одна из причин такого положения кроется в проблеме сохранения качества нефтепродуктов при их транспортировке по трубопроводам ТНП.
Большинство российских НПЗ в настоящее время проводят модернизацию, с тем чтобы наладить выпуск моторных топлив, соответствующих европейским стандартам качества. Поэтому есть основание предполагать, что через несколько лет произойдет значительный рост экспорта светлых нефтепродуктов. Соответственно должна увеличиться и пропускная способность магистральных нефтепродуктопроводов, принадлежащих ТНП. Компания «Транснефтепродукт» активизировала свою деятельность по развитию экспортных мощностей. Предусматривается реализация ряда проектов, позволяющих вывести магистральные продуктопроводы на побережье Балтийского и Черного морей, снизить зависимость российского экспорта нефтепродуктов от транзита по территории сопредельных стран и повысить коммерческую эффективность поставок. Особенно важную роль здесь способен сыграть проект «Север»: в результате его реализации появится новый экспортный нефтепродуктопровод к российскому побережью Балтийского моря. Как по маршруту, так и по концепции он аналогичен Балтийской трубопроводной системе, успешно решающей задачу минимизации транзита нефти через третьи страны. Кроме того, российские компании намерены расширять участие в собственности и управлении ряда европейских нефтеперерабатывающих и сбытовых организаций.
Что же касается восточного вектора, то в прошлом году из России в страны АТР было поставлено около 7 млн т нефтепродуктов, в основном дизельного топлива и мазута. В дальнейшем объем экспорта может быть доведен до 10–12 млн т, но только при условии значительного повышения качества продукции.
СИТУАЦИЯ С ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
Добыча. По разведанным запасам газа Россия занимает первое место в мире (приблизительно 34 % мировых запасов). На Западную Сибирь приходится 76 %, на Урало-Поволжье – 8 %, на районы Европейского Севера – 1 %, на Восточную Сибирь – 3 %, на Дальний Восток – 3 %, на шельф – 8 %. В настоящее время более 90 % добычи газа обеспечивают уникальные крупные месторождения. На долю Уренгойского, Ямбургского и Медвежьего месторождений приходится больше половины газа, добываемого ОАО «Газпром», и примерно 65 % всего российского газа. Однако эти три месторождения постепенно вырабатываются.
В настоящее время «Газпром» занят разработкой сразу нескольких новых проектов по добыче газа: на Дальнем Востоке, полуострове Ямал, арктическом шельфе и некоторых других. Их реализация потребует строительства новых и реконструкции действующих газотранспортных мощностей, а себестоимость добычи будет возрастать.
Инфраструктура. Единая система газоснабжения (ЕСГ) России, принадлежащая ОАО «Газпром», является крупнейшей в мире системой транспортировки газа. Ее протяженность – более 153,3 тыс. км, при этом возраст и состояние инфраструктуры требуют все более пристального внимания. Пропускная способность ЕСГ превышает 600 млрд куб. м, но уже начиная с 2006-го предполагается ее увеличение.
Экспорт и импорт газа. «Газпром» осуществляет экспорт газа в страны Центральной и Западной Европы преимущественно в рамках долгосрочных контрактов. Евросоюз – основной покупатель российского газа; крупными импортерами являются такие страны, как Германия, Италия, Франция, Венгрия, Словакия, Чехия, Польша. Значительная доля приходится на Турцию. В ближайшие годы ожидается существенное увеличение экспортных поставок в Великобританию. В дополнение к собственному производству «Газпром» на основании среднесрочных и долгосрочных контрактов закупает газ у независимых производителей и продает его потребителям, в том числе и на экспорт.
Рынки. Европейский рынок испытывает потребность в увеличении поставок российского газа. Емкость этого рынка устойчиво растет (в прошлом году потребление газа странами – членами ЕС-25 составило порядка 470 млрд куб. м, а к 2010-му, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), достигнет 610–640 млрд куб. м). Проведение странами Европейского союза политики жестких ограничений на выбросы парниковых газов в соответствии с Киотским протоколом, а также неспособность возобновляемых источников энергии конкурировать с традиционными также повлечет за собой рост потребления газа в Европе. Возможно, эта тенденция изменится, если будут приняты решения в пользу развития атомной энергетики. Пока же прогнозы на 2020 год показывают, что зависимость ЕС от импорта природного газа возрастет с нынешних 40 % до 70–80 % объема потребления, при этом доля российского газа в объеме импорта может увеличиться с нынешних 26 % до 40–50 %.
Конечно, такая степень зависимости и даже ее вероятность вынуждают резко повысить уровень взаимодействия и вести поиск новых форм сотрудничества в энергетической (и прежде всего газовой) сфере.
ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ
Северо-Европейский газопровод (СЕГ). Его реализация позволит освоить принципиально новый маршрут (по дну Балтийского моря от Выборга до побережья Германии) экспорта в Европу, диверсифицировать экспортные потоки, напрямую связать газотранспортные сети России и стран Балтийского региона с общеевропейской газовой сетью. Отличительной особенностью СЕГ является отсутствие на его пути транзитных государств, что снижает как страновые риски, так и стоимость транспортировки российского газа, одновременно повышая надежность его поставок на экспорт. Проектом предусмотрено строительство по договоренности морских газопроводов – отводов для подачи газа потребителям других стран – членов Евросоюза. Начало поставок по СЕГ запланировано на 2010-й, максимальная производительность составит 55 млрд куб. м/г.;
проекты, которые призваны решить важнейшие задачи, обозначенные в Энергетической стратегии России на период до 2020 года. Их цель – формирование и развитие нефтегазового комплекса Восточной Сибири и Дальнего Востока, реализация перспективных проектов с возможным выходом России на Азиатско-Тихоокеанский энергетический рынок.
В настоящее время к внесению на рассмотрение правительства готовится Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР. Авторы программы (а готовилась она не Министерством промышленности и энергетики, а «Газпромом») предлагают сделать ставку на сахалинские проекты и почти полностью заморозить разработку уникальных Ковыктинского и Чаяндинского месторождений. Полная реализация сахалинских проектов позволит создать новую крупную базу нефтегазодобычи для обеспечения углеводородами российского Дальнего Востока и стран АТР вплоть до западного побережья американского континента;
газопровод Ямал – Европа, предназначенный для обеспечения контрактных и перспективных поставок природного газа в Европу. Полуостров Ямал – один из наиболее перспективных нефтегазоносных районов Западной Сибири, наиболее важный из новых стратегических регионов «Газпрома». Здесь открыто 26 месторождений, их разведанные запасы газа составляют 10,4 трлн куб. м, извлекаемые запасы конденсата – 228,3 млн т, извлекаемые запасы нефти – 291,8 млн т.
На первом этапе реализации проекта в качестве сырьевой базы используются действующие и новые месторождения Надым-Пур-Тазовского региона Тюменской области. В дальнейшем газ будет подаваться с Бованенковского месторождения на полуострове Ямал. Протяженность трассы газопровода на первом этапе – 2 675 км, проектный объем транспортировки газа по первой нитке – порядка 33 млрд куб. м/г.
Поставки сжиженного природного газа (СПГ). В связи с возрастающим спросом на газ на всех основных рынках (США, Европа, Азия) и постоянным снижением стоимости производства и транспортировки СПГ (на 35–50 % за последние 10 лет) в России ведутся интенсивные работы по подготовке и реализации крупных проектов производства и поставки СПГ на все основные мировые рынки. Это, например, штокмановский проект, который позволит поставлять СПГ, произведенный на базе Штокмановского газоконденсатного месторождения, на рынки сбыта в Европе, на побережье Мексиканского залива и на Восточное побережье США. Ожидается, что эксплуатация этого месторождения, запасы которого превышают 3 трлн куб. м газа, начнется в 2010-м, а годовая добыча достигнет ориентировочно 67,5 млрд куб. м/г. Кроме того, разрабатываются проекты создания комплекса по сжижению газа на побережье Балтийского моря в Ленинградской области, а также технико-экономические обоснования морской поставки сжатого природного газа как в отдельные регионы РФ (Калининградская область), так и на экспорт.
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Важнейшим фактором изменения внешнеэкономической среды для газовой отрасли России становятся либерализация европейского рынка газа, интенсивное формирование новых производителей в Северной и Западной Африке, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, а также рост атлантического и дальневосточного рынков вкупе с созданием сетевого рынка газа в Китае.
В течение нескольких лет потребители российских углеводородов настаивают на строительстве энергетических мостов и приглашают к полномасштабному сотрудничеству в области энергетики. Однако пока все сводится к экспорту энергоресурсов из России и участию иностранных компаний в российских добывающих проектах. Необходимо менять тип взаимоотношений – перейти от простых поставок сырья к сотрудничеству в области переработки энергоресурсов, а впоследствии и к широкому взаимодействию в инвестиционной сфере.
Построить современную развитую экономику возможно только при максимально эффективном использовании возможностей выработки продукции с высокой добавленной стоимостью, и Россия неизбежно будет все активнее продвигаться в этом направлении. Учитывая традиции взаимодействия в предыдущие эпохи, экономический потенциал стран – потребителей российских углеводородов и их постоянную заинтересованность в углублении партнерства с РФ, можно ожидать, что зарубежный бизнес станет важнейшим участником этих процессов. Участие в российских проектах обеспечит энергоемкие производства наших зарубежных партнеров продукцией высоких переделов, что создаст мощный синергетический эффект для экономик обеих сторон.
Бесспорно, большиЂм потенциалом обладают также проекты, связанные с энергосбережением за счет внедрения современных технологий, процессов и оборудования: они будут способствовать формированию экспортных энергоресурсов. При этом, однако, во многих случаях может потребоваться адаптация применяемых средств к российской среде, включая ценовые условия и возможности потребителей/покупателей; для этого крайне важны взаимодействие с российскими партнерами и нахождение эффективных форм включения «российского компонента».
Между тем ключевым условием активизации сотрудничества России и зарубежных партнеров в энергетической сфере является сближение законодательно-нормативных баз. Так, есть необходимость в дополнительном регулировании вопросов по трансграничным трубопроводам, например таких, как обмен информацией и порядок взаимодействия при чрезвычайных происшествиях. Следует также учитывать обязательства России по действующим международным соглашениям и перспективу заключения новых договоренностей. В частности, Договор к Энергетической хартии может потребовать уточнения правил использования транзитных мощностей.
Другой аспект связан с продвижением интеграционных процессов на постсоветском пространстве, в основе которых лежат «стыковка» инфраструктурных комплексов, взаимные поставки и транзит энергоносителей. Правда, здесь все более существенную и не всегда позитивную роль играет политическая составляющая.


Заключительный акт: занавес опускается?
© "Россия в глобальной политике". № 4, Июль - Август 2005
А.Л. Адамишин – Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ, в прошлом заместитель министра иностранных дел СССР, первый заместитель министра иностранных дел РФ, член научно-консультативного совета журнала «Россия в глобальной политике».
Резюме Тридцать лет назад арсенал международной политики пополнился новым инструментом: понятие «права человека» и гуманитарная проблематика были закреплены в Заключительном акте хельсинкского Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Тогда мало кто из подписантов представлял себе роль, которую предстоит сыграть «третьей корзине» в мировой истории.
1 августа 1975 года вошло в историю как день подписания Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Этот документ, принятый в Хельсинки на высшем уровне, был призван оказать долговременное воздействие на международную политику. Спустя 30 лет можно утверждать, что он действительно явился одним из мощных катализаторов тектонических перемен, до неузнаваемости изменивших европейский и мировой политический ландшафт. Но каких?
Выдвигая идею форума, Советский Союз стремился на многосторонней основе застолбить политические и территориальные итоги Второй мировой войны и послевоенного развития. Другими словами, закрепить раздел Европы между двумя блоками. К тому моменту было уже очевидно, что продвинуть дальше на запад «позиции социализма» едва ли удастся. Значит, в Старом Свете следовало зафиксировать статус-кво.
Перескакивая через три десятилетия сразу к ключевому выводу, приходится признать: «нерушимые» границы, вроде бы навсегда утвержденные в столице Финляндии, не пережили глубокий кризис, охвативший коммунистическую систему во второй половине 1980-х. Сегодня в хельсинкском процессе участвуют 55 государств вместо изначальных 35. Все новички – это бывшие составные части трех расколовшихся стран-основателей: СССР, СФРЮ, ЧССР. А вот единственная интеграция, которую стремились не допустить подписанием Заключительного акта, – объединение Германии – как раз состоялась.
В общем, то, ради чего все и затевалось еще в середине 60-х годов прошлого века, не выполнено. Зато на авансцену вышла тематика, поначалу казавшаяся многим у нас чем-то вроде довеска, – вопрос о соблюдении прав человека и вообще «третья (гуманитарная) корзина». Значимость этого аспекта межгосударственных отношений впервые была подчеркнута именно в Заключительном акте. Ныне он «прописан» в основном арсенале международной политики. И если честно с ним обращаться, роль такого инструмента может быть весьма полезной.
ИСТОКИ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОГО ПРОЦЕССА
Согласно распространенной версии, автором идеи созыва общеевропейского совещания был сам министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко. Предлагавшаяся форма вполне отражала бюрократический образ тогдашнего мышления: что-то вроде партийного собрания, спроецированного вовне. Тем не менее задумку нельзя было не назвать удачной. Ее реализация позволила бы затвердить границы в Европе, обойдя такой сложный и не решенный на тот момент вопрос, как отсутствие мирного договора с Германией. К тому же лозунг «Европейцы – за один стол» являлся выигрышным и с пропагандистской точки зрения.
Доподлинно могу засвидетельствовать, что первый зондаж относительно реакции Запада на эту идею действительно провел глава советской дипломатии. Произошло это в апреле 1966-го в ходе его бесед с итальянскими руководителями в Риме, где автор этих строк был переводчиком. Итальянцы, с которыми Москву связывали тогда «особые отношения» (достаточно вспомнить договор о строительстве автогиганта в Тольятти), предложение советского министра поддержали сразу. Правда, искушенные потомки древних римлян сразу внесли поправку, попросив добавить к советской формулировке «совещание по безопасности в Европе» слова «и сотрудничеству». Причин для возражений не было, но дальний прицел западных партнеров проявился позже – ведь именно из «сотрудничества» возник потом в числе прочего вопрос о правах человека.
Кроме того, СССР согласился на участие в совещании США, которых поначалу приглашать не собирались. Однако без Соединенных Штатов, страны, подписавшей Ялтинские и Потсдамское соглашения, одного из гарантов Четырехстороннего соглашения по Западному Берлину, проект умер бы, не родившись. Чтобы американцы не слишком выбивались из общего ряда, решили пригласить еще и Канаду. В таком измененном виде советская идея была одобрена специальной декларацией Политического консультативного комитета Организации Варшавского договора. Теперь речь шла уже о совместной инициативе социалистических стран.
Воплощение этого проекта в жизнь заняло долгое время. Ударом по нему стали события в Чехословакии летом 1968 года, однако общеевропейский процесс хотя и замедлился, но не остановился. Новыми стимулами стала «восточная политика» западногерманского канцлера Вилли Брандта и договоры, заключенные Польшей и Советским Союзом с ФРГ в 1970-м. Чтобы преодолеть скептическое отношение западных партнеров, использовался весь арсенал двусторонних средств, прежде всего «обработка» на высшем уровне. Среди последних с идеей проведения общеевропейского совещания согласились США – после переговоров президента Ричарда Никсона в Москве в мае 1972-го и подписания Договора ОСВ-1. До этого и Никсон, и особенно его могущественный госсекретарь Генри Киссинджер не скрывали негативного отношения к европейской затее.
В ноябре 1972 года в Хельсинки начались многосторонние консультации на уровне послов, растянувшиеся почти на девять месяцев. Наконец в начале июля 1973-го в столице Финляндии собрались министры иностранных дел 35 стран. Столь представительной ассамблеи в Европе не видели со времен Венского конгресса (1814–1815), «светлого праздника всех дипломатий мира». Первый этап общеевропейского совещания получился удачным: было решено письменно оформить договоренности о том, как жить в Европе дальше.
Выполнение этой невероятно тяжелой задачи заняло почти два года – до июля 1975 года. Итоговый документ, названный на завершающей стадии работы Заключительным актом, писался 35 перьями. (В том числе, кстати, и ватиканским: Святой престол участвовал в столь крупном международном «слете» впервые с 1824-го.) При этом если кто-то один не соглашался с какими-либо пассажами или фразами, то они не проходили. Никогда еще принцип консенсуса, представляющий собой высшее проявление демократии, не применялся в таком масштабе. Уверен, что подобное повторится отнюдь не скоро, а возможно, и никогда. Потрясает к тому же и всеобъемлющий характер документа. Заключительному акту удалось охватить всё: от принципа нерушимости границ и различных военных аспектов безопасности до детально расписанных конкретных вопросов экономического и гуманитарного сотрудничества и специального раздела Follow Up to the Conference – договоренности о дальнейшем развитии процесса.
КАК РАБОТАЛА СОВЕТСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ
Второй этап совещания проходил в Женеве. Советскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Анатолий Ковалев. Этот талантливый человек передовых убеждений собрал сильную команду, пригласив в нее лучших сотрудников различных ведомств. Стены его кабинета в «бункере» – мрачном здании, где заседали европейцы-переговорщики, – были сплошь завешаны разграфленными полотнищами бумаги: туда заносились согласованные, или, как их называли, «зарегистрированные» куски будущего шедевра. Их приносили гонцы, заседавшие в различных комитетах и комиссиях. То, что не было «зарегистрировано», оставалось в скобках: их раскрытие осуществлялось по древнеримскому принципу взаимных уступок Do ut des – «Даю, чтобы ты дал».
Два месяца проработал там в командировке и я. Споры шли не только вокруг предложений, но и отдельных слов. Обсуждаем мы, скажем, в своем кругу параграф, касающийся права наций распоряжаться своей судьбой: «Все народы всегда имеют право…». Осторожного Ковалева смущает слово «всегда». «Анатолий Гаврилович, – говорю, – даже в песне Лебедева-Кумача поется: «человек всегда имеет право…». «Хороший довод», – успокаивается глава делегации. Он постоянно ведет мысленный диалог с Москвой. Получить ее «добро» – дело не менее сложное, чем договориться с 34 партнерами. Вот этой «внутренней дипломатии», по утверждению министра Громыко, более важной, чем внешняя, я насмотрелся вдоволь.
В МИДе на уровне заместителей министра за совещание отвечал Игорь Земсков, по воззрениям антипод Ковалева (Громыко любил создавать подобного рода пары). Я же, выросший за время подготовки совещания до начальника управления, числился главным ответственным на рабочем уровне, «мальчиком за всё», так сказать. И верно, почти всё, касавшееся по мидовской линии женевского этапа, прошло через мои руки. В каком-то смысле и через ноги, ибо наше управление находилось на Гоголевском бульваре и часто приходилось нестись на Смоленскую площадь и обратно. Самым трудным в работе было обеспечить одобрение либеральных подходов Ковалева, да так, чтобы ортодоксальный комар носа не подточил.
В соответствии с избранной стратегией Советский Союз и (с разной степенью убежденности) наши союзники по Варшавскому договору добивались безусловного утверждения принципа нерушимости границ, из чего вытекало бы, что территориально-политическое устройство Европы, как оно сложилось к тому времени, не может быть изменено. Это, в свою очередь, закрепило бы раскол Германии и нахождение ГДР в социалистическом лагере. Мы как бы повернули шахматную доску: в первый послевоенный период именно Москва выступала за объединение Германии, а Вашингтон, да и весь Запад, не афишируя этого, весьма активно действовал против. Американцы не без оснований полагали, что удержать в своей орбите объединенную Германию окажется значительно труднее. Подавление в течение десятилетий стремления немцев к единой Германии – это тщательно скрываемый скелет в американском шкафу. (Кстати, союзники Западной Германии согласились на воссоединение только тогда, когда события приняли необратимый характер. ГДР сама прекратила свое существование, но даже в тот момент объединение германской нации беспокоило многих на Западе.)
В ходе подготовки Заключительного акта немцы, и не только в ФРГ, подоплеку понимали прекрасно. Формулировка принципа нерушимости границ вызывала наиболее жесткие споры. Отвергать его с порога, разумеется, никто и не намеревался. Мысль о территориальных притязаниях была ненавистна Европе, прошедшей через ужасные войны. Но и похоронить мечту о воссоединении немцы не могли, сколько бы ни говорилось об отсутствии у них духа реваншизма. Выход нашли в так называемой мирной оговорке, предусматривавшей возможность изменения границ между государствами по их полюбовной договоренности. С теоретической точки зрения такую договоренность нельзя оспорить, но кто же на практике даст ФРГ согласие? ГДР – никогда, мы – тем более, да и Запад будет не в восторге… Никто не мог даже представить себе, что произойдет с Советским Союзом через какие-то полтора десятка лет.
«ТРЕТЬЯ КОРЗИНА»
Демонстрируя добрую волю в вопросе закрепления территориальных и общественно-политических реалий в Европе, Запад рассчитывал на встречные уступки в том, что касалось внутренних советских порядков. Это обуславливалось, конечно, не стремлением к тому, чтобы граждане Советского Союза жили в более демократическом государстве. Западные лидеры полагали: если советская политика будет более предсказуемой и в большей степени опираться на общий с Западом понятийный аппарат, то безопасность от этого только выиграет.
То, чего добивалось советское руководство, – это минимизировать «цену», апеллируя к принципу невмешательства во внутренние дела. Как чеканно выразился в одном из выступлений Громыко, «внутренние порядки, внутренние законы – это черта у ворот каждого государства, перед которой другие должны остановиться». Для меня до сих пор остается загадкой, каким образом Заключительный акт с его гуманитарными «ересями» успешно прошел через Политбюро ЦК КПСС. Некоторые мемуаристы считают, что там просто недооценили взрывоопасность той «мины», которую «третья корзина» закладывала под советскую идеологическую конструкцию. Не думаю, что дело в этом. Политики консервативного толка, а их в высшем руководстве страны было большинство, не могли не заметить столь явный «подрыв устоев». Но они промолчали. Причина: общеевропейскому совещанию покровительствовал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, в ту пору еще вполне энергичный и адекватный лидер. Его настрой определяли в свою очередь наиболее профессиональные из советских партаппаратчиков – толковые, пишущие (что всегда ценилось особо), честные, а главное, действительно радеющие об интересах страны.
Эти «дети ХХ съезда» считали, что продвижение в сторону соблюдения прав человека – не уступка Западу, а необходимый залог развития страны; что демократические преобразования давным-давно назрели и что если их подтолкнет внешняя политика, то честь ей за это и хвала.
И разве не в интересах СССР было попытаться превратить Европу из зоны своего самого острого противоборства с Западом в дружественный регион, материализовать политику разрядки, в том числе в военной сфере, наладить столь необходимое сотрудничество? Фронтовика Брежнева особенно прельщала возможность подвести коллективный итог войне, торжественно открыть вместе с руководителями европейских государств, США и Канады новую страницу в истории Европы. Принятие на высшем уровне Заключительного акта в ходе третьего этапа совещания обещало стать (и стало) подлинным апофеозом политики разрядки. А без противовеса – шагов в области прав человека – Запад на это никогда не пойдет, говорили, и абсолютно справедливо, Брежневу его советники. Круг таких людей был, конечно, очень узок. Но некоторые из них находились на постах, позволявших влиять на высшую политику.
Кто решился бы пойти против генсека? Политбюро ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета СССР, Совет министров СССР в совместном документе дали высочайшую оценку результатам общеевропейского совещания. И они того стоили.
Неприятности для либералов начались позже, когда улеглась эйфория и помощники «ястребов» в советском руководстве внимательно прочли Заключительный акт. Оказалось, что среди десяти принципов, которыми подписавшим документ государствам отныне надлежало руководствоваться, фигурирует такая заповедь, как «уважение прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений». Выходит, это уже не является нашим внутренним делом, мы должны перед кем-то отчитываться? А как относиться к таким положениям, как облегчение доступа к информации, воссоединение семей, приглашение наблюдателей на военные маневры? Оговорки, причем существенные, которыми снабдил документ мудрый Ковалев, в расчет не брались.
Ортодоксы упрекали «голубей»: вы заплатили Западу «третьей корзиной» за то, что страна и так имела, – территориальную целостность в Европе, существование ГДР. Запад же, утверждали они, получил лазейки для вмешательства во внутренние дела СССР, а посему отбивать вражеские поползновения теперь будет сложнее.
Втихомолку были сделаны некоторые оргвыводы, в частности, в отношении главного закопёрщика – Ковалева. Правда, мягкие: его всего лишь «прокатили» на выборах в ЦК. Основной же негласный вывод – спустить на тормозах гуманитарные и иные неподходящие договоренности, тем более что они, как и все другие в Заключительном акте, носят не обязывающий международно-правовой, а морально-политический характер. Как после партсобрания: поговорили и разошлись...
Надо сказать, что интуиция не обманула консерваторов. Действительно, обязательства, пусть и формально, но всё же взятые на себя Москвой, довольно скоро превратились в средство давления. Причем не только извне, но и изнутри – со стороны движения правозащитников, которые апеллировали как раз к хельсинкскому Заключительному акту. Когда же во второй половине 1970-х разрядку сменило новое резкое похолодание, понятие «права человека» вообще оказалось одним из таранов, что использовались американцами против «империи зла». Это позволяет нашим деятелям антизападного толка и по сей день говорить о том, что СССР-де привела к краху та «слабина», которую руководство с подачи либералов дало в 1975 году. В реальности дело обстоит с точностью до наоборот. Фатальными стали не принятые обязательства, а отказ Москвы идти путем, предначертанным в Заключительном акте, и втягивание Советского Союза в еще один, ставший непосильным виток противостояния с Западом.
ПОСЛЕ ХЕЛЬСИНКИ
Триумфальное завершение хельсинкского форума многими было представлено как похороны холодной войны. «Ведьма», однако, оказалась живучей, и впоследствии, как мы знаем, ее погребали еще много раз. Достигнув пика в момент подписания Заключительного акта, общеевропейский процесс далее развивался скорее в сторону затухания. Вопреки всем надеждам, в нашей внутренней жизни практически ничего не изменилось. Однако во внешнеполитической сфере оживились двусторонние, прежде всего экономические, отношения и политические контакты, началось и «дозированное» трансграничное общение между рядовыми гражданами. Было подписано первое долгосрочное (до 2003 года) соглашение о поставках в Европу природного газа из СССР. В Европе международный климат тоже улучшился: например, Италия и Югославия окончательно договорились о Триесте.
Одновременно Москву все громче обвиняли в несоблюдении Заключительного акта, который нередко подавался широкой публике как документ, состоящий лишь из одной «третьей корзины», да и то не всей. Первая после Хельсинки встреча стран – участниц совещания (Белград, 1977–1978), созванная с целью продолжить процесс, свелась к топтанию на месте.
В конце 1970-х для разрядки и ее адептов наступили совсем уж тяжкие времена. По обе стороны разделительной линии между Востоком и Западом тон все больше задавали круги, не заинтересованные в серьезном ослаблении напряженности. Думаю, что в глубине души советское руководство не верило, что на Земле есть место для двух общественных систем. Многие поколения руководителей были воспитаны в духе «кто кого закопает». Отсюда вытекало, что разрядка – дело преходящее: нас, мол, обманут, так что дальше реализации определенного минимума идти не стоит, да и классовый противник поступит так же. Наращивание вооружений неминуемо, хотя кое-какие ограничения не повредили бы. Могущественный ВПК такая постановка вопроса вполне устраивала.
Разрядка в понимании тридцатилетней давности совершенно исключала какую-либо «идеологическую конвергенцию». Невзирая на подписанный Заключительный акт слова «права человека» продолжали писать в кавычках, сопровождая их эпитетом «так называемые». Разговор об общечеловеческих ценностях начался много позже – с приходом Михаила Горбачёва и началом перестройки.
Наконец, статус-кво поддерживали только в Европе, во многих других регионах шла ожесточенная борьба – в Юго-Восточной Азии, Центральной Америке (Никарагуа), Африке (Ангола). Так, спустя всего лишь несколько месяцев после подписания Заключительного акта на «социалистический путь развития» стала Ангола во главе с «марксистом» Агостиньо Нето, что произошло при военно-политической поддержке Москвы и Гаваны и вызвало на Западе бурю возмущения. А с декабря 1979 года, когда началась афганская кампания, небо потемнело всерьез. С приходом к власти в США Рональда Рейгана американцы решили, что задача сокрушить стратегического конкурента не столь уже невыполнима. Сжатие тисков гонки вооружений в сочетании с массированным давлением именно по линии несоблюдения прав человека оказалось весьма эффективным.
В той обстановке хельсинкский процесс едва не приказал долго жить. Вторая встреча в рамках Заключительного акта – в Мадриде (1980–1983) – больше походила на затянувшуюся на три года стычку. И немудрено – ведь она проходила на фоне действий советских войск в Афганистане, бойкота московской Олимпиады, конфликта вокруг размещения ракет средней дальности в Европе, введения военного положения в Польше и, наконец, событий вокруг сбитого южнокорейского «Боинга».
Спасителем общеевропейского процесса снова стал генеральный секретарь ЦК КПСС, на этот раз Юрий Андропов. Советскую делегацию в Мадриде возглавлял Леонид Ильичев – человек, безусловно, неординарный, но взглядов отнюдь не «голубиных». (Позже его заменил на этом посту Анатолий Ковалев.) С американцами, потерявшими интерес к общеевропейскому процессу, правда, за исключением случаев, когда появлялся повод «прижать» нас по гуманитарной части, он действовал очень жестко. Дело могло кончиться либо принятием сугубо формального итогового документа, либо вообще констатацией (как предлагали США) того факта, что договориться не удалось. Из частого общения с министром (я был тогда заведующим 1-м Европейским отделом, куда входит Испания) делаю четкий вывод, что Громыко не считает такой вариант неприемлемым.
Это означало бы, что торпедируется созыв Конференции по военной разрядке и разоружению в Европе, за который мы боролись несколько лет, а истощившийся общеевропейский ручеек вовсе перестанет течь. Понимаю, чем может грозить вынос сора из избы, но все же решаюсь позвонить Анатолию Блатову – помощнику Андропова. Анатолий Иванович драматизма ситуации не чувствует, ибо – старый аппаратный прием – до него доходят не все депеши, но суть дела схватывает мгновенно. На следующий день перезванивает: «Тревожный сигнал возымел действие». Я это уже понял: шеф развернулся на 180 градусов. В конечном счете провала Мадридской встречи удалось избежать, а вышеназванная конференция открылась в январе 1984-го в Стокгольме.
А может быть, зря спасали общеевропейский процесс? В тот раз – точно не зря, поскольку политическая обстановка и так была настолько накалена, что еще один удар мог оказаться роковым. Андропов понимал, что «захлопнуть» разрядку не в наших интересах. В принципе же подобный вопрос подспудно ставился неоднократно: мол, политическая задача выполнена, нерушимость обеспечена, а от всяких добавок и продолжений – одна морока.
Перестройка сняла на время сомнения. Хельсинкские договоренности начали выполнять у нас по тем разделам, которые раньше клали под сукно, и от перемен страна только выигрывала. К примеру, сколько можно было терпеть такой постыдный, к тому же затратный анахронизм, как глушение иностранных радиостанций? Полностью это прекратили лишь в 1988 году, когда Горбачёв уже три года находился у власти. Это стало одной из наших «уступок», способствовавших успешному завершению третьей общеевропейской встречи (Вена, ноябрь 1986 – январь 1989). Обсуждение проблем прав человека с американцами имело менее конфронтационный характер. Мой тогдашний визави, заместитель госсекретаря США по гуманитарным делам Ричард Шифтер, до сих пор считает, что взаимодействие по этим вопросам сыграло решающую роль в успехе встречи. (Одним из направлений, которое я курировал в МИДе, став в 1986 году замминистра, являлись права человека. Впервые эти слова стали употребляться без кавычек.)
Взявшись за создание правового государства, Горбачёв и команда исправляли целый ряд несправедливостей и несуразностей, свойственных советскому обществу. Это было наше внутреннее дело, наша собственная инициатива, фактически нам не требовались импульсы извне. Одновременно это обусловило пик общеевропейской активности. Мы замахнулись даже на проведение Московского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ и успешно провели-таки (в сентябре 1991-го!) один из ее этапов.
А вот самый крупный международный документ того периода – Хартия для новой Европы, принятая на встрече в верхах в рамках СБСЕ в Париже (ноябрь 1990 года), сыграла, по моему мнению, скорее отрицательную роль. В общий европейский дом она так никого и не привела, ожидания породила завышенные и, строго говоря, неисполнимые по определению, затуманила видение подлинных европейских проблем – воссоединения Германии, развала социалистического лагеря, прогрессирующего ослабления СССР.
МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ
После ухода со сцены Советского Союза общеевропейский процесс стал терять смысл. Идея Хельсинки, по сути, служила договоренностям между Востоком и Западом тогда, когда под этим понимали две общественные системы. Первоначальный замысел повис в воздухе, как только данное деление исчезло, причем скорее вопреки принципам нерушимости границ и территориальной целостности, установленным в Заключительном акте, чем в соответствии с ними.
Как правило, даже очень хорошим международным договоренностям не суждена долгая жизнь. Не гербовая бумага, а соотношение сил определяет ситуацию. Продлить жизнь процессу не помогла и его трансформация в институт: с 1 января 1995 года СБСЕ преобразовано в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ); впрочем, до конца институционализация так и не доведена. Расширение организации за счет всех бывших республик СССР также не привело к обретению новой цели и повестки дня. За десять лет своего существования ОБСЕ принесла России мало реальной пользы, а в последнее время и вовсе превратилась в орган, миссия которого ограничивается вынесением вердиктов об уровне демократичности выборов на постсоветском пространстве. Причем даже с учетом того, что большинство государств на территории бывшего Советского Союза не могут похвастаться достижениями в области демократии, объективность и неангажированность ОБСЕ вызывает сомнение.
Похоронить ОБСЕ рука не поднимется – жаль уникального евроазиатского форума, где по-прежнему действует принцип консенсуса. Россия имеет там право вето и использовала его, хотя и не так часто, как когда-то в ООН. С другой стороны, нельзя бесконечно оставаться пленниками своей, даже самой прекрасной идеи. Европа и мир изменились радикально. ОБСЕ находится в конце списка международных организаций, посредством которых Россия реализует собственные национальные интересы. Во всяком случае, ее позиции там много ниже Европейского союза или НАТО, отношения с которыми представляют собой пусть и нелегкое, но регулярное, практическое и приносящее свои плоды взаимодействие.
ОБСЕ не стала и уже вряд ли станет основным фактором формирования комплексной, охватывающей все аспекты – от военного до гуманитарного – безопасности в Европе. Сегодня преобладает мелкотемье, не соответствующее изначальному «замаху» этой организации. Не случайно, что после Стамбульской встречи-1999 больше не прошло ни одного саммита в рамках ОБСЕ.
Что ждет эту структуру? Либо хельсинкскому процессу не останется ничего другого, как купаться в лучах прошлой славы, ссылаясь на беспрецедентный опыт совместной работы, на заслуги в деле улучшения общего климата в Европе и продвижения разрядки и сотрудничества, на приобщение к большой политике значительного числа государств, в том числе нейтральных. Либо ОБСЕ трансформируется в сугубо специализированную организацию по выполнению действительно важной задачи – содействия демократическим преобразованиям, правовой модернизации, защите прав человека. Но для этого необходима ее собственная перестройка, такая, которая устроила бы все государства-участники. Консенсус так консенсус.

После СНГ: одиночество России
© "Россия в глобальной политике". № 4, Июль - Август 2005
М.Г. Делягин – д. э. н., председатель Президиума – научный руководитель Института проблем глобализации.
Резюме Драматическое ослабление влияния российской бюрократии на ближнее зарубежье привело к появлению качественно новых проблем, которые она не в состоянии решить. Эти проблемы могут способствовать дестабилизации российского общества, повышая вероятность революционного развития.
Серия «цветных» революций в ряде государств постсоветского пространства резко изменила ближайшее окружение России, создав качественно новую геополитическую реальность. К сожалению, руководство нашей страны до сих пор не только не предприняло попыток скорректировать в этой связи свою политику (как внешнюю, так и внутреннюю), но и даже не продемонстрировало стремление к осознанию масштаба произошедших изменений.
ПРИНЦИП «БОЛЬШОГО РАЗМЕНА»
Анализ внешнеполитических действий российского руководства в первую «пятилетку Путина» создает ощущение последовательного отказа от всех возможностей влияния на страны дальнего зарубежья. Здесь и уход с принципиально значимых в стратегическом отношении военных баз в кубинском Лурдесе и во вьетнамской бухте Камрань, и крайняя сдержанность в вопросах сотрудничества со многими традиционными партнерами, и несамостоятельная позиция в международных организациях, и списание колоссальных долгов (которые, даже будучи безнадежными, являются инструментами влияния), что превратило далекую от процветания Россию в крупнейшего донора Третьего мира, и многое другое.
И общая направленность, и конкретные недочеты российской внешней политики последних лет обусловлены не столько идеологическими установками, сколько стремлением действовать по схеме «большого размена» с развитыми странами, в первую очередь с США. Кремль прагматично преследует вполне конкретную цель – «обменять» остатки своего влияния в дальнем зарубежье (которое унаследовано от СССР и с которым, в общем, непонятно, что делать) на признание развитыми странами его доминирующей роли на постсоветском пространстве, исключая «подобранную» Европейским союзом Прибалтику.
Конечно, принципиальное отсутствие в России специализированных структур, занимающихся анализом, выработкой и согласованием (как с собственными «внутриполитическими» ведомствами, так и с иными государствами) ее внешней политики, не может не накладывать отпечаток на адекватность действий государства в этой сфере. Однако даже знаменитое «ситуативное реагирование» все равно не может осуществляться вне некой общей парадигмы, пусть не формализовавшейся, но подразумевающейся большинством участников внешнеполитического процесса.
В целом схема «большого размена» работала успешно. На всем протяжении «оранжевой революции» представители США вели себя на редкость корректно. Они не противодействовали ни возможной победе Виктора Януковича, ни потенциальной реализации более жестких сценариев, способных впоследствии получить поддержку со стороны официальных российских властей.
В Грузии, где западные фонды, как широко утверждалось, сыграли весьма важную роль, принципиально значимую часть революционных задач на самом важном – первом – этапе выполнили российские акторы, стремившиеся к скорейшему решению ряда конкретных проблем (например, к прекращению полетов вдоль южных границ России самолетов, оснащенных системой АВАКС, или к организации совместного патрулирования границы). Что же касается «тюльпановой революции» в Киргизии в конце марта – начале апреля 2005 года, то она вообще оказалась полной неожиданностью для развитых стран.
Таким образом, до самого последнего момента Запад был готов передать российскому управляющему классу глобальную ответственность за состояние не очень существенного, но потенциально опасного постсоветского пространства. Однако в конечном итоге эта схема рухнула из-за одностороннего нарушения ее не развитыми странами, а российскими чиновниками, еще раз продемонстрировавшими неспособность управлять чем бы то ни было. Разумеется, сыграла свою роль и пресловутая административная реформа, парализовавшая государственный аппарат, но она лишь сделала более явной неэффективность бюрократии, полностью освободившейся от контроля со стороны общества.
СМЫСЛ ПОСТСОВЕТСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
С легкой руки отдельных российских политиков стало модным считать Содружество Независимых Государств исключительно «ликвидационной конторой», призванной обеспечить «цивилизованный развод» и смягчить «фантомные имперские боли» России. Если трактовать значение СНГ лишь в этом узком смысле, то очевидно: его миссия действительно завершена, потребность в нем отпала, и оно должно окончательно переродиться в клуб региональных лидеров, которые время от времени будут вести друг с другом ни к чему не обязывающие беседы и иногда реализовывать совместные гуманитарные программы.
Однако постсоветская интеграция, как таковая, обращена не только в прошлое, но и в будущее. Ведь региональная интеграция – единственный способ выживания относительно слабо развитых стран в условиях неуклонного обострения международной конкуренции, обусловленного глобализацией. Потребность России в постсоветской интеграции носит сугубо практический характер и связана прежде всего с тем, что Советский Союз, при всей разнородности его территории, являлся единым живым организмом, все части которого зависели друг от друга. Между тем за 14 лет, прошедших после разделения СССР на независимые государства, большинство хозяйственных, политических и человеческих связей, соединявших бывшие советские республики в единое целое, разрушены.
Решить же за истекший период позитивную задачу – обеспечить условия для успешной эволюции вновь созданных государств – так и не удалось. Более того, несмотря на отдельные безусловные успехи, ни одна из этих стран не демонстрирует способность к самостоятельному развитию, а следовательно, и к нормальному функционированию в будущем. (Единственным исключением, и то с весьма существенными оговорками, может быть признана лишь Россия.)
Безболезненность выхода Польши, Финляндии и стран Прибалтики из состава Российской империи после Великого Октября во многом объяснялась тем, что империя, прежде чем отпустить народы этих стран в самостоятельное плавание, «воспитала» их до уровня, позволявшего самостоятельно существовать в Европе. В этом заключалось ее принципиальное отличие от западных империй, которые предоставляли независимость в том числе и неподготовленным к самостоятельному развитию народам, что вело к социальным катастрофам и деградации, как, например, это имеет место в большинстве государств современной Африки. Распад Советского Союза был страшен не сам по себе, а именно тем, что независимость получили общества, не готовые к ней, не доросшие до того, чтобы самим управлять своей судьбой. Когда Россия фактически отказалась влиять на них, она проявила преступную безответственность и в итоге принесла неисчислимые бедствия якобы освобожденным ею народам.
Во всех постсоветских государствах к власти пришла бюрократия, вообще не способная обеспечивать грамотное управление. Ни одно из них не является экономически самостоятельным и не может обойтись собственными силами (даже богатейшая Украина, как показывает практика, обеспечивает свои потребности прежде всего за счет воровства российского газа). Ни одному из них (за исключением стран Балтии, сразу взятых Евросоюзом под свое крыло) не удалось обеспечить не то что советский, а просто приемлемый уровень жизни. Все это, конечно, не только наследие (которое в принципе может быть когда-нибудь изжито) тоталитарного режима с его «разлагающим влиянием», но и результат объективных экономических процессов.
Таким образом, Россия оказалась окружена полукольцом территорий, не способных к саморазвитию и нуждающихся во внешней поддержке, причем не только и не столько финансовой, сколько политической, организационной и моральной. По сути дела, в постсоветских странах, большинство которых прошли через массовое изгнание русскоязычного населения (по существу, этнические чистки) и массовую же эмиграцию специалистов, надо заново создавать общества.
Но за решение этой задачи развитые страны взялись только в одной, наиболее цивилизованной части постсоветского пространства – в Прибалтике. Даже самые оптимистичные прогнозы исключают возможность того, что они расширят сферу своей реальной ответственности на какие-либо другие страны, кроме разве что небольшой Молдавии. (Китай, опираясь на Шанхайскую организацию сотрудничества, проявляет большой интерес к стабилизации в Центральной Азии, но он не только не сможет, но и не захочет действовать в этом направлении в одиночку, без участия России).
Это означает, что всем остальным странам постсоветского пространства не останется ничего другого, как либо развиваться при действенной помощи России, либо не развиваться вообще, продолжая деградировать. Между тем деградация постсоветского пространства приведет к возникновению там хаоса, что неминуемо будет означать и хаотизацию нашей страны. Противостояние хаосу на дальних, постсоветских рубежах принесет России больший эффект и позволит сэкономить значительно больше средств, чем наведение порядка внутри нашего общества.
Иначе говоря, если российское руководство не хочет получить в Москве второй миллион не интегрирующихся с коренным населением азербайджанцев, оно должно приложить усилия для нормализации развития Азербайджана и неуклонного повышения уровня жизни его населения. Если руководство России желает остановить пандемию наркомании, ему следует обеспечить такое развитие Таджикистана, которое позволило бы его населению зарабатывать на жизнь созидательным трудом, а не только транзитом афганского героина.
Одним словом, требуется неуклонное углубление и наращивание постсоветской интеграции. Понятно, что усилия подобного рода приобретают длительный, а следовательно, и успешный характер только в том случае, если они взаимополезны и, кроме того, предусматривают коммерческую выгоду для негосударственных, включая и российских, участников. Стало быть, разумный подход России к своей территории и к собственному внутреннему рынку – как товаров, так и рабочей силы – мог бы лечь в основу ее политики в отношении новых суверенных стран – бывших союзных республик.
Постсоветские государства привыкли считать доступ к внутреннему рынку России и возможность транзита через ее территорию чем-то само собой разумеющимся. Между тем простое уважение их суверенитета требует отношения к ним как к равноправным и соответственно обособленным субъектам международной жизни, в том числе и в том, что касается доступа к российским рынкам и территории.
Это не означает некоего «нового изоляционизма» – просто Россия должна начать по-хозяйски относиться к своим владениям и, в частности, воспринимать свои рынки и свою территорию именно как свои, а не как находящиеся в чужой собственности или, по крайней мере, в свободном доступе для всех желающих. В рамках данной парадигмы логично рассматривать доступ к своему рынку и к своей территории как услугу, подразумевающую ответные услуги, например такие, как предоставление российскому капиталу преимущественных прав на приобретение тех или иных объектов собственности и особый статус граждан России на территории соответствующих стран. Подобные встречные услуги и станут своего рода «платой за развитие».
ПРОБЛЕМА СОТРУДНИЧЕСТВА С УКРАИНОЙ
В настоящее время уже практически не вызывает сомнений тот факт, что «оранжевая революция» в Украине окончательно развеяла надежды на интеграционистские возможности Содружества Независимых Государств в его современном виде. Действительно, только представители российской бюрократии с ее навыками самоотверженного игнорирования реальности могут делать вид, что жесткая европейская ориентация нынешнего руководства Украины никак не разрушает идею Единого экономического пространства. Ведь если Европейский союз не желает даже говорить о возможном включении в его состав Украины, то это отнюдь не означает, что со стороны украинского руководства не последует односторонних шагов, не только исключающих углубление ее интеграции в Россию, но и, напротив, ведущих к неминуемой дезинтеграции экономик двух стран.
Так, Украина намеревается снизить пошлины на импорт европейского продовольствия (причем его производители получают наибольшие объемы субсидирования в мире) с нынешнего запретительного уровня до 10–20 %. Понятно, что данная мера вынудит Россию ввести в отношении Киева новые серьезные ограничения, с тем чтобы не допустить уничтожения собственного сельского хозяйства. Это в свою очередь и резко осложнит переговоры России о ее членстве в ВТО (а с ними – и весь комплекс отношений с развитыми странами), и обострит ее отношения с нынешним украинским руководством.
Существует и проблема сворачивания в соответствии с интересами Запада украинского ВПК, в том числе предприятий, жизненно важных для российского оборонного комплекса. Нельзя исключать возможность того, что украинская конверсия, осуществляемая на американские деньги (или, по крайней мере, под американские обещания), создаст сложности даже для стратегической компоненты российской обороноспособности.
Возможно, в ближайшие годы актуальной станет и защита некоторых видов российской собственности в Украине, в первую очередь недвижимости в Крыму, принадлежащей в том числе гражданам России – физическим лицам. Вместе с тем не вызывает сомнения, что возрастет роль Украины как убежища российских собственников, прежде всего средних и мелких, ищущих спасения от произвола и насилия со стороны «силовой олигархии» (под этим термином понимается доминирующий в современной России социальный слой, представители которого связаны с государственными структурами и широко применяют насилие от имени Российского государства и якобы в его интересах или угрозу применения такого насилия для личного обогащения).
Обострятся традиционные разногласия, связанные с оплатой Москвой газового транзита, с одной стороны, и «несанкционированным отбором» газа Киевом – с другой, не говоря уже о противоречиях по такому болезненному для Украины вопросу, как цена на российский и туркменский газ. Наконец, действия нынешних украинских лидеров по сдерживанию цен на нефтепродукты способны сильно ударить по карману российских нефтяников. (От этого могут пострадать и «силовые олигархи», которым отечественные нефтяные компании, работающие в Украине, вынуждены передавать значительную часть своих доходов. Поскольку решающую роль в определении российской политики играет как раз «силовая олигархия», можно ожидать и существенных политических – правда, асимметричных – шагов).
Российское руководство до сих пор не выработало свое отношение к указанным проблемам, и значит, эти проблемы, пока еще внешние, будут в дальнейшем только обостряться и постепенно превратятся во внутренние.
НАСТУПЛЕНИЕ ИСЛАМА
Главная же угроза дестабилизации России исходит, конечно, от стремительной экспансии радикального ислама. Вопреки расхожему мнению, распространение исламистских настроений в постсоветских государствах обусловлено не столько внешними, сколько внутренними факторами: последовательно проводимая и поддерживаемая Россией социально-экономическая и административная политика правительств этих стран такова, что ислам там становится единственным общедоступным инструментом реализации присущей человеку тяги к справедливости.
Надо отметить, что ислам, проповедующий идеи социальной справедливости, повсюду завоевывает новые позиции; на постсоветском же пространстве эта тенденция проявляется особенно ярко вследствие резкого падения уровня жизни и всеобщего ощущения безысходности. Социальный характер современного ислама практически ставит его на место дискредитированной коммунистической идеологии. (Интересно, что партия «Хизб-ут-Тахрир», имеющая широкую сеть по всей российской территории, стремится к построению всемирного исламского государства, допуская возможность его создания поначалу и «в отдельно взятых» странах, в частности в России.)
Главная причина восстания в Киргизии – невыносимые условия жизни большинства населения. Аналогичные проблемы – в Узбекистане, Таджикистане и Туркмении. Киргизская революция привела к власти представителей так называемых южных кланов, которые традиционно, несмотря на жесткие контрмеры Аскара Акаева, укрывали у себя представителей Исламского движения Узбекистана (ИДУ) и соответственно были связаны с наркомафией.
Что касается восстания в узбекском Андижане, то его успешное подавление режимом Ислама Каримова не является стратегически значимым, поскольку не устранены ни причина восстания – массовая нищета и отчаяние, ни «субъективный фактор» будущей революции в лице ИДУ. В этих условиях ужесточение репрессий лишь провоцирует выступления против власти.
В стратегическом плане свержение Каримова представляется почти неизбежным. Между тем плоды народного восстания в исламских странах обычно пожинают силы, связанные с радикальными исламистами. Революция в Киргизии не станет исключением. Она неминуемо активизирует деятельность радикальных исламистских структур и, весьма вероятно, приведет к формированию, по крайней мере в Ферганской долине, исламского государства, существующего в значительной степени за счет наркобизнеса, – аналога Афганистана времен талибов, только на тысячу километров ближе к России. Поэтому Москве надо сделать все, чтобы избежать такого хода событий, прежде всего добиться от киргизского руководства смены социально-экономического курса – единственной меры, способной предотвратить массовые беспорядки в стране. Но с этой задачей российская бюрократия не справится не только из-за своей неэффективности, но и из-за присущего ей пренебрежения социальными интересами граждан (как собственных, так и любых других). Последствия такого сценария нетрудно предугадать. Это – дальнейшее продвижение радикального ислама, грозящее разделением российского общества на две различные общины, а также усиление террора и новый виток пандемии наркомании.
«ЦВЕТНЫЕ» РЕВОЛЮЦИИ И РОССИЯ
Таким образом, драматическое ослабление влияния российской бюрократии на ближнее зарубежье привело к появлению качественно новых проблем, которые она не в состоянии решить и которые могут способствовать дестабилизации российского общества, повышая вероятность революционного развития.
При всех своих национальных особенностях «цветные» революции имеют общие родовые черты. Прежде всего это насильственная смена власти, организованная небольшой энергичной группой людей и осуществляемая под прикрытием демократических процедур и лозунгов; при этом, как показал киргизский опыт, наличие сильной организованной оппозиции, не говоря уже о популярных и эффективных лидерах, не обязательно.
Важнейшим фактором революции является иное – массовый характер недовольства (и в том числе непременно в среде элиты) правящим режимом и неадекватность последнего, то есть неспособность упредить революцию, удовлетворив хотя бы наиболее острые потребности общества.
С этим условием в современной России всё в порядке: почва подготовлена. 85 % населения страны – малоимущие (по данным социологических исследований Центра Юрия Левады, к таковым относятся граждане, которые не имеют денег на покупку простой бытовой техники), значительно пострадавшие в результате монетизации льгот и с недоверием относящиеся к грядущей коммунальной реформе. При этом суть сложившейся политической системы состоит в освобождении и государства, как такового, и обслуживающих его чиновников от какой-либо ответственности, в том числе перед населением. Демонстрируя формальную лояльность высшей власти, бюрократия получила полную свободу произвола. Демократия, как институт принуждения государства к несению ответственности перед обществом, практически искоренена.
Правящая бюрократия умудрилась восстановить против себя наиболее значимые для российской политической жизни «группы влияния». Региональные элиты лишились политических прав, не получив никаких компенсаций. И даже силовые структуры – опора правящей бюрократии – подверглись сильнейшему унижению в ходе монетизации льгот и раздражены откровенной неспособностью руководства страны защищать национальные интересы (особенно болезненно они воспринимают именно провалы на постсоветском пространстве, являющемся в их глазах «задним двором» России).
Нынешняя модель экономики в принципе не способна к саморазвитию. Она представляет собой некий устойчивый симбиоз: с одной стороны, либеральные фундаменталисты, отбирающие у населения деньги в пользу бизнеса в ходе псевдолиберальных реформ, с другой – «силовая олигархия», отнимающая эти же деньги у бизнеса для непроизводительного потребления. При этом растущие аппетиты «силовых олигархов» (по некоторым оценкам, уже в 2004 году их доля достигала 25 % оборота ряда крупных коммерческих предприятий) не позволяют большинству видов бизнеса нормально развиваться.
В этих условиях все более актуальным становится вопрос не о смене власти, как таковой, а о модели этой смены.
Ясно, что российский вариант будет отличаться от украинского. У нас можно ожидать иную степень озлобленности народа, наличие сильнейшего исламского фактора (ведь исламские общины практически не имеют представительства на федеральном уровне), а также реальное воздействие на ситуацию со стороны международного (а не только чеченского и дагестанского) терроризма.
Отличия от другого крайнего – киргизского – сценария тоже очевидны. Поскольку российскому обществу не свойственно клановое устройство, российские «революционеры» будут вынуждены делать ставку не на «своих», а на привлекательные и хоть как-то проработанные идеи. Вместе с тем не вызывает сомнения, что российская власть окажет серьезное сопротивление, которое выкует последовательных и дееспособных лидеров из аморфного оппозиционного конгломерата.
Таким образом, нестабильность в ряде стран СНГ, вызванная срывом процессов постсоветской интеграции в результате неадекватных действий нынешней российской бюрократии, может стать катализатором драматических процессов оздоровления политической системы в России. К власти должно прийти новое поколение политиков, ответственных перед своей страной и способных осуществить как модернизацию самой России, так и постсоветскую реинтеграцию.

Реформы нельзя закончить
© "Россия в глобальной политике". № 2, Март - Апрель 2005
Лешек Бальцерович – председатель Национального банка Республики Польша, ранее – министр финансов и вице-премьер польского правительства.
Резюме Нет ни одного примера страны, которая находилось бы в лучшем положении только потому, что ей удалось осуществить меньше рыночных реформ. Более того, залог успешного развития не только переходных, но и весьма продвинутых государств заключается как раз в том, что реформы никогда не заканчиваются.
12 декабря 1981 года я в должности вице-председателя Польского экономического общества приехал в Брюссель на международную конференцию. На следующее утро в теленовостях сообщили, что в Польше введено военное положение. Иностранные коллеги в один голос призывали меня не возвращаться в Варшаву. Я не последовал этому совету, не питая, однако, в тот момент никаких надежд на лучшее.
Восьмидесятые обещали стать мрачным временем реакции и жестких мер по укреплению режима. Никто из моих друзей и единомышленников, в принципе достаточно хорошо информированных о ситуации в польской, да и в советской экономике, не мог тогда предположить, что через какие-нибудь четыре года в СССР начнутся радикальные перемены, которые еще в текущем десятилетии приведут к краху коммунизма в Центральной и Восточной Европе. Представить себе развитие событий по такому сценарию было невозможно, даже обладая самым изощренным воображением.
Скажу честно: несмотря на весь богатый опыт, приобретенный за истекший период, я до сих пор не могу однозначно сказать, почему «социалистический лагерь» рухнул так быстро. Конечно, уже в 1970-х годах стало понятно, что коммунистический строй тормозит любой прогресс и способен только на то, чтобы воспроизводить застой. С точки зрения экономической науки это было очевидно, как был очевиден и коренной порок того мессианского учения, которое Карл Маркс почему-то называл наукой. Маркс утверждал, что развития можно добиться, лишив людей экономической свободы. Если бы марксизм оставался не более чем интеллектуальным течением в среде левых университетских профессоров, многие, наверное, до сих пор всерьез рассматривали бы предлагаемый им путь в качестве возможной альтернативы рыночному хозяйству. Но практический опыт строительства социализма продемонстрировал (и это, пожалуй, единственный положительный результат зловещего эксперимента), что отказ от частной собственности – путь к неизбежному упадку и, напротив, поощрение предпринимательской инициативы – способ двигаться вперед. Так что в исторической перспективе тоталитарные системы, основанные на плановой экономике, были обречены.
Однако порочность социально-экономической базы той или иной системы является необходимым, но не достаточным условием ее устранения. Известно немало режимов, которые ничуть не лучше и не эффективнее тех, что существовали в странах «народной демократии», но при этом они выживают и даже по-своему устойчивы. Северная Корея, Куба и Бирма являются наиболее наглядными примерами такого рода.
Крушение советского блока, безусловно, результат стечения целого ряда обстоятельств. И все же одним из ключевых является фактор личности, роль которой, кстати, всегда недооценивалась марксистами. Займи место Михаила Горбачёва человек с иными взглядами и чертами характера (а это было вполне вероятно, учитывая ситуацию в тогдашнем Политбюро), и попытки вдохнуть новую жизнь в агонизирующий строй придали бы развитию событий совсем другое направление. Нет сомнений в том, что рано или поздно все закончилось бы примерно тем же, однако сроки, а главное – цена перемен оказались бы совершенно иными.
Сомневаюсь, что, инициируя весной 1985-го «ускорение социально-экономического развития на основе научно-технического прогресса», Горбачёв предвидел практические последствия этих лозунгов. Но генеральный секретарь дал первоначальный импульс, а дальше процесс начал стремительно развиваться сам собой.
Мировая история знает немало примеров, когда из-за отсутствия «локомотива», лидера преобразований упускались реальные назревшие реформы. Есть, впрочем, и совершенно противоположные случаи, когда наличие сильной и яркой личности способно компенсировать частичное отсутствие объективных условий для революционных изменений. В эпоху крушения социализма недостатка в подобных фигурах не было. Очевидно, именно в этом и заключается высшая историческая справедливость: в решающий момент сторонники перемен оказались, как личности, намного сильнее и энергичнее тех, кто пытался сохранить статус-кво.
Масштаб трансформаций, охвативших Европу и Евразию в последние два десятилетия, настолько велик, что споры об этом грандиозном переломе не затихнут еще многие годы. Одна из постоянных тем дискуссий – универсальны ли по своему характеру экономические рецепты, или в каждом конкретном случае следовало и следует идти особым путем?
Существует прямая аналогия между экономической политикой и медициной. Если двум разным пациентам, например китайцу и русскому, ставят один и тот же диагноз, им прописывают одинаковую терапию. Лечение экономических недугов точно так же предполагает наличие универсальных рецептов. Конечно, между китайцем, русским, поляком, эстонцем и казахом достаточно различий, но только не с точки зрения экономики. Мировая экономика представляет собой единое пространство, которое функционирует по одним и тем же законам, а сами эти законы вытекают из основополагающих свойств человеческой природы. Той природы, в которой прекрасно разбирался Адам Смит.
В 1980-е годы мы с группой коллег, не надеясь ни на какие перемены в Польше, очень серьезно изучали зарубежный, в частности латиноамериканский, опыт реформ. Такая работа не выходила за рамки научной дискуссии, но она оказалась весьма кстати в 1989-м, когда нам пришлось взяться за практические преобразования. К тому моменту сложилась группа единомышленников, мнения которых совпадали по принципиальным вопросам – необходимости либерализации, приватизации, жесткой монетарной политики. И хотя в практической деятельности мы, разумеется, столкнулись с многочисленными проблемами, предвидеть которые не могли, у нас уже имелся общий план действий. Главное, мы отдавали себе отчет: чтобы реформы увенчались успехом, они должны быть нацелены не на косметические изменения, не на «совершенствование» социализма с целью придания ему «человеческого лица», а на коренное переустройство плановой экономики. Именно такой подход и являлся единственно верным для любой из постсоциалистических стран.
Бессмысленно оспаривать наличие серьезного разрыва в уровне развития между разными странами бывшего советского блока – этот разрыв особенно ощутим, если сравнивать условия экономической деятельности, масштабы неравенства, эффективность систем здравоохранения и образования, степень защиты окружающей среды и т. д. В одних странах положение за годы реформ существенно улучшилось, в других – претерпело менее заметные изменения, в третьих – даже ухудшилось. Это вовсе не означает, что одни нации больше приспособлены к свободному рынку, а другие – меньше. Иное дело, что дает себя знать различие стартовых условий. Но на основе многочисленных эмпирических исследований легко прийти и к другому выводу: чем больше рыночных, ограничивающих государственное вмешательство, реформ проводится правительством, чем последовательнее они воплощаются в жизнь, тем выше достигнутые результаты. Нет ни одного примера страны, которая находилась бы в лучшем положении только потому, что ей удалось осуществить меньше рыночных реформ.
В любом государстве всегда присутствует обширный популистский фронт, который под разными предлогами, в том числе и ссылаясь на «национальную самобытность», противодействует реформам, предлагая взамен всевозможные «чудодейственные» средства для решения проблем. Успех зависит от того, способно ли общество дать организованный отпор популистам, не позволить им увести нацию в сторону от назревших преобразований.
Более того, залог успешного развития заключается как раз в том, что реформы никогда не заканчиваются. При этом представление о том, что они проводятся только под эгидой государства, является устаревшим. Государственное вмешательство следует ограничить настолько, чтобы предоставить свободу действий остальным участникам экономической жизни для самостоятельного реформирования и адаптирования к требованиям рынка.
Все наиболее динамичные экономики мира объединяет одно общее качество: в них никогда не прекращаются преобразования. Двигатель развития всякой свободной экономики – предприятия, и если они хотят быть конкурентоспособными, то должны постоянно развиваться, трансформироваться. В условиях современного глобального хозяйства невозможно стать победителем раз и навсегда, свое место надо постоянно отстаивать в мирной, но жесткой борьбе. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить список крупнейших американских корпораций двадцатилетней давности с их сегодняшним списком: многие тогдашние флагманы, не выдержав конкуренции, сошли со сцены и уступили место другим.
Реформы – это необходимое условие прогресса не только переходных, но и состоявшихся, мощных экономик. Там, где реформы замедляются, вскоре начинается отставание. К примеру, сегодня проблемы испытывают такие столпы – основатели Европейского союза, как Германия, Франция, Италия. Почему? Потому что там вовремя не были проведены важные реформы – между прочим, те самые, что в рамках подготовки к вступлению в ЕС были осуществлены в большинстве постсоциалистических стран: в Германии – реформа рынка труда, во Франции и Италии – реформа социальной сферы. Иная ситуация в Великобритании, Дании, Финляндии – странах, которые в силу разных причин были вынуждены в свое время пойти на болезненные преобразования.
Европу беспокоит ее отставание от Соединенных Штатов. Чтобы сократить его, необходимо последовательно реализовывать принятые ранее решения.
Во-первых, завершить строительство единого рынка, что на практике означает расширение свободного рынка услуг. На сектор услуг приходится более 70 % общеевропейского ВВП, но именно он раздроблен национальными барьерами, попытки же устранить их наталкиваются на противодействие отраслевых лобби в разных странах. А не преодолев протекционистских устремлений, единый рынок не построить.
Во-вторых, поддерживать фискальную дисциплину, то есть строгое выполнение условий Пакта стабильности и роста, против которого высказываются сегодня некоторые крупнейшие страны – члены Евросоюза. Их позиция идет вразрез с теми принципами, соблюдения которых вполне справедливо требовали от государств, вступавших в ЕС.
В-третьих, ограничить субсидирование предприятий из общественных фондов. Чем дальше будет продвигаться процесс преобразований Европейского союза и его отдельных стран-членов в направлении свободного рынка, тем выше шанс догнать Соединенные Штаты.
Я убежден, что в XXI веке успех всегда будет сопутствовать тем, кто сможет реформироваться быстрее и глубже других.
Одна из популярных тем для дискуссий – возможны ли эффективные экономические реформы в условиях авторитарной политической системы? Исследования не дают однозначного ответа, который говорил бы о наличии прямой связи между типом политической системы и темпами развития. Однако надежнее всего – исследовать данный вопрос, обратившись к данным статистики. Страны, успешно осуществившие реформы в условиях диктатуры, можно пересчитать по пальцам: Южная Корея, Тайвань, Чили, возможно, еще две-три. Но это явные исключения, потому что подавляющее большинство диктатур – десятки недемократических режимов в Азии, Африке, Латинской Америке – приводили свои народы к экономическим кризисам, если не катастрофам.
Говорят, что недемократическая власть «твердой руки» – гарантия осуществления реформ в переходный период, а по его завершении, мол, можно провести постепенную демократизацию такого режима. Однако политическая несвобода почти всегда влечет за собой несвободу экономическую, а чрезмерная концентрация власти, не ответственной перед населением, неизбежно наносит урон правовой системе. Сегодня мы сталкиваемся с феноменом лидеров, приходящих к власти формально демократическим путем (как Уго Чавес в Венесуэле или Александр Лукашенко в Белоруссии), но считающих возможным попирать законы. Изъяны же в функционировании правовой системы подрывают незыблемость прав собственности – фундамент любых преобразований.
В процессе реформ должна быть поставлена цель создания правового государства, которое стоит на страже индивидуальной свободы, в том числе экономической, а значит, частной собственности. Страна, в которой собственники не будут уверены в своих правах, никогда не сможет достигнуть нормального развития.

Оранжевый цвет буржуазии
© "Россия в глобальной политике". № 1, Январь - Февраль 2005
В.П. Дубнов – первый заместитель главного редактора журнала «Новое время».
Резюме Постсоветские бюрократические революции начала XXI века – не народные восстания, сметающие общественный строй. Это новые версии буржуазных революций XVII—XVIII веков, когда наиболее активной части правящего класса становится тесно в рамках существующей системы.
«Оранжевая революция» в Киеве почти день в день совпала с первой годовщиной «революции роз» в Тбилиси, а за минувший год случились мини-революции в Аджарии и Абхазии. Волна перемен набирает ход и, похоже, имеет шансы приобрести в СНГ и России почти такое же значение, какое в конце 1980-х годов придавалось в Восточной Европе и СССР череде «бархатных революций». Тогда уходила целая эпоха, исчерпавшая свой исторический потенциал. Ее вождей, не способных к переменам, не захотели защищать даже самые преданные сподвижники. В ноябре 2003-го перед митингующей толпой точно так же расступились тбилисская милиция и охрана Эдуарда Шеварднадзе.
Однако, как ни соблазнительно увидеть в киевском «оранжевом» и тбилисском «розовом» продолжение восточноевропейского «бархатного», ничего не получается. В отличие от Праги пятнадцатилетней давности нынешний постсоветский бунт зреет на самом деле не в кружках диссидентов-интеллектуалов и не в студенческих аудиториях. Конечно, без широкого массового недовольства политикой действующего руководства невозможны никакие перемены. Но подлинные тектонические сдвиги происходят внутри правящей элиты. Смена власти в условиях более или менее свободной конкуренции – это шанс для всех группировок и политических сил реализовать свои амбиции. Нежелание уходить или же намерение режима любой ценой продолжить себя в преемнике ставят крест на этих надеждах. Осознание отсутствия перспектив порождает сопротивление, козырным аргументом в котором становится поддержка улицы. Бюрократические революции начала XXI века – не народные восстания, сметающие общественный строй. Это в каком-то смысле новые версии буржуазных революций XVII—XVIII веков, когда наиболее активной части правящего класса становится тесно в рамках существующей политико-экономической системы.
УГРОЗА ИЗНУТРИ
Основой власти постсоветского образца является регулируемая передача полномочий – в этом, собственно говоря, и заключается суть «управляемой демократии». Такая система по-своему очень устойчива, номенклатурные механизмы легко перетирают в своих жерновах любого харизматического дилетанта. Это, кстати, одна из причин того, почему постсоветская оппозиция в массе своей весьма невыразительна. Публичная оппозиционная деятельность выглядит столь бесперспективной для успешного самовыражения, что те, кто мог бы стать Валенсой или Гавелом, уходят в иные сферы – бизнес, науку, публицистику, а то и предпочитают эмиграцию.
Однако угроза чиновно-бюрократической стабильности кроется в недрах самого режима. Удел подобной власти, даже преуспевшей в деле «строительства вертикалей», – необходимость постоянно устанавливать внутренние балансы. До поры до времени это возможно, но критическим моментом становится операция «Преемник». И нет ничего более мучительного, чем отбор претендентов на эту роль. Все это оттого, что внутри системы вызревает новая элита, которая не хочет продолжать игру по старым правилам.
У одних ее представителей, наподобие Михаила Саакашвили, воспитанника и верного ученика Шеварднадзе, просто не хватает терпения дождаться своей официальной «номинации». Другие по каким-то причинам были отторгнуты властью, как когда-то Борис Ельцин, а впоследствии экс-премьер Казахстана Акежан Кажегельдин или тот же Виктор Ющенко. Наконец, третьи, например мэр Кишинёва Серафим Урекян, ощущая неустойчивость режима, переходят в оппозицию, оставаясь на высоких должностях.
Вызов, брошенный власти, может выглядеть вполне умеренным, но он становится ясным сигналом для номенклатуры, а она ждет этого сигнала тем более напряженно, чем жестче пресс и соответственно выше риск выдать свои ожидания. Экс-министра внешнеэкономических связей Белоруссии, бывшего посла в Латвии и Финляндии Михаила Маринича не допустили до президентских выборов 2001 года, а в дальнейшем и отправили за решетку не потому, что у него были шансы на победу. Просто белорусской элите дали ясно понять: даже и не думайте! Там, где нелояльность не пресекается столь жестким образом, все рушится в одночасье, как это случилось в Аджарии. Никакие внешние признаки безраздельного господства Аслана Абашидзе не уберегли его от массового бегства номенклатуры. Что и решило исход дела.
По сути, плавная передача власти удалась пока лишь в России и Азербайджане. В Центральной Азии и Белоруссии, то есть там, где вертикаль выстроена до конца, лидеры предпочли обеспечить себе практически пожизненное право на переизбрание. Что, впрочем, не гарантирует вечного пребывания у власти – ведь внутри зажатой в тиски бюрократии идут те же процессы, что и в странах с более свободной системой.
Шеварднадзе поплатился за то, что непростительно затянул с кастингом на роль преемника. Это должно было послужить уроком для Леонида Кучмы, но украинский президент не успел сделать должные выводы. Хотя о том, что с преемственностью возникнут проблемы, в Киеве получили сигнал еще почти три года назад, когда ни административный ресурс, ни лукавый подсчет голосов не помешали «Нашей Украине» Виктора Ющенко победить на парламентских выборах. Уже тогда стало понятно, что за оставшееся время вылепить из имеющегося материала серьезного соперника Ющенко почти невозможно. Хотя варианты обсуждались. Так, Кучме предлагалось пойти по российскому пути – назначить преемника в лице Владимира Радченко, тогдашнего руководителя Службы безопасности Украины. Но президента его кандидатура не устроила – ведь неизбежными составляющими подобной комбинации являются два фактора. Во-первых, уходящий лидер полон сомнений относительно лояльности преемника. Во-вторых, уходящему совершенно не хочется оставлять свой пост, и до последнего момента нет уверенности в том, что он не передумает.
За год до выборов Кучма прозондировал реакцию Кремля на возможность третьего срока его президентства. Москва, изрядно утомленная объяснениями с западными партнерами по поводу другого «братского» президента, Александра Лукашенко, не согласилась с этой идеей. И тогда Украина приступила к реализации собственного сценария: Леонид Кучма пересаживается в кресло премьера, к которому переходят властные полномочия, а функции президента сводятся к репрезентативным. Характерно, что политическая реформа, в соответствии с которой планировалось осуществить описанный сценарий, была провалена в том числе и стараниями Виктора Януковича. Как оказалось, роль дублера его совершенно не устраивала.
Три года назад изучение предвыборных партийных списков Кучмы и Ющенко – двух партий власти, реальной и потенциальной, – было увлекательным занятием. Если у Кучмы значился губернатор, то у Ющенко – вице-губернатор или экс-губернатор. То же с министрами. То же с бизнесом. У Кучмы – олигарх, связывающий свои надежды только с действующей властью, у Ющенко – кандидат в олигархи, путь в которые ему этой самой властью закрыт. Ближайший сподвижник нового президента Петр Порошенко, между прочим, один из создателей Партии регионов, стоявшей за Януковичем. Словом, к власти приходят люди, которые не слишком далеко отстоят от тех, кого меняют. Это не Гавел вместо Гусака. И даже не Бразаускас вместо Гришкявичюса и Сонгайлы.
ДВА ПРОЕКТА
Богатый опыт постсоциалистической трансформации свидетельствует: самым действенным стимулом для либеральных преобразований, носящих весьма болезненный характер, является стремление освободиться от внешней зависимости. «Прочь от империи!» – так звучал главный лозунг, начертанный на бархатных революционных знаменах в Восточной Европе.
Под этим знаком в начале прошлого десятилетия сменилась власть во всех республиках Закавказья, а первый президент Украины Леонид Кравчук победил во многом благодаря поддержке «Руха». «Рух» вовсе не был движением либерального толка, как не были таковыми ни литовский «Саюдис», ни все прочие народные фронты. В отличие от партий они не нуждаются в глубокой программе или внятной идеологии и создаются только с одной целью – победить нынешнюю власть, после чего народному фронту предназначено стать протоплазмой для нормальных политических структур. Как это случилось в Восточной Европе и Балтии. Или не стать – как в Украине, Белоруссии или в Закавказье, где первоначального импульса бегства от империи не хватило для того, чтобы совершить рывок в новую реальность.
События осени 2004 года – иллюстрация того, как сегодня трансформировался этот антиимперский порыв. Украинский политолог и культуролог Олесь Доний полагает, что «оранжевая революция» не является, как принято думать, развязкой политического процесса, начавшегося со студенческих выступлений в 1990-м и продолжавшегося акциями «Украина без Кучмы» в 2000–2001 годах: «Это – продолжение очень давнего конкурса двух украинских проектов: русско-культурного и украино-культурного».
Украинское сознание традиционно раздвоено. С одной стороны, стремление к утраченной некогда независимости, с другой – тяготение к империи, краеугольным камнем и важной составной частью (а отнюдь не колонией) которой Украина была всегда. Соответственно украино-культурный проект разрабатывался до недавнего времени исключительно в пику Москве: украиноязычие как форма самоутверждения, неустанная полемика по поводу языка, Крыма и Черноморского флота… Русско-культурный склонялся к сохранению прежней ориентации на Россию, что отражало привычки постсоветской номенклатуры и особенности ее бизнеса.
При этом оба проекта на самом деле являются украинскими, и их наличие не означает раскола страны, хотя проблема ее политико-географической разнородности действительно существует. Данные проекты имеют также весьма опосредованное отношение к проблеме языка и самоидентификации вообще, которая, в свою очередь, от языка уже не очень зависит. Между переписями населения 1989 и 2001 годов число жителей Украины, считающих себя украинцами, увеличилось на три миллиона, хотя большинство продолжает говорить по-русски.
Противостояние Ющенко – Янукович в 2004-м – это своеобразный «римейк» коллизии Кравчук – Кучма-1994. Тогда соперничество бывшего секретаря компартии Украины по идеологии, который волею случая оказался выразителем интересов более национально ориентированной, антиимперской части элиты, и выходца из советского военно-промышленного комплекса, пробуждавшего надежды на возрождение великой державы, закончилось в пользу последнего. То есть в пользу русско-культурного проекта. Роль Кучмы в этом проекте оказалась весьма негативной – ведь из-за его политики российское влияние в Украине стало прочно ассоциироваться с коррумпированным недемократическим режимом. К тому же те представители бизнеса и бюрократии, которым не находилось места в этом режиме, с неизбежностью приходили в поисках политического самоопределения к единственной имеющейся альтернативе – «украинскому» проекту.
Сегодня конкуренция обоих проектов продолжается, но меняется их содержание. По мере становления государства «украинский» проект постепенно обретает самоценность, и вопрос противостояния с Москвой отходит на второй план. Те, кто голосовал за Ющенко или против Януковича, совсем необязательно исходили из дилеммы «За Москву или против», не она определяла и волеизъявление сторонников Януковича. «Украинский» проект постепенно, с перекосами и отклонениями, но все же трансформируется в проект более или менее гражданского государства. «Русский» проект тоже не выступает против украинского государства, но ему ближе другие, более советские принципы его построения.
Если 10 лет назад выразителем данного проекта выступал Леонид Кучма, для которого Москва была привычным центром управления, то Виктор Янукович и его бизнес-патрон Ринат Ахметов, лидер донецкой группировки, руководствуются другими мотивами. Всех своих успехов они добились исключительно благодаря независимости, вернее, даже двум видам независимости – Донецка от Киева и Киева от Москвы, и они прекрасно понимают, что первым суверенитетом они целиком обязаны второму. Их бизнес основан на дотациях из Киева, на освященной Киевом (понятно, что на взаимовыгодных условиях) монополии и на демпинговом экспорте на Запад. Возможно ли такое в сегодняшней России?
Да и в самом Донецке, вроде бы так охотно откликающемся на идеи державного воссоединения, не все так просто. Большинство донетчан считают себя украинцами. Когда-то именно на шахтах создавались первые восточноукраинские структуры «Руха» и даже Хельсинкской группы. Шахтеры приходили в Киев на помощь бастующим студентам и даже предостерегали Кучму от нападок на Юлию Тимошенко, решившую в ее бытность вице-премьером по ТЭКу навести порядок в угледобывающей отрасли.
Победа Виктора Ющенко лавинообразно усилила процесс бюрократического перекрашивания. Бизнес, выдавленный прежней властью, почувствовал шанс восстановить свои позиции. Едва ли не у каждого регионального лидера, стоявшего на «бело-голубых» позициях Януковича – Ахметова, появляется «оранжевеющий» противник. У того же Януковича – руководитель Индустриального союза Донбасса Виталий Гайдук. У «бело-голубого» главы харьковской администрации Евгения Кушнарева – мэр Харькова Владимир Шумилкин… Новая элита, сформировавшаяся в условиях кучмовской византийской системы, постепенно обнаруживает, что в государстве, где не надо тратить силы на бесконечное лавирование между кланами и интересами, политических возможностей куда больше.
НОВАЯ ЦЕЛЬ НОМЕНКЛАТУРЫ
«Конкурс проектов», подобный украинскому, проходит практически во всех странах – участницах СНГ. И везде преимущество, пусть и разными темпами, постепенно переходит к идеологии, которую еще вчера можно было назвать «национальной», а сегодня, хоть и весьма условно, «гражданско-государственной». Поскольку же выбор альтернатив невелик, то эти проекты объективно тяготеют к тому, чтобы стать европейскими. Точно так же, как в начале 1990-х номенклатура поняла, какие выгоды сулит ей суверенитет (то самое «бегство от империи»), нынешняя бюрократия осознала шансы, которые дает состоявшееся государство, признанное на Западе «своим».
В конце февраля предстоят выборы в Киргизии, где оппозиция одевается в желтое, а процесс «пожелтения» чиновников идет полным ходом. И если здесь исход голосования вовсе не очевиден, то в Молдавии, кажется, только чудо может спасти правящих коммунистов от «желто-оранжевого» наступления, возглавляемого кишинёвским мэром Серафимом Урекяном. Новое поколение управленцев и предпринимателей выросло и в Казахстане, где тоже нет недостатка во вчерашних представителях элиты, готовых поддержать номенклатурный бунт. Ждет сигнала белорусская номенклатура, и, даже выстроив совершенную вертикаль власти, Александр Лукашенко столкнется на предстоящих президентских выборах со значительно бЧльшими трудностями, чем в ходе недавнего референдума. Вопрос в лидере – ведь Михаил Маринич выйдет на свободу только через пять лет, но никто и не ждет, что «белорусский» проект победит так скоро.
Политолог Дмитрий Фурман как-то очень точно назвал СНГ содружеством помогающих друг другу президентов. Они могли ожесточенно спорить по любому поводу, но все разногласия, будь то в связи с Панкисским ущельем или Черноморским флотом, отступали, едва перед кем-нибудь из них начинала маячить тень операции «Преемник». Брешь, пробитая в этом фронте Михаилом Саакашвили, неуклонно расширяется, и не стоит винить за это российских политтехнологов или кремлевских стратегов – процесс совершенно объективен. С внешнеполитической точки зрения драмы особой нет: в конце концов, то, что представляется Москве призраком грядущей изоляции, может при здравом подходе оказаться стимулом, чтобы успеть в медленно отъезжающий поезд. Тем более что в России нет ни других стимулов для перемен, ни «конкурса проектов». Наоборот, все возможные альтернативы отступают куда-то на задний план, а освобождающееся место занимает только один проект – некоего туманного реванша, и лишь пикеты пенсионеров выглядят пародийным намеком на «оранжевое». А такие движения едва ли сгодятся в качестве подходящей политической ниши для равноудаленных продуктов номенклатурного распада. Так что у России есть шанс со временем остаться одной из последних постсоветских стран, которой если и грозит буржуазная революция, то только такая же управляемая, как нынешняя демократия.

Европейский союз: модель для сборки
© "Россия в глобальной политике". № 6, Ноябрь - Декабрь 2004
О.В. Буторина – д. э. н., заведующая кафедрой европейской интеграции МГИМО (У) МИД РФ, член научно-консультативного совета журнала «Россия в глобальной политике».
Резюме Хотя европейская интеграция достигла продвинутой стадии, ключевые вопросы – о европейской идентичности
и характере демократии в Евросоюзе – не решены даже частично.
Степень полезности Европейского союза для участвующих в нем 25, а в будущем и 30 стран напрямую зависит от того, как он будет устроен. Речь идет не только о его руководящих органах и их компетенции, но прежде всего и об архитектуре интеграции в целом и ее внутренней логике. С момента основания и до середины 1980-х ЕС эволюционировал линейно и вполне предсказуемо. В основном интеграционный процесс развивался в экономической сфере – вокруг общей таможенной (на базе таможенного союза) и сельскохозяйственной политики. До 1992 года объединение именовалось Европейским экономическим сообществом (ЕЭС), что практически ставило знак равенства между экономической интеграцией и интеграцией вообще, понимаемой как процесс сращивания национальных хозяйств.
Помимо этого отраслевого аспекта у ЕЭС имелся еще один – институциональный. Он тоже с годами укреплялся, о чем, правда, было мало известно за пределами брюссельских коридоров. В 1967-м руководящие органы ЕЭС, Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом) и Европейского объединения угля и стали (ЕОУС) были слиты в единые Комиссию и Совет (министров). К этому времени Суд ЕЭС утвердил примат права Сообществ над национальным. С 1974 года начал работать Европейский совет, в 1975-м была учреждена Палата аудиторов, а в 1979 году прошли первые выборы в Европейский парламент.
Со второй половины 1980-х поле интеграционной деятельности стало заметно расширяться. Во-первых, Сообщество включилось в работу над несколькими новыми неэкономическими проектами. Была сформулирована Общая внешняя политика и политика безопасности, значительно окрепла политика в научно-технической области, сформировалась культурная, образовательная и экологическая политика, появилось Шенгенское пространство. Если, согласно Договору об учреждении ЕЭС, главной целью интеграции являлось развитие экономики (вкупе со сбалансированным экономическим ростом и повышением уровня жизни), то в недавно одобренной Конституции ЕС поставлены такие задачи, как укрепление мира, создание пространства свободы, безопасности и правопорядка, технологический прогресс, сохранение и развитие европейского культурного наследия, утверждение интересов Евросоюза в мире и распространение его ценностей (права человека, демократия, верховенство закона).
Во-вторых, выработана стратегия деятельности не только в условиях общего рынка, но и валютного союза, то есть принят план перехода от негативной интеграции к позитивной. Напомним, что еще с 50–60-х годов прошлого века в европейском строительстве различаются два процесса. Негативной интеграцией называют все мероприятия, цель которых – дать бизнесу свободно работать невзирая на государственные границы. Идеологи такого подхода (например, Вильгельм Репке, Андреас Предоль, Жак Денио, Морис Аллэ) полагали, что достаточно снять торговые и валютные ограничения – и здоровые рыночные силы сами создадут единое экономическое пространство, подобное национальному. Им противостояли защитники позитивной интеграции (Бела Балаша, Джон Пиндер, Ян Тинберген и др.), считавшие, что устранение барьеров – это лишь полумера. Смысл настоящей интеграции они видели в создании нового качества экономической среды, которая позволила бы тесно переплетенным национальным хозяйствам функционировать в оптимальном режиме.
В-третьих, все сильнее давала о себе знать малозаметная поначалу проблема единства группы, сохранения общего для всех участников темпа интеграции. Причиной этого явились как присоединение новых стран (особенно уступающих по уровню развития Греции, Испании, Португалии), так и усложнение самого процесса интеграции, то есть углубление прежних и появление ее новых направлений. В настоящее время данная проблема разрастается уже до невиданных масштабов. Ясно, что возможный прием Турции ставит точку в разговорах о том, способен ли Европейский союз двигаться по пути интеграции единым отрядом. Перемены, произошедшие в конце XX века, сделали также необходимой капитальную реформу институтов ЕС, которые в силу своей конструкции – простой и незначительно изменившейся с 1967-го – перестали справляться с возросшей нагрузкой.
И наконец, на первый план неожиданно вышли отношения между Евросоюзом и населением отдельных стран Европы, всегда являвшиеся побочной сюжетной линией интеграционной саги. «Второстепенные герои» заявили о своем праве влиять на развитие сценария. В 1992 году, при ратификации Маастрихтского договора, брюссельские чиновники впервые столкнулись с тем, что граждане, по сути исключенные из процесса управления Сообществом, могут в одночасье заблокировать самые благотворные решения. Расширение сферы компетенций Европейского союза и повышение его статуса в мире требовали новой концепции взаимоотношений между мегагосударством и его жителями. В 1990-е появился институт европейского гражданства, была принята Хартия основополагающих прав граждан, расширены функции Европарламента. Однако главные вопросы – о европейской идентичности и характере демократии в ЕС – сегодня не решены даже частично. Не произойдет это и в ближайшие годы, так как пока Евросоюз едва приступает к их решению.
Центральная интрига европейского строительства в предстоящие 10–20 лет будет разворачиваться вокруг следующих проблем: формирование отраслевой структуры интеграции; выбор ее скоростного режима, как общего, так и для разных категорий участников; определение путей федерализации и демократизации расширяющегося Европейского союза.
КОТТЕДЖИ ВОКРУГ МНОГОЭТАЖКИ
Как уже говорилось, первые три десятилетия европейская интеграция была в основном экономической. Сообщество развивалось, проходя известные стадии (схема Балаши): зону свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический и валютный союзы. Такая последовательность обусловила два других важнейших качества интеграции. Первое: на всех, за исключением последнего, этапах она была в основном негативной и, только добравшись до вершины – Экономического и валютного союза (ЭВС), сделала крутой поворот в сторону позитивной. Второе: интеграция по большей части осуществлялась на централизованном, или коммунитарном, уровне (решения принимались органами ЕС и были обязательны для всех стран-членов), а не в формате межгосударственного сотрудничества, при котором заглавная роль принадлежит национальным правительствам. Отмеченные качества были определяющими, но не абсолютными, поскольку они в разной степени сочетались со своими противоположностями. Например, задолго до создания ЭВС возникли такие формы позитивной экономической интеграции, как «валютная змея» (система согласованных валютных курсов между европейскими государствами; введена в 1972 г. – Ред.) и Европейская валютная система (1979). С середины 1970-х страны-члены начали координировать свою экономическую политику. Единый внутренний рынок также содержал элементы позитивной интеграции. Вместе с тем Европейский совет, который начал регулярно собираться с декабря 1974 года, олицетворял собой межгосударственный, а не федеративный подход.
Исправно работавшая модель исчерпала себя к середине 80-х – началу 90-х годов минувшего столетия: Евросоюз подошел к высшей институциональной стадии экономической интеграции, свое дело сделала Всемирная торговая организация. Если в 1950-е годы средний уровень таможенного обложения импортных товаров в ведущих странах Западной Европы составлял 17–25 %, то сегодня он равен 3,5 %. Либерализация движения товаров, услуг и капиталов в масштабах всего мира резко снизила протекционистский эффект от действий ЕС. Через 10–20 лет разница между условиями торговли внутри ЕС и за его пределами может быть почти размыта. Не исключено, что Европейский союз встанет перед необходимостью снести значительную часть той крепостной стены, которая отделяет его от внешнего мира. Тогда европейским фермерам, например, придется вступить в открытую конкурентную борьбу с производителями из других регионов мира, где рабочая сила дешевле, а земельные и водные ресурсы обильнее. Это означает, что европейская интеграция либо «упрется головой в потолок», либо будет искать сферу приложения вне экономики, что уже происходит.
В практике ЕС все неэкономические направления деятельности, кроме Шенгенского соглашения, представляют собой позитивную интеграцию. Причем в этом случае для начала позитивной стадии не требуется длительного устранения барьеров, поскольку культурное, научно-техническое или политическое сотрудничество никогда не было объектом протекционизма. В региональной, социальной, транспортной, энергетической и рыболовной политике ЕС, то есть в сферах, относящихся к экономике, но не входящих в компетенцию таможенного союза, наблюдается сочетание негативной и позитивной интеграции. Отсюда следует вывод, что завершение в ЕС периода борьбы с государственным протекционизмом (после того как начал действовать единый внутренний рынок) и формирование ЭВС создают почву для перехода интеграции во внеэкономические сферы. А это, в свою очередь, сопровождается и будет в дальнейшем сопровождаться усилением созидательной функции Евросоюза.
Однако новые области, осваиваемые интеграцией, имеют меньшую наднациональную составляющую, чем ее прежние основные направления (таможенный союз, единый внутренний рынок и валютный союз). В подавляющем большинстве этих областей решения вырабатываются на принципах межгосударственного сотрудничества, а не федерализма, то есть в первую очередь отвечают интересам стран-членов, а не Союза в целом.
Эту тенденцию легко проследить в тексте Конституции ЕС, где выделяются три типа компетенций Союза. В сферах, где ЕС обладает исключительными правами, все решения принимаются только его органами, а национальные правительства их просто выполняют. Смешанная компетенция подразумевает, что Евросоюз и государства-члены делят между собой зоны ответственности, при этом доля ЕС может быть как значительной, так и совсем скромной. При дополняющих функциях ЕС всю нагрузку несут страны-члены, а Союз лишь оказывает им поддержку. Все действующие ныне направления интеграции (кроме денежно-кредитной политики зоны евро, правил единого внутреннего рынка, таможенного союза и отдельных частей рыболовной политики) попадают в сферы смешанной компетенции или дополняющих действий ЕС.
Таким образом, в ближайшее время, несмотря на принятие Конституции и расширение числа вопросов, по которым решения принимаются большинством голосов (а не единогласно), фактическая степень федерализации Союза может остаться на прежнем уровне и даже снизиться. Это связано также с окончанием периода негативной интеграции, поскольку борьба с таможенными и другими барьерами требовала, чтобы наднациональные органы устанавливали единые для всех правила и добивались их безусловного выполнения. Теперь это становится не так важно.
Образно говоря, на рубеже столетий Европейский союз завершает возведение многоэтажного общежития (таможенный союз – общий рынок – ЭВС) и переходит к строительству поселка из частных коттеджей по индивидуальным проектам (транспортная, экологическая, оборонная политика и т. п.).
С одной стороны, это делает интеграционные проекты более доступными для стран-новичков. Ведь им не приходится догонять ушедших далеко вперед ветеранов, так как они присоединяются к программе, у которой не было предшествующих стадий. С другой стороны, при межгосударственной форме сотрудничества выработка единой политики сильно затруднена. Вместе с тем решение стоящих сейчас перед Евросоюзом стратегических задач, таких, как усиление его роли в международных делах, рост конкурентоспособности, противодействие национализму, невозможно без совершенствования его внешнеполитических функций, повышения научно-технического потенциала, улучшения качества образования, развития культуры и укрепления европейской идентичности. А здесь у ЕС нет ни достаточных полномочий, ни сколько-нибудь значимых финансовых ресурсов. Например, расходы из бюджета ЕС на проекты, проводимые в рамках его научно-технических программ, составляют только 4 % от затрат на науку и технику всех государств-членов. В целом бюджет ЕС очень мало отвечает приоритетным задачам Союза в XXI веке. В 2004-м из всех расходов в размере 115 млрд евро 43 % пошло на сельскохозяйственную и 36 % на региональную политику. Все остальные направления внутренней политики ЕС получили только 9 млрд евро.
ИНТЕГРАЦИЯ С МЕНЯЮЩЕЙСЯ ГЕОМЕТРИЕЙ
До 90-х годов прошлого века все страны-члены ЕС продвигались вперед в едином темпе; для новичков предусматривались адаптационные периоды, по истечении которых на них полностью распространялись все правила и нормы Сообщества. Маастрихтский договор впервые допустил возможность интеграции на разных скоростях, разрешив Великобритании и Дании не вступать в валютный союз. Сейчас за пределами ЭВС находятся 13 из 25 стран Евросоюза. Разделительные линии возникают и по другим направлениям. Великобритания и Ирландия не присоединились к Шенгенской зоне, зато ее участниками стали Норвегия и Исландия, не входящие в ЕС. С 2004 года, наряду с тройкой относительно бедных южан – Испанией, Грецией и Португалией, в Евросоюзе возникла еще менее обеспеченная восточная окраина, которая впредь будет только разрастаться. В десяти новых странах ЕС средний ВВП на душу населения (рассчитанный по паритету покупательной способности) составляет около 50 % от среднего для ЕС-15, а в ожидающих вступления Болгарии, Румынии и Турции – 25%.
В таких условиях превратить экономическое пространство ЕС в подлинно единый внутренний рынок вряд ли возможно даже при полном отсутствии барьеров на пути свободного движения товаров, услуг, лиц и капиталов. В отличие от ситуации в послевоенной Западной Европе, теперь главным препятствием окажутся не таможенные правила и несогласованность экономической политики соседних стран, а различия в структуре и организации национальных хозяйственных комплексов, товарных и финансовых рынков. Таким образом, расширение ЕС на Восток не оставляет Союзу иного выбора, кроме интеграции на разных скоростях. Возрастающая неоднородность объединения теперь рассматривается ее лидерами уже не как исключение, а как данность.
Главный вопрос заключается в том, как этот фактор повлияет на организацию ЕС: приведет ли он к формированию устойчивых подгрупп или породит совершенно новую, нигде в мире не опробованную модель интеграции, состоящую из нескольких слоев с меняющимися контурами? Думается, что второй вариант более реалистичен и одновременно менее опасен для ЕС. Жесткое территориальное разделение было бы возможно, если бы интеграция развивалась преимущественно в одном направлении. Тогда центр, середина и периферия имели бы четкие географические границы, что создавало бы постоянную угрозу распада Союза. Теперь, когда «интеграционных дисциплин» насчитывается больше десяти, «рейтинги успеваемости» по каждой из них совпадать не будут и, следовательно, страна, не участвующая в одном или нескольких проектах, потенциально сможет компенсировать это высокой активностью в других.
Тем не менее у относительно бедных государств возможностей для участия в интеграционных программах (и получения соответствующих выгод) всегда меньше, чем у богатых. Все упирается в недостаток квалифицированных кадров, узость научно-технической базы, неразвитость инфраструктуры и, конечно же, нехватку средств. Подавляющее большинство проектов ЕС осуществляется на принципах совместного финансирования, так что субсидии и кредиты ЕС могут составлять не больше половины сметной стоимости, остальное же должны вкладывать государства-реципиенты и их бизнес.
Небольшие и относительно слабые страны – особенно те из них, которые на протяжении последних 50–100 лет являлись объектами действий великих держав и буферной зоной между противоборствующими системами, – не готовы нести ответственность за судьбу Большой Европы и принимать активное участие в разработке ее долгосрочной стратегии. Их внешнеполитическое кредо определяется исключительно национальными задачами, важнейшая из которых – добиться международного признания, что особенно характерно для бывших социалистических стран. Такая модель поведения, подростковая по своей сути, становится с продвижением Евросоюза на Восток все более распространенной. Нынешние его новые члены (кроме Словении), так же как потенциальные – Румыния, Болгария, Турция и республики бывшей Югославии, рискуют стать в ЕС вечными тинейджерами, недовольными как давлением, так и недостаточной помощью со стороны старших братьев.
На этом фоне выделение в Союзе нового ядра становится неизбежным и даже обязательным, иначе группировка потеряет управление. В последние два-три года идет энергичный поиск форм «европейского авангарда». Значительное укрепление оси Берлин – Париж уже никого не удивляет, особенно после иракского кризиса. Однако вдвоем Германии и Франции не справиться: им нужны союзники и внутри ЕС, и за его пределами. В вопросах безопасности к ним присоединяется Великобритания: в ноябре 2003 года эти три страны достигли неформальной договоренности о европейской оборонной политике. По отдельным позициям место Лондона в ядре занимают Рим, Варшава и Мадрид. Что касается международных дел, то здесь крупнейшие европейские столицы обречены на тесное взаимодействие с Вашингтоном, а по многим сюжетам – и с Москвой. Так что в ближайшем будущем европейское лидерство может приобрести вид треугольника с одной переменной вершиной и несколькими лучами, выходящими во внешний мир.
Хотя раскола Евросоюза в ближайшие 10–15 лет не произойдет, неизбежное усиление роли крупнейших государств и рост числа относительно слабых участников приведут, скорее всего, к расслоению объединения. В итоге могут возникнуть три неформальных кольца интеграции. Ядро составят Германия, Франция и отчасти Великобритания, середину – высокоразвитые западноевропейские страны и некоторые наиболее успешные новички. Остальные государства могут попасть в категорию младших братьев, к которым будут предъявляться весьма либеральные требования относительно скорости и масштабов их участия в интеграции.
ЛАБИРИНТЫ ДЕМОКРАТИИ
Споры о том, какую форму политического устройства будет иметь объединение европейских государств, начались с тех пор, как Жан Монне и Робер Шуман огласили в мае 1950 года свой план построения единой Европы. Правда, с образованием ЕЭС эти дискуссии постепенно ушли из сферы публичной политики, став в основном уделом брюссельских чиновников и университетской профессуры. С конца 1980-х и особенно после объединения Германии вопрос о принципах и логике политического строительства ЕС снова перешел в практическую плоскость.
Интеграция быстро распространялась на новые сферы, в том числе на такие чувствительные для национального суверенитета, как валюта, безопасность, визовый режим. Но официальные представители ЕС с монашеским упорством воздерживались от публичных разговоров о возможном превращении Союза в федерацию. О конфедерации упоминали вскользь и тоже неохотно. Неудивительно, что сегодня настоящей общественной дискуссии на эту тему не ведется. Ругать европейскую бюрократию стало общепринятым, а говорить по существу о будущем политическом устройстве Союза, объединяющего 25 государств с населением 460 млн человек, почему-то считается неуместным.
При ближайшем рассмотрении выясняется (и специалисты об этом давно знают), что ЕС не движется ни в сторону федерации, ни в сторону конфедерации. Обе системы строятся на принципах избирательной демократии: власть возникает в результате выборов и сознательной передачи полномочий. Например, органы конфедерации не издают законов, обязательных для жителей, поскольку те их не выбирали. Объем и форму их трансляции гражданам определяют субъекты конфедерации.
И все-таки в нынешнем Европейском союзе явно присутствуют черты федерации, так как его органы власти непосредственно взаимодействуют с населением (см. схему). Граждане избирают членов Европейского парламента, а принимаемые Советом законодательные акты (например, регламенты) имеют прямое действие. Так что с конфедерацией Евросоюз имеет столько же общего, сколько и обычная федерация. Вместе с тем в его политической структуре легко заметить черты, присущие только конфедерации и создающие почти непреодолимые препятствия для развития подлинного федерализма.
Европейский парламент, в отличие от национального, не является законодательным органом. Эту функцию выполняет Совет ЕС, состоящий из министров стран-членов. То есть граждане ЕС выбирают один орган, а подчиняются другому. Все усилия последних лет в области демократизации европейских институтов направлены на расширение полномочий Европарламента и усиление его взаимодействия с Советом. Согласно букве новой Конституции ЕС, роли обоих органов в законотворческом процессе равны. Однако в реальности тексты проектов законов готовит именно Совет, евродепутаты вносят в них поправки и имеют право заблокировать решение, что на практике случается редко. Ни сейчас, ни на последующий период в ЕС не ставится задача превратить Европейский парламент в подлинный законодательный орган – в противном случае пришлось бы упразднить Совет, уже полвека добросовестно выполняющий эту миссию. Отсюда и низкая популярность единственного избираемого населением органа Союза. На последних выборах в Европарламент, прошедших в июне 2004 года, явка была самой низкой за всю его историю – 45 %.
Другое особое формирование в системе управления ЕС – Комиссия. Ее члены назначаются национальными правительствами, но в своей работе они руководствуются интересами Сообщества в целом, а не отдельных стран. Комиссия является главным исполнительным органом и одновременно главным инициатором законодательных актов ЕС. И хотя она отчитывается о своей деятельности перед Европейским парламентом, ее связь с простыми людьми, являющимися в конечном счете объектами проводимой ею политики, весьма призрачна.
Еще один орган, не имеющий аналогов в национальных политических системах, – Европейский совет. Он формируется из глав государств и правительств, хотя на практике ведущая роль принадлежит последним, поскольку большинство нынешних стран-членов ЕС – парламентские республики. Европейский совет определяет стратегию развития Союза и принимает важнейшие политические решения. Его резолюции хотя и не имеют юридической силы, но предопределяют инициативы Комиссии, которые затем превращаются Советом в законодательные акты. Первые лица стран-членов ЕС, конечно, отвечают перед своими народами, но именно в таком качестве. Что касается их действий в рамках Европейского совета, то она практически скрыта от глаз избирателей.
Справедливости ради надо сказать, что до последнего времени институты ЕС в целом справлялись со своей главной задачей: они принимали и доводили до исполнения решения, отвечавшие коллективным интересам объединения. И все же вопрос о демократической чистоте применяемых процедур нельзя отрывать от вопроса о результатах деятельности ЕС и сохранения его дееспособности в будущем. Кроме того, процесс европейской интеграции настолько усложнился, что большинство граждан просто не в состоянии критически оценивать происходящее. Следовательно, апелляция к их мнению, по существу, мало что меняет. Чтобы убеждать население в правильности своего курса, органы ЕС давно вынуждены прибегать к уловкам. Например, при переходе к Экономическому и валютному союзу во главу угла пропагандистской кампании ставились экономия на конверсионных операциях, удобство заграничных поездок и вероятное оживление экономики (последнее так и не произошло). Реальные же цели задуманной программы – модернизация экономической системы, особенно благодаря улучшению конкурентной среды, а также укрепление позиций ЕС в мире – сознательно оставлялись в тени. Таким образом, очевидно, что брюссельским чиновникам удалось получить согласие общества на реализацию этого грандиозного проекта, только поменяв местами цели и следствие.
И еще один штрих к складывающейся картине. Пока Европейский союз не станет государством, не будет и подлинного европейского гражданства. Официально оно было введено Маастрихтским договором 1992 года, согласно которому все граждане стран-членов ЕС получили статус граждан Евросоюза. У них появились некоторые общие права, например право свободно передвигаться по территории Союза и работать в любом его государстве, избирать и быть избранным в Европейский парламент и местные органы власти (но не в национальные парламенты) независимо от места проживания. В ходе подготовки Конституции ЕС в ее текст была инкорпорирована Хартия основных прав граждан Союза, гарантирующая первоочередные экономические свободы.
Тем не менее опросы общественного мнения, регулярно проводимые службой «Евробарометр», показывают, что подавляющее большинство жителей ЕС в первую очередь определяют себя как граждан своих государств. 53 % опрошенных считают членство в Евросоюзе «хорошим делом», а 11 % – «плохим». (Самый высокий уровень поддержки интеграции – 70–80 % положительных ответов – отмечается в Люксембурге, Нидерландах и Ирландии; самый низкий – 20–40 % – в Великобритании, Швеции, Финляндии и Австрии.) Почти половина граждан Союза считают, что им мало известно о его политике и институтах. (Key facts and figures about the European Union, European Commission. Luxembourg, 2003. P. 66; McCormic J. Understanding the European Union. N.Y., 2002. P. 145.)
Стремясь исправить положение, органы ЕС проводят многочисленные пиар-мероприятия и делают более прозрачными механизмы управления. Однако ни то ни другое не решает проблемы в корне. Как пишет известный английский политолог Ларри Зидентоп, «суверенитет государства над индивидуумом констатирует то, что можно назвать первичной ролью, единой для всех, тогда как другие роли – отца, государственного служащего или парикмахера – являются вторичными по отношению к ней». И продолжает: «В обществе, где нет государства, все обстоит иначе. Там не существует первичной, или метароли, которой суверен наделяет индивидуума, и поэтому отдельные роли не объединены общим для них статусом». Зидентоп видит дух и уникальное историческое достижение европейского государства в том, что государство делает личности равными между собой и потому равными перед законом (Зидентоп Л. Демократия в Европе. М., 2001. С. 105–106).
В современном Европейском союзе человек может стать его гражданином, только став гражданином одного из государств-членов. В то же время, например, согласно законам Латвии (в законодательстве других стран Евросоюза таких положений нет), бывшие военнослужащие СССР, поселившиеся в Латвии после выхода в отставку, в принципе не имеют права стать гражданами этой страны (даже при отличном знании языка). Таким образом, проживающий в Латвии советский военный пенсионер не может обойти государственный закон и получить гражданство ЕС напрямую. То есть это гражданство является производным от национального, оно не создает первичной самоидентификации личности, не наделяет ее общей с другими личностями социальной ролью. Поэтому, несмотря на существование у Европейского союза флага, гимна и даже единой валюты, говорить о формировании европейской идентичности еще рано.

Война, изменившая мир
© "Россия в глобальной политике". № 4, Июль - Август 2004
«По своим размерам эти колониальные военные операции, конечно, не представляют ничего грандиозного, но на жизнь человечества в течение ближайшего столетия они могут оказать влияние исключительное». Так начинается первая корреспонденция Валерия Брюсова, направленная им из Варшавы в журнал «Русская мысль» 1 сентября 1914 года, спустя месяц после начала Первой мировой войны. Знаменитый русский поэт, отправившийся на фронт в качестве военного корреспондента, не ошибся в своем прогнозе: именно та война положила начало распаду прежней системы глобального управления, последствия чего ощущаются до сих пор. Мы решили перепечатать материал 90-летней давности, потому что, по нашему мнению, сегодня, когда мир вновь переживает синдром «начала века», стоит вспомнить многое из того, что происходило тогда.
Фёдор Лукьянов, главный редактор
***
«Великая война» наших дней захватила не только европейские государства, но и значительную часть внеевропейских стран. При той тесной связи, которая установилась теперь между всеми народами и землями мира, это совершенно естественно. Во-первых, все государства земного шара сплетены сетью разнообразнейших взаимных отношений (прежде всего торговых); во-вторых, у воюющих европейских держав на других материках и океанах есть колониальные владения, значение которых для их метрополий существенно и теперь, а в будущем должно стать огромным. Поэтому, в то время как решительные события ожидаются на старых полях Европы, видавших уже по нескольку «битв народов», военные действия ведутся также и в отдаленнейших от нас странах, и на «черном материке», и на водах, омывающих все пять частей света. По своим размерам эти колониальные военные операции, конечно, не представляют ничего грандиозного, но на жизнь человечества в течение ближайшего столетия они могут оказать влияние исключительное.
Внеевропейские события, связанные с войной, можно разделить на следующие категории: 1) содействие колоний своим метрополиям; 2) война Японии с Германией на Дальнем Востоке; 3) военные операции в Африке; 4) военные операции на разных океанах.
Германия на помощь своих колоний рассчитывать не могла. При настоящем положении дел она от них совершенно отрезана, да и вообще содержит в колониях лишь небольшие гарнизоны, преимущественно туземных войск, для местной службы. Почти не пришлось воспользоваться Германии и своими военными судами, стоявшими в Киао-Чао и в гаванях Тихого океана, благодаря энергичным действиям английских крейсеров и вмешательству Японии. Не могла воспользоваться и Бельгия помощью своего «вассального» Конго, так как местная армия (14–15 тыс. человек) не предназначена для действий на европейском театре войны. Таким образом, поддержку от колоний в войне могли получить только Франция и Англия.
В начале войны германцы пытались прервать сношения Франции с ее североафриканскими владениями, т. е. с Алжиром и Тунисом. Германские крейсеры (знаменитые отныне «Гебен» и «Бреслау», проданные туркам) бомбардировали Бону и Филиппвиль (в восточной части Алжира), но безрезультатно. Вступление Англии заставило германо-австрийский флот прекратить всякие активные действия на Средиземном море. После этого Франция получила возможность свободно перевезти в Европу свои африканские войска (как сообщают, до двух армейских корпусов). Войска эти в начале войны уже показали свое превосходство при действиях в горных местностях, именно в Вогезах. Новые эшелоны африканских войск все продолжают прибывать во Францию, постепенно усиливая французскую армию. Телеграмма 29 августа сообщает, какими овациями встречал вновь прибывших тюркосов Париж, готовящийся к осаде.
Англии оказали поддержку прежде всего ее колонии, ныне автономные и полуавтономные государства, входящие в состав Британской империи. В самом начале войны Канада предложила корпус в 20 тыс. человек, с тяжелой и легкой артиллерией, и помощь продовольствием и деньгами, что правительством метрополии было «принято с благодарностью». Телеграф последовательно извещал нас, что из Канады отправлен первый транспорт в миллион мешков муки, что канадские женщины снаряжают для Англии госпитальный корабль и что в канадский парламент внесен законопроект об отпуске 10 миллионов фунтов стерлингов на военные нужды. Сходные предложения поступили от правительств Австралии и Новой Зеландии, предложивших также 20-тысячный корпус и весь свой флот. Эта помощь была использована Великобританией на водах Тихого океана.
Из собственно «колоний» Англия могла полнее всего использовать Индию, где она содержит постоянную армию, известную по своим боевым качествам. Британское правительство решило перевезти часть индийских войск в Европу. Лорд Крю заявил в палате общин (телеграмма 19 августа), что эти войска «горят нетерпением сразиться в Европе». В настоящее время через Порт-Саид уже прошла, под прикрытием особой эскадры военных крейсеров, первая колонна индийских войск, на пяти транспортах, в составе 25 тыс. человек; всего же предполагается доставить в Европу два корпуса. Полунезависимые индийские раджи, со своей стороны, выразили готовность отдать свои войска в распоряжение Англии и проявили, если верить «сообщению великобританского правительства» (29 августа), «величайший энтузиазм». Представители бенгальских мусульман послали в Турцию, великому везирю, телеграмму, в которой высказывают огорчение по поводу недоразумений между Великобританией и Портой и заявляют, что считают священнейшим долгом остаться верными британской короне. В других колониях Англия не содержит настолько значительных военных сил, чтобы их стоило перевозить в Европу; этим войскам был поручен ряд выступлений «на местах», т. е. в колониях же. Впрочем, было известие, что часть южноафриканских войск высадилась в Марселе.
Постоянное войско содержит Англия еще в Египте, который фактически находится в английских руках. Но египетским войскам оказалось достаточно своего местного дела. С самого начала войны Египет «поручил свою защиту Англии». Вслед за тем английское правительство объявило, что в Египте обнаружен какой-то «заговор» против Великобритании, деятельное участие в котором приняли турецкие и германские агитаторы, пробравшиеся под видом «хамалей» и чернорабочих. Произведено было много арестов, и арестованные были преданы военно-полевому суду; вместе с тем английский комендант в Каире предложил дипломатическим представителям Германии и Австрии, состоявшим при особе хедива, покинуть Египет в 24 часа. Таким образом Египет оказался втянутым в сферу войны, а английским египетским войскам поручено преимущественно охранять Суэцкий канал.
* * *
В Азии война отразилась особой японо-германской войной. Ее причины лежат в том политическом и коммерческом положении, которое за последние годы Германия стремилась занять на Дальнем Востоке, опираясь на свои тихоокеанские владения и на гавань Киао-Чао, которую она в 1897 г. «арендовала» у Китая на 99 лет. Немцы углубили прежде мелководную бухту, сильно укрепили ее и превратили в первоклассную гавань, в настоящее время едва ли не лучшую на всем китайском побережье. Желание овладеть этой гаванью и сломить значение Германии на Дальнем Востоке повело к тому, что Япония, ссылаясь на свой военный союз с Англией, сначала послала Германии свой известный ультиматум, а потом, не получив на него ответа, перешла «в состояние войны» как с Германией, так и с Австро-Венгрией.
Как известно, германцы приняли вызов. Проскользнуло сообщение (впрочем, маловероятное), будто в одной телеграмме к коменданту Киао-Чао, перехваченной японцами, император Вильгельм писал, что ему было бы «более стыдно сдать Киао-Чао японцам, чем Берлин русским». Как бы то ни было, немцы с лихорадочной поспешностью взялись за укрепление крепости, заставляя работать китайцев. Население было выселено в Шанхай; нейтральным судам приказано покинуть гавань, на что японцами был дан срок в 24 часа. Крепость окружили рядом новых фортов (Мольткеберг, Бисмарксберг, Вильгельмсберг и тому под.), выдвинутых на 8 и даже на 12 миль от города Цзинтао; перспектива местности очищена, деревья вырублены, строения взорваны и т. д.; гарнизон и военные суда в гавани приведены «в боевую готовность».
Самый ход военных операций японцев вполне ясен. После объявления войны они приступили к высадке десанта и блокаде бухты. Одна эскадра, под командой вице-адмирала Садакичи-Като, прикрывала десант сухопутных войск, привезенных на 18 транспортах со стороны Лун-Коу; другая, под командой адмирала Томи, – высадку на западном берегу артиллерии. Небольшая эскадра, в составе 2 крейсеров, 2 канонерок и 5 миноносцев, осуществила действительную блокаду гавани, выловив германские мины и поставив свои; остальные силы японского флота остались крейсировать в Печилийском заливе. Официально Киао-Чао был объявлен под блокадой с 14 августа. Одновременно с этим японцы перерезали кабели, шедшие из Киао-Чао в Шанхай и Чи-Фу, отрезав немцам сообщение с внешним миром (есть, впрочем, предположение, что немцы успели проложить новый кабель к острову Яп в Каролинском архипелаге). Последние известия сообщали, что японцы уже приступили к обстрелу крепости; что японские гидропланы несколько раз бросали в нее бомбы; что японцами заняты острова, лежащие против бухты (Тай-Пунг, Шьиао-Пунг, Галиен и др.), и что ими даже взяты три форта, из которых один – «штыковым ударом». Кроме того известно, что Япония присоединилась к соглашению, состоявшемуся между Россией, Францией и Англией, – не заключать сепаратного мира.
Конечный исход борьбы несомненен. Небольшой гарнизон крепости и ее наскоро построенные форты не могут держаться долго против дальнобойных орудий и целой армии японцев. Германская эскадра в гавани, по-видимому, сведена к двум броненосным крейсерам «Гензинау» и «Шацугорст» (по 11,600 тонн, с ходом 22,5 узла, вооруженным орудиями сравнительно небольшого калибра) и отряду миноносцев. Где находятся в настоящее время три легких германских крейсера, принадлежащих к той же эскадре, – «Лейпциг», «Нюрнберг» и «Эйден», – неизвестно. Имеется в Киао-Чао еще австрийский бронепалубный крейсер «Императрица Елизавета», но это небольшое судно, построенное в 1890 г. и перестроенное в 1905 г., не представляет серьезной боевой единицы; впрочем, именно оно обстреливало 21 августа японские контр-миноносцы. О серьезных столкновениях на море около Киао-Чао ничего не было слышно; известно только, что японский контр-миноносец «Широтае» наскочил здесь на подводную скалу и затонул.
Военные операции японцев в значительной мере были облегчены позицией, занятой Китаем, который воспользовался случаем свести счеты с Германией, «арендовавшей» его гавань. Дело в том, что собственно «арендованная» полоса земли вокруг Киао-Чао очень невелика, так что на ней произвести десант было бы невозможно. Но вокруг нее тянется, по радиусу в 50 километров, так называемая «нейтральная зона». По-видимому, Китай «посмотрел сквозь пальцы» на то, что японцы высадились именно на этой нейтральной зоне, если только не за пределами ее. По крайней мере, германский поверенный по делам при китайском правительстве протестовал против нарушения японцами нейтралитета Китая, но протест остался без последствий. Между тем раньше Китай сделал Германии «категорическое представление» о недопустимости каких-либо военных действий за чертой арендованной территории и отказал в просьбе немцев – расширить ее пределы в целях защиты порта. Китай отказался также от предложения Германии – возвратить ему Киао-Чао. Ряд других мер, принятых Китаем, также были направлены против Германии. Так, Китай потребовал, чтобы все германские суда, находившиеся в китайских портах, покинули их или остались бы в них до конца войны; с последних были сняты аппараты беспроволочного телеграфа; затем пекинское правительство предписало администраторам Маньчжурии «немедленно прекратить» в ней антияпонскую агитацию и т. под.
Надо добавить, что, в связи с японо-германской войной в Азии, возникла мысль о посылке японской эскадры в европейские воды и японского десанта на европейский театр войны. Это предположение, несколько раз опровергавшееся, продолжает обсуждаться в печати. Вопрос о возможности (политической) для японского флота пройти через Панамский канал решается специалистами (бар. Б.Э. Нольде) в положительном смысле, на основании договора 1901 г. между Великобританией и Соединенными Штатами С.А. Говорят также, что десант – по слухам, в размере 6 корпусов – будет направлен в Малую Азию, где движения турок угрожают новыми осложнениями делу союзников. Кроме того, японская колония в Канаде самостоятельно предложила Великобритании сформировать для европейского театра войны отряд японцев-волонтеров.
К событиям на Дальнем Востоке самый живой интерес проявили Соединенные Штаты. Заатлантическая печать единогласно заявила, что выступление Японии является «событием величайшего политического и экономического значения», так как после него Германия должна потерять всю свою торговлю и свое положение на Тихом океане. Общественное настроение в Америке оказалось вообще враждебным Германии, с которой у Штатов идет напряженное экономическое соперничество. Немецкая агитация в Штатах, которой руководила, по слухам, особая миссия, с министром Дернбургом во главе, и которая привлекла на свою сторону несколько распространенных газет, не имела успеха в широких кругах общества. Правящие круги посмотрели на дело, кажется, иначе, и одно время весь мир был встревожен выходом в море американской эскадры с неизвестным назначением. Постепенно, однако, выяснилось, что правительство Соединенных Штатов опасалось не за участь Киао-Чао, а за судьбу германских владений в Тихом океане. Америке не могло быть выгодным, чтобы они стали достоянием Японии, которая могла бы обратить их в морскую военную базу, в случае столкновения с Штатами. Недоразумение было улажено, и «англо-германский конфликт локализован» пределами операции против Киао-Чао. Сами Соединенные Штаты окончательно заняли позицию самого строгого нейтралитета, имея в виду выступить впоследствии с предложением посредничества между воюющими сторонами.
* * *
В Африке военные действия свелись к захвату германских колоний. Немецкие газеты утверждают, что Англия и Франция уже заключили договор о разделе германских колоний в Африке, и это весьма вероятно. Колониальной державой Германия сделалась недавно, первые земли в Африке заняла только в 1884 г., но в настоящее время ее африканские колонии уже занимают третье место – после английских и французских. Всего владения Германии в Африке простираются на 2,6 милл кв. километров, включая в себя области: Камерун (750 тыс. кв. кил., приобретен в 1884 г.), Того (87 тыс. кв. кил., приобретено в 1884 г.), Юго-Западная Африка (835 тыс. кв. кил., окончательно присоединена в 1890 г.) и Юго-Восточная Африка (941 тыс. кв. кил., окончательно присоединена в 1890 г.), с населением более чем в 11 милл человек (из которых более 20 тыс. европейцы). Эмиграция в эти области пока ничтожна, но торговое их значение для Германии огромно: так, например, она получает отсюда собственные «колониальные товары», каучук, слоновую кость, какао, кофе, бананы, сахарный тростник, продукты масличных и кокосовых пальм и т. п. Между тем германские колонии в Африке расположены так, что со всех сторон окружены владениями английскими, французскими и бельгийскими. Отрезанные от метрополии английским флотом, защищаемые лишь небольшими гарнизонами туземных войск, германские колонии в Африке становятся легкой добычей союзников.
Уже окончательно определилась судьба Тоголанда. Эта колония лежит в Верхней Гвинее и представляет узкую полоску земли, уходящую в глубь страны, с береговой полосой всего в 35–40 километров. На западе Того граничит с английской колонией Золотого Берега, на востоке – с французской Дагомеей, на севере – с областями, находящимися под протекторатом Франции (французская Западная Африка). В конце июля англичане заняли главный город Того – небольшой порт Ломе (10–12 тыс. жителей), единственный пункт побережья, соединенный с внутренностью страны железной дорогой. Позднее пришло известие, что английское войско Золотого Берега разбило в Тоголанде германский отряд и захватило столько пленных, что для перевозки их пришлось употребить два поезда. Немецкое агентство Вольфа уже 3 августа извещало, что Того стало «добычей англичан». 13 августа пришло известие, что немцы уничтожили телеграф в Коринне и послали к английскому отряду парламентера с выражением согласия капитулировать на почетных условиях. Британцы потребовали безусловной сдачи, и в тот же день немцы капитулировали без всяких условий. 14 августа союзные англо-французские войска вступили в Коринну, и Того перестало быть немецкой колонией.
Сходная судьба постигла колонию Камерун, лежащую дальше к востоку, в самой глубине Гвинейского залива. С суши она защищена природой, так как с запада, где она граничит с английской колонией Нигерией, тянутся горные кряжи, а с востока, в том месте, где она соприкасается с французским Конго, лежит пустыня. (По морскому берегу с юга, где Камерун более доступен, он граничит с небольшой испанской колонией, носящей название испанского Конго.) Но 22 августа английский флот захватил у берегов Камеруна два германских крейсера – «Зеадлер» и «Гейер». Крейсера, не приняв боя, сдались, причем в плен попали 61 офицер и около 2 000 солдат. Затем англичане высадили десант, которому также не решился оказать сопротивление местный гарнизон, состоящий из 205 немцев и 1 650 туземцев... Англичане заняли на берегу дом генерал-губернатора, военное управление, все общественные здания и подняли английские и французские флаги. Камерун был объявлен оккупированным.
К менее решительным результатам пришли пока союзники в германской Юго-Западной Африке. Эта обширная область представляет собой еще почти пустынную страну, требующую значительных расходов от метрополии. Предполагают, что край богат минералами (золото и медь), но они не разрабатываются; земледелие требует в нем искусственного орошения; сколько-нибудь успешно ведется лишь первобытное скотоводство. С юга эта область граничит с английским Капландом, и кроме того в руках англичан остается клочок берега в самой Юго-Западной Африке (Китовый залив), несколько гаваней и побережные острова. Оборонять эту свою колонию Германия не имеет никакой возможности. Уже 29 июля было получено известие, что немцы очистили порт Свакопмунд (лежащий близ северной границы Китовой бухты), – пункт, связанный кабелем с рядом других городов побережья и далее с Европой. Затем немцы взорвали набережную и затопили буксиры в Людериц-бухте, самом значительном поселении в южной части колонии. «Лавки и товарные склады, – говорится в телеграмме агентства Рейтера, – закрыты, и жизненные припасы перевезены в Виндхек». Последнее означает, что немцы бежали внутрь страны. Большой Виндхек, главный город Юго-Западной Африки, – конечный пункт железной дороги, идущей от Свакопмунда, и лежит от морского берега по прямой линии в 350 километрах, а по линии железной дороги – в 500 километрах.
Для Англии наибольший интерес представляет занятие германской Юго-Восточной Африки. Эта колония отделяет владения англичан на севере материка (Египет, Судан, Уганда, Британская Восточная Африка) от их владений на юге (Капланд, Трансвааль, Бечуанланд, Родезия). Занятие германской Юго-Восточной Африки позволило бы Англии осуществить мечту Сесиля Родса и «провести рельсовый путь от Александрии до Капштадта по английской земле». Операции против Восточной Африки облегчаются для англичан тем, что у центра ее побережья лежат острова Занзибар и Пембо, принадлежащие Англии. Кроме того, на севере германская Восточная Африка граничит с английскими владениями на всем пространстве от морского берега до страны великих озер. Наконец, неподалеку лежит и французский Мадагаскар. В начале войны инициатива военных действий принадлежала и здесь англичанам. Еще в конце июля английский крейсер разрушил станцию беспроволочного телеграфа в Дарессалеме, главном городе страны (свыше 20 тыс. жителей), лежащем прямо против Занзибара. При этом все портовые суда были захвачены и плавучий док был затоплен в самой гавани. 2 августа пришло известие, что английским военным пароходом «Гвендолен» захвачен немецкий военный пароход на озере Виктория-Нянца, поделенном пополам между английскими и германскими владениями.
Зато позднее, 4 августа, германский отряд занял городок Табету, лежащий в пределах британской Восточной Африки, на самой границе, у подножья горы Килиманджаро (в 150 кил. от морского берега). Позднейшее известие шло из Найроби, другого города, лежащаго в глубине британской Восточной Африки и соединенного телеграфом и железной дорогой с портом Момбаса. 15 августа из Либервиля пришло известие, что немцы напали на восточную часть бельгийского Конго, которое граничит с германской Юго-Восточной Африкой по озеру Танганайка. Бельгия, как гласила телеграмма, «по соглашению с Англией, приняла меры к защите своей колонии, о чем довела до сведения французского правительства». 28 августа в области озера Ньясса (Ньяссаленд), т. е. в английской Родезии, немецкий отряд, численностью до 400 человек, напал на городок Каромгу, но был отбит после серьезного боя и отступил в направлении к Сонгме, оставив 7 офицеров убитыми, 2 ранеными, много убитых и раненых солдат, два полевых орудия и два пулемета. Последнее обстоятельство показывает, что наступление велось с серьезными силами. Таким образом, в Юго-Восточной Африке немцы, хотя и с переменным счастьем, пытались перейти в наступлеше. Это объясняется, однако, тем, что Англии требовалось время для мобилизации своих вооруженных сил в Южной Африке. Только 29 августа Министерство иностранных дел в Лондоне заявило, что эта мобилизация закончена и что южноафриканские войска приведены «в боевую готовность». Между прочим, в них записалось много буров, недавних упорных врагов Великобритании.
* * *
На Тихом океане Германия также начинает терять свои колонии. Ей принадлежит там целый ряд весьма ценных владений: под ее протекторатом находится северо-восточная часть Новой Гвинеи (земля имп. Вильгельма) с архипелагом Бисмарка (240 тыс. кв. кил., с 1886 года), а в непосредственном владении острова Маршальские (400 кв. кил., с 1886 г.), острова Марианские, Каролинские и Палау (всего до 2,5 тыс. кв. кил., купленные у Испании после ее неудачной войны в 1899 г.) и два острова архипелага Самоа (Савойи и Уполу, занятые в 1899 г., благодаря затруднениям Англии в период войны с бурами). Оккупацию этих колоний Англия поручила Австралии и Новой Зеландии, которые за последние годы обзавелись собственными военными флотами (хотя и небольшими).
16 августа, как сообщают из Веллингтона, на Новой Зеландии, десантный отряд, посланный из этой колонии, высадился в Апии, немецком городке на Савойи, в Самоа. Германский губернатор сдался без сопротивления и был отправлен вместе со своим незначительным гарнизоном на острова Фиджи. Несмотря на скромные размеры колонии, утрата самоанских островов очень чувствительна для Германии. Последние годы она тратила много сил и средств на разведение на Самоа различных плантаций – кокосов, бананов, какао, кофе, каучука. Стоимость продуктов, которые Германия получала ежегодно с Самоа, исчисляется миллионами марок .
Несколько позже, 29 августа, был занят теми же новозеландскими войсками город Гербергеэ на острове Новая Померания, самом большом из островов архипелага Бисмарка. Высадка на берег десанта произошла беспрепятственно, но на пути к станции телеграфа немцы пытались оказать сопротивление. Дорога, шедшая на протяжении 3 миль через густой девственный лес, была минирована, и в лесу засели в засадах немецкие стрелки. Однако новозеландцы с оружием в руках пробили себе путь. Офицер, командовавший немецким отрядом, сдался без всяких условий. На Новой Померании также поднят английский флаг.
Наряду с этими совершающимися и возможными территориальными захватами идет преследование германских судов англичанами по всем океанам. Насчитывают, что англичанами уже захвачено в разных частях света свыше 200 германских судов, стоимостью в «миллиард франков» (последняя цифра явно преувеличена), французами – свыше 50, русскими и японцами – свыше 30. Лучшими трофеями оказались захваченные англичанами в Атлантическом океане великаны Северо-Немецкого Ллойда «Кронпринцесса Цецилия» (на котором взято будто бы 40 миллионов марок золотом ) и «Кронпринц Вильгельм». Два других великана той же фирмы «Император» и «Фатерландт» были спешно проданы одной нью-йоркской фирме, а «Вифания», долго ускользавшая от английских крейсеров, захвачена, 29 августа, у берегов Ямайки. Германский пароход «Император Вильгельм Великий» (14 000 тонн), превращенный в крейсер, захватил было у берегов Африки несколько английских судов (в том числе пароходы «Арланда», «Гелициан» и др.), но затем у Золотого Берега был застигнут английским крейсером «Гайфлейер» и потоплен. В Тихом океане немцы захватили близ Цусимы небольшой русский пароход Добровольного флота «Рязань», но англичанами взяты зато германские океанские пароходы «Принц Вольдемар» и «Георг», шедшие из Самоа. Германский крейсер «Карлсруэ» был застигнут в Атлантическом океане английским крейсером «Бристоль» и едва успел спастись, воспользовавшись наступавшей темнотой. Германский крейсер «Блюхер» принужден был укрыться в Пернамбуко (Бразилия) и там разоружиться. В Гонконге, как говорят, видели два германских крейсера, сильно поврежденные в бою, которые вынуждены были снять весь экипаж на берег. И т. д.
Сводя все эти известия к одному, приходится признать, что морское и колониальное могущество Германии уже теперь, в начале войны, потрясено до основания, если не сломлено совсем. Почти треть ее торгового флота находится в руках неприятеля; остальные суда в лучшем случае обречены на бездействие, а иные из них приходится спешно продавать нейтральным государствам. Военный флот доказал свою неспособность померяться силами с английским флотом и защитить колонии. Император Вильгельм говорил когда-то немцам: «Ваше будущее – на воде», имея в виду деятельность флота и развитие колоний. На создание германского флота истрачены были миллиарды марок как из общеимперских сумм, так и собранных по всенародной подписке. Крушение этих заветных надежд – первый решительный и очень чувствительный удар, постигший Германию. Как бы ни развивались события далее, от этого удара Германии не скоро оправиться.
1 сентября 1914 г. Варшава
© Журнал "Россия в глобальной политике", № 4 июль-август 2004

Международная финансовая система: конец единовластия
© "Россия в глобальной политике". № 4, Октябрь - Декабрь 2003
О.В. Буторина – д. э. н., заведующая кафедрой европейской интеграции МГИМО МИД РФ, член научно-консультативного совета журнала «Россия в глобальной политике»
Резюме В ближайшие десять-пятнадцать лет мировая гегемония доллара будет разрушена. Костяк новой международной системы составят два-три десятка наиболее значимых валют, замкнутых в высокоэффективную сеть скоростных расчетов. Такая смена формата может кардинально улучшить позиции российского рубля и сменить ориентиры национальной валютной политики.
В ближайшие десять-пятнадцать лет мировая гегемония доллара будет разрушена. Ей на смену придет не единая мировая валюта, как предлагали Кейнс и Манделл, не множественность денежных единиц в рамках одного государства, как считал Хайек, и не раздел мира на несколько валютных зон. Костяк новой международной системы составят два-три десятка наиболее значимых валют, которые посредством новейших технологий будут замкнуты в высокоэффективную сеть скоростных расчетов. Такая смена формата может кардинально улучшить позиции российского рубля и сменить ориентиры национальной валютной политики.
Если Россия войдет в число стран, денежные единицы которых подключатся к общемировой паутине политвалютных платежей, то отечественные предприятия смогут расплачиваться рублями за импортные товары. Одновременно российский рубль станет главной валютой СНГ. Это резко расширит сферу его применения, понизит спрос на иностранные валюты и спровоцирует выведение долларов из внутреннего обращения. Как следствие, значительно увеличатся внутренние инвестиционные источники, а также возрастут количественные и качественные характеристики российского фондового рынка. Банку России не придется иметь огромные валютные резервы ради поддержания стабильности рубля. В целом же Россия сможет воспользоваться многими благами рыночной экономики, которые сейчас для нее не доступны из-за того, что в условиях глобализации ее валюта и финансовая система ежедневно вступают в конкуренцию с неизмеримо более сильными соперниками.
Чтобы подобный шанс был реализован, России следует уже сегодня делать три вещи. Во-первых, всеми доступными способами расширять сферу обращения рубля. Во-вторых, максимально использовать современные технологии расчетов. И в-третьих, быть готовой к системным изменениям в международных валютных отношениях, включая масштабные и плохо поддающиеся оценке перемены в глобальной роли американского доллара.
ОТ ЗОЛОТА К ДОЛЛАРУ
История человечества знает четыре международные валютные системы. Первая – Парижская – была создана в 1867 году и просуществовала до Первой мировой войны в общей сложности 47 лет. Самой недолговечной оказалась Генуэзская: возникнув в 1922-м, она распалась уже в 1931 году с началом Великой депрессии. Бреттон-Вудская система продержалась с 1944 по 1971 год, когда США прекратили размен долларов на золото, – то есть 27 лет. Ровно столько же действует нынешняя Ямайская система, официально оформленная совещанием стран – членов МВФ в Кингстоне в январе 1976 года.
Смена валютной системы всегда означала упразднение одних элементов международного денежного устройства и введение других. Закат Парижской системы – это отмена золотомонетного стандарта. С расстройством Генуэзской системы обменные курсы перестали фиксироваться по отношению к золоту. По Бреттон-Вудским соглашениям лишь доллар сохранил связь с золотом, а все остальные валюты привязывались к нему. Ямайская система упразднила последнее звено в цепи, связывавшей деньги с золотом, – мир раз и навсегда перешел к плавающим курсам.
Современный мировой валютный рынок невообразимо далек от того, каким он был в момент создания Ямайской системы. Однако способ его регулирования остался тем же, что и в 1976 году. Тогда, вспомним, в Китае прощались с Великим кормчим, в Москве открылся XXV съезд КПСС, а в Калифорнии два приятеля собрали в гараже первый персональный компьютер.
ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ: ГЛОБАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
В последней четверти XX века валютные рынки оказались под воздействием пяти новых факторов: 1) всеобщая либерализация движения капиталов, 2) развитие информационных технологий, 3) изменение природы курсообразования, 4) распад социалистической системы и 5) введение евро.
О размахе валютной либерализации говорит следующий факт: в 1976 году обязательства по VIII статье Устава МВФ (она запрещает ограничения по текущим платежам, дискриминационные валютные режимы и барьеры на пути репатриации средств иностранных инвесторов) выполняла 41 страна, в 2002 году – 152. Сравнительно недавно даже самые развитые страны Запада имели множество валютных ограничений. Так, например, в Англии до середины 1970-х резидентам запрещалось приобретать наличную иностранную валюту сверх установленного крайне низкого лимита, а во Франции в 1983 году были введены жесткие правила репатриации экспортной выручки, покупки валюты для импорта, покрытия валютных сделок на срок финансирования инвестиций за границей.
Для многих развивающихся стран и стран с переходной экономикой результаты валютной либерализации конца прошлого века оказались далеко не однозначными. По утверждению МВФ, валютная либерализация должна была содействовать интеграции в мировую экономику и росту конкурентоспособности. На практике же отмена валютных ограничений часто выпадала из макроэкономического контекста и ее темпы не соизмерялись с темпами формирования механизмов и институтов рынка. Как следствие, была создана почва для долларизации, утечки инвестиционных ресурсов, беспорядочного движения спекулятивных капиталов.
Революция в средствах связи и обработки информации сделала международные финансовые потоки еще более подвижными. В 1970–1980-е годы во многих странах были созданы общенациональные системы расчетов в режиме реального времени (Real Time Gross Settlement – RTGS). В 1990-е между ними возникли связующие звенья. Например, в Гонконге существуют такие системы расчетов в гонконгских долларах, в долларах США, а с апреля 2003-го – в евро, причем все они функционально дополняют друг друга. Кроме того, усовершенствованы традиционные системы международного клиринга, повышена их надежность, увеличены лимиты кредитования, расширен круг участников и набор функций. Это позволило перемещать огромные суммы денег из одной точки мира в другую простым нажатием клавиши.
За последнюю четверть века произошел и другой серьезный качественный сдвиг: обменный курс той или иной валюты перестал формироваться во внешней торговле. Это было вызвано стократным увеличением объемов международных валютных рынков. Действительно: если в 1970-е ежедневный объем валютных операций в мире составлял 10–20 млрд дол. (то есть приближался к стоимости ВВП, производимого в развитых странах в течение одного рабочего дня), то в 2001 году эта цифра равнялась 1,2 трлн долларов. На обслуживание товарных сделок теперь приходится всего 2 % от совершаемых в мире валютообменных операций. Поэтому возможность отклонения рыночного курса валюты от паритета покупательной способности (по которому курсовое соотношение двух валют должно отражать соотношение цен в данных странах) намного возросла. К примеру, на один доллар в России можно купить вдвое больше товаров, чем в США. То есть рыночный курс рубля составляет 50 % от паритета его покупательной способности (ППС). Такое положение характерно для большинства государств Центральной и Восточной Европы. В некоторых странах курс национальной валюты занижен еще больше, например, в Индии и Китае он находится на уровне 20 % от ППС.
Если в 1971 году обменные курсы оторвались от золотого якоря, то потом они оторвались и от казавшегося естественным товарного якоря. Несмотря на глобализацию и наличие развитого мирового рынка (который, правда, составляет менее 20 % от мирового ВВП), в настоящее время нет и намека на выравнивание внутренних цен между странами. Иначе говоря, коридор возможных колебаний курса той или иной валюты резко расширился. Моментальное обесценение валюты в два или в четыре раза, как это было с российским рублем, теперь никого не удивляет.
На рубеже 1980–1990-х годов распалась социалистическая система, бывшие страны СЭВ начали переход к рыночной экономике. Большинство из них сразу сделали конвертируемыми свои валюты и сняли основные ограничения по текущим операциям. В России в 1992 году был принят закон «О валютном регулировании и валютном контроле», разрешивший конверсионные операции и трансграничное движение капиталов. К мировым валютным рынкам добавился не существовавший ранее сегмент. Это серьезно изменило облик международной валютной системы, хотя на указанные регионы приходится только 2 % совершаемых в мире конверсионных операций. Достаточно вспомнить, что все новые валюты пережили периоды высочайшей инфляции и резкого обесценения. Одновременно произошла глубокая долларизация постсоветского пространства. Американские деньги, будучи гораздо сильнее и надежнее, чем встававшие на ноги местные валюты, выдавили последние из большой части внутреннего оборота. А в 1998 году Россию поразил финансовый кризис.
Еще один новый фактор современных валютно-финансовых отношений – введение с 1 января 1999 года единой европейской валюты. Два первых года своей жизни она теряла в цене, а уже на рубеже 2002–2003 годов евро стал стоить дороже доллара. Это показало частным и государственным инвесторам, что европейская валюта может использоваться как средство диверсификации их накоплений. Никогда еще европейские денежные единицы не использовались в международном масштабе столь широко, сколь теперешний евро. И если курс единой валюты останется стабильным, то ее привлекательность будет расти и впредь. С прежними национальными денежными единицами этого не могло случиться в принципе.
В то же время для мировых финансовых рынков евро стал еще одним фактором турбулентности. Связано это с тем, что у операторов появилась реальная альтернатива доллару (пусть не во всех сферах), а у Евросоюза – возможность проводить более независимую от США экономическую и валютную политику. В 2001 году, по данным Банка международных расчетов в Базеле, волатильность (краткосрочная изменчивость) курса евро по отношению к доллару США была в три раза (!) больше, чем аналогичный показатель для немецкой марки в 1998 году. Одновременно увеличилась амплитуда и частота колебаний в большинстве других важнейших валютных пар. Введение евро, конечно, явилось не единственной причиной, обусловившей нестабильность валютных рынков, однако налицо его «вклад» в сложившуюся ситуацию.
Все эти процессы привели в 1990-е годы к росту нестабильности международной валютной системы. Серию региональных кризисов открыл кризис Европейской валютной системы 1992–1993 годов. Тогда атакам впервые подверглись валюты даже тех стран, правительства которых придерживались вполне адекватного и грамотного курса. Экономисты заговорили о кризисах «второго поколения», когда решающим оказывается не качество национальной политики, а соотношение денежных средств, которые правительство с одной стороны и валютные спекулянты с другой готовы бросить в схватку. Спекулянты рассчитывают, какую сумму государство может потратить на интервенции, и если их собственные возможности оказываются весомее, то игра на понижение начинается.
В 1997–1998 годах на мир обрушился очередной ряд финансовых потрясений. Началось с Юго-Восточной Азии и России, дальше завибрировали валютные системы Латинской Америки, в 2001 году разразился кризис в Турции, в 2002-м – в Аргентине. Как бы ни хотелось считать эти события случайными, они, увы, таковыми не являются. Дело здесь не в безответственности властей и не в фатальном стечении обстоятельств, а в изменении глобального валютно-финансового климата как такового.
Что же мировое сообщество готово предпринять в ответ?
УПРАВЛЕНИЕ ВАЛЮТНЫМИ КУРСАМИ: КЛАССИКА ЖАНРА
Основными методами управления курсами до сих пор являлись валютные интервенции, изменение процентной ставки, регулирование текущего баланса и привязка национальной денежной единицы к более сильной. Однако с каждым из них в последние полтора десятилетия произошла глубокая метаморфоза.
Количество средств для интервенций снизилось. Не то чтобы их число в целом сократилось (напротив, с 1990 по 2002 год совокупные валютные резервы всех стран мира увеличились с 640 до 1730 млрд СДР (специальные права заимствования, расчетная единица МВФ. – Ред.) – почти в 3 раза) – их мало относительно объема рынка. Если потребуется поддерживать курс евро или доллара, то имеющихся запасов (все валютные резервы Европейской системы центральных банков составляют 300 млрд евро, а Федеральной резервной системы (ФРС) США – 60 млрд дол.) хватит лишь на косметические мероприятия. Осенью 2000 года Европейский центральный банк четырежды проводил интервенции в поддержку евро. Результат оказался минимальным: после первой интервенции, проведенной совместно с ФРС и Банком Японии, курс поднялся с 0,86 до 0,89 доллара за один евро, а после последней – котировки колебались вокруг отметки 0,85. О размере средств, потраченных зоной евро на интервенции, косвенно можно судить по тому, что за ноябрь 2000 года валютные резервы ЕЦБ (без золота, СДР и резервной позиции в МВФ) уменьшились на 13 млрд евро.
Крупнейшими в мире держателями золотовалютных резервов являются страны Юго-Восточной Азии. В середине 2003 года официальные валютные запасы Японии выросли до 540 млрд дол., Китая – до 350 млрд дол., Тайвань, Южная Корея и Сянган (Гонконг) имели по 100 с лишним миллиардов каждый. Получается, что главные мировые валюты эмитируют одни страны, а основной частью резервов владеют другие. Асимметрия налицо. В случае падения курса доллара или евро едва ли азиатские государства пожертвуют сколько-нибудь крупными средствами ради укрепления хотя и важных для них, но все-таки чужих валют.
Что касается процентной ставки, то ее влияние на обменный курс тоже довольно ограниченно. Связь между двумя показателями прослеживается более или менее отчетливо только для валют, имеющих широкое международное признание, в основном для доллара и евро. (В Японии последние годы процентные ставки близки к нулю, и на фоне вялой конъюнктуры власти не скоро смогут их повысить. В Великобритании естественным ограничителем роста ставки является высокая задолженность домохозяйств, большинство британских семей выплачивает ипотеку. В Швейцарии ставка традиционно низка благодаря банковской тайне, владельцы капиталов сомнительного происхождения мирятся с нулевой или отрицательной доходностью депозитов, обеспечивая швейцарским предприятиям дешевый доступ к внешнему финансированию.) Но и это происходит не всегда. Так, с лета 2001 года рыночные ставки в зоне евро превысили американские, но подъем евро начался полтора года спустя. Для нерезервных валют повышение ставки рефинансирования мало способствует притоку иностранных капиталов, затрудненному не только в силу отсутствия доверия, но и вследствие слабости местных финансовых рынков. Внешние операторы резонно опасаются, что, вложившись в редкую валюту или номинированные в ней ценные бумаги, они не смогут в нужный момент продать данные активы по прежней цене. Ведь резкие колебания конъюнктуры – обычное дело для неразвитых рынков.
Важнейшим фактором курсообразования считается состояние баланса по текущим операциям. Выдача кредитов на урегулирование текущих балансов стран-членов – один из основных инструментов МВФ в деле содействия курсовой стабильности. Однако неотрицательный баланс по текущим операциям в странах, чьи валюты не участвуют в международном обороте, на практике не гарантирует ровной курсовой динамики, хотя и благоприятствует ей (в 1998 году Россия имела положительное сальдо в размере 700 млн дол., но это никак не уберегло рубль от девальвации). В государствах же, чья валюта доминирует в мире, отрицательный текущий баланс может вполне компенсироваться притоком долгосрочного капитала, что и происходит в США уже многие годы.
До кризисов в Юго-Восточной Азии и России МВФ с подачи США настойчиво рекомендовал развивающимся странам и странам с переходной экономикой жестко привязывать свои валюты к наиболее сильным валютам мира, главным образом к американскому доллару. Считалось, что такой режим валютного курса быстро восстанавливает доверие инвесторов к местной денежной единице, подавляя инфляцию и увеличивая приток капиталов из-за рубежа. События 1997–1998 годов показали, насколько тяжелыми могут быть средне- и долгосрочные последствия такой политики. Обязательства правительств поддерживать жесткие паритеты и прозрачность сведений о работе центральных банков (в том числе о величине официальных резервов) позволили спекулянтам «правильно» сориентироваться на местности, точно определить время и характер наступательных действий.
НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ – НОВЫЕ РЕЦЕПТЫ
Если испытанные методы действуют все с меньшей эффективностью и явно не соответствуют вызовам времени, значит, нужны новые решения. Их усиленно ищут, особенно после 1997 года. Новые или значительно модернизированные в последнее время способы валютно-финансовой стабилизации можно разделить на три группы: 1) региональное сотрудничество, 2) международное регулирование и 3) использование новых операционных технологий. Кроме того, в стадии обсуждения находится еще одно средство международной валютной стабилизации – увязка курсов основных валют.
Валютная стабилизация в рамках отдельного региона – процесс, в принципе, отработанный. Таким путем шла Западная Европа после Второй мировой войны: в 1950 году был создан Европейский платежный союз, в 1972 году – уже под эгидой Европейского экономического сообщества – «валютная змея», в 1979 году – Европейская валютная система, наконец, в 1999 году – Экономический и валютный союз. Упорство европейцев диктовалось хозяйственной необходимостью: для большинства стран региона торговля с соседями составляла больше половины всего внешнеэкономического оборота, а разнонаправленное движение курсов после распада Бреттон-Вудской системы нарушало традиционные товарные потоки.
Европейский опыт давно стал образцом для подражания: им попытались воспользоваться в Центральной Америке (в 1964 году Гватемала, Коста-Рика, Никарагуа и Сальвадор подписали Соглашение о Центральноамериканском валютном союзе) и в Африке (в 1975 году 16 стран Экономического сообщества Западной Африки (ЭКОВАС) создали Западноафриканскую клиринговую палату). В ноябре 1997 года 14 стран Юго-Восточной Азии создали Манильскую рамочную группу (Manila Framework Group), которая должна была разработать механизмы управления кризисами. Затем Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур и Таиланд заключили СВОП-соглашение (ASEAN Swap Arrangement) о кредитах. Система (аналогичная действовавшей в ЕС в 1980–1990-е годы) позволяет стране, валюта которой подверглась атаке, получить иностранную валюту для интервенций под залог государственных ценных бумаг. В мае 2000 года все страны АСЕАН, а также Китай, Япония и Южная Корея подписали в Таиланде соглашения о соответствующем расширении зоны действия данного механизма. Документы получили название «Инициативы Чианг-Май» (Chiang Mai Initiative). К весне 2003 года действовало уже 10 двусторонних кредитных линий на общую сумму 29 млрд дол. и еще три находились в процессе согласования.
Как видно, объем кредитов, предоставляемых в рамках инициативы, совсем не велик. Тем не менее организаторы считают, что она дает важный сигнал рынкам, так как центральные банки, не увеличивая резервы, получают дополнительные возможности противостоять спекуляциям. По мнению азиатских экономистов, ценно и то, что данные средства доступны по первому зову, тогда как финансовая помощь МВФ приходит с большим опозданием. Кроме того, кредиты МВФ всегда являются жестко обусловленными. Правительства не спешат обращаться за ними, боясь морального давления, вмешательства во внутреннюю политику и усиления оттока капиталов из страны.
Из остальных регионов мира, где имеются планы валютного сотрудничества, реальный шанс есть, разве что, у СНГ. Хотя в ближайшие 20–30 лет единая валюта здесь наверняка не появится, тем не менее страны Содружества способны значительно продвинуться по пути консолидации своего валютно-финансового пространства. Определенные результаты уже достигнуты. В 2000 году начали действовать банковская ассоциация «Объединенная платежная система Содружества» и Международная Ассоциация бирж (МАБ) стран СНГ. В 2001 году Межпарламентская ассамблея СНГ приняла модельные законы «О рынке ценных бумаг» и «О валютном регулировании и валютном контроле», также было разработано Соглашение о принципах организации и функционирования валютных рынков стран Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭс). В 2002 году девять стран СНГ договорились о создании Совета руководителей государственных органов по регулированию рынков ценных бумаг, была разработана Конвенция об интеграции фондовых рынков стран СНГ.
Перечисленные шаги сегодня имеют лишь косвенное отношение к проблеме стабилизации валютных курсов. И все же они содействуют увеличению масштабов и степени развития национальных валютно-финансовых рынков, что является одной из ключевых предпосылок для повышения их устойчивости. В перспективе введение коллективной расчетной единицы (подчеркну – не единой валюты), совместные действия по дедолларизации и реализация мер, аналогичных азиатской инициативе, могли бы заметно укрепить позиции валют СНГ.
Из международных инструментов валютно-финансовой стабилизации наиболее известным является налог Тобина. В 1972 году американский экономист, будущий лауреат Нобелевской премии Джеймс Тобин выступил с идеей обложить в масштабах всего мира спекулятивные движения капиталов особым налогом в размере до 0,1 % от суммы операции, а вырученные средства направить на нужды развивающихся стран. После финансовых кризисов 1997–1998 годов дискуссия об этом налоге наконец перешла в практическую плоскость. О его необходимости официально заявили правительство Финляндии, парламент Канады, президент Бразилии, а также различные парламентские фракции США, Великобритании, Франции, Бельгии, Италии. В 2001 году 40 членов Европейского парламента и национальных парламентов Евросоюза призвали ввести в ЕС налог Тобина, установив его на двух уровнях: нормальном и экстренном. Последний мог повышаться до 50 % при угрозе резкого обесценения той или иной валюты. Однако руководство Союза отклонило инициативу, сославшись на то, что налог вынудит бизнес уйти в офшорные зоны и в результате он скорее дестабилизирует рынки, нежели упорядочит их. Сейчас меры, аналогичные налогу Тобина, применяются на некоторых фондовых площадках: в Сингапуре сделки облагаются налогом в размере 0,2 %, в Сянгане – 0,4 %, в США – 0,0034 %, во Франции – от 0,3 до 0,6 %. Перспективы того, что налог Тобина будет введен сразу во всем мире – а только в этом случае он имеет смысл, – весьма призрачны.
Наконец, еще один тип методов валютной стабилизации – применение новых информационных технологий. Здесь основную нагрузку несет частный бизнес, а не государство. Как отмечалось выше, в 1990-е годы многие страны создали системы скоростных расчетов, сначала национальные, а потом трансграничные. В ЕС сейчас действует две крупные международные системы. Первая из них – ТАРГЕТ – проводит двусторонние расчеты между банками из разных стран через их центральные банки и специальную стыковочную платформу. Вторая – Евробанковская ассоциация – работает на основе многостороннего клиринга между коммерческими банками-участниками, а роль расчетной палаты выполняет Европейский центральный банк. Эти системы не только сократили время прохождения платежей (до нескольких минут), но и устранили валютные риски, поскольку по своей природе они могут работать только в одной валюте.
Что касается страхования валютных рисков, то это еще одна сфера, где требуются и уже начались перемены. Такие давно существующие на рынках инструменты страхования валютных рисков, как форварды, фьючерсы, опционы, уже не способны удовлетворить растущие требования бизнеса к инфраструктуре рынка. С сентября 2002 года в США начал действовать БПСР – Банк продолженных связанных расчетов (Continuous Linked Settlement Bank), созданный крупнейшими банками мира при взаимодействии с семью центральными банками. Данный механизм позволяет значительно снизить риск при проведении многовалютных платежей (возникающий из потенциальной возможности не получить купленную валюту после поставки проданной). В системе участвуют финансовые институты США, Европы и Юго-Восточной Азии – их число возросло с 42 в ноябре 2002 года до 70 в июле 2003 года. За это же время доля нового банка в общем объеме мирового валютообменного рынка увеличилась с 16 до 50 %, теперь он ежедневно осуществляет сделки на сумму более 600 млрд долларов. Операции ведутся в семи валютах: долларах США, евро, японских иенах, фунтах стерлингов, швейцарских франках, канадских и австралийских долларах. К ним планируется добавить еще шесть валют: шведскую, датскую и норвежскую кроны, а также сингапурский, гонконгский и новозеландский доллары.
Еще одно широко обсуждаемое средство международной валютной стабилизации – увязка курсов доллара, евро и, возможно, иены. В 1985 и 1987 годах страны «большой семерки» заключили сначала Соглашение «Плазы» (Plaza Agreement), а потом Луврское соглашение (Louvre Accord) с целью снизить завышенный тогда курс доллара и выровнять курсовую динамику. При отклонении котировок на 2,5 % начинались добровольные односторонние интервенции, при отклонении на 5 % – обязательные многосторонние. Больше подобные действия никогда не предпринимались.
В конце 1998 года – перед введением евро – идея увязать курсы двух или трех основных валют снова вышла на авансцену. Возможность создания коридора долго обсуждалась лидерами США, ЕС и, отчасти, Японии, но в конце концов она была отвергнута. Главное препятствие состоит в том, что модели рыночной экономики в США, ЕС и уж тем более Японии, сильно отличаются друг от друга. Не совпадают и не будут совпадать их экономические циклы, что делает невозможной синхронизацию инфляции и процентных ставок. Кроме того, объявление пределов колебаний наверняка дало бы повод спекулянтам для атак на одну из валют, а средства центральных банков США и ЕС не достаточны для результативных интервенций. Вопрос об увязке курсов вновь поднимался на недавней встрече «большой восьмерки» в Эвиане, однако вероятность того, что такая увязка действительно состоится, минимальна. Лучшим исходом данной дискуссии может быть закрытая договоренность о координации общих направлений валютной политики, например об управлении официальными резервами.
Казалось бы, в решении специфических валютных проблем развивающихся стран и стран с переходной экономикой одну из ключевых ролей должны играть МВФ и другие международные организации. Тем не менее они почти ничего не сделали в этой области. Наличие у развивающихся и «переходных» стран особых механизмов курсообразования, отличных от тех, что характеризуют промышленно развитые государства, до сих пор не получило официального признания. Им все еще предлагаются рецепты, пригодные для доллара, евро, иены и других международных валют. При этом игнорируются очевидные факты – а именно то, что инфляция там может расти и при зажиме денежной массы (она пополняется за счет иностранной валюты); что вследствие долларизации целые сегменты денежного рынка выводятся из-под влияния центрального банка; что импорт не оплачивается национальной валютой, а валютные рынки неглубоки и плохо держат удар.
Региональные кризисы конца 1990-х годов, вернее, неспособность их предвидеть и купировать, стали основанием для резкой критики МВФ со стороны как пострадавших государств, так и лидеров промышленно развитых стран, деловых кругов и мировой элиты в целом. Выяснилось, что фонд, располагавший первоклассными специалистами и проводивший жесткую «воспитательную работу» с развивающимися странами, оказался беспомощным в ситуации, когда от него требовались решительные действия.
В конце 2001 года МВФ опубликовал доклад о реализованных и готовящихся инициативах по предотвращению кризисов. Представленные в нем меры в основном касаются финансовых рынков, а непосредственно валютному регулированию посвящен всего один подраздел – о золотовалютных резервах. Точно так же в центре внимания Форума финансовой стабильности, созданного в 1999 году «большой семеркой», находится не что иное, как финансовый и пруденциальный надзор, координация действий и обмен информацией в данной области. (Форум собирается дважды в год на уровне министров финансов, представителей центральных банков и органов банковского надзора стран «большой семерки», Нидерландов, Сингапура, Австралии и Гонконга.) Бесспорно, курсовая динамика зависит от экономической политики, от состояния финансовой сферы и поведения зарубежных инвесторов. Но дело не только в этом. В 1990-е природа валютных кризисов изменилась. Теперь они имеют собственные причины, далеко не всегда проистекающие из слабой бюджетной дисциплины и безответственной государственной политики.
НА ПУТИ К ПЯТОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЕ
Последовательная смена четырех международных валютных систем включала в себя два параллельных процесса: вытеснение из обращения золота и переход валютного лидерства от одной страны к другой. В первом случае мы имеем дело с эволюцией собственно денег, во втором – с использованием национальной валюты в качестве мировой.
Выше было показано, что современная Ямайская система становится все менее эффективной. Ее конструктивные элементы не справляются с возрастающей нагрузкой. Пустоты, возникающие из-за снижения активности традиционных инструментов, заполняются лишь в небольшой части. Что может спровоцировать закат системы? До сих пор таким толчком являлись войны или тяжелые экономические кризисы, однако, как показал опыт Югославии и Ирака, локальный характер военных конфликтов XXI века, в которых к тому же применяются точечные удары и высокотехнологичное, нелетальное оружие, только лишь деформирует траекторию обменных курсов. К счастью, невелика и возможность глубочайшей депрессии в мире или в США.
Ямайскую систему подточат не катаклизмы, а высокие технологии. Они заявят о своих институциональных правах. До XIX века, когда мировыми деньгами были серебро и золото, покупателя и продавца не интересовало, чей герб красовался на монетах. По мере отступления золотого стандарта одни валюты приобретали функции мировых, а другие уходили с международной арены. Критерием отбора было то, насколько те или иные национальные валюты могли выполнять функции денег на внешних рынках. К концу XX века большинство национальных денежных единиц стали конвертируемы, однако они по-прежнему не обслуживают мировую торговлю. Россия не покупает китайские товары за рубли, а Китай не продает их за юани, хотя ни та ни другая сторона не ограничивает движение капитала по текущим операциям. Двусторонний бартер крайне неудобен, а многосторонний возможен только в общей расчетной единице.
Таким образом, доллар, евро и несколько других общепризнанных валют работают в качестве мировых денег именно потому, что урегулирование гигантской паутины международных платежей технически невозможно в поливалютном режиме. Это касается не только торговли и инвестиций, но и валютных рынков, на которых девять сделок из десяти совершаются с целью купли или продажи долларов. Поскольку большинство валют не обмениваются друг на друга напрямую, доллар США выполняет функцию денег на рынках, где продаются и покупаются деньги других стран.
Как только удастся наладить поливалютные многосторонние платежи, спрос на главенствующие валюты, особенно на доллар, уменьшится, а международное значение прочих валют начнет возрастать. Искомое техническое решение, скорее всего, будет найдено в течение десяти лет – к нему, как видно на примере применения оптико-волоконных технологий, уже подбираются. Балансировать платежи в 150 валютах не обязательно – для радикального перелома достаточно сделать это в валютах 20–30 стран, на которые приходится более 4/5 мировой торговли и финансовых потоков. Третьи страны, например Грузия, смогут перевести свою внешнюю торговлю с долларов на валюты основных партнеров – евро, российские рубли, турецкие лиры.
Данная система значительно сократит трансакционные издержки. Новая парадигма, кроме того, будет означать, что мировые деньги совершат виток в развитии, вернувшись в ином качестве на линию, от которой они начали движение при отмене золотомонетного стандарта. Единой мировой валюты не потребуется. А в процессе интернационализации имеющиеся центростремительные силы (региональные валютные организации) будут сочетаться с валютной полифонией.
В целом пятая валютная система может иметь следующий вид: развитая сеть поливалютных платежей для двух-трех десятков наиболее значимых денежных единиц плюс несколько региональных ареалов продвинутого валютно-финансового сотрудничества. Первый, ключевой элемент схемы имеет шанс материализоваться до конца десятилетия. Возможно, это произойдет и раньше, по крайней мере в отдельных сегментах финансовых рынков. Ждать осталось недолго.

Нефтедоллару придется потесниться
Владимир Евтушенков
© "Россия в глобальной политике". № 1, Январь - Март 2003
В.П. Евтушенков – председатель совета директоров АФК «Система», член попечительского совета журнала «Россия в глобальной политике».
Резюме Только перевод инвестиционных ресурсов из сырьевых отраслей в отрасли высоких технологий позволит укрепить экономическое и политическое влияние России в мире. Доминирующая сейчас экспортно-сырьевая экономика может стать колоссом на глиняных ногах.
Представление о том, что российский экспорт – это прежде всего сырье, прочно закрепилось в сознании мировых экономических элит. Однако впервые на протяжении всей истории отечественной экономики ее экспортный продукт – в широком смысле слова – начинает меняться. Сегодня, наряду с нефтью и газом, сталью и круглым лесом, Россия нарастающими темпами поставляет миру интеллект. В то время как в Европе дефицит квалифицированных специалистов сферы информационных технологий вырос до 1,2 млн человек, в родном Отечестве ждут своего часа 1,3 млн программистов, исследователей фундаментальных проблем физики, биологии и других наук. Базовая экономика и знания в России словно сосуществуют параллельно, не преобразуясь в «экономику знаний».
Вслед за ростом — торможение
«Утечка мозгов» – прямое свидетельство того, что особо ценные знания и технологии не находят в России адекватного спроса. За последние два года в российском секторе высоких технологий (ВТ) производилось не более 1,5 % национального валового внутреннего продукта (ВВП), что примерно соответствует уровню стран Восточной Европы и Латинской Америки.
Россия ныне занимает 63-ю строку в мировом рейтинге перспективной конкурентоспособности, поэтому «разглядеть» качественные изменения в ее экономике трудно, хотя они есть. Начиная примерно с 2000-го в стране поддерживается макроэкономическая стабильность, которая находит отражение в профицитном бюджете, умеренных темпах инфляции, поддержании адекватного уровня золотовалютных резервов. При возросшей потребительской активности населения ВВП за последние четыре года увеличился на 21 %, промышленное производство – на 30 %, выпуск продукции машиностроения – на 5 %. Партнерство с Западом, освобожденное от излишней политизированности, обеспечило заметное продвижение России на переговорах о ее вступлении во Всемирную торговую организацию, признание нашей страны государством с рыночной экономикой.
Минувший год характерен тем, что в условиях закрепления в России посткризисных тенденций экономического роста наконец появилась возможность практической постановки вопроса о его направлениях, темпах и качестве. Эта дискуссия, можно сказать, инициирована самим правительством, которое, направив основные усилия на институциональные преобразования, подвело определенную черту под этапом рыночной трансформации экономики. А что же за чертой? Есть ли импульс к промышленному росту?
Многие политики и предприниматели озабочены тенденциями, наметившимися в экономике. Главными факторами оживления производства в России после кризиса 1998 года были девальвация рубля и высокие мировые цены на сырьевые товары при относительно низкой стоимости продукции и услуг естественных монополий. Производство расширялось в первую очередь за счет загрузки простаивающих мощностей и выпуска импортозамещающих товаров. На сегодня эти резервы практически исчерпаны.
Вернувшаяся к нам из середины 1970-х экспортно-сырьевая экономическая модель способна принести облегчение, но временное. Высокий уровень материало- и энергоемкости промышленности, низкая производительность труда неминуемо приводят (или приведут в ближайшем будущем) к торможению роста. Причина – значительные издержки предприятий обрабатывающих отраслей, их слабый инвестиционный потенциал вследствие растущих относительных цен на продукцию и услуги естественных монополий, неконкурентоспособность отечественных товаров из-за поддержания завышенного курса рубля.
Согласно прогнозам большинства экспертов, в ближайшие годы экономический рост в России продолжится, но его темпы будут снижаться (в 2002 году рост ВВП составил 4 %, в 2003-м ожидается 3–3,2 %). Экспортно-сырьевая экономика может стать колоссом на глиняных ногах, который рухнет под тяжестью нестабильных мировых цен на энергоресурсы, сокращения освоенной базы в металлургической, нефтяной и газовой промышленности.
Пустые инвестиционные кассы предприятий, выпускающих продукцию с высокой долей добавленной стоимости, приближают день, когда они утратят саму способность создавать высокотехнологичный товар. Российскому нефтедоллару придется, как и прежде, возмещать отсутствие наукоемкой продукции, но с ущербом для нации в целом, поскольку в сравнительном выражении он более скромный источник ее благосостояния. Если одна тонна сырой нефти приносит до 20–25 долларов прибыли, килограмм авиационной техники – до 1 тыс. долларов, то килограмм наукоемкого продукта в отраслях высоких технологий (электроника, промышленность средств связи) позволяет извлекать уже до 5 тыс. долларов прибыли.
К сожалению, в развернувшейся дискуссии о путях выхода страны из топливно-сырьевого тупика никак не обозначены позиции правительства. Оно ограничивается поквартальными заявлениями о росте ВВП, воздерживаясь от качественных оценок пройденного пути и перспектив.
Тяжелый крест индустрии
Экономика России начала 90-х годов объективно не могла распахнуть двери перед высокими технологиями, поскольку она начиналась не с чистого листа. Фактический сценарий рыночных реформ, несмотря на все намерения их авторов, складывался под влиянием мощного фактора индустриального наследства СССР, в первую очередь отраслей оборонного комплекса. Массированное извлечение на его нужды производственных ресурсов обрекло «гражданскую» экономику на глубокое техническое отставание. (Это отличает Россию от Запада, который развивался с сохранением относительной технологической однородности во всех секторах экономики.) Результатом стали катастрофическое падение качества продукции, форсированная эксплуатация сырьевой базы.
Смена политических эпох не спасла гражданские научно-промышленные отрасли, которым вместо модернизации было предложено освобождение от пут государства, что послужило толчком к их дальнейшей деградации.
Спустя десять лет, в то время как в мире все больше внимания уделяют востребованию ценных знаний и квалифицированных научно-творческих кадров, в России по-прежнему не преодолена технологическая отсталость. Ее экономику составляют устаревшие индустриальные структуры, поддержание которых не требует ускоренного технологического развития и информатизации общества.
Другая причина – в так называемом «человеческом факторе». Наиболее влиятельные силы современной России, формирующие ее экономический курс (включая политические партии), сгруппировались вокруг отраслей сырьевого экспорта и добывающих производств, не отличающихся высоким технологическим уровнем и сложностью ведения бизнеса.
Исследования конкурентоспособности российской индустрии показывают, что только 3–5 % ее продукции способны завоевать рынки экономически развитых стран. Мировому уровню соответствует лишь четвертая часть отечественных технологий, многие из которых не преобразуются в конкурентные преимущества на стадии промышленного производства.
В совокупности предприятий индустрии доля инновационно-активных за последние годы возросла – с 5 % в 1997 году до 14 % в 2001-м. Однако в общем объеме продукции промышленности удельный вес инновационной не превышает 5 % (даже в машиностроении и металлообработке – не более 10 %). Уровень рентабельности (соответственно инвестиционной привлекательности) отраслей с высокой степенью переработки существенно уступает сырьевым секторам.
Медленно развивается инфраструктура инновационного бизнеса. Сравните: в финском городе Оулу, где проживает 100 тыс. человек и имеется один университет, работает технопарк площадью 70 тыс. кв. метров. А в Санкт-Петербурге, имеющем при пятимиллионном населении 80 высших учебных заведений и академических институтов, общая площадь всех технопарков составляет менее 15 тыс. кв. метров.
От имени российских промышленников, ориентированных на приоритетное развитие высокотехнологичных отраслей, возьму на себя смелость заявить: реформы последнего десятилетия не заложили основы для структурного прорыва в источниках экономического роста. Будущее российской экономики связано не с «деиндустриализацией» (замещением промышленности производством услуг), а с революционными преобразованиями в экономической структуре в целом. Промышленность не должна свернуть на обочину, необходимо провести ее реорганизацию, опираясь на современные финансовые, информационные и управленческие технологии, услуги научных и инновационных центров.
Россия являет миру десятки успешных разработок в области ВТ, в том числе в сферах, находящихся на острие мирового технологического прогресса. Среди них – технологии изготовления кристаллических элементов для электронной промышленности (компания «Фомос-Технолоджи», Москва) и выращивания полупроводниковых структур (Физико-технический институт, Санкт-Петербург), биологические микрочипы для медицинских целей (Центр биологических чипов Института молекулярной биологии РАН, Москва), лазерные микрочипы и микролазеры (Научно-технический центр «Фирн», Краснодар), плазмохимические реакторы для уничтожения токсичных отходов (Международный научный центр по теплофизике и энергетике, Новосибирск) и многие другие.
Эти примеры – отчаянный прорыв через многочисленные налоговые и административные преграды. Прорыв, который происходит не благодаря государству, а во многом вопреки ему, ибо перспективные производства не находят в стране реальной поддержки. Существующие концепции развития отдельных отраслей (автомобильная и лесная промышленность, металлургия, станкостроение) фактически представляют собой перечень слабых производств, которые государство намерено поднять. Но адресуемые им бюджетные деньги или налоговые послабления «уходят в песок» из-за устаревшего профиля предприятий, их слабой конкурентоспособности, низкого уровня менеджмента.
Вызывавшие в недавнем советском прошлом негативную реакцию общества факты, когда бюджетные средства «зарывали в землю» или ими «отапливали небо», трансформировались в полузакрытые лоббистские проекты типа «Высокоскоростных магистралей» или «Союзного телевизора», которые поддерживаются через финансовые, налоговые и другие льготы государства, – по существу, через тотальный отраслевой протекционизм. Общественность не располагает сведениями ни о целях, сроках и подлинных масштабах финансирования этих проектов, ни о мере ответственности их инициаторов.
Силы «новой экономики» формируют особый стиль хозяйственной деятельности, когда интеллект больше управляет капиталом, чем обслуживает его. В этих условиях главный ресурс хозяйственного роста – высокая квалификация и знания работников, составляющих кадровую основу наукоемких и информационно-технологических компаний малого и среднего бизнеса. Они могут стать наиболее активными проводниками экономического роста, но при условии, что капитал и знания не исключают друг друга. Пока же действует российский сырьевой капитал. Знания «спят».
По сути, у российской промышленности есть два пути развития. Или жесткая государственная политика с преобладанием прямого бюджетного субсидирования отраслей и отдельных амбициозных проектов на основе административных рычагов (что знакомо нам по ранним стадиям индустриального развития). Или политика косвенного финансово-экономического стимулирования выпуска конкурентоспособной продукции. Специфика геополитического положения России, ее история не позволяют быстро перейти ко второй модели. Но и первый путь неприемлем, поскольку определение «точек роста» силами и волей государства неизбежно ведет к разбалансированию хозяйства.
Глубинной причиной краха СССР многие аналитики называют сверхжесткую централизованную экономику, которая не выдержала соревнование с гибкими рыночными системами экономически развитых стран. Однако ее либеральная трансформация в новой России не создала условия для технологических прорывов. Неизменной осталась сама концепция «универсальной», изолированной от мирового хозяйства экономики, которая не выдвигает технологических приоритетов даже теоретически.
Необходим маневр ресурсами
В спорах о том, может ли Россия обойтись без мирохозяйственной специализации, международный опыт поставил точку. Поддержание «универсальной» экономики непосильно даже для промышленно развитых государств. Так, США отказались от разработки и выпуска бытовой аудио-, видео- и другой наукоемкой бытовой техники, Великобритания – от собственных легковых автомобилей, Германия – от систем атомной энергетики, Япония – от крупного авиастроения и выпуска ракетно-космической техники. Исчезает первоначальный смысл понятия «национальный продукт», который становится компонентом международного производства.
Становление новой хозяйственной системы в корне меняет наше представление о прямой зависимости между «объемом производства» и реальным потенциалом экономики. Знания способны умножать результаты хозяйственной деятельности гораздо эффективнее, чем любой другой производственный фактор. На смену традиционной концепции текущей конкурентоспособности страны, «привязанной» к объему, удельному весу и темпам роста ВВП, приходит понятие перспективной конкурентоспособности, которая определяется уровнем использования новых технологий.
В течение последних пяти лет американские корпорации (не считая правительства и частных лиц) ежегодно получали больше патентов на изобретения и усовершенствования производственных технологий, чем компании, государственные организации и частные лица во всем остальном мире. В конце XX столетия на долю компаний, работающих в сфере информационно-коммуникационных технологий, приходилось более 20 % акционерного капитала США, 18 % – Великобритании, 14 % – Швеции, 11 % – Германии. Знания способны умножать результаты хозяйственной деятельности гораздо эффективнее, чем любой другой производственный фактор.
Действующие в России программы поддержки промышленности нельзя назвать значимыми в силу ничтожно малых средств, заложенных в них. По данным Института комплексных стратегических исследований, несмотря на сокращение общего количества федеральных программ и подпрограмм с целью концентрации ресурсов, их реально действует около 130. Каждая из них дает «подшефным» отраслям около 2 млрд руб. (65 млн дол.) в год.
Между тем, по разным оценкам, модернизация российской промышленности в ближайшие пять лет потребует от 100 до 200 млрд долларов. Где найти эти средства?
Есть все основания предполагать, что Россия выберет путь развития на базе интегрированных бизнес-групп (ИБГ) – преимущественно холдингов и стратегических альянсов. Во всяком случае, они войдут на этот путь первым эшелоном, оставив позади зарубежные инвестиции. С этой точки зрения доминанта в ВВП сырьевых отраслей – естественное преимущество страны, можно сказать, исторический шанс.
Доказавшие свою жизнеспособность в кризисном 1998 году, ИБГ сегодня концентрируют в себе основные ресурсы общенационального развития: финансовые средства, профессиональные кадры, управленческую компетенцию, передовые технологии. Они берут на себя риски технологических новшеств, добиваются их внедрения, образуют шлейф компаний малого инновационного и производственного бизнеса, для которых сами же становятся источником платежеспособного спроса. На восемь крупнейших ИБГ, не считая ОАО «Газпром» и РАО «ЕЭС России», приходится более четверти российского экспорта.
По существу, ИБГ играют в России ту роль, которую в развитых странах выполняют институциональные и финансовые структуры, – ведь на их создание в нашей стране потребовались бы десятки лет.
Недавний экономический кризис в Восточной Азии заставил многих скептически отнестись к роли ИБГ в экономическом развитии. Однако российские интегрированные бизнес-группы принципиально отличаются от восточноазиатских (в частности, южнокорейских чеболей). ИБГ в Восточной Азии создавались под прямым контролем государства для проведения в жизнь его промышленных целей. Напротив, российские ИБГ изначально возникали как структуры частной, а не государственной экономики. Они больше влияли на экономическую политику, чем были ее проводниками.
Можно ожидать, что дальнейшее развитие рыночных институтов по «западной» модели приведет к постепенному снижению роли ИБГ в экономике России. Но сегодня это единственные реальные механизмы трансферта капитала из экспортно-сырьевого сектора в обрабатывающий.
Безусловно, создание такого механизма само по себе конфликтно. «Невидимая рука» сложившегося российского рынка тщательно оберегает сырьевые монополии. Так, если налоговая нагрузка (по отношению к остающимся в распоряжении предприятий финансам) в настоящее время составляет в машиностроении около 53 %, то в нефтедобыче – лишь 34 %. «Маневр ресурсами» из сырьевой сферы в сферу ВТ неизбежно нарушит политический и экономический статус-кво сырьевого сектора, извлекающего ныне основные прибыли.
Государство в силах обеспечить условия для того, чтобы этот маневр был максимально быстрым и эффективным. Поддержание «на плаву» неконкурентоспособных отраслей должно быть заменено поддержкой технологически перспективных компаний (в том числе региональных, а также относящихся к малому и среднему бизнесу). Прежде всего это работающие на жизненно важные национальные интересы предприятия электроники, биотехнологии, высокотехнологического машиностроения, энергетики и транспорта.
Критерии выбора будущих «национальных чемпионов» промышленности должны быть прозрачны и понятны обществу. Определяющие среди них – показатель роста произведенной добавленной стоимости и высокий инновационный потенциал, закладывающий основу для динамичного развития в будущем. Далее идут рентабельность и структура активов компании, своевременные платежи в бюджет, рост транспарентности внутренних финансовых потоков, создание новых рабочих мест и другие.
На этом основан подход Комитета по промышленной политике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), многие наработки которого ложатся в основу правительственных решений и, надо надеяться, формируют позицию главы государства. В прямом телеэфире 19 декабря 2002 года президент Путин, в частности, заявил: «Нужно, чтобы наше законодательство стимулировало развитие так называемой новой экономики, то есть экономики, основанной на информационных технологиях, экономики XXI века».
Комитет по промышленной политике РСПП предлагает конкретные инструменты проведения промышленной политики. Назовем главные из них.
Должен быть найден разумный темп приближения тарифов на услуги естественных монополий к мировому уровню. Сегодня инвестиционные проблемы российских монополистов решаются путем механического повышения тарифов и невольно перекладываются на плечи потребителей. Нужен разумный баланс между развитием самих естественных монополий и обрабатывающей промышленности.
Ставки налогов следует нацелить на обеспечение равных условий для сырьевых и обрабатывающих отраслей, их сопоставимую инвестиционную привлекательность.
Таможенная политика требует переориентации, с тем чтобы создавать максимально благоприятные условия для инвестиций в сектор высоких технологий. Пока российская таможня не видит разницы между экспортом промышленной продукции высоких и низких (например, изделия лесопереработки) переделов, что подрывает стимулы к выпуску наукоемкой продукции.
Наконец, курс национальной валюты не должен быть завышенным. Нужен компромисс между интересами крупных компаний-импортеров, испытывающих потребность в крепком рубле, и меркантилизмом компаний, ориентированных на экспорт и внутренний рынок, заинтересованных в слабом рубле. Резкое укрепление национальной валюты может привести к падению обрабатывающей и укреплению экспортно-сырьевой ориентации экономики.
Конечная цель промышленной политики – повышение конкурентоспособности национальных товаропроизводителей, соблюдение международных стандартов, расширение доли отечественных компаний на внутреннем и мировом рынке.
Бизнес и «правила игры»
Мы наблюдаем, таким образом, триединство благоприятных условий для развития высоких технологий в России. Это ростки «интеллектуальной» экономики, ИБГ с необходимыми ресурсами и собственно государство. Все три условия пока неравнозначны. Российский бизнес еще не сложился как равноправная сила, не обладает «пакетом акций» на национальные ресурсы.
Роль главного агента модернизации выпадает на долю государства. В условиях резкого сокращения закупок им промышленной продукции, открытости экономических границ и неготовности отечественных товаропроизводителей к борьбе с мощными зарубежными компаниями государственная поддержка российских отраслей ВТ приобретает чрезвычайную актуальность.
Участие властей в инновационном процессе приняло в экономически развитых странах столь широкий размах, что в США появился термин «полугосударственная экономика», отражающий кооперативное взаимодействие частного сектора и органов власти. По самым осторожным прогнозам, доля ВТ в общем объеме ВВП всех стран мира в первой четверти текущего столетия превысит 40 %.
В то же время, рассчитывая на государство как активного агента модернизации экономики, хотелось бы избежать двух крайностей. Первая проистекает от господствующей в России политической идеи усиления роли государства, под которой иногда подразумевается процесс укрепления бюрократического аппарата и расширения возможностей принятия им решений вне контроля общества. Чтобы частный сектор мог эффективно выполнить свою миссию, он должен опираться на четкие правила игры, в выработке которых сам принимает деятельное участие, а государство гарантирует их соблюдение.
Вторая крайность связана с полным отказом от конструктивной роли государства в хозяйственной сфере. В правительстве последовательно заявляют о курсе на сокращение государственного участия в экономике как панацее от всех бед, главном ресурсе экономического роста. Между тем дерегулирование экономики не означает ее модернизации, так же как свободный рынок не способен выявить те предпочтения общества, о которых мы ведем речь.
Процесс перехода России от ресурсозатратной модели к хозяйственному развитию с опорой на потенциал ВТ только начинается. Для него характерно столкновение сложившихся экономических элит и сил «новой экономики». Но общее направление разрешения «тлеющего» конфликта предсказуемо. Только перевод инвестиционных ресурсов из сырьевых отраслей в отрасли ВТ, закладывающий фундамент долговременного развития страны, позволит укрепить ее экономическое и политическое влияние в мире.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

























