Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
Главные отличия.
Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Коробка: «АПК Кубани должен расширять свое присутствие на мировом рынке»
Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка в интервью РБК Юг рассказал, нужно выращивать больше пшеницы, что отправляют на экспорт кубанские аграрии и какие направления экспорта сельхозкультур наиболее перспективны
Уже завершился сбор урожая зерновых культур. Каковы окончательные результаты этого года в целом по общему сбору зерновых и зернобобовых и по основным культурам: пшенице, рису, кукурузе? Оказался ли итоговый результат близок к прогнозам? Каковы ваши прогнозы на следующий год?
— Когда уборка только началась, мы были осторожны в прогнозах. Но собранный урожай однозначно выше, чем мы ожидали. В целом это 14,7 млн тонн зерна в бункерном весе. По пшенице взяли рекордную планку в 9,05 млн тонн. Валовой сбор риса хороший, даже несмотря на снижение посевных площадей, порядка 900 тыс. тонн. Зерновой кукурузы — 3,4 млн тонн.
Делать какие-либо прогнозы по урожаю 2018 года преждевременно, т.к. есть много факторов, которые невозможно спрогнозировать. Конечно, по озимым культурам заложена хорошая основа — посевные площади сохранены на уровне этого года (1,6 млн га). Сев прошел без сбоев и завершился в рекордные сроки. Но впереди еще весенняя посевная кампания. Неизвестно, что будет с погодой.
Какая часть от полученного урожая зерновых отправится на экспорт? Сколько тонн пшеницы, в частности, планируется продать в другие страны?
— При благоприятной ситуации на мировом зерновом рынке до конца этого года за рубеж пойдет порядка 5,5 млн тонн кубанского зерна, преимущественно пшеницы. Ориентируемся на наши традиционные рынки сбыта — Турцию, Египет, Ливан, ОАЭ, Судан и Корею.
Хочу отметить, что кубанское зерно имеет хороший спрос. Сейчас экспорт зерна превышает показатели прошлого года. За границу ушло уже порядка 4 млн тонн пшеницы — на 400 тыс. тонн больше прошлогодних объемов.
На Зерновом форуме в 2016 году активно обсуждалась тема переработки и необходимости оставлять добавленную стоимость на территории региона. Увеличится ли и насколько в 2017 года объем продуктов переработки зерновых, отправляемых в другие страны? Что и в каком количестве направляется на экспорт сейчас, если говорить о продуктах переработки? Какой процент зерновых мы перерабатываем, а какой идет на продажу в чистом виде?
— Большая часть экспортной продукции — это сырье, в т.ч. зерновые культуры. Это общемировая тенденция. За зерном — свыше 20% от общего экспорта Краснодарского края и более 70% от стоимости экспортируемых продовольственных товаров и сельхозсырья.
Сегодня приоритет в экспортной политике региона перестраивается на продукцию глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью — такова позиция губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Это мукомольное, кормовое, консервное, молочное производство, производство растительных масел.
По многим из этих позиций кубанские компании уже вышли на внешние рынки. Например, постоянно растет объем экспортных поставок плодоовощных консервов, соков и нектаров. Если сравнивать с прошлым годом, то темп роста составил 108%.
Такую же хорошую динамику показывает сахарная отрасль. Хочу отметить: в том, что сегодня Россия в мировых лидерах по производству свекловичного сахара, есть немалая заслуга Краснодарского края. Ежегодно наши сахарные заводы производят почти 1,5 млн тонн сахарного песка. Это позволяет закрыть региональную потребность, обеспечить внутреннюю потребность страны и экспортировать. С начала года темп роста объема экспорта сахара составил 124% или вырос с 39 тыс. тонн в 2016 году до почти 49 тыс. тонн в текущем. Сахар экспортируется в Азербайджан, Киргизию, Италию, Турцию, Армению, Узбекистан. С этого года экспорт налажен на Кипр.
Хорошая динамика по экспорту растительных масел — за 9 месяцев этого года экспортировано 102 тыс. тонн, что почти на 40 % выше аналогичного периода 2016 года. Оно уходит в основном в страны Ближнего Востока и Средней Азии, а также в Китай.
Есть еще более интересные позиции, хоть и с небольшим объемом, но предпосылки для его увеличения хорошие. Это, например, мороженое и сгущенные молочные консервы с основным направлением экспорта в страны СНГ, Китай, Германию и Монголию. Кондитерские изделия идут в страны Ближнего Востока и Средней Азии, сыры — в Абхазию и Монголию.
Реализуются ли сейчас новые проекты? Что планируется к реализации?
— Да, предприятия готовы выходить на внешние рынки со своей продукцией, для этого они расширяют производство и совершенствуют технологии. К примеру, на «Крахмальном заводе «Гулькевичский» сейчас строится цех по производству мальтодекстрина. Расширяются «Кореновский молочно-консервный комбинат» и выселковские «Сыры Кубани» — на этих предприятиях идет строительство вторых очередей. Модернизируется «Сахарный завод «Ленинградский» для увеличения производства свекловичного сахара.
В этом году появилась информация, что в регионе была выращена пшеница второго класса. Некоторые экспертов утверждают, что затраты производителей на освоение ее выпуска «съедают» рентабельность и проще заниматься выращиванием пшеницы третьего и четвертого классов. Соответствует ли это действительности?
— В этом году в целом качество зерна лучше, чем все предыдущие годы. Доля продовольственной пшеницы составляет 84%. Эта как раз та пшеница, которая ценится на мировом зерновом рынке. Именно она идет на производство муки высшего сорта.
Пшеницы второго класса намолочено в этом году 6,2 тыс. тонн. На самом деле, климатические условия южных регионов, в частности Краснодарского края, не самые благоприятные для выращивания пшеницы высоких классов из-за затяжных дождей, которые традиционно идут во время уборки. Это приводит к так называемому «вымыванию клейковины». Но, как видите, эту ситуацию сейчас исправляют ученые, создавая такие сорта высококачественной пшеницы, которые будут максимально адаптированы для нашего региона и которые сведут потери к минимуму.
В этом году изменилась разница в цене между пшеницей 3 и 4 класса, она составляет более 1 рубля.
В этом сезоне аграрии были обеспокоены падением цен на пшеницу нового урожая. По вашим оценкам, как сейчас обстоит ситуация на рынке и является ли она тревожной или это обычные для рынка колебания стоимости?
- Сезонные ценовые колебания неизбежны. Обычно в так называемый «высокий сезон» — сразу после уборки урожая — цены на зерно сильно падают. В последние годы, на фоне большого урожая по всей стране, скачки цен особенно заметны. Ближе к зиме ситуация выравнивается.
Эксперты высказывали мнение, что у рекордных урожаев есть оборотная сторона — падение стоимости. Насколько сейчас велика потребность в зерновых в стране и в мире? И какой объем продукции может сбыть Кубань?
- Если говорить в целом о зерновых, то того объема, на который мы вышли в последние годы – 14 млн тонн – нам более, чем достаточно и для внутреннего потребления, и для экспорта. Необходимости наращивать объемы производства зерна я не вижу, сейчас нужно уделить внимание качеству и переработке.
Собственно краю на производство муки, корма и прочие цели нужно ежегодно около 3,5 млн тонн зерновых. Остальное нужно стараться перерабатывать, получать добавленную стоимость и экспортировать продукты переработки и развивать животноводство.
В любом случае, дефицита в мощностях по хранению зерна у сельхозпроизводителей Краснодарского края нет, мощности элеваторов позволяют единовременно хранить до 12,7 млн тонн.
Какие виды продукции наиболее перспективны для отправки на экспорт? Где у нас есть потенциал? Рынки сбыта каких стран наиболее интересны?
— Сейчас у нас по многим позициям выстроились хорошие деловые контакты со странами Ближнего Востока и Средней Азии. Большая часть экспорта отправляется именно туда. Но нужно идти дальше, расширять географию поставок. И мы в силах это сделать.
Сегодня наша продукция — и сырьевая, и готовое продовольствие — достаточно востребована и конкурентоспособна, чтобы расширять свое присутствие на глобальном рынке. Европейским стандартам отвечает порядка 40% всей продукции, производимой на Кубани. Она абсолютно натуральная, без ГМО. А натуральная продукция — это общемировой тренд, хотя далеко не каждый зарубежный производитель может этим похвастаться.
Сейчас мы готовы в тот же Китай или мусульманские страны организовать поставки высококачественного халяльного мяса птицы. Также Краснодарский край вполне готов под экспортный заказ производить бобовые культуры – нут, чечевицу, сою, которые сегодня очень востребованы на мировом рынке, на них стабильно высокая цена. Сейчас мы как раз занимаемся проработкой этого вопроса. В числе потенциальных партнеров — Бахрейн.
Главное, конечно, чтобы заказы на поставки были стабильные, тогда будет и стимул для развития производства, увеличения объемов.

Северный Кавказ: «ахиллесова пята» или политический ресурс?
Сергей Маркедонов – доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного университета.
Резюме Занимая радикальную антизападную позицию, Грозный открыт для контактов с государствами исламского мира. И в отличие от переговоров между ними и Москвой, Кадыров и его команда позиционируют себя в качестве части этого мира, политически лояльной России.
Углубляющаяся конфронтация между Россией и Западом со всей серьезностью ставит вопрос о рисках, которыми сопровождаются попытки Москвы оспорить глобальное доминирование Соединенных Штатов. Какие точки внутри РФ могут рассматриваться как ее слабые места? При ответе на этот вопрос практически невозможно уйти от рассмотрения ситуации на Северном Кавказе.
Самый турбулентный регион России
Северный Кавказ после распада Советского Союза стал, без всякого преувеличения, самой небезопасной российской территорией. Его восприятие у значительного числа граждан долгое время рифмовалось с террористическими атаками, конфликтами, беженцами и нестабильностью. Согласно данным социологических исследований Левада-Центра, в ноябре 2005 г. лишь 8% респондентов оценивали ситуацию на Северном Кавказе как «спокойную и благополучную», в то время как 65% считали ее «напряженной», а 20% – «взрывоопасной и критической».
Для таких выводов были серьезные основания. Из девяти вооруженных конфликтов на территории бывшего СССР два имели место на Северном Кавказе. Первым стал осетино-ингушский конфликт 1992 г., «замороженный» после недели вооруженных столкновений, но остававшийся неразрешенным в течение последующих лет. Вторым было противостояние в Чечне, которое в свою очередь распадалось на несколько конфликтов, как связанных между собой, так и имеющих самостоятельную логику. И противостояние по линии «центр – сепаратистская территория» являлось лишь одним из них, отношения также выясняли поборники национальной независимости и целостности России внутри самой республики, светские националисты и сторонники исламского государства, суфии и приверженцы различных толков салафитского ислама.
На протяжении 1990-х гг. Северный Кавказ был рекордсменом по количеству самопровозглашенных образований (только в Карачаево-Черкесской Республике их было пять!). Предпринимались попытки раздела субъектов Федерации по этническому принципу. В общей сложности шесть лет вне политико-правового поля России де-факто существовала Чеченская Республика Ичкерия, а в Дагестане в течение года действовала «Отдельная исламская территория», внутри которой ликвидировали официальную власть, силовые структуры и ввели шариатское судопроизводство.
При этом с начала 2000-х гг. этнический сепаратизм как угроза для Российского государства и общества был вытеснен на второй план джихадистским вызовом. Это изменило географию горячих точек на Северном Кавказе. Если в 1990-е и начале 2000-х гг. наиболее опасным регионом считалась Чечня, то затем своеобразное «первенство» перешло к Дагестану, самому крупному и населенному северокавказскому субъекту. Оно сохраняется и по сей день (только в четвертом квартале 2014 г. чеченские показатели были выше уровня Дагестана). Во второй половине 2000-х гг. заметно активизировалось вооруженное подполье в Ингушетии и даже в относительно стабильной до того западной части региона, в Кабардино-Балкарии, которую в первые постсоветские годы называли «спящей красавицей» Северного Кавказа.
В 1990-х гг. первостепенной опасностью было открытое вооруженное противостояние властей всех уровней и сепаратистов, а с середины 2000-х гг. наиболее серьезным вызовом для безопасности страны стали террористические атаки, которые нередко выходили за границы Северного Кавказа. Наиболее резонансными примерами такого рода были взрывы в столичном метро в 2010 г., теракт в московском аэропорту Домодедово (2011), серия терактов в Волгограде и в Пятигорске в канун нового 2014 года.
На протяжении всего постсоветского периода Северный Кавказ оказывался в фокусе международного внимания. Ситуация в регионе обсуждалась в нескольких контекстах. Это и проблема состоятельности России как единого целостного полиэтничного государства, ее способность осуществлять эффективный контроль над всеми своими регионами, и проблема соблюдения прав человека, и террористическая угроза, и безопасность в самом широком понимании. Акценты в таких дискуссиях неизменно менялись. В зависимости от отношений между Россией и Западом на первый план выходили то необходимость сдерживания сецессии и антитеррористическая солидарность (на фоне сегодняшних российско-американских отношений включение Доку Умарова и «Эмирата Кавказ» в черные списки Госдепа США выглядит почти фантастическим сюжетом), то «непропорциональное использование силы против чеченских повстанцев». В контексте же российско-турецких отношений на северокавказском направлении работал принцип зеркальности, и пристальное внимание Анкары к «родственным народам» Северного Кавказа было (и остается) прямо пропорционально отношению Москвы к курдской проблеме.
Одним из центральных вопросов сегодняшней международной повестки дня является положение дел на Ближнем Востоке в целом и в первую очередь в Сирии и в Ираке. В связи с этим крайне важна проблема вовлеченности выходцев из Северного Кавказа в сирийскую гражданскую войну и иракское противостояние. По словам исламоведа Ахмета Ярлыкапова, «доля кавказцев, присоединившихся к “Исламскому государству”, а также воюющих на его стороне, весьма высока: она, по высказывавшимся на форумах оценкам самих салафитов, составляла на 2014 г. от 7 до 10%». По его же словам, на самом Северном Кавказе происходят серьезные перемены: «“Имарат Кавказ” практически полностью вытеснен “Вилаятом Кавказ” “Исламского государства”. После уничтожения в апреле 2015 г. руководителя “Имарата” [Алиасхаба] Кебекова активное присягание командиров “Имарата Кавказ” аль-Багдади изменило суть этого террористического образования». Де-факто оно стало филиалом запрещенного в России и ряде других стран «Исламского государства» (называемого также ИГИЛ и ДАИШ). Естественно, данный вопрос превратился в немаловажную проблему отношений Москвы со странами Ближнего и Среднего Востока.
Конфликтный менеджмент: обретения и издержки
Как бы то ни было, общим местом остается представление о Северном Кавказе только как о российской «ахиллесовой пяте». Такой взгляд базируется на восприятии региона как чего-то застывшего и неизменного в хаосе и неопределенности. При этом до сих пор северокавказские проблемы рассматриваются через «чеченские очки». Например, в апреле 2013 г. после теракта во время бостонского марафона известный политический аналитик и консультант Йэн Бреммер написал: «Путин сегодня вечером звонил Обаме. Попытка использовать события в Бостоне для легитимации российской войны в Чечне».
С завидной регулярностью в публикациях такой авторитетной экспертно-аналитической структуры, как Международная кризисная группа, используется определение «конфликт на Северном Кавказе», что предполагает как минимум наличие четко зафиксированных сторон противоборства. В реальности же в регионе существует множество порой не пересекающихся проблем и противоречий, несводимых к единственному знаменателю. Вряд ли «черкесский вопрос» (имеющий к тому же разные вариации и акценты в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгее) можно автоматически связать с земельными спорами в Дагестане, историей осетино-ингушского конфликта из-за Пригородного района или вопросами административного размежевания Чечни и Ингушетии. Проблемы же внутриисламских расколов в западной и восточной части российского Кавказа при всем желании не удастся описать с помощью универсальной модели, как не получится представить положение дел в сложном регионе в виде перманентного конфликта между центром и окраиной. Просто потому, что между отдельными республиками, этническими движениями, группами мусульман разных толков и направлений противоречий не меньше, чем между каждым из этих субъектов в отдельности и центральной российской властью. Более того, запрос на эффективный арбитраж Москвы присутствует даже у этнонационалистов и мусульман, не признающих юрисдикцию и авторитет поддерживаемых властями муфтиятов (Духовных управлений мусульман).
Между тем, признавая Северный Кавказ самым турбулентным регионом России, было бы заведомым упрощенчеством рассматривать его постсоветскую историю как сплошную цепь провалов и ошибок власти, а сам регион – как непосильное и бесполезное бремя для общества.
Во-первых, далеко не все конфликты Северного Кавказа протекают вооруженным путем. Многие острые противоречия удавалось если не разрешить полностью, то успешно купировать, будь то попытки разделения Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестана.
Во-вторых, методом сложных проб и ошибок, не говоря уже об издержках, наработан значительный опыт трансформации конфликтов. Путем непростых переговоров, соглашений, принятия законодательных актов удалось достичь значительных компромиссов между Северной Осетией и Ингушетией. Если первая республика признала право вынужденных переселенцев на их постепенное возвращение к местам прежней жизни, то вторая отказалась от территориальных притязаний на Пригородный район.
В Чечне активные военные действия российских подразделений против сепаратистов завершились еще в начале 2000-х годов. Сама же этносепаратистская угроза сегодня утратила политическую актуальность. Защитники сепаратистского проекта либо физически устранены (Аслан Масхадов, Шамиль Басаев), либо находятся в эмиграции (Ахмед Закаев), либо перешли на службу к республиканским властям (Магомед Хамбиев). В настоящее время Чечня являет собой уникальный на постсоветском пространстве образец возвращения сецессионистского региона под контроль центра. И не просто возвращения, а превращения в своеобразную витрину образцовой лояльности. Заметим, без целенаправленных «этнических чисток» и полного изгнания сепаратистских лидеров, а посредством их частичного инкорпорирования во властные структуры, лояльные Москве. Отсюда и феномен «чеченизации власти», при которой республиканские элиты получают значительную степень автономии в управленческой, силовой, информационной, идеологической сфере, но не полную свободу рук. По словам известного американо-канадского кавказоведа Джона Коларуссо, «программа “чеченизации»”, реализованная под началом Рамзана Кадырова, могла бы в некоторой степени рассматриваться как стандарт для аналогичных программ повсюду в России». Впрочем, здесь не менее важен и международный аспект.
Стоит иметь в виду, что Россия была единственной из всех постсоветских стран, пострадавших от сецессии, которая предоставила своей отколовшейся территории отложенный статус на пять лет. Сама постановка такого вопроса в Грузии, Азербайджане или на Украине была бы невозможна. Вряд ли известного украинского политика и общественного деятеля, заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туку (в июле 2015 – апреле 2016 г. он находился в эпицентре конфликта в Донбассе, возглавляя Луганскую областную военно-гражданскую администрацию) можно отнести к поклонникам Владимира Путина и российской политики. Тем не менее в одном из своих интервью в июле 2017 г. он констатировал: «Я довольно тщательно изучал опыт обеих чеченских войн. И, несмотря на все мои эмоциональные претензии к России, я должен признать тот факт, что с точки зрения своего государства они очень удачно завершили Вторую чеченскую войну. Слепили из Рамзана Кадырова образ “нового лидера чеченской нации”. Провозгласили сплошную амнистию. И в результате – они достигли мира».
Естественно, рассмотрение программы «чеченизации» не должно создавать благостной картинки. Оборотной ее стороной является жесткая персонификация власти и отношений между республикой и Москвой, которые порой внешне выглядят как личная уния. Серьезной проблемой является управленческий партикуляризм, расширительная трактовка того, что понимается под антиэкстремистской борьбой и сложности с соблюдениями гуманитарных прав, которые не раз становились предметом коллизий между центром и Грозным. Однако нельзя не учитывать, что данный режим сформирован по итогам двух жестких военных конфликтов и, несмотря на определенные издержки, гарантирует стабильность и лояльность центру.
В-третьих, властям удалось уменьшить интенсивность террористических атак и других вооруженных инцидентов. В 2013 г. произошло их снижение на 19,5%, а в 2014 г. – еще на 46,9%. Согласно оценкам российского НАК (Национального антитеррористического комитета), в 2015 г. на Северном Кавказе в 2,5 раза сократилось число террористических акций.
Позиции официальных властей РФ и представителей неправительственного сектора очень часто не совпадают. Однако, по данным «Кавказского узла» (интернет-издания, специально занимающегося статистикой и мониторингом вооруженных инцидентов и соблюдения прав человека в северокавказских республиках), в 2015 г. число жертв террористических инцидентов снизилось по сравнению с 2014 г. почти в два раза. Количество же самих терактов сократилось на 33%. И хотя в 2016 г. число жертв вооруженных инцидентов возросло на 11% (с 258 до 287 человек), уровень самих терактов и столкновений остался прежним. При этом по отдельным субъектам (Ингушетия, Кабардино-Балкария) продолжилась прежняя позитивная динамика, которая длится уже несколько лет. Более того, начиная с декабря 2013 г. боевики из республик Северного Кавказа не совершали масштабных акций за пределами Северо-Кавказского федерального округа, таких как взрывы в Волгограде или Москве.
Фактически уничтожен «Имарат Кавказ» и его инфраструктура. Хотя северокавказские джихадисты не раз предупреждали российские власти о возможных акциях как в непосредственной близости к столице сочинской Олимпиады, так и в различных регионах страны, главные спортивные соревнования четырехлетия с точки зрения безопасности прошли безупречно. Несмотря на попытки политизации «черкесского вопроса» в канун Сочи-2014 удалось избежать негативных сценариев и на этом направлении.
Помимо привычной для региона «жесткой силы» о себе заявила и «мягкая сила», прежде всего в Ингушетии. По словам главы республики Юнус-бека Евкурова, самым эффективным инструментом борьбы с терроризмом и экстремизмом является профилактическая работа с населением, и в особенности с молодежью. В беседе с корреспондентом «Кавказского узла» он заявил: «Девяносто девять процентов успеха зависит от умения помочь запутавшимся молодым людям найти пути возвращения к мирной жизни. Но при этом родственники боевиков должны не потворствовать своим заблудшим близким, а наоборот – стараться всячески воздействовать на ребят, помогая им осознать пагубность подобного пути». В 2014–2016 гг. увеличился призыв молодежи из республик Северного Кавказа в ряды российских вооруженных сил, что ранее составляло одну из серьезнейших проблем в плане интеграции региона в общероссийские процессы, а осенью 2014 г. возобновлен призыв чеченцев.
Отмеченные выше тренды не могли не сказаться и на общественном восприятии Северного Кавказа. По данным Левада-Центра, в мае 2017 г. 41% респондентов на вопрос о ситуации в регионе ответили, что считают ее «спокойной и благополучной», «напряженной» – 37%, а «критической и взрывоопасной» таковую назвали лишь 4%.
Северный Кавказ как внешнеполитический ресурс
Таким образом, определенный уровень внутренней стабилизации при всех имеющихся издержках на Северном Кавказе достигнут. Понятное дело, его не стоит переоценивать, поскольку проблемными остаются и неразрешенный до конца земельный вопрос, коррупция, слабость властных институтов, что провоцирует вмешательство различных альтернативных юрисдикций (духовные объединения, криминальные авторитеты, джихадистские группы), конфликты между ними. Тем не менее стабилизация позволяет задействовать Северный Кавказ и как определенный внешнеполитический ресурс для укрепления позиций России на международной арене. Прежде всего в условиях масштабного внутриисламского конфликта северокавказские элиты воспринимаются в мусульманском мире как последовательные оппоненты ИГ. В этом контексте следует рассматривать переговоры между Рамзаном Кадыровым и первым вице-президентом Афганистана Абдул-Рашидом Дустумом в октябре 2015 г., а также ставшие уже регулярными контакты главы Чечни с высшими представителями ближневосточных государств. В 2015 и 2016 гг. он посетил Саудовскую Аравию, а в апреле 2017 г. – Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн.
В США и странах ЕС Чечня имеет репутацию республики, закрытой от внешнего мира. Этот тезис верен лишь отчасти, поскольку, занимая радикальную антизападную позицию (по риторике она намного более жесткая, чем в артикуляции Кремля), Грозный открыт для контактов с государствами исламского мира. И в отличие от переговоров между ними и Москвой, Рамзан Кадыров и его команда позиционируют себя частью этого мира, при этом политически лояльную России. В данном контексте Северный Кавказ представляется «исламской витриной» РФ, ориентированной при этом на противодействие ИГ (сам Кадыров называет его «Иблисским», или дьявольским государством) и поддержку российских интересов в Сирии, Ливане, Афганистане.
Помимо Ближнего и Среднего Востока Северный Кавказ важен и для выстраивания политики России на постсоветском пространстве. В этом плане нельзя недооценивать двусторонние отношения Дагестана и Азербайджана. Именно дагестанский участок связывает Россию с южным соседом. За весь постсоветский период во многом благодаря связям между Баку и Махачкалой удавалось удерживать под контролем как проблему разделенных народов («лезгинский вопрос», в меньшей степени проблему аварцев), так и противодействие джихадистским группам. Этот ресурс крайне важен и для обмена неформальными сигналами (начальник азербайджанского Генерального штаба Наджмеддин Садыхов имеет родственников в Дагестане).
До сих пор своеобразными паттернами для урегулирования конфликтов для Азербайджана и Грузии служили Татарстан и Башкортостан. Однако эти республики, к счастью, не пережили опыт военного противостояния с центральными властями, который имелся у Чечни. Поэтому программа «чеченизации» также может оказаться востребованной. В особенности если речь идет не о балканских сценариях типа хорватской операции против самопровозглашенной Сербской Краины, а об интеграции вчерашних сепаратистов в управленческий класс лояльной центру республики. Представление о Северном Кавказе как «ахиллесовой пяте» России может подтолкнуть те или иные страны к попыткам использовать его против Москвы. Опыт такой политики уже имелся в Грузии во времена позднего Эдуарда Шеварднадзе (его взаимодействие в 2001 г. с чеченским полевым командиром Русланом Гелаевым) или в период президентства Михаила Саакашвили (принятие акта о признании т. н. геноцида черкесов и попытки альянса с националистическими движениями из северокавказских республик). Однако он неизменно оказывался амбивалентным и оборачивался кризисом безопасности в Панкиси и инцидентами в Лопотском ущелье. Не говоря уже о том, что такие попытки, как правило, не получали поддержки США и Евросоюза.
Парадоксальным образом дестабилизация Северного Кавказа даже в контексте посткрымских отношений России и Запада не слишком выгодна Вашингтону и Брюсселю. Северокавказская постсоветская история на практике опровергла два популярных в Соединенных Штатах и странах Европейского союза мифа: об операциях в Чечне как причине укрепления радикального исламизма в регионе и об авторитарном стиле Москвы как наиважнейшей предпосылке терроризма. В значительной степени исламистские настроения были не экспортированы из Чечни, а импортированы в нее из Дагестана в начале 1990-х годов. И сами они стали причиной не столько попытки чеченской сецессии, сколько ответом на кризис в местных Духовных управлениях мусульман и поисками идентичности в условиях распада СССР и формирования новой России. Теракты джихадистов в странах Запада, в том числе и с участием выходцев с Северного Кавказа (ярким примером стала трагедия в Бостоне в 2013 г.), отчетливо продемонстрировали, что для них нет принципиальной разницы между россиянами, американцами или парижскими обывателями. Нынешнее северокавказское подполье настроено антивестернистски не меньше, чем антироссийски, в особенности сторонники «Вилаята Кавказ». Полагать, что в случае возможного коллапса безопасности России в северокавказском регионе радикальное подполье не направит свою энергию в сторону Европы, Украины или Грузии, как минимум наивно. В этом плане возможность общей антитеррористической платформы – пускай и ситуативной – сохраняется.
Северный Кавказ по-прежнему остается непростым для России регионом. Здесь и сегодня немало острых проблем, требующих неотложного внимания и реагирования. Как бы ни были важны геополитические факторы, субъекты Северо-Кавказского федерального округа не являются неким «приложением» к ситуации на Ближнем Востоке. Для их радикализации есть множество причин, и они в значительной степени внутренние. И совсем не обязательно деятельность той или иной группы вдохновляется джихадистскими проповедниками из Сирии и Ирака. Тем не менее регион имеет и свои преимущества, которые могут быть использованы с выгодой для укрепления позиций Москвы как внутри страны, так и на международной арене. Здесь можно упомянуть и наработанные механизмы по разрешению конфликтных ситуаций и по выстраиванию государственно-конфессиональных отношений. Следует иметь в виду, что в регионе в ежедневной борьбе с терроризмом и экстремизмом участвуют прежде всего местные выходцы, представители северокавказских народов и верующие мусульмане, а не только и не столько эмиссары из центра. То же самое относится и к хозяйственно-экономической и рутинной бюрократической деятельности. Многоуровневая лояльность (своему народу, своей вере и Российскому государству) – то, что укрепляет единство страны и умножает ее возможности во внешней политике.

Мы завершаем переговоры в Кувейте. Состоялись встречи с Эмиром Государства Кувейт С.А.Ac-Сабахом, Премьер-министром страны Дж.М.Ас-Сабахом и только что прошли подробные переговоры с Первым заместителем Председателя Совета министров, Министром иностранных дел Государства Кувейт С.Х.Ac-Сабахом.
Мы констатировали, что наши отношения развиваются в тех направлениях, которые были обговорены во время визита Эмира Кувейта С.А.Ac-Сабаха в Российскую Федерацию в ноябре 2015 г. Вслед за тем состоялись контакты на уровне различных министров России и Кувейта, прежде всего, экономического блока, а также министров, занимающихся энергетикой, министров иностранных дел. С моим коллегой мы общаемся регулярно.
Отметили, что товарооборот в прошлом году у нас вырос на 14 %, а за первые месяцы в текущем году – на 43 %. Эти темпы говорят о том, что мы скоро выйдем на уровень более полмиллиарда долл.США. Это далеко не предел.
Хорошо работают наши компании в сфере инвестиций. Российский фонд прямых инвестиций имеет совместную платформу с Кувейтским инвестиционным агентством. Эти средства уже активно осваиваются в конкретных проектах.
Мы рады, что на регулярной основе у нас налаживаются межпарламентские контакты. Глава Национального собрания Кувейта Марзука Аль-Ганем в октябре этого года будет участвовать в 137-й Ассамблее Межпарламентского союза, которая пройдет в Российской Федерации.
По международным делам у нас очень близкие и совпадающие позиции по принципиальным проблемам, которые сохраняются в этом регионе. Это касается Сирии, Ливии, Йемена, ситуации вокруг Катара, в отношении которого наши кувейтские партнеры стремятся наладить активное посредничество. Мы готовы активно этому содействовать в тех формах, которые будут сочтены приемлемыми всеми сторонами.
У нас контакты со всеми без исключения государствами Персидского залива. Мы заинтересованы в том, чтобы Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) был единым. Это очень важный игрок в формирующемся полицентричном мироустройстве, с которым у нас очень тесные отношения, и мы ими дорожим.
Напомню, что у нас есть инициатива, которую мы уже много лет продвигаем – Российская концепция безопасности в зоне Персидского залива. Отрадно, что Кувейт, наряду с такими членами ССАГПЗ, как Бахрейн и Оман, изначально являлся активным сторонником этой инициативы, о чем сегодня вновь сказали нам наши коллеги.
Безусловно, мы не оставили без внимания проблему Палестины. Мы и кувейтяне озабочены сохраняющимся тупиком на переговорах по ближневосточному урегулированию. Убеждены, что нельзя допустить, чтобы палестинская проблема оказалась задвинута на задний план, поскольку этот, как его называют, один из самых старых кризисов или даже «мать всех конфликтов» в регионе требует повышенного внимания, тем более в нынешней ситуации. Условились по всем этим вопросам продолжать тесно сотрудничать.
С 1 января 2018 г. Кувейт будет являться членом Совета Безопасности ООН. Это создает дополнительную площадку для тесной координации. Я убежден, что участие Кувейта в работе СБ ООН будет способствовать продвижению конструктивных неконфронтационных подходов и поискам общеприменимых компромиссов.
Вопрос: У России дружеские отношения со всеми сторонами конфликта в Персидском заливе. Может ли Россия при поддержке существующей кувейтской инициативы выступить в качестве посредника в решении данного конфликта?
С.В.Лавров: Мы поддерживаем кувейтскую инициативу и не хотим ни с кем конкурировать. Действительно, у нас добрые отношения со всеми странами, оказавшимися в этой не очень простой ситуации. Мы исходим из того, что инициатива Кувейта заслуживает поддержки всех, кто сможет повлиять на эту ситуацию позитивно.
Мы будем готовы оказывать поддержку в формах, приемлемых для всех участников этой ситуации.
Вопрос: Как Кувейт оценивает последний прогресс в деле сирийского урегулирования, в частности, прямые переговоры при российском посредничестве?
С.В.Лавров: Сегодня наши партнеры высказали очень высокую оценку усилиям Российской Федерации. С самого начала они активно поддержали Астанинскую площадку. Договоренности, которые были достигнуты в Астане в формате Россия-Турция-Иран при участии наблюдателей из Иордании, США, участии ООН, не остаются просто на бумаге, а воплощаются в жизнь (что с удовлетворением отмечают наблюдатели), хотя не такими быстрыми темпами, как хотелось бы, но и ситуация непростая. Тем не менее, уже созданы три зоны деэскалации, сейчас формируется четвертая в районе Идлиба. В самое ближайшее время состоится очередное заседание в «астанинском формате», где, надеюсь, эти договоренности будут окончательно закреплены в юридических документах.
Кувейт высоко оценивает роль, которую играет Россия. Сегодня наш коллега, Министр иностранных дел Кувейта С.Х.Ас-Сабах особо подчеркнул, что без площадки Астаны не было бы тех шансов, которые появились сейчас в политическом процессе, в том числе на женевских переговорах.

Бахрейн – нефтяная экономика высокого передела.
Интервью министра нефтяной промышленности королевства шейха Мухаммеда Бен Халифы Аль Халифы.
Королевство Бахрейн не входит в число крупнейших производителей нефти. Пик добычи был достигнут в 1970-е годы, составив около 4 млн тонн в год. Однако благодаря развитию нефтеперерабатывающей промышленности страну называют одним из немногих успешных примеров построения постнефтяной экономики, точнее экономики, основанной на продукции высокого передела.
Что происходит в нефтяной промышленности Бахрейна, как развивается нефтепереработка и нефтехимия, какую роль играет нефть в современной жизни страны, специальному корреспонденту «НиК» рассказал министр нефтяной промышленности королевства шейх Мухаммед Бен Халифа Аль Халифа.
«НиК»: Сколько нефти было добыто Бахрейном в 2016 году? Ведется ли добыча газа?
– В 2016 году Бахрейном было добыто 17,760 млн баррелей (около 2,4 млн тонн – прим. «НиК»), что соответствует 48,5 тыс. баррелей (6,2 тыс. тонн – прим. «НиК») в сутки. Кроме того, еще около 150 тыс. баррелей (примерно 20,5 тыс. тонн – прим. «НиК») в сутки добывается на шельфовом месторождении Абу-Сафа, где объемы добычи составляют 300 тыс. баррелей (41,1 тыс. тонн – прим. «НиК») в сутки и поровну делятся между Бахрейном и Саудовской Аравией. Что касается природного газа, то объемы его добычи достигли 740 млрд кубических футов (почти 21 млрд м3 – прим. «НиК»).
«НиК»: Когда была начата добыча нефти в Бахрейне и достигнут максимальный уровень производства?
– Добыча нефти в королевстве началась в 1932 году, когда было открыто месторождение Джебель ад-Духан. После этого производство постоянно росло и достигло своего пика в 1970-х годах, когда объем добычи составил 77,7 тыс. баррелей (около 10,6 тыс. тонн – прим. «НиК») в сутки.
«НиК»: Когда Бахрейн начал развивать нефтепереработку?
– Первый танкер из Бахрейна отплыл в Японию в 1934 году. Затем некоторое время нефть отправлялась на нефтеперерабатывающие заводы, принадлежавшие компании Standard Oil Company of California (SOCAL) в США.
В 1935 году SOCAL серьезно задумалась над тем, чтобы построить в Бахрейне нефтеперерабатывающий завод. Первый этап работ завершился уже в 1936 году. Завод представлял собой нефтеперегонный блок мощностью 10 тыс. баррелей (1,4 тыс. тонн – прим. «НиК») в сутки. Кроме того, на нем было установлено оборудование для добавления свинца в бензин, оборудование по очистке нефтепродуктов от серы, электростанция.
В конце 1937 года был завершен второй этап реализации проекта, включавший в себя строительство второго нефтеперегонного блока мощностью 15 тыс. баррелей (2,1 тыс. тонн – прим. «НиК») в сутки, цеха по переработке и производству кислот, тепловому крекингу. К 1937 году производственные мощности достигли 31,5 тыс. баррелей (4,3 тыс. тонн – прим. «НиК») в сутки. В 1944 году к уже существующим двум блокам добавился еще один, производственная мощность возросла до 63 тыс. баррелей (8,6 тыс. тонн – прим. «НиК») в сутки. В 1946 году был построен четвертый нефтеперегонный блок, в результате чего производственная мощность увеличилась до 115 тыс. баррелей (15,6 тыс. тонн – прим. «НиК») в сутки.
В 1947 году производственная мощность третьего и четвертого блока была увеличена, общая производственная мощность достигла 146 тыс. баррелей (20 тыс. тонн – прим. «НиК») в сутки. Работы по наращиванию производственных мощностей продолжались, и в течение последующих лет общая производственная мощность превысила 260 тыс. баррелей (35,6 тыс. тонн – прим. «НиК») в сутки. Таким образом, нефтеперерабатывающий завод в Бахрейне являлся одним из наиболее крупных в регионе.
«НиК»: Как развивается нефтехимия в Бахрейне, какие основные компании работают в этом секторе?
– В рамках программы развития нефтеперерабатывающей промышленности в Арабском заливе Бахрейн, Саудовская Аравия и Кувейт решили создать специализированную нефтехимическую компанию. 5 декабря 1979 года была основана компания «Галф Петрокемикл Индастрис Компани» (ГПИК), которая отражала стремление стран ССАГЗ (Совет сотрудничества арабских государств Залива – прим. «НиК») к сотрудничеству. Предприятие производит удобрения и нефтепродукты из добываемого Бахрейном природного газа. Это совместный проект, которым владеет в равных долях правительство Бахрейна, Саудовская Аравия в лице Саудовской компании базовых производств (SABIC), а также Кувейт в лице Компании нефтехимического производства.
Первым проектом компании было строительство производственного нефтехимического комплекса на площади 60 гектаров на освоенных территориях восточного побережья Бахрейна. Вначале это были два завода по производству аммония и метанола с необходимой инфраструктурой. Производство было начато в мае 1985 года, мощность каждого завода составляла 1 тыс. тонн в сутки. В 1989 году их мощности возросли до 1,2 тыс. тонн в сутки.
Желая достичь успеха в производстве и сбыте продукции, а также максимально задействовать производство аммония, ГПИК приняла решение построить завод по производству мочевины, производственная мощность которого составила 1,7 тыс. тонн в сутки. Он был открыт в 1998 году. С тех пор и по настоящее время ГПИК ежегодно производит и экспортирует более 4,6 млн тонн высококачественной продукции.
«НиК»: Каковы источники сырья для нефтепереработки и нефтехимии? Где и в каких странах покупается нефть? Импортируется ли сырье или поставляется из собственных месторождений?
– Бахрейн импортирует из арабских государств легкие фракции нефти в количестве 220 тыс. баррелей (30,1 тыс. тонн – прим. «НиК») в сутки. Они поставляются по трубопроводу, построенному в 1945 году. Кроме того, на месторождениях Бахрейна добывается более 46 тыс. баррелей (6,3 тыс. тонн – прим. «НиК») нефти в сутки. Для производства аммония, метанола и мочевины используется природный газ.
«НиК»: В какие страны Бахрейн экспортирует нефтепродукты и продукцию нефтехимической промышленности?
– Бахрейн экспортирует свою долю сырья, добываемого на месторождении Абу-Сафа, в основном на рынки Дальнего Востока. В 2016 году в Японию, Южную Корею, а также Новую Зеландию было направлено около 50% всего экспорта сырой нефти. Около 33% было направлено в Юго-Восточную Азию (Малайзию, Сингапур, Тайвань, Таиланд), еще примерно 11% – в Индию, 3% – в Австралию, 2% – в Африку. На экспорт направляется 85-90% продукции Нефтяной компании Бахрейна (ВАРСО): сжиженный газ и нефть, лигроин, газолин, керосин, авиационное топливо, асфальт, базовые смазочные масла и сера. Нефтехимическая продукция поставляется в различные государства Азии и Африки, а также в США.
«НиК»: Какое значение для бюджета Бахрейна имеет нефтеперерабатывающий и нефтехимический сектор? Как руководство страны стимулирует развитие нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий?
– Нефтяной сектор – локомотив национальной экономики, его доля составляет примерно 70%. В результате перепадов, происходящих на мировых нефтяных рынках, Королевство Бахрейн повысило внимание к стратегически важным проектам. В стране был инициирован новый этап развития нефтехимической промышленности, в результате чего она стала более конкурентоспособной, устойчивой, способной лучше обслуживать социальные и экономические интересы Бахрейна в долгосрочной перспективе даже при наименее благоприятных сценариях развития ситуации на мировых рынках.
Королевство постоянно стимулирует процессы обновления и модернизации нефтеперерабатывающих заводов, чтобы добиться устойчивого положения и повысить прибыль, развиваться с учетом изменений в области нефтепереработки, отвечать мировым требованиям, предъявляемым к нефтепродуктам, и соответствовать мировым стандартам защиты окружающей среды. За последние несколько лет были построены, в частности, блок по выделению водорода, блок базовых смазочных масел, блок обработки дизельного топлива водородом.
«НиК»: Насколько современны нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия Бахрейна?
– BAPCO осуществляет программу модернизации производственных мощностей – самый крупный проект за всю историю компании. После его завершения нефтеперегонные мощности компании станут одними из самых современных в регионе. Производственная мощность вырастет с 267 тыс. баррелей до 380 тыс. баррелей (с 36,6 тыс. тонн до 52,1 тыс. тонн – прим. «НиК») в сутки. Кроме того, ведется работа по оптимизации расходов, защите окружающей среды, достижению максимального использования производственных мощностей. Получены предложения, связанные с инженерными работами, закупками и возведением необходимых сооружений, в настоящее время ведется их оценка, организуются переговоры. Мы намерены распределить контракты на проведение инженерных работ, закупки, строительства в течение последнего квартала 2017 года. А завершение и запуск проекта ожидается к 2021 году.
Мы прилагаем большие усилия для осуществления проекта создания комплекса нефтехимической промышленности в области парфюмерии. Это будет проект мирового уровня, связанный с переработкой недорогих продуктов лигроина в дорогостоящую продукцию. Этап инженерного проектирования уже завершен, в настоящий момент партнеры работают над разрешением отдельных вопросов, перед тем как объявить тендер по закупкам, строительству и проведению инженерных работ.
«НиК»: Какие страны и компании являются основными партнерами Бахрейна в нефтяном секторе (добыча, переработка, нефтехимия)?
– Что касается проекта по модернизации нефтеперегонных мощностей BAPCO, то он осуществляется самой компанией. Запущен он был самостоятельно, однако его финансирование осуществляется с помощью инвестиционной программы, задуманной как общемировой инвестиционный проект. Что же касается нефтехимического парфюмерного комплекса, то это совместный проект Нефтегазового холдинга Бахрейна и Нефтехимической компании Кувейта.
«НиК»: Каковы перспективы сотрудничества с российскими компаниями? Есть ли действующие проекты? Возможно, идут переговоры?
– В рамках подписанных протоколов о взаимопонимании проведен ряд переговоров с российскими компаниями, работающими в области геологоразведки и добычи нефти и газа. В настоящее время существует проект, касающийся проведения и анализа сейсмических исследований. В нем участвуют компании BAPCO и «Ларгео», принадлежащая «Росгео». Кроме того, BAPCO намерена сотрудничать с «Газпромом» в области геологоразведки.
«НиК»: Ваш прогноз мировых цен на нефть на три года, пять лет? Выгодны ли низкие цены на нефть Бахрейну? Что предпринимается в условиях падения цен на нефть?
– На мой взгляд, достаточно трудно прогнозировать цены на нефть на ближайшую перспективу (один год). И невозможно их прогнозировать на среднесрочную перспективу (три года).
Это происходит потому, что цена за баррель нефти определяется двумя видами факторов. Первым типом являются так называемые «экономические основы» (Economic Fundamentals), то есть факторы, непосредственно связанные с рынком (спрос и предложение). Их можно проследить, изучить и увидеть перспективу на фоне показателей наиболее крупных экономик мира, формирующих наибольший спрос на нефть. Кроме того, существуют и другие стандартные показатели, связанные прежде всего с реальной экономикой.
Что касается второй группы факторов, «технических» (Technical market aspects), они связаны со случайными происшествиями, которые могут происходить на объектах нефтяной промышленности: различного рода сбои в работе, природные катаклизмы, слухи, распускаемые конкурентами. Эти факторы не столько оказывают пагубное воздействие, сколько влияют на колебания рынка, когда цена странным образом либо растет, либо опускается. В любом случае, я полагаю, что трехлетняя перспектива цен на нефть вселяет некоторый оптимизм при продолжающейся нестабильности и существующих опасениях по поводу снижения цен в будущем.
Королевство уже приняло серьезные меры, направленные на проведение экономических реформ и конверсию с тем, чтобы компенсировать снижение поступлений от нефтяного сектора. Основное внимание уделяется тому, чтобы сделать источники доходов более разнообразными, добиваясь снижения зависимости от нефтяных доходов. Пожалуй, самым ярким примером может служить начатый проект модернизации нефтеперегонных мощностей BAPCO, одной из целей которого является укрепление положения компании среди крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий мира. BAPCO, добившись успеха в осуществлении подобных процессов, отличающихся высокой степенью надежности, и в разработке точных стратегий относительно эффективного расходования средств, смогла увеличить прибыль от маржи переработки, находящейся сейчас на подъеме, который обусловлен повышением потребления продуктов нефтепереработки, имеющих низкую стоимость, что помогло в течение трех последних лет получать высокую прибыль.
Подготовил Хусейн Аль-Джаман
Перевод Сергея Буркута и Екатерины Смирновой
Справочно: Королевство Бахрейн
Королевство Бахрейн – арабское островное государство площадью 760 км2, расположенное в средней части Арабского (Персидского) залива. Выгодное географическое положение Бахрейна, определяемое близостью к главным путям транспортировки ближневосточной нефти, оказало существенное влияние на его историческую судьбу и специфику развития.
Бахрейн – конституционная монархия с двухпалатным парламентом. Во главе государства находится король Хамад бен Иса Аль-Халифа из династии Аль-Халифа, пришедшей к власти в конце XVIII века.
Бахрейн – самая малочисленная страна Залива, население которой составляет всего 1,379 млн человек (по данным на июль 2016 года), причем половина из них не являются подданными королевства. Государственная религия Бахрейна – ислам, правящее меньшинство принадлежит к мусульманам-суннитам, а основное население страны составляют шииты. Такая особенность является серьезным фактором социальной напряженности в Бахрейне, однако политическая и экономическая системы государства отличаются стабильностью.
Важнейшее место в экономике королевства принадлежит нефтегазовому сектору. В 1929 году компания Standard Oil Company of California (SOCAL), в настоящее время – Chevron, начала разведку и добычу нефти на архипелаге. В 1936 году SOCAL продала часть месторождений Техасской нефтяной компании (Texaco) и основала совместно с ней Нефтяную компанию Бахрейна (ВАРСО). Тогда же началось строительство крупнейшего в Заливе нефтеперерабатывающего завода. В марте 1975 года правительство Бахрейна приняло решение об установлении полного контроля над нефтяной промышленностью страны, в 1980 году стало единоличным владельцем BAPCO, а в 1997 году полностью выкупило нефтеперерабатывающий завод.

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Республики Беларусь В.В.Макеем по итогам совместного заседания коллегий МИД России и МИД Белоруссии
Уважаемые дамы и господа,
Наша традиционная встреча в формате совместного заседания коллегий министерств иностранных дел Российской Федерации и Республики Беларусь проходит в преддверии важной юбилейной даты – 25-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Сегодня с Министром иностранных дел Республики Беларусь В.В.Макеем открыли фотовыставку, посвященную этому памятному событию. Только что в вашем присутствии мы подписали совместное заявление, в котором зафиксировали приоритеты совместной работы на международной арене.
За прошедшие четверть века мы серьезно продвинулись в интеграционном сближении, повышении эффективности совместных усилий по обеспечению безопасности. На этот счет были предприняты конкретные шаги как в рамках Союзного государства, так и по линии Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ОДКБ. Характеристика динамики нашего взаимодействия – это насыщенный диалог на высшем уровне. В прошлом году наши лидеры встречались семь раз, в этом – уже три. На повестке дня сессия Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, которая пройдет 15 июня в Минске, Четвертый форум регионов России и Белоруссии 30 июня в Москве, а также предстоят очередные заседания Высшего Государственного совета и Союзного совета министров.
Рассмотрели ход выполнения Программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2016-2017 гг. Констатировали успешную реализацию всех предусмотренных в ней мероприятий. Рассмотрели также ход подготовки новой программы на очередной двухлетний период. Опираясь на эти документы, наши внешнеполитические ведомства тесно сотрудничают по таким важнейшим направлениям, как задача продвижения справедливого и демократического полицентричного мироустройства, обеспечение глобальной и региональной безопасности, противодействие новым вызовам и угрозам с опорой на международное право и центральную роль ООН, координация действий в правозащитной и гуманитарной сферах.
Мы не останавливаемся на достигнутом, стремимся искать новые формы взаимодействия, которые отвечают велениям времени.
Условились продолжать совершенствовать информационную работу в целях обеспечения объективного восприятия интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. Продвижение внешних связей ЕАЭС остается важным направлением деятельности дипломатических служб государств-членов «пятерки».
Выразили серьезную озабоченность в связи с усилением военной деятельности Североатлантического альянса на его т.н. «восточном фланге», которая подрывает стратегический баланс в Евроатлантике и создает угрозы безопасности наших государств. Договорились и далее координировать подходы к выстраиванию отношений с НАТО, обмениваться информацией о конкретных направлениях, контактах с Альянсом, в том числе в рамках ОДКБ, где в нынешнем году председательствует Республика Беларусь.
Договорились наращивать культурно-гуманитарные обмены, в том числе в рамках реализации мероприятий, приуроченных к совместным памятным датам и значимым событиям в истории наших стран. Особое внимание будем уделять продвижению диалога между молодежью, в том числе по линии наших министерств. Благодарны белорусской стороне за инициативу по организации две недели назад в Минске первой встречи Совета молодых дипломатов МИД России и Клуба молодых дипломатов МИД Белоруссии. В свою очередь ожидаем участие белорусских коллег в IV форуме молодых дипломатов в Москве в июле этого года.
Продолжим, и сегодня об этом специально говорили, решительно пресекать нечистоплотные попытки исказить нашу общую историю, историю Великой Отечественной войны. Наметили ряд дополнительных практических шагов для продвижения этой темы в международных организациях.
Мы провели отдельные переговоры с Министром иностранных дел Республики Беларусь В.В.Макеем, в ходе которых обсудили ключевые вопросы наших двусторонних отношений и отдельные актуальные международные темы.
Говорили о ситуации на Украине. Это наш общий сосед. Мы заинтересованы в том, чтобы внутриукраинский кризис был преодолен как можно скорее. Убеждены, что сделать это можно исключительно на основе политико-дипломатических усилий и полного выполнения Минских договоренностей от февраля 2015 г.
Мы в очередной раз поблагодарили белорусских друзей за организацию переговоров по выполнению Минских договоренностей в рамках Контактной группы. Минск стал гостеприимной, удобной для всех участников этих переговоров столицей. Убежден, что если и когда у международного сообщества возникнет необходимость наладить переговоры по любой другой животрепещущей теме, белорусская столица будет для многих оптимальным местом для переговорного процесса.
Еще раз благодарю наших белорусских коллег за совместную работу.
Вопрос (адресован обоим министрам): Сотрудничество между министерствами иностранных дел двух государств неоднократно приводили в качестве примера взаимодействия двух государств в рамках Союзного государства в целом. Как удалось достичь такого успеха, и что сегодня говорилось на заседании коллегий о том, чтобы и в предстоящий период уровень этого сотрудничества был не ниже?
С.В.Лавров (отвечает первым): Секрет успешности нашего внешнеполитического взаимодействия, пожалуй, в том, о чем мы сегодня говорили: в совпадении позиций и внешнеполитического мировоззрения. Россия и Белоруссия отстаивают на международной арене правду, справедливость, равноправие государств, право государств самим выбирать свою судьбу. Ни друг друга, ни кого-то из других стран мы не заставляем делать какие-то исторические выборы, спрашивая, с нами они или против нас, чем, к сожалению, занимаются наши коллеги из ЕС и Североатлантического альянса (НАТО).
У нас совпадение взглядов (если хотите, они генетически одинаковые) на происходящее в мире и на пути решения международных проблем. Конечно, всегда есть нюансы, но стратегическое, магистральное направление движения в международных делах у нас одинаковое, что и подтверждается соответствующими документами, включая те, которые были подписаны сегодня, в том числе принимаемая каждые два года Программа согласованных действий в области внешней политики.
Вопрос: В последнее время появилось много сообщений по поводу белорусско-российской границы, а также о том, что Россия устанавливает пограничные зоны, переводит рейсы «Белавия» в международные терминалы аэропортов. В чем причина недоверия к белорусским пограничникам, и не движемся ли мы к полноценной границе под Смоленском?
С.В.Лавров: Эти вопросы почему-то стали привлекать внимание только сейчас, но стоят они достаточно давно. Несколько лет назад всерьез звучали предложения о создании комиссии по делимитации нашей границы. Слава Богу, удалось не довести до этого и сделать мягкий вариант упорядочения этой линии. Была создана Комиссия по картографическому оформлению нашей границы, которая работает и решает все вопросы таким образом, чтобы жители сопредельных районов наших стран не испытывали какого-либо дискомфорта, неудобств. Так что эта тема звучала.
Что касается нынешнего состояния, то на протяжении уже почти 10 лет мы хотели найти такую договоренность, которая обеспечивала бы единство нашей визовой политики. Скажу конкретно – это произошло вскоре после войны на Кавказе, развязанной М.Саакашвили вопреки обязательствам добиваться переговорного решения в своих отношениях с Южной Осетией. Тогда действительно мы испытывали очень серьезную угрозу, в том числе террористическую, экстремистскую, которая проистекала из Панкисского ущелья, где граждане Грузии проходили тренировки под началом очень нехороших и опасных людей, в том числе иностранцев. Тогда мы обратили внимание на то, что у нас с Грузией был введен визовый режим, а у наших белорусских друзей, как и со всеми членами СНГ в то время, такого режима не было. Начались консультации о том, чтобы выработать единую визовую политику. Дело двигалось непросто, потому что есть совершенно конкретные вещи, требующие решения, согласования по линии многих ведомств. Могу вас проинформировать, что с тех пор мы существенно продвинулись вперед, уже согласован и выносится на обсуждение Совета министров Союзного государства план мероприятий по формированию единого миграционного пространства на ближайшую трехлетку. В этом плане отражены основные элементы, позволяющие двигаться к формированию единого визового пространства. Более того, мы завершаем, надеюсь, согласование межправительственного соглашения, которое тоже заняло какое-то время. Оно будет посвящено взаимному признанию виз и согласованности действий по другим вопросам, которые связаны с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию государств-участников Договора о создании Союзного государства. Считаю, что это серьезно продвинет нас к решению возникающих сейчас вопросов в отношении упомянутого Вами термина – «погранзоны». Эти зоны не имеют никакого отношения к ограничению перемещений наших граждан, а означают только одно: поскольку границы не существует, иностранные граждане, для которых требуется виза для въезда в Россию, должны каким-то образом зафиксировать факт пересечения этой границы. Убежден, что эта проблема будет решаться без каких-либо бюрократических барьеров. Профессионалы найдут возможность сделать так, чтобы такое решение было найдено. Сейчас наши пограничники предпринимают соответствующие шаги, которые, по большому счету, вдохновлены похожими мерами, которые наши белорусские друзья уже порядка трех лет применяют для того, чтобы, сохраняя свободу передвижения, все же установить какой-то контроль за передвижением иностранцев.
У меня нет сомнений, что мы решим все эти вопросы, в том числе о пересечении границы в международных секторах наших аэропортов. Это и сейчас не содержит никаких дополнительных сложностей, каких-то усложнений для граждан наших стран. Для иностранцев – да, но нам приходится на это идти, поскольку иностранцы прилетают, а у нас пока нет единой визовой политики. Нам приходится принимать их в «международно» оборудованных КПП. Я бы подчеркнул важность скорейшего завершения подписания и вступления в силу тех документов, о которых мы сегодня говорили.
Вопрос: 12 июня в Астане стартует очередной раунд переговоров между конфликтующими сторонами в Сирии. Главной темой, как ожидается, будет фиксация территории четырех зон деэскалации. Многие беспокоятся, что именно эта фиксация может привести к разделу страны. На эту тему уже высказался Президент России В.В.Путин. Что Вы думаете на этот счет?
С.В.Лавров: Что касается подписанного месяц назад Меморандума о создании зон деэскалации с участием вооруженных сил сирийского правительства, вооруженной оппозиции и под гарантии России, Турции и Ирана, то, как Вы и сказали, Президент России В.В.Путин неоднократно подчеркивал, что речь идет не о создании предпосылок к разделу Сирии, как бы этого кому ни хотелось, а о необходимости начать продвигаться к полному замирению и прекращению огня, к деэскалации по всей территории Сирии. Поскольку за один присест ввести такой режим по всей стране чрезвычайно сложно, если не сказать, невозможно, то было решено начать с тех самых зон, о которых мы говорим. Были выделены четыре района, они согласованы, сейчас идет работа над тем, чтобы окончательно договориться по конкретным деталям, связанным с обеспечением мониторинга, наблюдения за выполнением обязательств по прекращению огня и связанным с обеспечением пунктов пропуска в эти зоны деэскалации и из них, прежде всего, для гражданских лиц и гуманитарной помощи, что, конечно, облегчит положение населения в соответствующих районах.
Несмотря на то, что мы многократно подчеркивали нацеленность этой временной меры на то, чтобы через определенный период, как только будут достигнуты результаты в обустройстве этих зон, она распространялась и на другие районы Сирии, есть желающие (и мы даже знаем, кто транслирует соответствующие сигналы через различные НПО, известные своей ангажированностью в сирийском кризисе) предъявить претензии в отношении того, что инициаторы зон деэскалации ведут дело к разделу САР. Это неправда, выражаясь очень мягко. Эти провокационные заявления сродни тому, как обыгрывалась ситуация, например, в Алеппо, когда были достигнуты договоренности относительно добровольного выхода из восточного района города боевиков с оружием и семьями (не только боевиков, но и всех желающих). Нас обвиняли в том, что мы устраиваем этнические чистки, кричали без преувеличения на весь мир, что это приведет к изменению демографического баланса и перекройке всего сирийского государства. Сейчас уже десятки тысяч суннитов, покинувших в то время Восточный Алеппо, вернулись в свои дома и продолжают возвращаться. Ни одно «прогрессивное» СМИ, включая те, которые поднимали шум по поводу «этнических чисток», не хочет писать об этих фактах (либо им запрещают). Кстати, крики, сопровождавшие операцию по освобождению Восточного Алеппо, ссылки на огромное количество людей, вынужденных покинуть свои дома, огромное количество пострадавших отнюдь не привели к тому, что авторы этих оценок стали бы объективно или хоть как-то освещать гуманитарные аспекты штурма Мосула, где было многократно больше людей, бежавших из этого города. Причем им не выделяли гуманитарных коридоров, поэтому такое спасение бегством было куда более драматичным и сопряженным с куда более трагическими последствиями. Это послесловие к тому, как «свободные» западные медиа освещают действительность.
Вопрос: Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет и ряд других арабских стран разорвали дипотношения с Катаром и обвиняют Доху в поддержке террористов. Саудовская Аравия также исключила Катар из военной коалиции, проводящей операции в Йемене. Как, на Ваш взгляд, все это отразится на регионе в целом?
С.В.Лавров: Что касается решения ряда арабских государств разорвать дипломатические отношения с Катаром, то это их дело, это двусторонние отношения этих государств. Мы не вмешиваемся в эти решения. Хотя нас и подозревают в том, что мы стоим за любым событием в мире, но заверяю вас, что это не так. Президент России В.В.Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), а затем в интервью «Эн-Би-Си» подробно об этом говорил. Не буду повторяться. Скажу лишь, что мы убеждены, что любые противоречия могут иметь место. Мы никогда не радовались возникающим между другими странами трудностям. Мы заинтересованы в поддержании добрых отношений со всеми, тем более в регионе, где самым главным сейчас является концентрация всех усилий на борьбе с общей для всех угрозой международного терроризма.

Рабочая встреча с Главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
Владимир Путин провёл рабочую встречу с Главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе.
В.Путин: Рамзан Ахматович, тема известна: ситуация в республике. Как Вы оцениваете, какие проблемы, какие вопросы есть?
Р.Кадыров: Владимир Владимирович, спасибо, что Вы нашли время. В республике после моего последнего доклада Вам есть позитивные изменения. Сельхозпроизводство выросло на 13,6 процента, внебюджетные инвестиции – на 19 процентов, собственные доходы – на 26 процентов. Уровень безработицы за год снизился почти на три процента и составил 9,2 процента.
Майские указы выполняются. Обеспечивается получение заработной платы. Доступность дошкольного образования для детей от трёх до семи лет доведена до ста процентов. Досрочно завершён первый этап программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Мы считаем, что это хорошие результаты в связи со сложившейся ситуацией вокруг России и, в частности, Чеченской Республики.
И ещё хочу Вам доложить, что те провокационные статьи, которые пишут про Чеченскую Республику, про народ, про те события, которые у нас якобы происходят, задержания…
В.Путин: Какие?
Р.Кадыров: Хорошие, в кавычках, люди пишут про то, что у нас в республике – даже говорить про это неудобно – людей задерживают, убивают. Даже назвали одну фамилию – Тепсуркаев Хасу, он у нас, так скажем, главный человек по идеологии, суфий. Сказали, что его убили, а он находится дома. Прямым текстом сначала оскорбили его, потом обвинили власти, что его убили, а он живой-здоровый находится дома. Вот такие неподтверждённые факты вокруг республики бывают в год два-три раза, и с начала года это первая ситуация в таком формате.
Так в плане безопасности у нас республика находится на хорошем счету. Уличной преступности у нас нет, серьёзных угроз террористической направленности у нас нет. Республика, так скажем, уверено двигается вперёд.
В.Путин: Но всё-таки проявление было, было нападение на часть Росгвардии, поэтому вопросы ещё не все, видимо, решены. Но все они, безусловно, решаются, я вижу, что они решаются, и хорошо. И делать это, конечно, нужно на базе развития экономики и социальной сферы.
То, что Вам удаётся выполнять указы Президента России от 2012 года, – очень важно. У вас средний уровень в системе образования, я так понял, достиг указного уровня, средний по региону, по экономике региона.
Р.Кадыров: Да, мы все майские указы полностью, на сто процентов выполняем и абсолютно никаких проблем на сегодняшний день не видим. Но есть определённые проблемы, и если мы не получим поддержку, то в следующем году у нас уже начнутся проблемы и вопросы в этом направлении.
В.Путин: То, что вы снизили до 9 процентов уровень безработицы, конечно, очень хорошо. Она года два-три назад на каком уровне была?
Р.Кадыров: Когда Вы меня назначали, у нас в республике была безработица 76 процентов. Когда я в последний раз Вам докладывал, было 12,2 процента, до этого – 19 процентов. Вот так снижается. Создаются рабочие места, у нас есть договорённости в плане инвестиционной политики со всеми нашими основными партнёрами в России.
И я был сейчас в Персидском заливе, посетил несколько государств, мы тоже получили ощутимую поддержку. Был в Бахрейне, Абу–Даби, Дубае. Есть заинтересованность взаимодействовать с Россией, в том числе с Чеченской Республикой. Обещали инвестировать, увеличивать инвестиции.
В.Путин: Вы договорились с «Роснефтью» о дальнейшей работе?
Р.Кадыров: Сегодня мы встречались с Игорем Ивановичем [Сечиным]. Мы договорились, но были определённые недопонимания. Как я понял, до руководства «Роснефти» не доходило то, что мы хотим.
Сегодня мы нашли общий язык и дальше будем двигаться и развивать отношения с «Роснефтью». Это для нас остаётся очень важным, дальше будем вкладывать, развивать и нефтяное направление, и экономику республики.
В.Путин: Отлично. Он через пару часов у меня будет здесь, мы с ним тоже поговорим на этот счёт.
Р.Кадыров: Спасибо за поддержку.

Заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Под председательством Владимира Путина в Кремле состоялось заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Обсуждались, в частности, вопросы поддержки несырьевого экспорта и улучшения экологической ситуации.
В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!
Мы сегодня поговорим о мерах по развитию несырьевого экспорта и улучшению экологической ситуации в стране.
Перед нами стоит задача создать целостный набор долгосрочных механизмов и инструментов, который, по сути, задаст новые рамки совместной работы бизнеса, государства, общественных организаций в области экологии и развития экспорта.
Отмечу, что все меры по этим направлениям должны носить исключительно прикладной характер и принять их нужно как можно быстрее, без так называемой раскачки. Уже по итогам следующего, 2017 года, мы должны иметь действующую, эффективную систему поддержки несырьевого экспорта и экологических программ, увидеть реальные результаты её работы.
В этой связи прошу Правительство уделить особое внимание финансовому обеспечению тех инициатив, которые мы сегодня будем обсуждать, а также всех остальных приоритетных проектов, о которых мы тоже с вами многократно говорили. Прошу Министра финансов в ходе нашего совещания отдельно доложить по этому вопросу.
Теперь по повестке дня. За последние годы в ряде отраслей российской экономики накоплен значительный, большой – причём нереализованный – экспортный потенциал. Прежде всего имею в виду авто- и авиапром, сельскохозяйственное и железнодорожное машиностроение – то, что принято называть производствами с высокой добавленной стоимостью. И развитие этих отраслей может стимулировать целую цепочку смежных производств в тяжёлой, лёгкой промышленности, на транспорте.
Нужно увеличить сбыт российской промышленной продукции, обеспечить широкий выход отечественных предприятий на внешние рынки. Для этого необходима единая система поддержки промышленных экспортёров, которая могла бы гибко подстраиваться под требования покупателей и делать работу на зарубежных направлениях проще и удобней.
Отмечу, что в сентябре на совещании в Туле мы затронули тему гражданского экспорта оборонно-промышленного комплекса. По сравнению с поставками вооружения и военной техники (это около 14,5 миллиарда долларов в 2015 году) экспорт гражданского сегмента ОПК сегодня практически отсутствует или очень мал.
Мы с вами – и в Туле об этом говорили, и сейчас хочу ещё раз напомнить – должны понимать, что такие масштабные заказы со стороны Министерства обороны когда–то, и даже непросто когда–то, а на понятном нам рубеже, в таком объёме закончатся. Производственные мощности будут развиты, оборудование новое закуплено – нужно, чтобы всё не простаивало, а работало.
По итогам той встречи Минпромторгу поручено подготовить целый набор мер по наращиванию гражданского экспорта «оборонки». Эта работа должна быть завершена к 1 декабря. Тем не менее просил бы уже сегодня рассказать, что делается в этой сфере и что мы намерены делать в этой сфере.
Ещё одно перспективное направление экспорта – продукция сельского хозяйства. В прошлом году поставки российского продовольствия на внешнем рынке превысили 16,2 миллиарда долларов. В текущем году, по оценкам экспертов, этот показатель будет около 17 миллиардов долларов, и это при том что объём экспорта вооружений, он у нас практически не снижается, – 14,5 миллиарда долларов, мы сейчас только с Председателем Правительства говорили об этом. Безусловно, это в значительной степени ваша заслуга, заслуга Правительства России.
Нам нужны системные решения, которые позволят российским производителям увеличить объёмы производства и экспорта сельхозпродукции и дальше, обеспечат их необходимой инфраструктурой и информацией. Разумеется, они проделали колоссальную работу, имею в виду селян, но поддержка со стороны Правительства должна быть обеспечена и на среднесрочную перспективу.
И ещё один вопрос, который хотел бы обсудить в рамках экспортной тематики. Опыт ведущих стран мира показывает, что в современной международной торговле всё больший вес приобретают малые и средние предприятия. Мы с вами знаем, какой процент вносят малые и средние предприятия в экономику развитых стран, какой процент – в развивающихся экономиках, какой процент у нас: у нас 21, по–моему, процент, а в других [странах] – до 90, 85–90 процентов – объём малого и среднего бизнеса в экономике. Так что нам ещё есть куда развиваться.
В свою очередь сбыт российской продукции малого и среднего бизнеса, как правило, и ограничен локальными рынками, районами, регионами, а экспортные возможности, даже при выпуске качественного конкурентоспособного товара, крайне малы.
Нужен механизм, который в масштабах всей страны обеспечил бы поиск и продвижение на внешние рынки продукции малого и среднего бизнеса. Действуют сегодня у нас, напомню, 5,8 миллиона субъектов малого и среднего предпринимательства. Рассчитываю услышать сегодня предметные соображения и на эту тему.
Теперь по второму вопросу нашей повестки дня. Речь пойдёт об улучшении экологической ситуации.
Сегодня в России накоплено около 100 миллиардов тонн бытовых и производственных отходов, которые занимают порядка четырёх миллионов гектар. Непростая ситуация и в сфере очистки сточных вод: лишь 13 процентов из них подвергаются нормативной очистке, остальное поступает напрямую в водоёмы.
Напомню, что 2017 год объявлен в России Годом экологии. Понятно, что за год все проблемы в этой сфере, копившиеся десятилетиями, не решить. Однако создать механизм их решения и начать продвигаться к поставленным целям не только возможно, но и крайне необходимо.
В первую очередь нужно разобраться с накопленными отходами, ликвидировать наиболее крупные залежи мусора, которые в прямом смысле слова отравляют людям жизнь. Не менее важно создать карту мусорных свалок, в особенности незаконных, и привлечь к этой работе общественность, сделать так, чтобы каждый желающий мог не только сообщать о незаконной свалке, но и обратиться за проведением соответствующей проверки.
И конечно, нужно создать экономические стимулы для вовлечения отходов в производственный оборот, добиться того, чтобы перерабатывать отходы было выгодней, чем сжигать или закапывать, или где–то просто сваливать.
Предлагаю также обсудить комплексные меры по очистке рек и водоёмов. Их состояние напрямую влияет на качество питьевой воды, а значит, на здоровье людей.
И в целом считаю важным предпринимать все меры для сохранения природы и лучше там, где она сохранилась ещё в первозданном виде, или возвращать её в первозданный вид для будущих поколений, защищать редкие виды животных, уникальные природные объекты. Предлагаю сегодня рассмотреть практические шаги по всем этим направлениям.
И в заключение ещё одна тема, которая получила широкий общественный резонанс, имею в виду обращение с бездомными животными, которые являются неотъемлемой частью экосистемы городов. Отсутствие норм и правил в этой сфере чревато ухудшением санитарной ситуации, а в отдельных вопиющих случаях выливается в жестокое, бесчеловечное отношение к животным. Насколько знаю, законопроект на эту тему прорабатывался в парламенте, однако до сих пор он находится там без движения. Давайте обсудим, как продвинуть и эту инициативу, как оформить цивилизованный порядок обращения с животными.
Слово – Евгению Ивановичу Елину, пожалуйста.
Е.Елин: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые члены Совета!
Проектные предложения, которые представляются вашему вниманию, подготовлены Минэкономразвития совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Российским экспортным центром в рамках приоритетного направления «Международная кооперация и экспорт».
В проектном предложении заложен ориентир на темпы прироста несырьевого, неэнергетического экспорта не менее семи процентов в год. Это значит, что ожидаемый к концу 2018 года рост составит не менее 15 процентов по сравнению с сегодняшним днём, и по итогам второго этапа (это 2025 год) объёмы несырьевого экспорта увеличатся почти вдвое.
Второй показатель проекта характеризует прирост числа отечественных экспортёров. Мы считаем, что создание комфортных, привлекательных условий для осуществления деятельности в этой области позволит нам достичь прироста числа экспортёров не менее чем на 10 процентов ежегодно.
Для достижения заявленных показателей мы выделили три ключевых направления. Во–первых, создание системы поддержки экспорта продукции в тех отраслях, которые уже осуществляют экспортные поставки и имеют значительный потенциал для их расширения. Прежде всего, конечно, мы имеем в виду промышленную продукцию.
Опережающий рост планируется достичь за счёт четырёх приоритетных секторов, которые, Владимир Владимирович, Вы уже назвали: автомобилестроение, авиастроение, железнодорожное машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение. Реализация проекта обеспечит в стоимостных объёмах двукратное увеличение экспорта по приоритетным отраслям к концу 2018 года, а к концу 2025 года мы рассчитываем получить пятикратный рост.
Почему мы уверены, что именно в этих секторах сможем существенно нарастить экспорт?
Во–первых, огромные масштабы рынков этих секторов дают основание говорить о реальных возможностях потеснить конкурентов. Достаточно сказать, что объём только рынка автомобилестроения превышает два триллиона долларов в год, а весь российский экспорт не превышает 0,1 процента. То есть у нас есть огромный потенциал для расширения.
Объём рынка авиастроения – 296 миллиардов долларов в год при нашем достаточно скромном в нём участии, поэтому есть все основания считать, что у нас есть серьёзные перспективы.
Во–вторых, поскольку по качеству и по производственным затратам в этих секторах мы абсолютно конкурентны, экспортный потенциал будет определяться способностью снизить ряд издержек и предложить на рынок лучшую цену.
Какие это издержки? Назову наиболее важные из них. Прежде всего это транспортные затраты, в силу нашего географического расположения, до перспективных рынков. Во–вторых, масштаб производства наших производителей не позволяет обеспечить такое же снижение цены, как у наших конкурентов. Третье – стоимость связанного финансирования, которое мы можем предложить партнёрам; пока у нас выше, чем у наших конкурентов. И, наконец, наиболее чувствительные издержки связаны со входом на рынок – преодоление ввозных таможенных пошлин, носящих заградительный характер.
В настоящее время мы наблюдаем нарастание протекционистских настроений. Основным способом разрешения этой задачи является создание различных преференциальных и непреференциальных соглашений, обеспечивающих баланс интересов по доступу продукции обеих договаривающихся стран. У нас уже есть позитивный опыт по соглашению о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом. Оно позволит снизить или обнулить совсем ставки ввозных таможенных пошлин на большинство товарных позиций.
В настоящее время нами запущен переговорный процесс по заключению соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР, ведётся подготовка к запуску переговоров с Израилем, и к концу текущего года мы ожидаем решения о начале работы над аналогичными проектами с Египтом, Индией и Ираном.
Но просто заключить соглашение недостаточно – надо научиться локализовать производство на чужой территории, поэтому крайне важен и принципиален инфраструктурный проект в Египте, который реализует Минпромторг. Не буду останавливаться на проекте, более подробно о нём расскажет Министр промышленности Денис Валентинович Мантуров. Отмечу только, что по всему комплексу стимулирующих мер Правительством предусмотрено финансирование на 2017 год в объёме 16,5 миллиарда рублей.
Вторым ключевым направлением проекта является реализация экспортного потенциала агропромышленного комплекса. Мы ставим задачу обеспечить прирост объёма экспорта не менее 6,5 процента в стоимостном выражении ежегодно. Мы рассчитываем на экспортный потенциал ряда товарных групп, таких как мясо, мясные субпродукты, масложировая продукция, зерно и продукты переработки, готовые пищевые продукты.
Основной задачей по этому направлению является формирование системы поддержки экспорта продукции АПК, которая обеспечит доступ российской сельхозпродукции на зарубежные рынки. Здесь в первую очередь мы сконцентрируемся на переформатировании работы Россельхознадзора, который, как мы хорошо знаем, в настоящее время успешно решает задачи по обеспечению ограничения доступа импортной продукции на рынок. Теперь мы предполагаем его переориентировать на работу по вскрытию зарубежных рынков, представляющих наибольший интерес для приоритетной продукции.
Для решения этой задачи проектом предусмотрены мероприятия, направленные на организацию работы Минсельхоза и Россельхознадзора в части обеспечения аттестационных инспекций из стран-импортёров, модернизацию информационных систем обеспечения безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольствия для осуществления экспорта.
Кроме того, предполагается внедрение специальных мер, учитывающих специфику сектора, направленных на продвижение продукции. Это создание системы комплексного анализа потенциальных зарубежных рынков, это маркетинговая часть, разработка региональных суббрендов, продвижение продукции АПК на зарубежных рынках в рамках знаковых сельскохозяйственных мероприятий. На поддержку экспорта агропромышленной продукции в 2017 году предусмотрено 0,7 миллиарда рублей, поскольку основные меры носят институциональный характер.
Значительные экспортные возможности открываются в связи с появлением принципиально новых рынков. Это плоды грядущей так называемой четвёртой промышленной революции, либо индустриализации 4.0, – по–разному её называют, и одним из таких рынков является рынок электронной коммерции. Поэтому третьим элементом в контур проектного предложения включён проект «Электронная торговля».
Проект заключается в формировании экосистем, обеспечивающих вывод в первую очередь продукции малых и средних предприятий на экспорт. Более подробно этот вопрос также осветит Денис Валентинович в своём выступлении. Только скажу, что реализация проекта обеспечит на первом этапе вывод на глобальный онлайн-рынок 300 компаний, это до 2018 года, и не менее пяти тысяч компаний в 2018–2019 годах.
Ещё одним важным элементом, на котором хочу остановиться, проектного предложения является развитие институтов поддержки экспорта. Это прежде всего укрепление Российского экспортного центра как ключевого института развития. Мы ставим задачу сформировать уже к 2017 году на базе Российского экспортного центра единый центр координации и поддержки экспорта, с участием которого будет поддержано не менее 30 миллиардов долларов США российского экспорта к концу 2018 года и не менее 40 миллиардов долларов США к концу 2025 года. А это значит, поддержку получат порядка 7,5 тысячи компаний-экспортёров к концу 2018 года и не менее 12 тысяч экспортёров к концу 2025 года. Данные показатели сопоставимы с уровнем поддержки экспортными агентствами в развитых странах.
Планируем достичь этого результата следующими путями: это расширение мер финансовой поддержки экспортёров в первую очередь; помимо этого, создание региональной инфраструктуры Российского экспортного центра; расширение присутствия экспортного центра в приоритетных странах и, конечно, развитие регуляторной среды. В целом на реализацию мероприятий предусмотрено 16,5 миллиарда рублей.
Суммируя все направления проектного предложения в целом на реализацию заявленных проектов, в 2017 году потребуется 33,8 миллиарда рублей. В рамках подготовки поправок к проекту федерального закона о бюджете на 2017-й и плановый период 2018–2019 годов учтены предложения по финансированию соответствующих мероприятий в рамках приоритетного направления.
И в заключение. Кроме того, что сказано выше, мы понимаем, что это не исчерпывающий перечень направлений и секторов. Серьёзный экспортный потенциал есть у отдельных видов услуг: это образовательные услуги, туристические, транспортные услуги, услуги в области ИТ. Мы прогнозируем рост экспорта услуг в целом к концу 2018 года не менее чем на 20–25 процентов и к концу 2025 года – в два раза. Соответствующие конкретные предложения мы прорабатываем, они будут представлены на рассмотрение Совета в установленном порядке.
Благодарю за внимание.
В.Путин: Спасибо.
Денис Валентинович, пожалуйста.
Д.Мантуров: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!
По направлению «Международная кооперация и экспорт» Минпромторг выступает заказчиком по проектам развития экспортного потенциала высокотехнологичных отраслей и электронной международной торговли. В части программы поддержки экспорта помимо обозначенных уже отраслей промышленности, на которых планируется сконцентрировать основные усилия, мы ориентируемся на следующий эшелон приоритетов: это радиоэлектронная промышленность, медицинская техника, нефтегазовое, энергетическое машиностроение и ряд других направлений.
Расставляя приоритеты, мы исходили из трёх основных факторов. Первый – это наличие существующих производственных мощностей в отдельной индустрии и способность конкурировать на мировых рынках. Второй – это текущее состояние самих отраслей, а также оценка перспектив роста внутреннего и глобального спроса на эту продукцию. И третий фактор – это мультипликативный эффект для смежных отраслей промышленности.
Хотел бы особо отметить, что все предусмотренные проектом меры поддержки мы планируем распространить в том числе на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Это полностью согласуется с Вашим поручением, которое Вы дали в Туле. Мы в этом направлении ведём работу для того, чтобы обеспечить диверсификацию предприятий ОПК. И это будет способствовать наращиванию производства гражданской продукции, продукции двойного назначения примерно по пять процентов ежегодно.
По итогам прошлого года предприятия ОПК реализовали гражданской продукции в общем объёме на внешний периметр на 112 миллиардов рублей, это 14 процентов от общего объёма производства. Треть этой суммы приходится в первую очередь на авиастроение. Только в этом сегменте за счёт реализации проекта поддержки экспорта мы рассчитываем к концу 2018 года увеличить объём поставок иностранным покупателям как минимум в три раза, в том числе за счёт перехода к продаже жизненного цикла продукции и развития системы послепродажного обслуживания.
Это станет основным залогом долгосрочного присутствия на внешних рынках. Сегодня принцип «продал и забыл» в условиях нарастающей глобальной конкуренции, сооружения регуляторных барьеров уже больше не работает. Необходим системный подход, предполагающий локализацию, организацию совместных центров компетенции, работу в периметрах зон свободной торговли для входа на крупнейшие региональные рынки.
Приведу пример. Благодаря подписанному соглашению о зоне свободной торговли с Вьетнамом, как раз сегодня так совпало, уже первая партия автомобилей «Рено», которые произведены на завода «Автофрамос» в Москве, находятся в порту Вьетнама. А со следующего года коллеги будут поставлять уже машинокомплекты не только для рынка Вьетнама, но и для всей Юго-Восточной Азии, где у Вьетнама выстроены возможности по ЗСТ.
Казалось бы, «Рено» – компания иностранная, но данный автомобиль «Рено» – было принято решение полностью снять со всех производственных площадок, которые у них разбросаны по миру, и сконцентрировать в Москве. Локализация – 70 процентов; получается, это российский «Рено». Такой формат мы рассматриваем в качестве стратегического вектора развития несырьевого экспорта.
То же самое могу сказать о создании индустриальных зон на территории иностранных государств. В качестве своего рода обкатки этой модели (то, что Евгений Иванович обозначил) принято решение, как раз с Вами согласованное и Президентом Египта, в части выделения нам в восточной части Порт-Саида на Суэцком канале 80 гектаров индустриальной зоны. В перспективе они готовы расширить эту зону до двух тысяч гектаров. В этой части мы ведём работу над межправительственным соглашением. Рассчитываем, что в первом квартале эта работа завершится. Для чего? Для того, чтобы обеспечить дополнительные преференции и гарантии нашим производителям, которые будут там размещать свои сборочные производства.
Такую практику мы планируем расширять, чтобы двигаться дальше по ключевым страновым хабам. Причём мы к этому процессу привлекаем наших коллег из Евразийского экономического союза (буквально недавно договорился об этом с министрами промышленности Белоруссии, Казахстана, позавчера – с министром экономики Армении; надеюсь, что и киргизские коллеги нас поддержат) для того, чтобы использовать также их потенциал, чтобы вместе выходить на эти рынки. Тогда, собственно, есть возможность выполнения основных задач кооперации со странами ЕАЭС.
Что касается электронной международной торговли, то развитие этого направления позволит вовлечь в экспортные потоки малый и средний бизнес, на котором ставится основной в этой части акцент. Ключевая задача – это обеспечение выхода наших российских поставщиков на крупнейшие мировые площадки электронной коммерции.
Для этого предусмотрены следующие меры. Первое – это формирование единой базы российских производителей из числа МСП.
Во–вторых, создание на глобальных онлайн-площадках своего рода национальных виртуальных павильонов.
В–третьих, это совершенствование регуляторной среды, это касается прежде всего упрощения налогового и таможенного администрирования данной сферы. Реализация этих мер вкупе с консультационной поддержкой предприятий должна обеспечить вывод более пяти тысяч предприятий МСП к концу 2019 года на глобальный онлайн-рынок.
Владимир Владимирович, окончательное утверждение наших предложений обеспечит достижение целевого верхнеуровневого индикатора проекта. Просим поддержать наш проектный подход, который согласован со всеми заинтересованными ведомствами.
В.Путин: Хорошо. Спасибо.
Пожалуйста, Пётр Михайлович Фрадков.
П.Фрадков: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые члены Совета! Благодарю за предоставленное слово.
Создание конкурентоспособной системы поддержки несырьевого экспорта является нашей главной задачей. В рамках этого приоритетного направления система должна способствовать как поддержке действующих экспортёров, так и создавать новый экспорт. На экспортном поле России сегодня в основном работают крупные компании.
Мы посмотрели, объём экспорта в России на одного экспортёра в пять-семь раз больше показателя основных наших конкурентов. При этом доля экспортёров в общем числе компаний, конечно, намного меньше. Поэтому мы считаем, что наибольшим потенциалом в развитии объёмов экспорта, изменения его качественной структуры обладают именно компании среднего размера.
Имея в виду задачу вывода на внешние рынки именно компаний сегмента МСП, Российский экспортный центр, который должен стать одним из элементов этой системы, имеет три важные функции, я их коротко перечислю.
Первое – это выполнение роли координатора или штаба приоритетного направления, потому что мы уже, как мне кажется, де-факто стали площадкой межведомственной координации, но, конечно, в практическом смысле этого слова, и представляем интересы российских экспортёров, с одной стороны. С другой стороны, мы как специализированный институт развития в сфере экспорта должны сконцентрироваться на решении конкретных задач по продвижению интересов российских экспортёров за рубежом.
Была отмечена низкая узнаваемость российских товаров за рубежом, российских экспортёров. Поэтому одним из важных направления является формирование внешнеэкономического имиджа нашей страны и активная работа по продвижению брендов наших экспортёров, имея в виду в том числе товары народного потребления. Нам есть что предоставить на внешние рынки, у нас качественные показатели зачастую превосходят показатели наших конкурентов, но наши товары просто не знают. Поэтому мы будем проводить системную работу по присутствию в медиапространстве, интернет-ресурсах зарубежных рынков. Имеем программу по выставочно-ярмарочной деятельности, проведению целевых бизнес-миссий.
Российский экспортный центр уже начал работу по созданию за рубежом сети так называемых торговых домов. Мы хотим обратить внимание, что делаем акцент на практические запросы бизнеса и именно предполагаем финансовое участие того же бизнеса в этих торговых домах, потому что только сам бизнес может комплексно сформировать запрос на экспортные поставки и сформулировать, дать тот уровень качества продукции, который необходим. Здесь рассчитываем на поддержку со стороны деловых объединений, ассоциаций, бизнеса. Это в том числе будет содействовать в нашем понимании решению вопросов продвижения нашей продукции, лоббизма и решения вопросов, связанных с реализацией проектов промышленных зон.
Уже сейчас мы видим, что вовлечение регионов в создание и развитие экспортной среды требуется перевести, наверное, на более значимый уровень. Для субъектов должен появиться отдельный фокус на развитие несырьевого экспорта и как задача, и как ответственность.
Мы практическую задачу Российского экспортного центра видим в синхронизации работы профильных и региональных структур и стандартов их деятельности. Начали уже пилотно с коллегами из Минпромторга переориентировать территориальные органы Минпромторга именно на работу в экспортном направлении и отходим от таких базовых решений по выдаче, скажем, экспортных лицензий. Уже предлагаем систему, которая предполагает получение услуг, в том числе государственных услуг, инструментов по поддержке экспорта именно на местах. Нам очень важно, чтобы каждый конечный потребитель имел возможность получить доступ к тем ресурсам, которые государство уже предоставляет.
Если мы говорим о вовлечении в экспортную деятельность предприятий малых и небольших, то, конечно, наблюдаем, констатируем дефицит экспортных компетенций. Для решения этой задачи мы уже в пилотном режиме запустили так называемый образовательный проект, который в очень детальном режиме рассказывает и проводит, можно сказать, в ручном режиме экспортёров через все этапы экспортной деятельности.
В 2016 году мы отработали 13 пилотных регионов. Это делается совместно с субъектами Российской Федерации. В 2017 году планируем в этот проект вовлечь ещё 30 регионов. Речь идёт об обучении самих предпринимателей в субъектах инфраструктуры, а на каком–то этапе будем работать уже и со студентами высших учебных заведений. Не хотел бы подробно останавливаться на теме, связанной с продвижением электронной коммерции, об этом было подробно сказано, но хотел бы доложить в пилотном режиме.
В 2016 году организовали на одной из интернет-площадок, крупных интернет-площадок, наш национальный павильон, брендированный под знаком «Россия», сформировали перечень номенклатуры, которая пользуется спросом на этом рынке. Буквально за полтора месяца работы мы видим просто кардинальное повышение интереса к продукции из России, миллионы запросов, в десятках тысяч – покупки, и также не забываем про медиаконтент, через интернет-ресурсы этим вопросом занимаемся.
Видим недостаток: аналитическое, скажем так, сопровождение экспортной деятельности для компаний, отдельное решение, – это создание аналитического экспортного центра в рамках нашей организации, который будет предоставлять информацию о состоянии зарубежных рынков, потенциале российской экспортной продукции, торговых барьерах в вопросах регуляторики.
Продолжаем работу по финансовому сопровождению, сформулированы все продукты, необходимые по кредитно-страховой поддержке экспорта, в том числе с использованием специальных программ по субсидированию процентной ставки в целях приведения стоимости наших ресурсов и экспортного предложения в соответствие с международными требованиями и уровнем.
И новый большой запрос: мы сейчас совместно с коллегами из Минэкономразвития и Минпромторга разработали перечень новых функций господдержки, которая требуется и полностью соответствует международной практике. И Российский экспортный центр является агентом в каком–то смысле Правительства по распределению этого функционала. Это и субсидирование различных видов затрат, стратификация, логистика, омологация, помощь в компенсации затрат по патентованию прав интеллектуальной собственности за рубежом и некоторые другие виды работ. К концу года представим на рассмотрение стратегию Российского экспортного центра, которая будет полностью коррелироваться с параметрами и приоритетами данного проекта.
Спасибо за внимание.
В.Путин: Благодарю Вас.
Коллеги, кто хотел бы по этому вопросу что–то сказать? Пожалуйста, ТПП.
С.Катырин: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги! Несколько мыслей, которые сформулированы предпринимательским сообществом.
Первое – то, что касается экспорта малого и среднего бизнеса. Наибольшая сложность для них, одна, наверное, из наибольших сложностей – это вопрос сертификации продукции на зарубежных рынках. Порой при небольших партиях и широкой номенклатуре это сопоставимо с суммой сделки, на которую претендует то или иное малое предприятие.
Предусмотрено в программе, по–моему, 151 миллион рублей на поддержку сертификации. Но это будет выделяться предприятиям, которые будут обращаться за этим. С тем, чтобы системно решать этот вопрос и чтобы у нас появились лаборатории, сертификаты которых признаются за рубежом (соответственно, они будут выдаваться всем, кто будет обращаться на территории России), России необходимо присоединиться – есть две –к организациям. Одна из них называется Всемирная ассоциация аккредитованных органов по оценке соответствия, и вторая – Международное сотрудничество по аккредитации лабораторий. Тогда бы у нас появился свой орган по сертификации, признанный на Западе, с помощью которого мы могли бы уже тогда продвигать продукцию на эти рынки.
Вторая тема – это тема проведения выставочных мероприятий. Известно, что это один из серьёзных инструментов в продвижении продукции. Тема недешёвая для малого и среднего бизнеса. Мы полагаем, что сделать было бы очень неплохо две вещи. Первая – чтобы появился единый координатор, в принципе он есть, по высокотехнологичной продукции: это Минпромторг, определяющий на целый год перечень выставок, в которых предполагается российское участие, чтобы там появился российский раздел.
И тогда, привлекая малые и средние предприятия, которым можно было бы отчасти финансировать их участие, в значительной части они готовы свои средства вкладывать в участие в таких выставках, определять перечень этих выставок и собирать российский раздел, где могут быть представлены не только крупные компании, но и представители малого и среднего бизнеса.
Для того чтобы этот календарь соответствовал интересам бизнеса, было бы очень неплохо, чтобы был, в данном случае если мы говорим о Минпромторге, координирующий орган, который бы формировал этот календарь с участием бизнес-сообщества, и не только производителей, но и тех, кто является предпринимателями в области организации и проведения выставок. Потому что они лучше всех знают, какие выставки, с какой отдачей работают, какие выставки посещают ради туризма, то есть посмотреть, а какие выставки действительно работают с широким привлечением именно потребителей, и не только на страну, где проводится, но и на регион в целом.
И третье. Исторически так сложилось, что система торгово-промышленных палат с советских времён выполняла ряд функций, которые государство делегировало, по обслуживанию внешнеэкономической деятельности. Это и сертификаты происхождения, карнеты АТА, это признание форс-мажорных обстоятельств, ну и ряд других функций, международное третейское разбирательство, которые до сих пор наши палаты не только в центре, но и во всех регионах выполняют.
Сегодня к нам обращается ряд губернаторов с просьбой представительства РЭЦ, которые сейчас образуются в регионах, расположить на базе торгово-промышленных палат. Мы, естественно, готовы совместно работать с РЭЦ и такую работу ведём, но мы упираемся часто в решение вопросов в том, что не прописана система палат, как и другие объединения предпринимателей, как институты поддержки предпринимательства. Мне кажется, надо в этом плане доработать нормативную базу с тем, чтобы РЭЦ мог использовать все наработанные уже сегодня инструменты, которые существуют в центре, на местах в интересах общего дела.
В.Путин: Да, пожалуйста, можно сделать, легче будет работать.
Александр Николаевич.
А.Ткачёв: Спасибо.
Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги! Спасибо, что отметили заслуги агропромышленного комплекса.
На самом деле, действительно, это не было возможным без прецедентной поддержки, которая реализуется в последние годы. По рынку зерна мы отмечаем экспорт порядка 35–40 миллионов тонн. Мы увеличили количество стран, куда мы экспортируем зерно, с 60 (за последние два года) до 100, то есть практически в два раза. Мы практически по всему миру зерно продаём и по хорошей цене, хорошего качества. Если по зерну мы практически ограничены количеством, то по мясу, конечно, у нас огромные перспективы, то, о чём здесь уже говорилось.
Хочу проинформировать, мы только за последний год на 60 процентов увеличили объём экспорта, то есть 150 тысяч тонн, а начинали практически с нуля. Какие страны? Интересная статистика, допустим, по птице и по свинине: Бахрейн, Казахстан, Гонконг, Италия, Сербия; по говядине: Арабские Эмираты, Вьетнам. Переговоры активно ведутся, и практически эти рынки, скорее всего, в 2017 году у нас откроются: это Китай, Индонезия, Иран, Сингапур, Япония, Саудовская Аравия, Нигерия. Вы знаете, что сейчас Шувалов Игорь Иванович находится в Сингапуре, и там мы действительно близки к решению вопроса через Сингапур выходить на другие рынки, в том числе азиатские. Так устроен мир и рынок продаж.
Мы вообще ставим задачу к 2020 году, то есть через пять лет, объём экспорта мяса увеличить до миллиона тонн. А значит, мы сможем в целом и на зерне, и на мясопродуктах получить за счёт экспорта порядка 25 миллиардов долларов, то есть не 15, как сегодня, а уже на 10–11 и больше. Эти перспективы огромны.
Вы знаете, что благодаря национальным проектам и поддержке мы практически по свинине, мясу птицы уже нарастили и снимаем дефицит на 90 процентов. Но раздаются разные голоса: «Хватит, давайте остановимся и перейдём на другие приоритеты в области сельского хозяйства».
Хочу привести пример. Допустим, поголовье в Германии – более 40 миллионов свиней (у нас – 25), то есть половина поголовья сразу выращивается, производится на экспорт заранее – они завозят в страну валюту: это у них как нефть, газ и так далее. Дания: 5 миллионов населения – 20 миллионов поголовье (у нас – 25 миллионов), потому что 90 процентов на экспорт. Это приток валюты, это развитие. И поэтому нам ни в коем случае нельзя останавливаться. Мы должны также поддерживать и свиноводство, увеличивать и до 50 миллионов поголовье. Мы научились на конвейере, как строить свои свинокомплексы, птицекомлексы.
Мы сейчас на совещании у Дмитрия Анатольевича с Денисом Валентиновичем говорили о том, что нам нужно уже производить своё оборудование. Хочу проинформировать вас, что свинокомплекс практически на 80 процентов состоит из импортных деталей, материалов: оборудование, насосы, всевозможные прокладки, резиновые какие–то вещи и так далее. То есть это всё огромный потенциал для промышленности, который можно делать через дорогу, в соседнем городе производить. Дальше молокозаводы, пивзаводы, мясокомбинаты, крупозаводы, винзаводы – это всё оборудование импортное. Поэтому, конечно, огромный потенциал.
Я хочу ещё раз напомнить, мы в Твери с Вами проводили совещание о том, что мешает развивать особенно отрасли свиноводства, вообще мясную отрасль в нашей стране и снижает инвестиционный климат – конечно, очень плохая ветеринарная обстановка. Болезни по ЧС мы практически в десятки раз увеличили по всей стране. И конечно, главная беда – это наши дикие кабаны.
Кстати, надо отдать должное, мы с Минприроды уже нашли консенсус и работаем в этом направлении, но, безусловно, развитие, огромное развитие личных подсобных хозяйств, которое идёт без учёта, без ветеринарного должного контроля, и так далее. Поэтому хочу сказать, что если мы этого не сделаем, то никакой рынок нас не пустит.
Китай говорит: «Пока не победите африканскую чуму, мы не хотим с вами работать», – и так далее, а это огромный рынок, все бьются за него, весь мир работает с Китаем и на этом зарабатывают. Хочу проинформировать всех присутствующих, что мы начинаем огромную работу по Вашему поручению; меры будут, может быть, не очень популярны, но мы должны навести здесь порядок.
В.Путин: Нет, Вы меня здесь не особенно пристёгивайте к отстрелу кабанов, давайте сами занимайтесь и согласовывайте с Минприроды. А бороться с ЧС нужно, это, безусловно.
Пожалуйста.
А.Дворкович: При моей безграничной любви к сельскому хозяйству я всё–таки переменю тему. Буквально несколько нюансов.
Первое. Говорится о поддержке прежде всего несырьевого экспорта, но иногда, с нашей точки зрения и с точки зрения многих коллег, под сырьё завозится очень много разных реально несырьевых товаров. Говорилось о сельском хозяйстве, зерно считается у нас сырьевым экспортом. Боюсь, что и мясо потом будет считаться сырьевым экспортом. Удобрения у нас считаются сырьевым экспортом, хотя это высокотехнологичный продукт. Трубы даже у нас, как выяснилось совсем недавно, считаются сырьевым товаром, сырьевым экспортом, а это влияет сразу на систему мер поддержки, на доступ к инструментам поддержки, на порядок возмещения НДС и на многие другие вопросы. Нам в ближайшие недели предстоит ещё окончательно разобраться, что мы будем подводить под понятие сырьевого экспорта, а что будет всё–таки считаться несырьевым экспортом, который будет получать весь набор механизмов поддержки.
Вторая тема – это работа за рубежом. Кроме работы торгпредств, локализации отдельных производств необходимо понимать, что современные товары и технологии требуют сети обслуживания. Это очень важный вопрос и довольно затратный вопрос. Это то, где мы тоже проигрываем, причём по высокотехнологичной продукции. На это нужно обратить отдельное внимание. Сегодня специальным образом это не было акцентировано, поэтому мне кажется, это важно.
Третье – это система регулирования. У нас кроме создания собственных производств, которые имеют экспортный потенциал, есть хорошие возможности для локализации тех производств, которые сегодня находятся за рубежом, потому что есть определённые преимущества в размещении таких производств. Прежде всего это, конечно, с точки зрения цен и качества тоже. Но зачастую мы предъявляем к этим производствам более высокие требования, чем требуют другие страны, в которые мы собираемся экспортировать. Это иногда нерационально абсолютно. Нужно, наоборот, требования облегчать, делать их такими, чтобы они были минимально необходимыми для увеличения экспортных поставок.
И, наконец, четвёртое – где размещать ориентированные на экспорт производства. При всём желании поддержать уже существующие предприятия, расположенные по разным причинам в разных регионах страны (так была устроена система размещения производства ещё в Советском Союзе), сегодня выгодно размещать производство, которое изначально ориентировано на экспорт, в портах или очень близко к ним.
Необходимо ориентировать нашу поддержку на размещение новых производств рядом с портовой инфраструктурой, чтобы не тратить лишние деньги, в том числе из бюджета, на поддержку экспорта, чтобы доставить железной дорогой или автомобильным транспортом, – именно около портов. Это не значит, что других не надо совсем поддерживать, но рационально нужно подходить.
В.Путин: Терминалы могут быть и рядом с железной дорогой, там, где железная дорога способствует вывозу на экспорт.
А.Дворкович: Хотя бы относительно близко. Потому что сегодня, когда мы везём четыре тысячи километров и более из центральных районов страны и в Европу, и на Дальний Восток, получается, что и железная дорога с этим не всегда справляется. Мы должны тогда поддерживать «РЖД», чтобы они могли окупать свои затраты, и предприятия несут излишние издержки. Нужно везде, выбирая новые проекты для поддержки, учитывать, изначально это ориентировано на экспорт или всё–таки есть потенциал внутреннего рынка, который позволит окупить эти затраты.
Спасибо.
В.Путин: Пожалуйста, Репик Алексей Евгеньевич.
А.Репик: Уважаемый Владимир Владимирович!
«Деловая Россия» включилась в работу по стратегическому направлению активно. Здесь есть один системный момент. Я вообще считаю, что формирование общественно-деловых советов в приоритетных направлениях – это очень хороший инструмент получения обратной связи делового сообщества.
Хотел бы обратить внимание на один момент. Крайне важно, что в целом ряде отраслей, особенно высококонкурентных, на первый план выходит не финансовая поддержка экспортёров, а системные меры по улучшению деловой среды, в том числе регуляторной, для экспортёров. Мы вообще уже хорошо научились работать с изменениями в части создания благоприятной деловой среды. Наши настоящие, можно сказать – чемпионские рывки в Doing Business тому подтверждение.
Рейтинг Всемирного банка не вполне отражает потребности экспортёров, поэтому я считаю очень важным то, что Российский экспортный центр вместе с АСИ, «Деловой Россией» и Федеральной таможенной службой сейчас подписал соглашение, где мы проводим скрининг операционной деятельности несырьевых экспортёров: выявляются проблемные точки, подводные камни.
Мне кажется вполне достижимым, чтобы на основе этого анализа решение российской компании экспортировать стало рутинным, простым, не требовало сложных экспортных компетенций, о которых говорил Пётр Михайлович, и, вообще, чтобы решение о выходе на новый рынок было не сложнее, чем принять решение о работе в новой области или в соседнем городе. И тогда мы установим лучшую мировую практику; я считаю, у нас есть для этого все основания.
В.Путин: Спасибо.
Да, пожалуйста.
А.Шохин: Уважаемый Владимир Владимирович!
Мы очень плотно работаем с Российским экспортным центром, Минпромторгом, Минэкономразвития, и должен поблагодарить эти ведомства, и Петра Михайловича лично за то, что мы действительно совместно вырабатываем многие схемы и технологии. В частности, дальше готовы над механизмом «одного окна» работать и рядом других проектов. Хотел бы обратить внимание на несколько моментов.
Очень хорошо то, что в понятие несырьевого экспорта включены услуги, и, действительно, экспорт образовательных услуг, услуг здравоохранения, ИТ-услуг – это, на мой взгляд, важное и очень перспективное направление; здесь, безусловно, нужно оценить наши возможности. Но по некоторым направлениям, например электронная коммерция, о которой много говорилось, мне кажется, недостаточно амбициозные задачи стоят. Предполагается, по–моему, 700 с небольшим миллионов рублей потратить за три года, и где–то, по–моему, два миллиона трансакций через три года по этой технологии осуществить.
Напомню, Alibaba (известный Вам, Владимир Владимирович, Джек Ма, неоднократно встречался с Вами) – они 140 тысяч транзакций в минуту проводят. Просто надо посмотреть, надо ли нам свои платформы только использовать либо выходить и на международные электронные торговые площадки. Но, безусловно, здесь перспективы могут быть намного большими.
Хотел бы, Владимир Владимирович, пользуясь случаем, поддержать позицию Аркадия Владимировича Дворковича. Действительно, наши члены РСПП многие ставят вопрос о расширении понятия несырьевого экспорта. Аркадий Владимирович перечислил те виды продукции, которые являются высокотехнологичными, но по традиции относятся к сырьевому экспорту. Было бы правильно посмотреть на этот перечень более внимательно, думаю, это было бы в интересах не только статистики, мы бы улучшили действительно быстро показатель, но по существу это помогло бы высокотехнологичные производства поддерживать. Спасибо.
В.Путин: Спасибо.
Во–первых, у Александра Николаевича сегодня день рождения – 65 лет, и мы все Вас сердечно поздравляем. (Аплодисменты.) Спасибо большое.
Во–вторых, что касается электронной торговли, мы занимаемся этим обсуждением сейчас достаточно плотно. Есть поручения соответствующим ведомствам, Правительству в целом. Но нам нужно выстроить работу таким образом, чтобы вот эти электронные системы и площадки не нас использовали, а чтобы мы их использовали, или во всяком случае выстроили такую национальную систему, которая могла бы иметь перспективы развития и сотрудничала, конечно, с коллегами, но в тех рамках, объёмах и в том качестве, которое прежде всего отвечает интересам российского потребителя и развития российской промышленности. Но мы обязательно будем и советоваться с вами, с другими объединениями для того, чтобы принять наиболее оптимальные решения.
Александр Сергеевич Калинин, пожалуйста.
А.Калинин: Спасибо.
Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!
«ОПОРА России» вместе с Общественной палатой и с Агентством стратегических инициатив проводит национальный конкурс «Бизнес-успех». И мы фиксируем, что последние два года интерес к экспорту со стороны микробизнеса чрезвычайно растёт. И мы, конечно, благодаря принятию этой программы должны не разочаровать людей как минимум, а как максимум сделать из них успешных бизнесменов.
Во–первых, если говорить о программе, мы считаем, что очень правильно, что появляется новая форма поддержки – это компенсация для бизнес-ассоциаций, бизнес-миссий, потому что рынки находятся достаточно далеко. И то, что сегодня, допустим, по отдельным программам 120 миллионов, а эта программа предусматривает 2,7 миллиарда, – это, конечно, позволит нам более качественно вывозить людей за рубеж и более качественно готовить вот такие бизнес-миссии, тем более там предусмотрено 50 на 50 или около того. То есть мы и свои деньги вкладываем, но получаем по факту компенсацию со стороны государства; это, конечно, мы приветствуем.
Следующий момент, что хотелось бы отметить, – хотелось бы, чтобы была синхронизированная работа этой программы и обустройство пунктов пропусков Росграницей. Вы провели соответствующее совещание в Оренбурге, и там, естественно, вот этот конкретный пункт пропуска будет обустроен. Но ведь таких пунктов пропусков достаточно много, и они прежде всего для микробизнеса. И, если сделать их ревизию и синхронизировать эти программы, это, конечно, логистику резко улучшит, особенно для микробизнеса.
Следующий момент. Здесь говорилось…
В.Путин: Давайте это отметим в сегодняшнем решении обязательно, это правильно абсолютно.
А.Калинин: Благодарю.
И ещё один момент, ведь туризм – это тоже экспорт. У нас помимо Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи есть ещё ряд регионов, которые мы включили в программу по туризму, но там туристический сезон короткий, – к примеру, Хибины или «Моя родина – Южный Урал».
В этот период, если бы была дополнительная компенсация перелётов именно в пределах туристического сезона, то многих наших иностранных коллег, может быть, заинтересовал не только отдых в Москве или Петербурге, они бы с удовольствием полетели ещё в ряд чудесных регионов нашей страны. Но когда цены на внутренние перевозки очень высокие, турист, естественно, ценник считает и отказывается от полётов внутри страны. Тем самым мы дополнительные деньги и в регионы не привлекаем.
В.Путин: Слетайте сначала в Минфин, обсудите этот вопрос по субсидиям.
А.Калинин: И ещё один момент, он касается Дальнего Востока. Вообще вопрос экспорта – это вопрос всего будущего этого региона, пять миллионов людей должны экспортировать. Необходимо начать проработку этой программы на принципах государственно-частного партнёрства, создания логистического центра для продуктов питания.
В одиночку бизнесу это не сделать, а если на принципах ГЧП как минимум в 2017 году спроектировать это, то это бы, конечно, сподвигло очень многих людей, кто занимается культурами, аквакультурами и так далее. Они уже понимают, куда продукцию сначала привезут, а потом будут экспортировать в Китай, в Корею и в другие государства.
В.Путин: Очень хорошая идея, кстати сказать. Нам надо отметить обязательно.
Смотрите, мы сейчас отмечаем, можно сказать, уже с гордостью и с благодарностью селянам за их работу, отмечаем растущий экспорт сельхозпродукции. Он существенный. Но он на чём основан? Он основан на росте производства. Совсем недавно, ещё несколько лет назад, когда у нас урожай был 65, 70, 71 миллион тонн, мы говорили: ой как хорошо, мы даже что–то будем закладывать в резервы. Потом у нас 95, 100, в этом году 117 будет. У нас появился самый большой в мире экспортный потенциал – 25 миллионов тонн, потому что растёт производство.
Мы сегодня с вами обсуждаем вопросы поддержки, по сути, речь идёт о высокотехнологичном экспорте, промышленном экспорте. Но для того, чтобы у нас был экспортный потенциал такой продукции, она должна производиться в необходимых объёмах для внутреннего потребления и для экспорта. Мы совсем недавно встречались с Алексеем Леонидовичем. Он поделился со мной наблюдениями за последние несколько лет.
У нас объём производства высокотехнологичной продукции растёт очень медленно, и одна из причин заключается в том, что очень много до сих пор бюрократических барьеров на пути производства такой продукции. Экономика не восприимчива, к сожалению, до сих пор к высоким технологиям.
Алексей Леонидович, несколько слов скажите, пожалуйста.
А.Кудрин: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!
Мы сегодня рассматриваем очень важные проекты, я поддерживаю эти проекты. Проект по поддержке экспорта считаю одним из ключевых. И если говорить о результатах, то они здесь скорее должны рассматриваться как пилотные проекты. Потенциал проектов, которые сегодня перечисляются, – к 2025 году нарастить примерно на 20 миллиардов долларов ту продукцию, о которой мы сейчас говорим: как промышленную по четырём секторам, так и сельскохозяйственную.
Но, чтобы нам развиваться устойчиво и поднять экономический рост до 4 процентов в год, даже если сделать постепенно в течение пяти-шести лет, то нам нужно, чтобы несырьевой, неэнергетический экспорт рос темпами примерно 6,8 процента в год на протяжении длительного периода. В результате нам нужно примерно за 10 лет удвоить объём неэнергетического, несырьевого экспорта примерно со 116 миллиардов долларов до 230–ти.
При этом за 20 лет нам нужно его довести до примерно 400–450 миллиардов долларов. Только тогда в совокупности всех факторов мы будем иметь достаточно устойчивый экономический рост. То есть большая часть задачи по экспорту лежит вне перечисленных секторов, а за счёт других видов товаров и услуг, которые тоже будут развиваться в силу того, что в этом проекте есть и общие регуляторные меры, как раз уменьшение вот этих барьеров по экспорту – доступ к финансам, кредитная поддержка, гарантийная. В этом смысле этот проект предусматривает эти меры, но мы должны понимать, что большая часть экспорта будет не в перечисленных секторах, а в других секторах. Мы для них должны дать этот толчок.
Последние семь лет, к сожалению, мы утрачивали позиции в несырьевом, неэнергетическом экспорте. Мы достигли некоторого пика в 2012–2013 годах, и затем в силу ряда обстоятельств последних мы потеряли примерно 30 миллиардов долларов этого экспорта. А сейчас мы должны говорить о том, чтобы существенно идти быстрее и накапливать эти возможности.
Должен сказать, что хороший опыт был. У нас в начале нулевых неэнергетический, несырьевой рост – под 20 процентов в год. У нас тогда шёл и энергетический, сырьевой, а он, оказывается, в силу ряда обстоятельств и модернизации, создания лучших условий тянул за собой и остальную часть экономики.
В этом смысле такой опыт есть. Вопрос, чтобы мы сделали этот тренд наращивания достаточно стабильным. Высокотехнологичная продукция в составе всей нашей продукции сейчас составляет всего 6 процентов экспорта продукции, всего 19 миллиардов долларов на прошлый год. Это то, что мы точно можем относить к высокотехнологичной продукции. У нас есть несырьевая продукция низкого, среднего и высокого передела, она больше составляет, конечно, но высокотехнологичная только пока около 19 миллиардов долларов. Это как раз тот сектор, который будет наиболее конкурентоспособным, который мы должны существенно расширить в ближайшие годы. В этом смысле здесь задача у нас очень напряжённая именно в создании условий для этого сектора продукции.
В.Путин: Спасибо.
Давайте мы всё это обобщим сегодня. Попрошу Андрея Рэмовича оформить это соответствующим образом, и будем двигаться дальше. Чем быстрее мы будем реализовывать те планы, о которых мы сегодня говорили, тем больших успехов добьёмся в решении одной из главных задач, которая стоит перед нами, – это диверсификация российской экономики, изменение её структуры.
Давайте ко второму вопросу перейдём. Пожалуйста, Сергей Ефимович Донской.
С.Донской: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!
Как уже говорилось, одной из самых наболевших экологических проблем в России является рост образования отходов. О цифрах тоже было уже сказано, поэтому я перейду сразу к направлениям по решению этой проблемы.
Прежде всего благодаря Вашей поддержке, Владимир Владимирович, и многих коллег, которые здесь присутствуют, в 2014 году принят 458-й закон, который установил новую систему регулирования в сфере обращения с отходами, а именно формирование в каждом регионе прозрачного механизма сбора, транспортировки и размещения твёрдых коммунальных отходов. Кроме того, этот закон установил обязанность производителей и импортёров товаров самостоятельно утилизировать товары после утраты ими потребительских свойств или платить за их утилизацию государству.
Данный закон в части твёрдых коммунальных отходов должен был заработать в полной мере с 1 января 2017 года, но, к сожалению, сегодня необходимо дополнительное время для подготовки региона к переходу на новую систему регулирования, а самое главное – необходимо время для мониторинга обоснованности тарифа для населения на вывоз мусора. Учитывая это, Правительством было принято решение о продлении переходного периода до 1 января 2019 года.
Вместе с тем считаем, что эта дата должна быть финальной, поэтому в течение 2017–2018 годов законом должна быть установлена дорожная карта, обеспечивающая к 1 января 2019 года переход всех регионов на новую систему. Те же регионы, которые готовы перейти на новую систему раньше, смогут это сделать уже в 2017 году.
Сейчас мы формируем перечень таких пилотных регионов, где при поддержке Правительства будет осуществлён переход на новую систему сбора, транспортировки, размещения и утилизации мусора.
Кроме того, у нас уже заработала норма закона об ответственности производителей и импортёров за утилизацию товаров после утраты ими потребительских свойств. Пока только по восьми группам товаров установили такую обязанность.
В 2017 году мы планируем собрать более шести миллиардов рублей в бюджет за счёт экологического сбора. Эти средства будут направлены в первую очередь на субсидирование программ в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами по тем регионам, которые перешли на новую систему. Мы также планируем постепенно увеличить группы товаров, подлежащих утилизации, то есть перейти от восьми групп к большему количеству, и также повысить нормативы их утилизации.
В результате в будущем за счёт экологического сбора мы получим значительные средства на субсидирование региональных программ в сфере обращения с ТКО. Также необходимо консолидировать усилия органов экологического надзора, регионов, органов местного самоуправления, граждан и общественных организаций на борьбу с незаконными свалками. Для этого мы в 2017 году планируем ввести в эксплуатацию информационную систему народного контроля за несанкционированными свалками и действиями чиновников всех уровней по их ликвидации.
Важно, что каждое поступившее в систему и подтверждённое сообщение должно завершаться конкретными действиями. Эта система в качестве пилота уже заработает на Байкале и в ряде других регионов. И очевидно, что помимо образующихся нелегальных свалок есть и накопившиеся проблемы: это бесхозные бывшие промышленные промплощадки с опасными отходами, а также полигоны, свалки в границах населённых пунктов, которые оказывают негативное влияние на жизнь более 17 миллионов граждан нашей страны.
На ближайшие 2017–2019 годы мы планируем осуществить работы по ликвидации более 20 объектов накопленного вреда окружающей среды в 20 пилотных регионах. Также мы планируем в течение 2017 года осуществить инвентаризацию и сформировать реестр таких объектов, разделить их по степени воздействия, чтобы начать работать с наиболее опасными. Реализация предполагаемого комплекса мероприятий улучшит экологические условия для проживания 27 миллионов человек и позволит восстановить и ввести в хозяйственный оборот более 1,5 тысячи гектар загрязнённых земель.
Вторая задача, на которой я тоже хочу остановиться отдельно, – это сохранение нетронутых природных территорий.
В.Путин: Извините, в сельхозоборот вернуть?
С.Донской: В хозяйственный оборот.
В.Путин: В хозяйственный оборот – сколько?
С.Донской: Более 1,5 тысячи гектаров загрязнённых земель.
Вторая задача, на которой хочу остановиться отдельно, – это сохранение нетронутых природных территорий, редких видов животных, обитающих на них. Считаем, здесь важно создать возможности для граждан видеть то, что мы сохраняем.
В.Путин: Кабаны у нас скоро будут редкими видами животных.
С.Донской: Мы договорились уже с Минсельхозом, как будем работать в этом направлении.
В.Путин: Как, расскажите нам.
С.Донской: Когда мы у Вас собирались, договорились, что будет определён минимальный уровень количества кабанов по территориям, где находится как раз выпас свиней, где разведение свиней будет. Потом зоны, по которым мы граничим со странами, где достаточно высокая степень АЧС, – мы там устанавливаем карантинную зону, где вообще кабанов не будет. И, в целом, конечно, упор, как уже было сказано, будет делаться на ветеринарные направления.
В.Путин: Хорошо.
С.Донской: В современном мире национальный парк активно вовлекается в сферу развития экологического туризма. Наши нацпарки и заповедники расположены на площади более 62 миллионов гектаров, потенциально способны принять более 20 миллионов человек в год, однако сейчас существующая инфраструктура позволяет привлечь около двух миллионов человек, и при этом только на 12 процентах таких территорий. В потенциале это поле для развития малого, среднего бизнеса, возможность привлечения частных инвестиций и новые рабочие места – всё это вместе работает на формирование широкой поддержки в обществе идей сохранения природы.
Развитие познавательного туризма на особо охраняемых природных территориях потребует прежде всего создания инфраструктуры. Речь идёт об экологических тропах, визит-центрах и кордонах. Мы понимаем, что средств государства здесь пока недостаточно, поэтому в течение 2017 года предлагаем разработать и внедрить механизм привлечения частных средств, в том числе на основе концессионных соглашений и иных механизмов государственно-частного партнёрства.
Внедрение таких механизмов позволит нам в 2018 году реализовать пилотные проекты на особо охраняемых природных территориях: на Байкальской природной территории, на Горном Алтае и на Кавказе. В результате только на этих территориях мы увеличим количество граждан, которые смогут посетить нацпарки и заповедники, до 5 миллионов жителей нашей страны.
Развитие сферы познавательного туризма на ООПТ также даст мультипликативный эффект для развития туризма в соответствующих регионах. Так, реализация пилотных проектов обеспечит создание дополнительных рабочих мест в указанной сфере. Например, на Байкальской природной территории за четыре года будут привлечены к работе в указанной сфере более 37 тысяч человек.
Не могу не остановиться на ещё одной экологической проблеме, о которой тоже уже говорили, – это состояние наших водных объектов. На сегодняшний день 90 процентов стоков, попадающих в водоёмы, не проходит достаточной очистки. В результате в течение многих лет загрязнение водных объектов на территории России, в том числе Волги, Дона, Урала, остаётся стабильно высоким. При этом относительно чистые реки остались только там, где проживает меньшая часть населения страны, – это в Сибири и на Дальнем Востоке.
Для решения этой проблемы необходимо строить и модернизировать очистные сооружения, добиться кратного снижения поступления в водные объекты загрязнений, обеспечить оздоровление водоёмов и адекватную подготовку питьевой воды. Для этого необходим значительный объём государственного финансирования. Считаем, что его источник можно создать за счёт аккумуляции в бюджете в специальном фонде на указанные цели средств в объёме, эквивалентном платежам за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу поручить нам совместно с Минфином, Минэкономразвития проработать возможное создание такого финансового института.
В заключение хочу остановиться на проблеме, о которой тоже говорили и которая вызывает на протяжении многих лет значительный общественный резонанс, – это проблема бездомных животных. Здесь общественный резонанс приобретают случаи жестокого обращения с бездомными животными. Растёт недовольство населения в связи с использованием негуманных способов регулирования их численности. Основная причина сложившейся ситуации – это отсутствие в России единой государственной политики и нормативно-правовой базы в этой сфере.
Ещё в марте 2011 года в первом чтении был принят соответствующий проект федерального закона об ответственном обращении с животными. Владимир Владимирович, считаем, что необходимо доработать его и принять, а также обеспечить разработку соответствующих нормативно-правовых актов и стандартов по содержанию и регулированию численности животных.
Спасибо за внимание.
В.Путин: Пожалуйста, кто–то хочет высказаться по этому вопросу? Пожалуйста, Сергей Борисович!
С.Иванов: Уважаемый Владимир Владимирович!
В дополнение к тому, что Сергей Ефимович сейчас говорил, хочу только отметить, что совсем недавно на Вашей встрече с Общероссийским народным фронтом тема экологии очень активно и с болью, я бы сказал, поднималась многими выступающими, приводились ужасные цифры по количеству свалок, накопленных отходов.
Хотел бы напомнить, что, по данным «фронтовиков», в России на сегодняшний день из только посчитанных – 20 тысяч несанкционированных свалок (это из выявленных), что в четыре раза больше, чем сертифицированных полигонов.
Мне совсем недавно пришлось столкнуться с одной из таких свалок и проводить несколько совещаний. Вы знаете, что мы строим сейчас третью взлётно-посадочную полосу в аэропорту Шереметьево. И прямо в створе строительства этой полосы мы натолкнулись на крупную свалку. Сейчас там, конечно, уже давно мусор не выбрасывают, но это накопленный экологический ущерб. И, чтобы убрать только эту одну свалку, требуются средства в объёме 1 миллиард 300 миллионов рублей.
Мы нашли способ, что называется, вскладчину между правительством Московской области, потому что это их земля, Минтрансом и Минприроды – эти деньги нашли, не залезая дополнительно в бюджет. На этом примере я хочу показать, сколько стоит ликвидация только одной крупной несанкционированной свалки.
И Вы вспоминали на встрече с «фронтовиками», как Вам лично приходилось (я тоже помню этот момент) не допускать несанкционированный сброс мусора рядом с аэропортом – какая угроза от этого, я думаю, всем понятно. Кстати, у нас и в Петербурге в Пулково тоже такая угроза остаётся, и в Шереметьево сейчас ликвидируем. Это уже вопрос безопасности.
Вторая тема, связанная с мусором (считаю, одна из самых острых экологических проблем на сегодняшний день), – это строительство новых современных мусороперерабатывающих заводов по самым передовым или наилучшим технологиям, существующим в мире. Насколько я знаю, Правительством только что принято решение о начале строительства в Год экологии, в 2017 году, пяти таких заводов (этим будет заниматься компания «Ростехнологии» на конституционной основе): четыре – в Подмосковье, где самая острая ситуация с мусором, самая острая в стране, потому что одна Москва в год генерируют 20 миллионов тонн твёрдых коммунальных отходов, и один завод мы будем строить в Татарстане.
И третий момент, который хотел бы отметить. Ничего нельзя сделать без привлечения общественности и неравнодушных граждан, многие из которых высказывают пожелания выйти и благоустроить свой двор, свою улицу, в селе навести порядок. Мусора у нас хватает везде, если честно говорить.
Недавно встречался с Общероссийским движением школьников. Они создали экологически ударное, я бы сказал, движение, сделали «Зелёный патруль», который будет следить за лесовосстановлением, особенно за городскими лесами, которые, помните, мы говорили, оказались вне каких–либо законодательных норм: их можно безнаказанно уничтожать под строительство, как правило, крупных супермаркетов, торговых центров в крупных городах и так далее. Их защищать будем в том числе с помощью школьников, которые готовы этим заниматься и восстановлением леса, посадками кустиков, деревьев и так далее.
По сточным водам хочу только одно сказать. Мы на следующей неделе проводим уже второй оргкомитет Года экологии. Первой темой, естественно, мы выносим мусор, а второй – состояние сточных вод. Помимо того, что сказал Сергей Ефимович, огромный урон сейчас состоянию воды наносят моющие и чистящие средства бытовой химии, которые широко распространяются. Ничего плохого, конечно, в этом нет.
Но дело в том, что продаваемые в России чистящие и моющие средства содержат фосфаты, а фосфаты очень плохо влияют на состояние водных ресурсов, потому что очистка от фосфатов даже в тех очистных сооружениях, которые у нас есть, не производится.
При этом в мире, в развитых странах чистящие и моющие средства уже давно производятся без фосфатов. Это можно сделать, мы об этом будем говорить, потому что это один из ключевых моментов состояния воды.
В.Путин: Спасибо.
Пожалуйста, теперь Силуанов Антон Германович – о финансовом обеспечении приоритетных проектов.
А.Силуанов: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!
Бюджетные ассигнования на следующий год формировались с учётом паспортов приоритетных проектов. Хочу сказать, что в бюджете на 2017–2019 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию десяти приоритетных проектов. Ко второму чтению сейчас подготовлены поправки по перераспределению части зарезервированных в бюджете средств в объёме 104 миллиарда рублей на реализацию приоритетных проектов, и общий объём ассигнований, который будет предусмотрен в 2017 году на реализацию этих проектов, составит 178,8 миллиарда рублей.
В последующие годы объём финансирования будет определяться с учётом паспортов утверждённых приоритетных проектов, хода реализации этих проектов. Необходимые ресурсы в бюджете 2018–2019 годов зарезервированы. Поэтому общий объём финансового обеспечения в 2017 году уже будет непосредственно определён по каждому приоритетному проекту, а в 2018–2019-м будем определяться в зависимости от хода их реализации.
В.Путин: Есть ли какие–то вопросы к Антону Германовичу, нет? Всё?
Спасибо большое. Мы продолжим работу с учётом высказанных сегодня замечаний и предложений. Благодарю вас.

Бахрейн удивит российских туристов
Королевство Бахрейн - самое маленькое арабское государство, расположенное на одноименном архипелаге и еще 33 плоских островах Арабского залива (в России его принято называть Персидским). Страна находится на перекрестке торговых путей, сохраняет свою древнюю историю и культуру и стремительно развивается, превращаясь в важный финансовый и деловой центр всего региона.
О сферах, сближающих наши государства, первый заместитель главного редактора «Мира новостей» Андрей Авдонин побеседовал с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Бахрейн в России Ахмадом аль-Саати.
- Наши читатели пока немного знают о Королевстве Бахрейн. Не приоткроете для них наиболее интересные факты о вашей стране, уважаемый Ахмад аль-Саати?
- История Королевства Бахрейн насчитывает более 7 тыс. лет. Тогда это была цивилизация Дильмун, которая в шумерской мифологии считалась страной богов, была мощной торговой империей и имела тесные связи с цивилизацией ассирийцев.
В современной истории Бахрейн долгое время находился под протекторатом Британии, которая использовала остров как свой форпост. Ведя колониальную политику, Британия вместе с тем помогала стране развиваться. Благодаря своему стратегическому положению остров стал основным торгово-транзитным центром в заливе. С давних пор Бахрейн является крупным центром ловли морского жемчуга. Сейчас масштабы его добычи не так велики, как раньше, но знаменитый бахрейнский жемчуг и сегодня можно купить на специализированных фермах или аукционах.
В 1932 году на архипелаге забил первый в заливе нефтяной фонтан и был построен нефтеперерабатывающий завод.
Основные отрасли, которые сегодня активно развиваются, - нефтяная промышленность, производство алюминия, торговля и туризм. Мы также добились больших успехов в образовательной сфере - среди стран региона лидируем в этой области.
Если говорить о политической жизни, то среди стран Арабского залива именно в нашей стране в 1928 году состоялись первые муниципальные выборы. Когда Его Величество Хамад ибн Иса Аль Халифа вступил на престол в 1999 году, став высшей нашей властью, он сразу запустил проект политических реформ, поэтому у нас есть парламент, свободная пресса, открытое общество и некоммерческие организации.
- Бахрейн - это еще и финансовый центр Ближнего Востока?
- У нас действует более 600 банков разных стран. Это стало возможным с принятием офшорного законодательства, не предполагающего налоги на доходы юридических и физических лиц и неограниченный вывоз прибыли и капитала. Что немаловажно, у нас развит рынок исламского банкинга.
- Чем он отличается от банков в классическом понимании?
- Многие думают, что исламский банк служит связующим звеном только между предпринимателями из исламских стран. Это не так. Ряд американских, европейских и китайских банков открывают филиалы, работа которых строится на принципах исламского банка. Его цель - финансирование проектов, которые могут быть осуществлены при поддержке исламских финансов. Но финансируются любые виды деятельности, кроме запрещенных исламской религией (экспорт оружия, торговля наркотиками и пр.).
- Вы сказали, у вас выборные органы власти. Такой демократический подход дал импульс к успешному развитию страны?
- Любое политическое решение не может находиться в руках только главы государства. Все решения в обязательном порядке должны пройти через наш парламент, избираемый народом. Парламент, в свою очередь, издает законы, помогающие решать стране проблемы и исправлять недочеты.
- Женщины принимают участие в политической жизни?
- Его Величество король Бахрейна считает, что женщины должны занимать немаловажное место в жизни страны, и помогает их продвижению на руководящие должности. У нас есть женщины-депутаты, министры, послы и судьи. Бахрейн не создает преград ни для кого. Под эгидой короля осуществляется политика свободы вероисповедания. Вместе с нами в мире и согласии живут христиане, евреи, буддисты, бехаисты, действует 14 церквей различных религий. Мы гордимся тем, что являемся образцом открытого общества в арабском мире.
- Это еще отличный фундамент и для развития туризма?
- Ежегодно мы принимаем 10 млн туристов. Пока это в основном приезжие из стран - членов Совета сотрудничества стран Арабского залива, но мы активно работаем над тем, чтобы привлечь к нам и россиян. Многим из вас представляется, что расстояние между Россией и Бахрейном большое, но авиакомпания Gulf air уже делает четыре прямых перелета в неделю, который занимает всего 4,5 часа. Если не рассматривать жаркие летние месяцы, в остальное время года наш климат для туристов очень комфортен. Россиянам хорошо известен отдых в Эмиратах, но у нас примерно те же услуги, которые предлагаются гостям на Аравийском полуострове, обойдутся в два раза дешевле.
- Значит, вы можете составить конкуренцию Египту?
- Не исключаю. Сейчас мы работаем с российскими бизнесменами и туроператорами над организацией чартерных рейсов в Бахрейн. Надеюсь, уже зимой 2017 года турпоток из вашей страны в нашу оживится. Добавлю, что российские туристы могут получать двухнедельную визу в аэропорту.
- Такой шаг позволит пополнить вашу казну, которая наверняка похудела из-за снизившихся мировых цен на нефть...
- Не буду скрывать, 80% наших поступлений в бюджет раньше складывались из доходов от продажи нефти, но, как только цены на нее пошли вниз, мы стали использовать потенциал таких секторов, как торговля, туризм, сфера обслуживания, промышленность и экспорт продукции в другие страны залива. Сейчас доля нефти в доходах государства занимает лишь 40%.
- В чем вы видите перспективы сотрудничества наших стран?
- Отличительная черта отношений Бахрейна и России - хорошие отношения между королем Бахрейна Хамадом II и президентом Владимиром Путиным. Его Величество посетил вашу страну четыре раза за последние шесть лет. Во время официальных визитов было подписано множество соглашений по торгово-экономическому, научно-техническому, военно-техническому и культурному сотрудничеству. Была также организована и уже работает комиссия по созданию в Москве российско-бахрейнского банка. Мы надеемся извлечь пользу из российского опыта в добыче нефти и газа на территории Бахрейна и продолжить взаимодействие в развитии нашей алюминиевой промышленности. Отмечу также, что существует, я бы сказал, амбициозный проект по экспорту российского газа в Бахрейн и сбыту его другим странам залива.
- Но как ваш сосед и один из крупнейших добытчиков газа Катар посмотрит на это?
- Здесь нет противоречий. Приоритет мы отдаем Катару, но у него нет такого количества излишков газа, которые он мог бы поставлять нам в тех объемах, в которых мы нуждаемся.
- Не могу не затронуть тему кризиса на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Как Бахрейн участвует в антитеррористической деятельности?
- Терроризм не ограничивается только Сирией или Ираком, где он наиболее заметен сейчас. Бахрейн тоже сталкивается с терроризмом, который экспортируется к нам из других стран. Наша страна входит в международную коалицию, которая борется против «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ – ред.), а также в так называемую мусульманскую коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией. Мы согласны с определением терроризма, которого придерживается Россия и смысл которого заключается в том, что не бывает плохих или хороших террористов, и поддерживаем усилия президента Путина в борьбе с терроризмом.
- Наши страны разные, но нас объединяет бережное отношение к собственной культуре. Могут ли бахрейнцы и россияне в ближайшее время больше узнать о культуре друг друга?
- Существует ошибочная позиция, навязанная некоторыми западными странами, о том, что Россия - нестабильная и не приспособленная для туризма, неприветливая страна вечного холода. Многие россияне считают, что и у арабских стран есть только пустыни и верблюды. Оба этих мнения - большое заблуждение. И очень хорошо, что министры иностранных дел арабских стран и их российский коллега приняли решение открыть в России Центр арабской культуры. Он скоро начнет работу. А пока скажу о состоявшихся событиях.
Пару лет назад в Эрмитаже прошла большая выставка, посвященная Бахрейну. А в 2017 году мы готовы организовать в Санкт-Петербурге, а потом и в Москве выставку, посвященную древней культуре Дильмун, существовавшей на территории Бахрейна и насчитывающей тысячи лет.
С 24 по 28 ноября на нашем острове пройдут Дни России, в рамках которых запланировано немало культурных мероприятий. Верю, что большая культурная и туристическая программа, которую мы наметили вместе с российской стороной, сломает существующие стереотипы и у жителей Бахрейна в отношении России, и у россиян в отношении Бахрейна.

Вода и мир
Почему не нужно поворачивать сибирские реки, или что такое конкуренция за пресную воду
Анастасия Лихачева – кандидат политических наук, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Резюме: Обязательным условием эффективного развития водоемких производств в Сибири и на Дальнем Востоке является экспорт в несколько стран АТР – тогда можно говорить об использовании водных ресурсов как стратегического политического ресурса.
В начале мая министр сельского хозяйства Александр Ткачёв и советник президента по экономике Сергей Глазьев с разницей в неделю подняли вопрос об экспорте российской пресной воды. Министр – радикально – предложил экспортировать воду через Казахстан в Китай для развития Синцзяня – за счет излишков алтайских ГЭС. Сергей Глазьев подошел более рыночно – воду «добывать, очищать, готовить к потреблению и экспортировать». Ранее об использовании «водного золота» говорил Юрий Лужков, а в 2013 г. к идее вновь обратилось Минэкономразвития. Сегодня проект реанимировался в несколько ином обличии, но в старой сути – не прилагая никаких особых усилий, получать много денег, продавая сырье, которое нам практически ни во что не обходится.
Глобальная конкуренция за воду действительно нарастает, и страны, обладающие этим ресурсом, будут в выигрышном положении. Но необходимо принять во внимание, что водная проблема перешла из режима локальных кризисов в режим глобального стратегического вызова. И этот переход играет принципиальную роль в том, как разворачивается реальная конкуренция. Сегодня торговля «сырой» водой (по аналогии с нефтью), т.е. реализация проектов по повороту сибирских рек, водопроводу из Байкала в Китай и т.д. – это продажа без добавленной стоимости, с непредсказуемыми экологическими эффектами и потенциально высокой коррупционной составляющей ценнейшего стратегического ресурса, стоимость которого со временем будет только увеличиваться.
Адаптация к глобальному водному вызову: виртуальная вода и квазиколонизация
Долгосрочной проблемой международных отношений уже в ближайшем будущем станут ситуации, когда к изменению распределения воды в бассейне приводят не конкретные действия государств, расположенных выше по течению, а объективные плохо поддающиеся контролю процессы: рост населения, изменение его привычек потребления, урбанизация, рост водозабора в сельском хозяйстве. В подобных случаях у государств не останется выбора кроме коллективной адаптации, поскольку и военными действиями указанные тенденции переломить сложно.
Даже при отсутствии в будущем острых международных конфликтов за гидроресурсы прямые последствия водного дефицита окажут глубинное влияние на все сферы деятельности человека. Уже начавшиеся процессы затрагивают изменение структуры ведущих и развивающихся экономик, провоцируют масштабную миграцию в районы, менее подверженные водному дефициту – по оценкам директора Института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна, число «водных беженцев» может достигнуть 500 млн человек к 2030 г., т. е. всего через 15 лет.
На региональном уровне человечество уже заметно перекроило карту гидроресурсов: в мире действует более 3 тыс. водохранилищ и плотин, ирригационные каналы отводят воду на сотни километров от рек в степи и пустыни. Государства, расположенные ниже по течению, резко реагируют на изменение «верхними» стока в свою пользу. Египет неоднократно заявлял, что готов на любые меры, чтобы не допустить строительства плотины «Возрождение» в Эфиопии, Узбекистан допускает войну с Таджикистаном из-за Рогунской ГЭС, а Сирия вплоть до гражданской войны протестовала против каждой новой плотины на территории Восточной Анатолии в Турции. При этом даже на национальном уровне самих по себе манипуляций с «сырой» водой уже недостаточно для адаптации к глобальному водному вызову.
В отличие от перекрытия рек, что даже теоретически дает преимущества только ограниченному числу стран, эффективное использование пресной воды предоставляет широкие возможности для всего мира. Ресурсы для экстенсивного роста уже исчерпаны во многих государствах. Повсеместно за исключением Бразилии, России и Канады дефицит воды станет главным ресурсным ограничением развития, как экономического, так и социального. И возможностей для перелома тенденций, стимулирующих спрос на воду – демографического бума, перехода на белковое питание, урбанизацию – сегодня де-факто не существует. Речь может идти только об адаптации к процессам и попытке их смягчения. Поэтому единственный стратегический ответ на глобальный водный вызов и международную конкуренцию за воду – повышение эффективности водопользования за счет перераспределения водозабора и новых технологий водопользования. При этом ни первое, ни второе не требуют перераспределения воды между странами.
О физическом перемещении воды как таковой говорить можно только на региональном уровне и в несопоставимых объемах. Аналогия с нефтью имеет смысл разве что в вопросах способов транспортировки, поскольку объем экспортируемой нефти на порядки меньше объема воды, необходимой для производства товаров. В глобальном масштабе перераспределение водозабора – это главным образом перераспределение производства и сбыта не самой воды, а водоемких товаров: продовольствия, энергии, промышленных товаров, биотоплива. Академик Данилов-Данильян приводит очень наглядный пример: на выращивание зерна, импортируемого в страны Северной Африки и Ближнего Востока, уходит объем воды, равный ежегодному стоку Нила. То есть в регионе текут две реки: Нил реальный и виртуальный. Очевидно, что невозможно обеспечить подобные объемы продовольствия без международной торговли виртуальной водой и технологиями.
Виртуальная вода. Концепция «виртуальной воды», предложенная в начале 1990-х гг. Джоном Энтони Алланом, основана на статистике водопотребления, а именно того факта, что большая часть воды используется человеком не напрямую, а как производственный ресурс. Он определил ее какколичество воды, вложенное в производство продуктов питания или иной продукции. Согласно данной концепции, страны, ограниченные в гидроресурсах, могут и должны закупать водоемкую продукцию у стран, где относительная ценность воды ниже. Таким образом достигается наибольшая эффективность использования водных ресурсов.
В этой экономической формуле целый ряд государств уже нашли источник укрепления собственных международных позиций (так, Бразилия и Аргентина стали одними из ведущих поставщиков мяса в мире, выйдя на рынки Азии, Иордания почти полностью перешла на импорт водоемких злаков из США, значительно снизив уровень водного стресса в сельской местности), а развивающиеся азиатские гиганты адаптируют под нее основные направления государственной политики. Данная концепция не зафиксировала новую форму торговли водой как таковой, но оказала важнейшее влияние на политику гидропользования, обеспечив наглядные ответы на принципиальные вопросы: какова относительная ценность воды и как ее можно адекватно учесть в экономике и торговле. Экспортеры виртуальной воды (речь идет о чистом экспорте) – страны Северной Америки, а также Аргентина, Таиланд и Индия. Чистые импортеры: Япония, Южная Корея, Китай, Индонезия и Нидерланды.
Примечательно, что хотя Китай является одним из крупных экспортеров продовольствия, масштабы импорта, в первую очередь мясной продукции, настолько значительны, что количество импортируемой виртуальной воды превышает даже объемы экспорта. Совсем по другой причине в число импортеров попадают Нидерланды. Страна славится высокоэффективным сельским хозяйством и бережным отношением к каждому метру земли. Именно по этой причине она выращивает культуры с низкой добавленной стоимостью, предпочитая закупать в других странах корма для скота и специализироваться на животноводстве и цветоводстве. Таким образом, в количественном выражении Нидерланды действительно чистый импортер, однако в денежном выражении страна получает значительные доходы как экспортер продукции, в которой вода имеет максимальную добавленную стоимость.
Чтобы нагляднее представить себе выгоды от сознательной торговли виртуальной водой, приведем ряд показателей по разным странам на основе базы данных «Водный след» (Water footprint). Так, для производства 1 тонны соевых бобов потребуется 4124 м3 воды в Индии, 2030 – в Индонезии, 1076 – в Бразилии. При этом средний мировой уровень – 1789. Если мы возьмем производство мяса, водная составляющая отличается еще сильнее: на тонну говядины потребуется 11 681 м3 в Нидерландах, 21 028 м3 в России и 37 762 м3 – в Мексике. Среднемировой уровень – 15 497 м3.
Рис и пшеница, основные потребители воды в сельском хозяйстве (доля риса в общем объеме водной составляющей производства зерновых составляет 21%, пшеницы – 12%) также требуют кратно отличающихся объемов воды в разных странах: одна тонна риса в Австралии обойдется в 1022 м3 воды, а в Бразилии – уже в 3082 м3. Водная компонента в тонне пшеницы варьируется от 619 м3 в Нидерландах до 2375 м3 в России. Это объясняется разницей в эффективности сельскохозяйственных технологий, состоянием водного хозяйства и климатическими особенностями. Таким образом, разумное водопользование становится весьма существенным источником конкурентоспособности.
Торговля виртуальной водой – уже сегодня основная площадка для международной конкуренции государств за водные ресурсы. Именно таким образом можно оказывать прямое воздействие на рынки продовольствия, энергии и промышленных товаров других стран и в то же время продавать собственные гидроресурсы с максимальной добавленной стоимостью. И важность этой площадки будет расти по мере относительного удорожания пресной воды. Политическое значение продовольственной проблемы признается всеми, а возможность оказывать прямое влияние на рынки продовольствия через один из главных факторов сельхозпроизводства – водные ресурсы – не вызывает сомнений. Одним из катализаторов «арабской весны» в Египте стало эмбарго на экспорт российского зерна летом 2010 г. и последовавший за этим скачок цен на хлеб. Более того, важна не только торговля, но и просто учет воды как фактора производства. Уже появились исследования, доказывающие, что контроль над источниками пресной воды стал для «Исламского государства» (запрещено в России. – Ред.) ключом к установлению контроля над обширными территориями – и над экономической деятельностью всего региона.
Квазиколонизация. За последние 20 лет десятки миллионов гектаров в развивающихся и особенно наименее развитых странах были проданы или арендованы для выращивания продовольствия, заготовку древесины и производство биотоплива. На практике это привело к появлению термина «квазиколонизация». Данный процесс представляет собой масштабную скупку и аренду земель за рубежом для вывоза произведенных на них товаров, в первую очередь продовольственных, на территорию собственной страны и только затем – для продажи в третьи страны. По оценкам профессора Джона Энтони Аллана, на эти виды деятельности сегодня приходится 90% сделок с землей в Африке и 80% в мире. Все указанные производства отличаются повышенной водоемкостью, а исследования подтверждают, что именно наличие источников пресной воды становится определяющим фактором для аренды и скупки земель за рубежом.
Хотя прямые иностранные инвестиции существовали всегда, сегодня можно говорить о новом феномене – агроколонизации. Так называемые захваты земли (land grabs) стали массовым явлением с начала 2000-х годов. В чем главные отличия «захвата земли» от обычных инвестиций? «Захват» сопровождается несправедливым распределением доходов между местными сообществами и инвестором и ориентацией на вывоз выращиваемых культур в страну происхождения инвестора, а не на местный или мировой рынок. Это объясняет высокую привлекательность для «захватчиков» стран с низкой защитой прав собственности и неустойчивыми политическими режимами. В подобных случаях распределение доходов максимально выгодно инвестору (доля «колонии» состоит в доходах чиновников), становится возможным хищническое природопользование, отсутствуют стимулы к долгосрочной стратегии использования арендованной или даже выкупленной земли. Хотя большинство подобных соглашений предполагают срок аренды от 50 до 99 лет, в условиях неустойчивости режимов в большинстве африканских государств это нельзя расценивать как серьезную основу долгосрочного сотрудничества.
Если с начала 1960-х гг. арендовались сотни или тысячи гектаров, то сегодня речь идет о миллионах: сделки до 10 тыс. га даже не включаются в статистику профильных НКО. Точные данные получить трудно, однако только в Африке минимальная площадь таких «колоний» в 2008 г. оценивалась в 34 млн га, что соответствует территории Финляндии или двум Уругваям. При этом наибольшая концентрация новых сельхозугодий наблюдается к югу от Сахары – в странах, население которых в наибольшей степени подвержено голоду и жажде.
В бассейне крупнейшей африканской реки Нил по предварительно согласованным и анонсированным соглашениям объем иностранной сельскохозяйственной аренды должен увеличиться до 10 млн га в течение ближайших лет. Лидером новой колонизации стала Эфиопия: эфиопское правительство c 2008 г. сдало инвесторам из Индии, Китая, Саудовской Аравии 3,6 млн га под орошаемое земледелие и планирует увеличить эту цифру еще на 7,5 млн га в ближайшие годы. По совокупным объемам ее опережают Судан и Южный Судан: в этих странах 8,3 млн га уже законтрактовано под орошаемое земледелие. Почти 1 млн га намерена дополнительно орошать Уганда. Хотя наличие контрактов не обязывает инвесторов вести хозяйственную деятельность, перспективы полной эксплуатации этих земель минимальны. По оценкам ФАО, ирригационный потенциал Нила не превышает 8 млн га независимо от того, в какие годы будет решено осваивать арендованные земли: очевидно, что даже для пяти стран бассейна (Египта, Судана, Южного Судана, Эфиопии и Уганды), намеренных орошать 8,6 млн га, воды недостаточно – а в бассейне расположено 11 стран. Камерун, Сенегал, Нигер также активно участвуют в конкуренции за иностранных арендаторов. Не отстают и малые страны тропического пояса – всего в масштабную сельхозаренду вовлечено более 40 африканских государств.
Первыми «колонизаторами» стали страны Персидского залива, еще во время нефтяного кризиса 1973 г. оказавшиеся под угрозой зернового эмбарго со стороны США. Однако небольшое население, значительные доходы от экспорта нефти и благоприятная конъюнктура на мировых рынках продовольствия позволяли ограничиться диверсификацией поставщиков. Продовольственный кризис 2008–2010 гг., когда такие крупные экспортеры продовольствия, как Россия, Аргентина, Индия, Вьетнам ввели ограничения на вывоз зерна и других продуктов, обострил вопрос продовольственной безопасности и стал катализатором к масштабной агроэкспансии Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна, Кувейта. Самыми привлекательными для государств Персидского залива оказались страны Африки (в особенности Мозамбик, Судан и ЮАР) и Юго-Восточной Азии (в первую очередь для выращивания риса, фруктов и овощей – Таиланд, Лаос).
Азиатские гиганты, Китай и Индия, пытаясь адаптироваться к растущим запросам своего населения и обостряющемуся дефициту воды, активно включились в колонизацию в 2000-х годах. Хотя обе страны арендуют земли Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и даже Восточной Европе, наибольшие по объемам инвестиции направляются именно в Африку: по данным международной организации GRAIN, речь идет о миллиардных проектах. Активно участвуют в новой колонизации Япония, Корея, Сингапур. Однако развитые страны предпочитают иметь дело со странами, где права собственности больше защищены, и арендуют земли преимущественно в государствах БРИКС: Китае, Бразилии, ЮАР.
По оценкам профессора Дэвида Зетланда из Лейденского университета, сегодня в Африке две трети сделок осуществляют крупные агрохолдинги и треть – финансовые инвесторы и суверенные фонды. Необходимо отметить, что развивающиеся и развитые страны преследуют различные цели: первые стремятся гарантировать продовольственную безопасность, вторые – обеспечить высокую доходность своим вкладчикам. Соответственно для инвесторов, нацеленных на максимизацию прибыли, важен рост цен. После продовольственного кризиса 2008–2010 гг. и сопровождавшего его скачка цен на основные торгуемые продовольственные товары все большую роль в этом сегменте играют западные институциональные инвесторы (в особенности пенсионные фонды).
Для тех же, кто заинтересован в продовольственной безопасности собственной страны, решающим фактором становится объем доступного продовольствия. Поэтому издержки на выращивание такого продовольствия могут даже превышать среднерыночные: главным остается контроль над поставками.
Сегодня на продовольственном рынке господствуют всего четыре компании, и все они находятся в юрисдикции западных стран (и владельцы этих компаний входят в число наиболее влиятельных представителей элиты США и Западной Европы): речь идет о компаниях Archer Daniels Midland,Bunge, Cargill и Louis Dreyfus, контролирующих до 70–90% основных торгуемых продовольственных товаров. Продовольственно-территориальная экспансия развивающихся стран наглядно доказывает их стремление к пересмотру системы, сложившейся на глобальных рынках продовольствия, и к укреплению национального продовольственного суверенитета. Но уже не за счет изъятия ценных ресурсов из национальной экономики (земли, воды и энергии), а через выход на сельхозугодия и водные ресурсы бедных стран-производителей.
Некоторые эксперты напрямую связывают прямые инвестиции развивающихся стран, в первую очередь Китая, в аренду и скупку земель в Африке и Латинской Америке с попыткой бросить вызов гегемонии западных держав в торговле виртуальной водой. Экономическая конкуренция перешла в международно-политическую плоскость: контроль над виртуальной водой становится источником силы и влияния.
Виртуальная вода в промышленности и энергетике. В силу особой важности сельского хозяйства для развивающихся и наименее развитых стран они уделяют меньше внимания торговле виртуальной водой в составе промышленной продукции. Однако добавленная стоимость воды в таком случае значительно выше. При этом водоемкость конкретной отрасли может кратно отличаться в разных странах, а при учете воды, потраченной на производство энергии, разрыв становится еще больше. Отрасли-лидеры по гидрозабору: нефтехимия, металлургия, целлюлозно-бумажное производство и энергетика. В результате доступные источники пресной воды становятся для развивающихся и наименее развитых государств важнейшим ограничителем развития водоемких производств даже несмотря на наличие «профильных» ресурсов.
Актуальный пример того, как вода может стать ресурсным ограничением для экономики, связан с развитием сланцевой газодобычи. Данная технология предполагает использование значительных объемов воды, причем без возможности повторного применения. Именно отсутствие свободных ресурсов пресной воды сегодня расценивается как главное ограничение для добычи сланцевого газа в Китае, и, по оценкам целого ряда специалистов, данный фактор стал одним из неформальных аргументов сторон в ходе переговоров по подписанию газового контракта между Россией и Китаем 21 мая 2014 года.
Очевидно, что торговля виртуальной водой в составе продовольственных или промышленных товаров имеет глобальный характер. На региональном же уровне наибольшее значение имеет виртуальная вода в виде вырабатываемой энергии, причем речь идет не только о гидро-, но и о тепловой и атомной энергии. Строительство плотин для развития гидроэнергетики становится одной из наиболее распространенных причин острых международных конфликтов по водным вопросам, и в то же время именно продажа электроэнергии в третьи страны оказывается наилучшим гарантом стабильного режима водопользования в международном водном бассейне.
Нередки случаи, когда экспорт части энергии с ГЭС, строительство которой резко осуждалось другими странами бассейна, позволял либо полностью нивелировать, либо значительно сгладить конфликтную ситуацию. В частности, именно этой стратегии придерживается Китай на реке Меконг, а единственным примером успешного выстраивания водно-энергетического бартера в Центральной Азии служит покупка Казахстаном гидроэнергии Киргизии (на реках Чу и Талас). Эфиопия, формирующая коалицию по пересмотру квот на водозабор из Нила и намеренная построить самую высокую и мощную плотину в Африке, делает возможность экспорта дешевой электроэнергии в другие страны одним из аргументов в переговорах с соседями. Наличие такого обширного потенциала сотрудничества в сфере энергетики связано с тем, что в таком случае и государство, находящееся вверху по течению, и страна-импортер (расположенная ниже по течению) заинтересованы в определении режима сброса воды и квотировании водозабора.
Строительство плотин дает «верхним» государствам значительный политический ресурс, позволяющий шантажировать соседа ограничением поставок и воды, и электричества, что имеет прямое воздействие уже не только на сельское хозяйство, но и на промышленность и инфраструктуру.
Потенциал использования водных ресурсов для международной стратегии России
Россия – вторая в мире страна по возобновляемым гидроресурсам, на ее территории находится Байкал, крупнейшее пресное озеро в мире. В России протекает более 120 тыс. рек длиной более 10 км, их совокупная протяженность составляет 2,3 млн километров. Ежегодный объем возобновляемых водных ресурсов оценивается в 4202 км3. 71% этого стока относится к бассейну Северного Ледовитого океана, 14% – Тихого, 10% приходится на Каспийское море и всего 5% – на Черное, Азовское и Балтийское моря вместе взятые. Из-за границы поступает только 185 км3, или 4,5% всех возобновляемых ресурсов России.
Хотя обеспеченность водой в южных и юго-западных районах на порядки меньше, чем в Сибири (2 тыс. м3 и 120–190 тыс. м3/чел./год, соответственно), все равно она почти в два раза превышает подушевую обеспеченность гидроресурсами в бассейне Меконга (около 1–1,1 тыс. м3), в полтора раза – среднемировой уровень (1370 м3). Водная инфраструктура России считается самой протяженной в мире, по числу плотин страна также остается одним из мировых лидеров: в ХХ веке построено более 300 крупных плотин и свыше 3 тыс. малых и средних.
Такие богатства, безусловно, стратегический актив, которым пока мы пользуемся исключительно тактически. Позиция России в международной водной «повестке» практически отсутствует.
В Таблице 1 приведена секторальная структура для стран с наибольшим ежегодным водозабором. Россия эту десятку замыкает. В тройке стран-лидеров – Индия, Китай и США: спрос предъявляют колоссальное население этих стран, 2,9 млрд человек, и ведущие экономики мира (4-е, 2-е и 1-е место, соответственно).
Таблица 1. Секторальная структура для стран с наибольшим ежегодным
водозабором, в среднем за 2000–2012 гг., куб. км на человека в год
|
Страна |
Водо- забор, |
Доля забора |
Водо- забор, |
ЖКХ, % |
Промыш-ленность, % |
С/х, |
Насе- ление, |
$ ВВП/ |
|
Индия |
661 |
45,7 |
575 |
7 |
2 |
91 |
1148 |
1,2 |
|
Китай |
545 |
19,4 |
417 |
10 |
21 |
69 |
1344 |
4,5 |
|
США |
477 |
16,9 |
1605 |
13 |
46 |
41 |
312 |
23,5 |
|
Пакистан |
176 |
72,0 |
1099 |
4 |
2 |
94 |
177 |
0,6 |
|
Иран |
92 |
71,7 |
1313 |
6 |
1 |
93 |
75 |
1,4 |
|
Япония |
90 |
20,9 |
706 |
19 |
18 |
63 |
128 |
55,7 |
|
Индонезия |
113 |
5,6 |
496 |
12 |
7 |
82 |
242 |
2,1 |
|
Мексика |
77 |
18,9 |
719 |
14 |
9 |
77 |
115 |
8,6 |
|
Филиппины |
80 |
16,7 |
931 |
8 |
10 |
83 |
95 |
1,5 |
|
Россия |
66 |
1,5 |
461 |
20 |
60 |
20 |
143 |
5,7 |
Источник: Worldwater.org, databank.worldbank.org, FAO AQUASTAT
Ежегодный водозабор России составляет 66 млн км3, при этом задействуется лишь 1,5% от совокупных возобновляемых ресурсов. Наша страна отличается нестандартной секторальной структурой водозабора: хотя на промышленность приходится 60%, из них почти 80% (30,5 млн км3) остается в энергетике, преимущественно атомной, на сельское хозяйство расходуется только 20% (поскольку в большинстве регионов не применяется орошаемое земледелие и новые технологии) и еще столько же идет на муниципальное водоснабжение – по этому показателю Россия лидирует в десятке главных потребителей воды и опережает даже Японию (у которой 19%).
Если говорить о «доходности» воды в экономике, или сколько долларов ВВП приносит каждый использованный кубометр воды, картина выглядит следующим образом. Японская экономика использует воду наиболее продуктивно: каждый кубометр приносит 55,7 доллара. Второе место принадлежит США (23,5 доллара). Показатели остальных стран колеблются от 0,6 (Пакистан) до 8,6 доллара (Мексика). В России каждый кубометр в 2000-е гг. приносил 5,7 доллара. Доходность воды в Китае лишь незначительно уступает российской (4,5 доллара), притом что объем гидрозабора больше в восемь раз. Однако резервы для повышения эффективности использования воды в российской экономике имеют не только финансовое, но и товарное измерение.
В отношении производительности сельского хозяйства (и, соответственно, воды в сельском хозяйстве) пока существуют значительные возможности роста: по оценкам La Via Campesina,международного фермерского движения, если производительность российских малых частных хозяйств распространить на всю отрасль, то ежегодная производительность сельского хозяйства вырастет в шесть (!) раз. Для сравнения, в Кении такая экстраполяция позволит лишь удвоить выпуск, а в Венгрии – повысить его на 30%. Высокий водозабор в муниципальном секторе связан с неэффективностью устаревших систем и высоким уровнем потерь. Для преодоления такой отсталости с 2009 г. запущен ряд государственных инициатив, направленных на модернизацию систем водоснабжения и водоочистки, однако предложенные программы пока не достигли поставленных целей, хотя и на федеральном, и на региональном уровне работа ведется. Постепенно интерес к отрасли проявляют иностранцы, однако их деятельность в значительной мере ограничена институциональными барьерами, непрозрачностью схемы определения тарифов и неэффективностью управления существующей системой водоканалов.
Парадоксально, но Россия – одна из немногих стран, где водный фактор пока не ощущается обществом как структурный. Как результат – место России на глобальном рынке виртуальной воды непропорционально мало по сравнению с имеющимися возможностями. Если среднегодовой чистый экспорт виртуальной воды России составляет 4,2 млрд м3, то аналогичный показатель Канады, схожей по климатическим и гидрологическим характеристикам, больше в 12,5 раза – 52,5 млрд м3.
Большая часть российского чистого экспорта идет на Ближний Восток и в страны Северной Африки. Только на этих рынках, куда традиционно экспортируется российское зерно, Россия играет заметную роль как гарант продовольственной безопасности региона, а в ряде случаев – и политической. Уже упомянутое эмбарго 2010 г. стало одной из причин «арабской весны» в Египте.
Между тем существуют перспективы получения аналогичного влияния и в странах АТР: в импорте продовольствия заинтересованы Китай, страны АСЕАН (чья зависимость от Китая растет) и развитые страны Азии – Япония, Корея. Запрос на внешние источники продовольственной безопасности существует во всех странах региона: соответствующие меры были приняты в Китае, АСЕАН, Японии, Корее.
В Китае в 2014 г. опубликован так называемый Центральный документ № 1, в котором ЦК КПК провозгласил приоритетом укрепление национальной продовольственной безопасности и поддержку сельского хозяйства в ухудшающейся экологической обстановке. В АСЕАН с 2009 г. действует четырехлетний план обеспечения продовольственной безопасности, существуют Концепция интегрированной продовольственной безопасности АСЕАН и Стратегический план мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности в регионе АСЕАН. Японский кабинет министров в 2010 г. принял Новый базовый план по продовольствию, сельскому хозяйству и сельской местности, в котором поставлена цель повышения самостоятельного обеспечения продовольствием с 40 до 50% к 2020 году. Корея, импортирующая более 90% продовольствия, делает ставку на агроколонизацию: страна арендует более 1 млн га, или почти половину пахотных земель Мадагаскара, более 300 тыс. га в Монголии – всего корейские конгломераты, импортирующие продовольствие, действуют в 16 странах.
Однако сегодня Россия выступает как чистый импортер виртуальной воды в виде продовольствия из АТР (импорт превышает экспорт в четыре раза и составляет 5277 млн м3 по девяти крупнейшим торговым партнерам), и даже учет промышленной продукции позволяет компенсировать баланс торговли виртуальной водой только с некоторыми из указанных стран. Так, Россия – чистый импортер виртуальной воды в составе продуктов питания из Китая, Таиланда, Малайзии, Индонезии. Экспортер – для Индии, Японии, Кореи и Филиппин.
Россия может качественно изменить свое положение в АТР, выступив в роли гаранта продовольственной и водной безопасности региона. За постсоветский период площади орошаемого земледелия сократились более чем на 1/5, а с учетом возможности введения новых территорий под высокотехнологичное сельское хозяйство сегодня можно говорить, что более 30 млн га используются в России нецелевым образом. И это притом что за это же время среднемировая площадь пахотных земель на душу населения сократилась на 50%.
Региональные рынки торговли гидроэнергией пока также относительно мало освоены Россией, хотя именно их развитие может стать площадкой для сотрудничества в международных бассейнах, особенно с Китаем. Речь не идет о реанимации идеи масштабного советско-китайского проекта 1960-х гг. на Амуре, однако наращивание экспорта гидроэнергии в Китай представляется необходимым шагом для эффективного управления общим международным бассейном.
Ограничения для предложенных инициатив очевидны – малая заселенность территорий к востоку от Урала (где и имеет смысл производить экспортные водоемкие товары для азиатского рынка), слаборазвитая инфраструктура, сложная климатическая ситуация (большая часть этих территорий – на Крайнем Севере). Однако для развития высокотехнологичного сельского хозяйства и энергетики достаточно размещения перерабатывающих производств на благоприятных для проживания юге Сибири и Дальнем Востоке. В данном случае целесообразно использование опыта таких стран, как Канада и Австралия, которые, имея большую территорию (2-е и 6-е место в мире) и сравнительно немногочисленное население, сумели построить высокотехнологичные экономики, в основе которых лежит доступ к уникальным природным ресурсам.
* * *
Стратегические возможности России находятся именно на рынке глобальной и региональной торговли водоемкой продукцией, уже в силу того что на фоне усугубляющегося дефицита воды, пахотных земель и энергии как в развитых, так и в развивающихся странах Россия обладает наибольшим потенциалом и в сельском хозяйстве, и в водоемких производствах.
В этой связи целесообразно ориентировать государственную политику на привлечение в отдельные регионы стратегических иностранных инвесторов, способных и готовых внедрять в сельское хозяйство новейшие технологии, а не останавливаться на выращивании первичного сырья для переработки за рубежом. Пока данная схема применяется относительно эффективно только в европейской части России. При этом обязательным условием эффективного развития водоемких производств в Сибири и на Дальнем Востоке является экспорт в несколько стран АТР – тогда можно говорить об использовании водных ресурсов как стратегического политического ресурса. В противном случае это будет примитивный экспорт минимальной степени переработки, в интересах одного покупателя и на невыгодных России условиях.

Георгий Каламанов: в странах АСЕАН есть интерес к российскому авиапрому.
Перед началом форума России и стран АСЕАН в Сочи заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов рассказал об интересе стран ассоциации в российских промышленных технологиях, о том, что уже сделано и что только станет очередным витком международного промышленного сотрудничества между государствами.
— Георгий Владимирович, расскажите, как идет работа по продвижению российских технологий в промышленности в странах АСЕАН. Есть ли интерес к продукции российского автопрома, авиапрома, машиностроительной технике?
— Индонезия стала практически первой страной Юго-Восточной Азии, куда были поставлены пассажирские самолеты SSJ100. Другие российские авиастроители также заинтересованы в поставках своей продукции на индонезийский рынок. В первую очередь это касается возможных поставок перспективного самолета МС-21. В октябре 2015 года представители ПАО «Корпорация «Иркут» провели презентации и консультации по проекту МС-21 с руководством аэрокосмической компании PT Dirgantara Indonesia в Бандунге и государственной АК Garuda Indonesia в Джакарте.
В целом интерес к продукции российского авиапрома в странах АСЕАН имеется. В качестве потенциальных заказчиков пассажирского самолета SSJ100 рассматриваются авиакомпании Камбоджи, Мьянмы, Таиланда. В частности, уже успешно реализуется контракт по поставке в Таиланд двух самолетов SSJ100 в версии ВИП (самолеты будут поставлены до конца 2016 года). Дополнительно заключен контракт еще на одно воздушное судно.
Объединенная авиастроительная корпорация рассматривает рынок Камбоджи как перспективный для поставок SSJ100, в связи с чем в настоящее время проводит работу по выстраиванию контактов с камбоджийскими партнерами.
Российская сторона также заинтересована в активизации совместной работы по продвижению на рынок Мьянмы и Сингапура самолетов SSJ100, МС-21, а также организации центра послепродажной поддержки эксплуатации поставляемых самолетов. Ведутся переговоры с минобороны Мьянмы по поставке SSJ100 для перевозки руководящего состава.
— Какие проекты интересны в автопроме?
— Что касается автомобилестроения, то, в частности, рынок Вьетнама остается для КАМАЗа одним из стратегически важных направлений деятельности за рубежом. С 2003 года ПАО «КАМАЗ» ведет работу с одной из крупнейших государственных корпораций Вьетнама — «Винакомин», в стратегическом партнерстве с которой был создан сборочный завод автомобилей КАМАЗ.
Кроме того, есть заинтересованность в расширении нашего присутствия на рынке Таиланда. Как вы наверняка знаете, в этой стране левостороннее дорожное движение, и ОАО «КАМАЗ» готово обеспечить потребности внутреннего рынка за счет поставок в праворульном исполнении самосвалов (колесной формулы 6х4), седельных тягачей (6х4) и полноприводных автомобилей двойного назначения (4х4, 6х6), а также организовать сбытовую сеть и сервисную базу по обслуживанию своей техники.
Имеются хорошие перспективы для развития отношений в области машиностроения и металлургии. Так, АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» заинтересовано в налаживании взаимодействия с Индонезией в области энергетики.
ООО «УГМК Рудгормаш-Воронеж» предлагает рассмотреть возможности поставки бурового оборудования для промышленности Индонезии.
АО «ВО «Тяжпромэкспорт» осуществляет строительство чугуноплавильного завода по технологии «Ромелт» в Мьянме. Строительство чугуноплавильного завода включено в перечень приоритетных проектов в принятой руководством Республики Союз Мьянма программе создания собственной металлургической промышленности.
— РФ и Индонезия обсуждают совместный проект по нефтедобыче в Сибири — о каком именно проекте идет речь, какие российские нефтяные компании в него вовлечены?
— Данное направление находится в компетенции Минэнерго России. При этом по линии Минпромторга России ведется работа по содействию ПАО «ОМЗ» в осуществлении поставок в Индонезию оборудования тяжелого машиностроения для перекачки, транспортировки и хранения газа и нефти, нефтегазопереработки и сжижения газа. ПАО «ОМЗ» были направлены предложения по перспективным совместным двусторонним проектам с индонезийской стороной. В частности, ПАО «Криогенмаш» заинтересовано в поставках оборудования мини-СПГ: от ожижителей природного газа до заводов СПГ под ключ. Данный проект подразумевает разработку, изготовление, монтаж комплекса оборудования СПГ, предназначенного для производства, доставки и использования СПГ в удаленных инфраструктурных объектах и населенных пунктах.
— Индонезия проявляет интерес к сотрудничеству с ЕАЭС, сейчас наши страны изучают целесообразность создания ЗСТ. Существует ли на данный момент реальная необходимость создания зоны свободной торговли между РФ и Индонезией? Ведутся ли еще с кем-то из членов блока АСЕАН переговоры о возможности создания ЗСТ?
— Ранее государства-члены ЕАЭС по инициативе Белоруссии рассмотрели целесообразность заключения соглашения о свободной торговле с Индонезией. В рамках проработки данного вопроса был проведен ряд встреч на площадке Евразийской экономической комиссии, также проведен анализ сотрудничества государств-членов ЕАЭС с Индонезией и выделены возможные перспективы развития отношений. В настоящее время государствами-членами ЕАЭС ведется работа по определению оптимального формата торгового сотрудничества со странами АСЕАН, в частности с Индонезией и Сингапуром.
Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом было подписано 29 мая 2015 года. Сторонами было проведено восемь раундов переговоров, а также ряд дополнительных консультаций по вопросу заключения соглашения. Представители Минпромторга России принимали активное участие в работе над соглашением. Заключение соглашения будет являться важным инструментом для углубления и усиления двусторонних отношений с Вьетнамом в сфере торговли и инвестиций, будет способствовать не только росту взаимного товарооборота, но и позволит решить задачу подключения России и Евразийского экономического союза в целом к динамично развивающимся интеграционным процессам на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона.
7 сентября 2015 года посольство Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации сообщило, что вьетнамская сторона завершила необходимые процедуры для вступления в силу соглашения.
Первым проектом двустороннего сотрудничества в развитии данного соглашения является проект по организации производства автомобилей на территории Вьетнама.
Реализация уже достигнутых договоренностей принесет ощутимую пользу экономике Вьетнама — позволит стране уже через три года стать экспортером автомобилей с достаточно высоким уровнем локализации, минимум 40%.
Камбоджа и Сингапур также рассматривают возможность заключения соглашения о свободной торговле с ЕАЭС. Они уже подали заявки в Евразийскую экономическую комиссию с прошением о рассмотрении целесообразности заключения таких соглашений.
В случае поступления соответствующего обращения Таиланда в Евразийскую экономическую комиссию, готовы поддержать инициативу этой страны о заключении соглашения о свободной торговле ЕАЭС — Таиланд и, соответственно, запуске первого этапа, необходимого для запуска переговорного процесса, — начале деятельности совместной исследовательской группы ЕАЭС — Таиланд.
— Что в настоящее время делается Россией для наращивания работы с Китаем? Какие проводили и будете проводить мероприятия, встречи, переговоры? Есть ли уже какие-то ощутимые результаты?
— Ведется активная работа по укреплению и развитию промышленного сотрудничества с Китайской Народной Республикой.
17 декабря 2015 года в Пекине, на полях 20-й регулярной встречи России и Китая, было объявлено о создании подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности, комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Полагаем, что данный формат станет действенным механизмом мониторинга хода промышленной кооперации между Россией и Китаем, а также будет служить идеальной площадкой для реализации стратегически важных проектов промышленного, торгово-экономического и инвестиционного характера.
Касательно совместных проектов с Китаем стоит отметить работу по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС) и тяжелого вертолета. В настоящее время ведутся переговоры по согласованию межправительственных соглашений по данным проектам.
Активно прорабатывается возможность поставок российского самолета SSJ100 в Китай. Постепенно увеличивается доля машинно-технической продукции в российском экспорте, растут поставки высокотехнологичных инновационных товаров. Существенная активизация наблюдается в торговле сельскохозяйственной и пищевой продукцией.
Важным направлением видится работа по сопряжению Евразийского союза и Экономического пояса Шелкового пути. Безусловно, это сотрудничество направлено на перспективу. Очевиден потенциал сотрудничества по проектам в агропромышленном комплексе — Дальний Восток России предоставляет уникальную возможность китайским компаниям заработать на производстве и поставках экологически чистого продовольствия в Россию, Китай и в другие страны Азии.
— Какова динамика товарооборота между Россией и Китаем? Есть ли какие-то качественные изменения, улучшения? Какие товары преобладают с той и с другой стороны?
— Китай является одним из крупнейших торговых партнеров России. По сравнению с 2014 годом (88,27 млрд долларов) товарооборот между двумя странами за 2015 год сократился на 28%, что в абсолютном выражении составило 63,4 млрд долларов.
По оценкам российских и китайских экспертов, замедление динамики взаимной торговли в 2014-2015 годах было обусловлено рядом объективных факторов.
Во-первых, общая геополитическая напряженность, осложнение ситуации на Украине, введение западными странами экономических санкций в отношении России, ухудшение мировых внешнеторговых условий, в том числе снижение спроса на зарубежных товарных рынках.
Во-вторых, замедление темпов экономического роста как в России, так и в Китае.
В-третьих, падение мировых цен на энергоносители и сырьевые товары, которые составляют более 70% российского экспорта в Китай.
Большая часть российского экспорта в Китай (более 70%) приходится на углеводородные и сырьевые товары, но стоит отметить значительное увеличение доли экспорта машинотехнической продукции в Китай, доля которой в совокупном экспорте увеличилась.
Зафиксировано увеличение поставок энергетического оборудования на 83,6%, до 390,68 млн долларов, летательных аппаратов — на 4,3%, до 107,24 млн долларов и электрического оборудования — на 18,2%, до 50,74 млн долларов.
Что касается российского импорта в 2015 году, он показал значительное сокращение по сравнению с 2014 годом, причиной такого снижения стала девальвация и неустойчивый обменный курс российской валюты. В условиях повышенных валютных рисков китайские экспортеры стали проявлять осторожность при заключении внешнеторговых контрактов, а российские импортеры из-за снижения покупательской способности потребителей вынуждены были ограничивать импорт продукции широкого потребления (одежда, обувь, трикотажные изделия, игрушки).
С другой стороны, текущая экономическая ситуация в определенной степени дала импульс для активизации взаимовыгодного сотрудничества в ряде областей. Так, снижение курса российской валюты сделало российские товары и услуги более доступными и привлекательными для заинтересованных иностранных партнеров. Почти в два раза увеличился туристический поток в Россию из Китая.
— На ваш взгляд, на какой стадии сейчас находится развитие деловых отношений с Китаем? Есть ли уже сейчас ощутимые результаты? Если нет, то когда они могут появиться? Каков объем двусторонних инвестиций?
— Президент России Владимир Путин в ходе визита в Китай в 2014 году заявил, что РФ и КНР к 2020 году планируют достичь товарооборота в 200 млрд долларов.
Задача довольно-таки амбициозная, но вполне выполнимая.
В ближайшие годы будут запущены крупные инвестпроекты в различных областях, которые добавят десятки миллиардов долларов к нашей торговле. Существует большой потенциал в области сельского хозяйства, высоких технологий.
Уровень развития российско-китайского инвестиционного сотрудничества в настоящее время не в полной мере отвечает уровню сложившихся политических и торговых отношений двух стран. В прошедшем году, по данным минкоммерции КНР, наблюдалось существенное увеличение притока китайских прямых инвестиций в Россию.
Главными направлениями инвестиционной деятельности КНР в России по-прежнему являлись разработка полезных ископаемых, лесное хозяйство, энергетика, торговля, бытовая электротехника, связь, строительство и сфера услуг.
Крупнейшими вложениями китайских компаний в российские активы стали: покупка Китайской национальной нефтегазовой корпорацией 20% акций в проекте «Ямал-СПГ» у компании «Новатэк» (оценивается в 810 млн долларов); вложение Китайской международной инженерно-строительной компанией цветной металлургии (NFC) в совместный проект с корпорацией «Металлы Восточной Сибири» в Республике Бурятия (оценивается в 750 млн долларов); инвестиции Государственной электросетевой корпорации Китая в совместные проекты с российской ГК «Синтез» (оценивается в 1,1 млрд долларов); приобретение Китайской инвестиционной корпорацией 5,4% акций Московской биржи (оценивается в 100 млн долларов); приобретение Строительным банком Китая 2% акций банка ВТБ (оценивается в 100 млн долларов).
Российские прямые инвестиции в Китае традиционно характеризуются весьма скромными показателями, но также имеют определенный потенциал.
Основными направлениями российских инвестиций в Китае являются производственная отрасль, строительство, транспортные перевозки.
Общее количество российских проектов с прямыми инвестициями в Китае достигло порядка 2500, что свидетельствует о довольно высоком уровне инвестиционной активности в Китае российского среднего и малого бизнеса. Низкие показатели суммарных вложений российского капитала в китайскую экономику связаны еще и с тем, что зачастую денежные средства поступают из России в Китай не напрямую, а через аффилированные компании, зарегистрированные в Гонконге или других юрисдикциях с льготным налогообложением.
— Россия предложила координировать деятельность на рынке алюминия Саудовской Аравии и Китаю в рамках рабочей группы, которая работает в Армении, Катаре и ОАЭ. Получила ли эта инициатива отклик в этих странах?
— В прошлом году с некоторыми ключевыми странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива — ОАЭ, Бахрейн, Катар — состоялся ряд заседаний рабочих групп по сотрудничеству в сфере алюминиевой промышленности. Мы с коллегами договорились уделять особое внимание алюминиевой промышленности и разработать политику по стабилизации ситуации на рынке: о сотрудничестве в области обмена информацией о текущих тенденциях на международном рынке алюминия, выразили готовность обсуждать возможности осуществления совместных инвестиций и иных форм сотрудничества в производстве алюминия, включая сотрудничество в области плавки, бокситов и глинозема, а также других видов сырья (в том числе прокаленного нефтяного кокса); реализации совместных социальных проектов и использовании общей инфраструктуры для развития боксито-глиноземных проектов в третьих странах.
Также у нас в планах сформировать аналогичный рабочий орган с Саудовской Аравией.
В рамках созданной с Китайской Народной Республикой подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств включена также рабочая группа по сырьевым материалам. Мы работаем над вопросом проведения первого заседания данной рабочей группы в самое ближайшее время.

Три ножа в спину
Владислав Иноземцев о проблемах, пришедших с юга
В последние дни случилось сразу несколько событий, которые во многом ставят под сомнение обоснованность ряда политических комбинаций российского руководства.
Разумеется, самым обсуждаемым событием стал провал встречи министров нефти и энергетики 18 государств (11 из 13 стран – членов ОПЕК, а также России, Мексики, Казахстана, Бахрейна, Азербайджана, Колумбии и Омана) в Дохе.
Предыстория его известна: столкнувшись с резким падением цен на нефть в январе, Россия стала активно делать вид, что крупнейшие ближневосточные производители озабочены этим, а она готова присоединиться к обсуждению темы о заморозке добычи.
Глава «Транснефти» Токарев в те дни заявил, что Саудовская Аравия сама «проявила инициативу обсудить перспективу снижения объемов [добычи]» и что встреча состоится уже в феврале. Позже глава Минэнерго Новак уточнил, что «с такой инициативой вышла [не Саудовская Аравия], а отдельные страны и идет проработка ряда вопросов среди стран». В Москву зачастили делегации из нефтедобывающих стран, что явно льстило Кремлю.
На волне этих словесных интервенций цены на нефть выросли за два с половиной месяца более чем на 50%.
Однако потом стало возникать понимание, что не все так гладко. Встреча в Дохе несколько раз переносилась, а главный российский союзник в регионе, Иран, не собирался подстраиваться под требования партнеров, о чем на Западе говорили весьма активно, но чего в Москве предпочитали не замечать.
Накануне начала встречи все без исключения отечественные информационные ресурсы считали подписание меморандума техническим делом, которое займет пару часов. Напротив, западные эксперты, опрошенные в то же время агентством Bloomberg, разделились ровно поровну в ожидании успеха и провала саммита. Конец известен:
Россия и Венесуэла не смогли убедить саудитов.
Можно лишь порадоваться тому, что цены пока не скорректировались — но это, скорее всего, дело времени: рынкам нужно осмыслить новые реалии.
На мой взгляд, происшедшее отражает характерную для наших властей переоценку собственной значимости, податливости партнеров и своей способности влиять на тех, кого они считают облагодетельствованными (в данном случае — Иран).
Если бы Москва вышла на переговоры не в относительном одиночестве, а в связке с Тегераном, результат мог бы быть иным.
Но, судя по всему, Россия пока не обладает достаточными возможностями убеждения тех, ради кого она недавно ставила на карту свою международную репутацию, отстаивая снятие с Исламской республики санкций и поддерживая ее перед лицом Запада.
Однако неприятные новости из Дохи были не единственными, пришедшими с юга в последнюю неделю. В Сирии немного оправившийся от ужасных мыслей о скором конце если не жизни, то власти Асад организовал на подконтрольных ему территориях «выборы в парламент», в котором его партия «Баас» получила 80% мест, а также сообщил orbi et urbi, что правительственная армия при поддержке российских ВКС скоро начнет штурм Алеппо.
Здесь следует напомнить, что, стремясь найти долгосрочное решение сирийского кризиса, Россия и Соединенные Штаты, принимая во внимание мнение всех сторон конфликта и международных посредников, согласовали совершенно иной порядок действий: согласно резолюции Совета Безопасности ООН №2254 выборы должны были быть проведены после разработки новой конституции страны и формирования «переходного органа власти», т.е. не ранее 2017 года.
При этом в данном голосовании, как предполагалось, могли принять участие в том числе и те граждане Сирии, которые вынуждены были ранее бежать из страны, спасаясь от войны, что положило бы начало установлению гражданского мира и постепенному воссозданию единства страны, пусть, вероятно, и ценой ухода г-на Асада.
Однако сейчас становится ясно, что союзник Москвы выходит из-под ее контроля и начинает вести собственную игру.
Скорее всего, если война в Сирии возобновится с новой силой, то Россия вряд ли поспешит восстанавливать там военное присутствие, однако с трудом заработанные ей «очки» наверняка будут потеряны.
По сути, на протяжении нескольких месяцев российские лидеры работали над выправлением ситуации в Сирии не столько для того, чтобы навсегда оставить Асада у власти, сколько ради доказательства своей значимости Западу. И сейчас, когда все «инвестиции» сделаны, оказывается, что и тут Кремль не может заставить спасенного им политика учитывать свои интересы.
Совершенно уместно прозвучали в таком контексте слова Путина во время его «прямой линии» о том, что «сирийской армии не нужно улучшать этого положения, потому что она перед объявлением о перемирии сделала то, что хотела… им не нужно ничего улучшать…». Но это были слова, а что случится на самом деле, если сирийские власти действительно перейдут в наступление на позиции умеренных исламистов и потерпят от них поражение?
Ситуация в Сирии даже более рельефно, чем результаты переговоров в Дохе, показывает, что международный авторитет Москвы крайне низок — причем, повторю еще раз, влияние не распространяется даже на тех, кто обязан Кремлю практически всем, в самом прямом смысле слова.
Третьей новостью стали только что пришедшие сообщения о возобновлении боев в Нагорном Карабахе, где, казалось бы, незадолго до того при участии России было достигнуто непрочное перемирие. Эта проблема, на мой взгляд, выглядит самой драматичной из всех.
Москва на протяжении многих лет была гарантом хрупкого мира на Южном Кавказе, выступая в рамках минской группы самым опытным и авторитетным посредником в армяно-азербайджанском конфликте.
Однако в последнее время Кремль стал хотеть невозможного: с одной стороны — расширять рынок сбыта для своего оружия и военного снаряжения за счет Азербайджана, сегодня одной из самых милитаризованных стран (его военные расходы в 2015 году составили 4,8% ВВП, а стоимость российских военных поставок с 2012-го превысила $4 млрд); и с другой стороны — удерживать Армению в зоне своего влияния. Следует в связи с этим вспомнить операцию по «выкручиванию рук» Еревану в 2013 году, когда Армения отказалась подписать уже парафированное Соглашение об ассоциации с ЕС и «скоропостижно» вступила в Евразийский экономический союз).
С этого момента Россия оказалась в крайне сложном положении: ей сейчас нужно, с одной стороны, поддерживать своего стратегического партнера, и, с другой, не вступать в клинч с Баку — хотя бы потому, что Азербайджан также участвует в глобальных переговорах по нефти.
Москве категорически невыгодно нынешнее обострение в Закавказье, но в значительной мере она сама заложила его предпосылки
И не только своими поставками оружия в Азербайджан, но и резкой конфронтацией с Турцией, которая активно поддерживает Баку в «разморозившемся» конфликте. Рычагов влияния на враждующие стороны у России немного — она по сути вынуждена поддерживать Армению, которая формально выступает страной-агрессором (территориальная целостность Азербайджана признана всеми возможными соглашениями, а Нагорный Карабах не имеет международной правосубъектности).
Если конфликт не будет подавлен на самой ранней его стадии, престижу России на постсоветском пространстве будет нанесен серьезный удар. А если в виде успешных миротворцев выступят западные страны, то «моральный ущерб» для Москвы окажется еще большим. Проблема, однако, усугубляется тем, что сейчас для активного вовлечения в закавказскую проблематику у России нет ни ресурсов, ни, похоже, кадров и переговорщиков: Кремль по-прежнему занят Украиной, Сирией, отношениями с Европой и Соединенными Штатами.
Что связывает все эти сюжеты? На мой взгляд, общая ошибочность российской политической линии — политики «одинокой сверхдержавы», которая считает, что может решить любую проблему сама, без посторонней помощи.
Если вернуться к переговорам в Катаре, возникает вопрос: почему бы России было не попробовать привлечь к процессу не только «традиционных» нефтедобытчиков? Если в саммите приняла участие Мексика, то где была Канада? Или Китай с Бразилией — наши возлюбленные партнеры по БРИКС? А Индия? Ведь не секрет, что все собравшиеся в Дохе страны даже не обеспечивали большую часть мировой нефтедобычи (на их долю приходится 48,6%).
Что касается Сирии, то не проще было бы активизировать контакты с США и сирийской оппозицией, четче сформулировать и яснее довести до Асада свою позицию, действительно превратив Сирию в пример того, что «без России — как говорит глава германского МИДа Штайнмайер — не может быть разрешен (а не только порожден — добавлю от себя) ни один из крупных международных конфликтов»?
Разве мы не понимали, что последовательное вооружение Азербайджана, несомненно, аукнется войной, как только Россия утратит влияние на соседние страны, и это обернется против нашего союзника, Армении? Может быть, давно уже следовало перестать рассказывать самим себе сказки о том, что данный конфликт потушен, и попробовать поискать его решения в более инклюзивном формате?
Я думаю, что понять все это было несложно. Гораздо сложнее было смириться с тем, что современные глобальные расклады — и экономические, и политические — требуют коллективных действий и предполагают прежде всего искусство компромисса.
Чем более авантюрным является действие, тем больше риск высокой цены, которую придется за него заплатить.
Чем меньше групп интересов принимается во внимание, тем выше вероятность, что вместо разрешения конфликта мы получим его обострение. Все это нужно учитывать, выстраивая свою политику — особенно в регионах, где не всегда бывают в чести европейские принципы. Иначе нам не раз и не два придется констатировать, что наши «уважаемые партнеры», с которыми, казалось бы, все давно было решено и договорено, снова готовы «воткнуть России нож в спину», а с юга приходят все менее и менее обнадеживающие известия.

Саудовская Аравия: имперское перенапряжение?
Полур Раман Кумарасвами
Почему слабеют позиции Эр-Рияда
П.Р. Кумарасвами – профессор Университета имени Джавахарлала Неру, почетный директор Института Ближнего Востока в Дели.
Резюме Три основных опоры саудовской власти – ислам, нефть и патронат Вашингтона – существенно ослабли в последние годы. Эпоха дипломатии с чековой книжкой закончилась, Эр-Рияду придется больше инвестировать в реальную дипломатию.
Казнь в Саудовской Аравии известного шиитского проповедника Нимра Бакера ан-Нимра, обвиненного в антигосударственной деятельности и подстрекательстве, вызвала рост напряжения на всем Ближнем Востоке. Это происходит на фоне общего снижения влияния Эр-Рияда. Из-за серии амбициозных, но плохо продуманных политических решений и вторжений в другие государства, позиции и влияние в регионе правящей династии Аль-Саудов ослабли. Опасения саудитов по поводу Ирана и его претензий на доминирование до и после ядерного соглашения понятны, однако способ, который Эр-Рияд выбрал для противодействия, демонстрирует отсутствие дальновидности и стратегического мышления.
Саудовская Аравия повторила ошибки, которые совершали многие до нее. Примеры Священной Римской империи, Османской империи и Советского Союза показывают, что упадок великих держав начинается, когда их вовлеченность в международные дела перестает соответствовать внутренним ресурсам. Имперское перенапряжение часто является главной причиной упадка, а во многих случаях и исчезновения держав. Когда бушующие амбиции сталкиваются с проблемой доступных ресурсов, кризис неизбежен. Из-за отсутствия четкого стратегического видения государства вмешиваются в вопросы, которые не затрагивают непосредственно их национальные интересы либо их вмешательство не соответствует накопленным знаниям и навыкам. При отсутствии внутренней подотчетности власти проблемы только множатся. Все это – отсутствие стратегического видения, имперское перенапряжение, недостаток технического опыта и подотчетности – можно обнаружить во внешнеполитическом поведении Саудовской Аравии.
Перенапряжение
Можно выделить несколько случаев, когда вмешательство Саудовской Аравии оказалось неудачным и не принесло монархии ощутимых результатов:
Стремясь восстановить имидж страны после 11 сентября, в конце 2001 г. тогдашний регент, а затем король Абдалла представил мирный план, предусматривающий признание Израиля арабскими и мусульманскими странами в обмен на его отступление к границам 1967 года. Однако когда в марте 2002 г. эта инициатива была представлена на саммите Лиги арабских государств в Бейруте, ее суть оказалась выхолощена включением сирийского требования о безусловном праве палестинцев на возвращение. План был обречен.
До марта 2003 г. у Саудовской Аравии не было необходимости активно вмешиваться в иракскую внутреннюю политику. В 1980-е гг. Ирак служил преградой для гегемонии Ирана, но кувейтский кризис изменил ситуацию. После Кувейта и завершения холодной войны слабый Ирак под жесткими санкциями ООН устраивал Эр-Рияд. Американское вторжение и свержение президента Саддама Хусейна имели непредвиденные последствия: Ирак превратился в шиитское арабское государство в политическом смысле слова. Шииты, составляющие около 60% населения, ощутили силу и начали тяготеть к Персии. Еще будучи регентом, в 2004 г. Абдалла обвинил Иран в «обращении» иракских суннитов в шиитов и высказал опасения по поводу усиления последних. Но стратегия Эр-Рияда в Ираке оказалась провальной, и он уступил Тегерану значительные позиции в определении хода политических событий. Влияние саудитов на выборы и последующее формирование коалиций в 2010 и 2014 гг. было минимальным. Кроме того, ограниченные успехи Ирака в борьбе с угрозой Исламского халифата были обусловлены иранской поддержкой. Таким образом, Ирак превратился не только в шиитское арабское государство, но и в некотором смысле в доверенное лицо Тегерана в арабском мире.
Выборы в Палестинской автономии в январе 2006 г. обострили внутренний конфликт между возглавляемой ФАТХ Палестинской национальной администрацией (ПНА) и группировкой ХАМАС, победившей на выборах. Саудовская Аравия выступила посредником. 8 февраля 2007 г. в присутствии короля Абдаллы глава ПНА Махмуд Аббас и лидер ХАМАС Халед Машаль подписали соглашение из четырех пунктов в священном для мусульман городе («Декларация Мекки»). Спустя несколько недель столкновения вспыхнули вновь, в результате ХАМАС захватил сектор Газа. Таким образом, с июня 2007 г. палестинские территории разделены на Западный берег, которым управляет ФАТХ-ПНА, и контролируемый ХАМАС сектор Газа. В свете этого провала, когда Израиль начал 50-дневную операцию «Нерушимая скала», медиатором выступил Катар, а не Саудовская Аравия.
Таифское соглашение, достигнутое при посредничестве Саудовской Аравии в 1989 г., закончилось 15-летней гражданской войной в Ливане. Основные положения документа, в частности разоружение всех сторон, прежде всего «Хезболлы», не были реализованы из-за противодействия Сирии. Напротив, соглашение легитимировало контроль Дамаска над Ливаном напрямую или через посредников. Рафик Харири, заработавший свое состояние в Саудовской Аравии, попытался восстановить страну, но был убит в феврале 2004 г., что сыграло против Эр-Рияда. Даже после спешного вывода сирийских войск из Ливана в апреле 2005 г. и неохотного дипломатического признания ею независимости Ливана в 2008 г. Эр-Рияд мог играть лишь второстепенную роль в событиях. Избрание президентом бывшего командующего армией Мишеля Сулеймана в 2008 г. стало возможным только благодаря вмешательству Катара, который после неудач Саудовской Аравии пришел на помощь в разрешении политического кризиса 2006–2008 годов.
В первые дни Второй ливанской войны летом 2006 г. Эр-Рияд осудил «Хезболлу» за «авантюрное» похищение двух израильских солдат, которое привело к полномасштабной военной кампании Израиля. К несчастью для Аль-Саудов, шиитская группировка смогла выдержать 33-дневную израильскую операцию (хотя и ценой огромных потерь среди мирного населения Ливана), а глава шиитской «Хезболлы» Хасан Насрулла стал самым популярным лидером среди арабов-суннитов на Ближнем Востоке. Это заставило Саудовскую Аравию изменить позицию и поддержать «ливанское сопротивление». С тех пор активного вмешательства Эр-Рияда в ливанскую политику не наблюдается.
Саудовский подход к «арабской весне» оказался цепью промахов. Когда тунисцы подняли восстание против 20-летнего авторитарного правления Зин эль-Абидина Бен Али, Эр-Рияд предложил ему вместе с семьей и накопленным богатством перебраться в Саудовскую Аравию. Это соответствовало саудовской практике предоставлять убежище мусульманским лидерам, которым угрожали на родине. Так, пакистанский премьер Наваз Шариф укрывался в Саудовский Аравии, пока генерал Первез Мушарраф, совершивший переворот, грозился его казнить. Здесь же провел последние годы жизни бывший президент Уганды Иди Амин.
Когда тысячи протестующих на площади Тахрир требовали прекращения 30-летнего правления Мубарака, король Абдалла поддержал руководство страны и призвал египтян «не рисковать безопасностью и стабильностью» своего государства. Долгое время Эр-Рияд считал Мубарака близким союзником, а падение его режима и возможный подъем «Братьев-мусульман» нервировали Абдаллу. Короткое президентство Мухаммеда Мурси стало напряженным периодом двусторонних отношений, и Эр-Рияд быстро поддержал мягкий военный переворот, в результате которого в июле 2013 г. Мурси был свергнут. Кризис в Египте и различные позиции в отношении Мурси и военного переворота отчасти обусловили напряженность между Эр-Риядом и Дохой и временный разрыв дипотношений в 2014 году.
В разгар народных протестов в мае 2011 г. арабские государства договорились «рассмотреть» заявки Иордании и Марокко на членство в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), состоящем из шести стран. Этот шаг, считавшийся инициативой Саудовской Аравии, не имел ни географической, ни политико-экономической логики. Марокко вообще расположено далеко от Персидского залива, а единственный порт Иордании находится в заливе Акаба в Красном море и не может считаться побережьем Персидского залива. Кроме того, в отличие от членов ССАГПЗ два государства-кандидата не живут за счет доходов от единственного ресурса. Помимо трансформации объединения в монархический клуб этот шаг не имел логики и поэтому не дал заметных результатов.
Из-за нестабильной социально-политической ситуации и нехватки ресурсов Иордания оказалась в зависимости от политической поддержки и экономической щедрости Эр-Рияда. Объем саудовской помощи практически не попадал в СМИ, однако регулярные визиты в Саудовскую Аравию короля Абдаллы II и его сына Хусейна говорят о неустойчивости ситуации. Тот факт, что Эр-Рияд попросил Амман занять предложенное Саудовской Аравии место непостоянного члена Совета Безопасности ООН, подчеркивает близость двух государств. Иордания впервые стала членом СБ с момента вступления в ООН в 1956 году. По мнению некоторых наблюдателей, политическое и экономическое влияние Эр-Рияда заставило Амман замедлить реформы и занять жесткую позицию в отношении Фронта исламского действия, политического крыла «Братьев-мусульман» в Иордании. Если бы не внешнее давление, король Абдалла II, вероятно, больше прислушивался бы к требованиям населения, в особенности в вопросах избирательного законодательства и проведения свободных выборов.
Саудовское вмешательство в Сирии усложнило ситуацию и стало ключевым фактором продолжающегося насилия. Проблема заключается не в том, правильна или нет политика Саудовской Аравии, а в ее эффективности. С президента Башара Асада нельзя снимать ответственность за гражданскую войну и раскол страны. В то же время саудовская поддержка различных антиасадовских салафитских сил продлевает кризис. Исламистские группировки, которые поддерживают Саудовская Аравия и другие страны, не являются политически едиными и эффективными в военном плане. Хотя вмешательство Ирана, в основном через «Хезболлу», но и напрямую тоже, также способствовало эскалации кризиса, Тегеран обладает средствами, чтобы добиться политического урегулирования. Это подтвердила готовность США подключить Иран к мирным переговорам в Женеве.
Политика в отношении Йемена, включающая прямые военные интервенции, демонстрирует стремление Саудовской Аравии сохранить страну в числе своих союзников. В апреле 2015 г. Эр-Рияд начал военную кампанию против повстанцев-хуситов, которых поддержал Иран, но особых успехов добиться не удалось. Самая благоприятная ситуация складывалась, когда Абдалла Салех еще пребывал у власти и зависел от Эр-Рияда. После нападения на президентский дворец в июне 2011 г. он 12 недель находился на лечении в Саудовской Аравии, именно тогда у монархии был наилучший шанс добиться политического урегулирования. Эр-Рияд не использовал свое влияние, чтобы обеспечить выполнение соглашения о передаче власти, заключенное в ноябре 2011 года.
Саудовские интересы и вмешательство в дела Бахрейна были более явными, чем в других странах. Любые беспорядки в соседнем государстве – «красная черта» для саудитов, особенно если речь идет о шиитском населении. После того как 15 февраля 2011 г. на Жемчужной площади, которую называют «бахрейнским Тахриром», вспыхнули народные протесты, беспорядки в островной монархии описывают как религиозную проблему, а не результат социально-политических требований обездоленных бахрейнцев. Поскольку демография говорит в пользу шиитов, составляющих, по оценкам ЦРУ, 60–70% населения, протесты в Бахрейне – плохая новость для Аль-Саудов. Большинство саудовских шиитов живет в нефтеносной Восточной провинции, и после исламской революции в Иране Аль-Сауды столкнулись с растущими ожиданиями шиитского меньшинства. Длительное пренебрежение со стороны ваххабитского духовенства вышло на политический уровень после захвата мечети в Мекке менее чем через год после триумфального возвращения аятоллы Хомейни в Тегеран. Помимо прочего Саудовская Аравия запретила Ашуру – день траура по имамам Али и Хусейну у шиитов. Поэтому любые уступки шиитскому населению в Бахрейне вдохновили бы саудовских шиитов, отделенных лишь 25-километровым мостом короля Фахда.
По мнению некоторых экспертов, Эр-Рияд делает ставку на стареющего консервативного премьер-министра Бахрейна Халифу бен Салмана аль-Халифу (дядя короля), предпочитая его более либеральному и уступчивому наследному принцу Салману бен Хамаду Аль Халифе, сыну короля. Наблюдатели полагают, что вливания в экономику Бахрейна позволяют Аль-Саудам укреплять позиции консерваторов. Так, независимая комиссия, созданная королем, признала ответственность бахрейнской полиции и сил безопасности за гибель 46 человек во время протестов в 2011 г. и предложила меры по смягчению недовольства населения, но эти предложения не были реализованы. Кроме того, Бахрейн занимал жесткую позицию в отношении шиитского населения, даже когда король Абдалла был готов идти на компромисс с саудовскими шиитами. В апреле 2003 г. он принял шиитскую делегацию, в 2005 г. назначил первого шиита в Меджлис аш-Шура, а в 2009 г. разрешил публичные траурные мероприятия в день Ашуры. После того как в январе 2015 г. королем Саудовской Аравии стал Салман, некоторые из этих инициатив были остановлены, показательный пример – казнь шиитского проповедника Нимра ан-Нимра.
Низкий уровень результативности всех этих усилий наблюдается в период, когда три главных опоры саудовской власти – ислам, нефтяные доходы и американские обязательства – оказались под угрозой.
Опоры саудовской власти
Проекция силы Саудовской Аравии базируется на трех главных опорах: исламский фактор, нефтяная мощь и близость с Соединенными Штатами. По разным причинам все эти три фактора сейчас находятся на спаде, что подрывает эффективность проецирования силы Саудовской Аравии.
Ислам всегда являлся важным фактором лидерских амбиций Саудовской Аравии. С момента основания третьего саудовского государства в 1932 г. Аль-Сауды были заинтересованы в расширении своего влияния, особенно более консервативного ваххабитского ислама. Британское присутствие в регионе Персидского залива препятствовало прямому вмешательству Саудовской Аравии в дела тогдашних протекторатов. Однако это не мешало саудовскому влиянию в форме религиозного консерватизма, особенно в соседних Кувейте и Катаре. Во время гражданской войны в Йемене (1962–1970) саудиты поддержали роялистов, в то время как президент Египта Гамаль Абдель Насер выступил на стороне республиканцев.
Создание Организации Исламская конференция (ОИК, в
2011 г. переименована в Организацию исламского сотрудничества) в 1969 г. означало, что Саудовская Аравия пришла на смену Египту и стала новым лидером арабского мира. С учетом огромных богатств, накопленных в результате нефтяного кризиса 1973 г., некоторое время Саудовская Аравия являлась некоронованным лидером мусульманского мира. Исламская революция в соседнем Иране (1979), опирающаяся на шиитскую концепцию справедливости и сопротивления, стала ударом по саудовскому доминированию, бросив вызов основанному на ваххабизме консерватизму суннитского большинства. Это был конфликт не просто между суннитами и шиитами, а между консервативным статус-кво, представленным Саудовской Аравией, и революционным рвением, выпущенным на свободу аятоллой Хомейни. После первоначальной риторики, призывавшей к аналогичным народным революциям против суннитских монархий, иранские аятоллы стали говорить не о шиитской, а о более широкой исламской революции.
Некоторое время стороны были заняты другими делами. Эр-Рияд старался продвигать свою форму ислама в Афганистане в противовес советскому влиянию, а Тегеран увяз в войне с Ираком. Аятоллы не только выдержали разрушительную войну, но и сохранили режим, несмотря на внутренние и внешние угрозы. Успех Саудовской Аравии – вывод советских войск из Афганистана – сопровождался буйством моджахедов и афганских арабов, которые вернулись в свои страны и хотели строить ориентированное на ислам общество. Пока исламский экстремизм распространялся в других странах, Эр-Рияд был доволен и продолжал оказывать идеологическую и политическую поддержку. В 1990-е гг. Саудовская Аравия поддержала «Талибан» в постсоветском Афганистане и стала одной из трех стран (вместе с Пакистаном и ОАЭ), признавших режим. Афганский джихад против коммунистов-безбожников в конечном итоге стал основой для появления многочисленных радикальных группировок.
Безразличие и благодушие Саудовской Аравии по отношению к исламскому экстремизму и насилию оказались опасными и обошлись очень дорого. Саудовец Усама бен Ладен, входивший в число афганских арабов, поставил под вопрос исламские позиции Аль-Саудов из-за нарушения ими главных доктрин ваххабизма. Последней каплей стали действия короля Фахда, который опирался на неверных американских женщин-солдат, защищавших священную исламскую землю во время кувейтского кризиса. В процессе делегитимации Аль-Саудов возникли различные исламские группировки и теологи, бросившие вызов правящей династии, легитимность которой базируется на историческом соглашении между Аль-Саудами и Мухаммедом Абд аль-Ваххабом.
Результатом всего этого стали катастрофические теракты в США 11 сентября 2001 года. Участие в терактах 15 саудовцев было следствием консервативного образования в саудовских школах и поддержки Эр-Риядом различных салафитских джихадистских организаций по всему миру. В частности, Всемирная мусульманская лига, базирующаяся в Мекке, поддерживала многие экстремистские группировки, пока это не вредило саудовским интересам. Экспорт ваххабизма в конечном итоге вернулся бумерангом: теракты 11 сентября не только испортили репутацию Саудовской Аравии на Западе, но и вызвали сомнения по поводу мирной природы ислама и его последователей. Тогдашний регент, а затем король Абдалла пытался решать проблему путем косметических мер и смены вывесок. Поскольку ислам лежит в основе легитимности правящей династии, пространство для маневра ограничено, особенно в таких вопросах, как права женщин и половая сегрегация. Политика Саудовской Аравии способствовала исламофобии на Западе, где монархию стали считать олицетворением всего неправильного в исламе и мусульманах.
Cуннитское богословие традиционно предпочитает несправедливых правителей хаосу, но это не мешает правоверным мусульманам ставить под сомнение основы власти своих лидеров. Продвижение Саудовской Аравией консервативного ваххабитского ислама стало рассматриваться как исток религиозного экстремизма в разных регионах мира. Демонизация других религий, включая иудаизм и христианство, и представление о шиитах как еретиках не укладывались в мировой порядок после терактов 11 сентября.
В это время на Ближнем Востоке и в других регионах возникли альтернативные исламские модели управления. Институт верховного лидера и доминирование духовенства в Иране сочетается с регулярными выборами и сменой президентов. Смена руководства путем голосования стала нормой во многих мусульманских странах за пределами Ближнего Востока, включая Индонезию и Бангладеш. С 2003 г. принципы исламской демократии, сформулированные турецкой Партией справедливости и развития (ПСР), стали более привлекательными как для Запада, так и для мусульманского населения. К сожалению, Аль-Сауды не пошли дальше совещательного органа – Меджлиса аш-Шура и муниципальных выборов. Пока другие исламские государства экспериментируют с новыми формами управления, в Саудовской Аравии представители одной династии – старые, больные сыновья короля-основателя, умершего в 1953 г., – передают власть друг другу.
Ваххабизм, продвигаемый саудовским государством, не является умеренным и не служит моделью для других. Те, кто ищет умеренные варианты, смотрят на исламских демократов в Турции, Иране или Тунисе, а для тех, кто стремится к фундаменталистской, салафитской форме ислама, более привлекательны «Аль-Каида» и Исламский халифат. Поэтому сегодня у саудовского ислама гораздо меньше последователей, чем в прошлом.
Второй источник власти Саудовской Аравии – богатство и влияние, которые она приобрела в результате нефтяного кризиса 1973 года. Режим, выживавший благодаря ежегодной помощи Великобритании в размере 20 тыс. фунтов, неожиданно превратился в состоятельное государство с огромным фондом благосостояния, способное привлекать иностранные технологии, человеческие ресурсы, инфраструктурный опыт. Настроенный менее радикально, чем режимы баасистов в Ираке и Сирии, Эр-Рияд занимался арабо-израильским конфликтом и с 1970-х гг. играл заметную роль в международном признании политических прав палестинцев. Несмотря на идеологическую близость с ХАМАС, Аль-Сауды больше поддерживали преимущественно светскую Организацию освобождения Палестины во главе с Ясиром Арафатом. Когда иракские и сирийские руководители оказывали содействие отколовшимся палестинским группировкам и даже угрожали лично Арафату, он мог положиться на политическую и финансовую помощь Саудовской Аравии. На короткое время доходы от нефти позволили монархии занять лидирующие позиции в исламском мире, что подкреплялось расположением на ее территории двух священных для мусульман городов – Мекки и Медины.
Саудовская Аравия обладает не только крупнейшими доказанными запасами нефти в мире, но и самыми большими производственными мощностями. Аккуратно используя оба этих преимущества с начала 1970-х гг., она превратилась в нефтяного гиганта. Благодаря избыточным мощностям Саудовской Аравии удавалось обеспечивать доступность нефти в периоды дефицита ресурса или региональных кризисов, а также стабилизировать ситуацию на рынке и управлять механизмом ценообразования. Длительные двусторонние и многосторонние санкции против Ирана (с 1979 г.) и Ирака (с 1990 г.) позволяли монархии оставаться бесспорным лидером на энергетическом рынке. Она играла главную роль в обеспечении поставок во время ирано-иракской войны, кувейтского кризиса и после вторжения в Ирак коалиции во главе с США.
Однако ситуация меняется. С начала 2000-х гг. Россия стала крупным игроком на нефтегазовом рынке. Появились такие альтернативы, как сланцевый газ. В производственных мощностях Саудовской Аравии наблюдается стагнация. Высокие цены на нефть в середине 2014 г. – до 110 долларов за баррель – были спекулятивными и не являлись следствием сокращения производства или нарушения поставок. Длительный бойкот Западом иранской и иракской нефти не способствовал дисциплине в ОПЕК. Когда Ирак, а теперь и Иран, вернулись на рынок, страны ОПЕК уже производили 1 млн баррелей в день сверх согласованных квот. Эти факторы привели к падению цен с мая 2015 года. После подписания соглашения по ядерной программе облегчение и снятие санкций, касающихся нефтяной отрасли, открывает путь для иранской нефти. Рынок будет наводнен нефтью: в конце 2015 г. Иран производил 3 млн баррелей в день при квоте в ОПЕК 3,6 миллиона. Некоторые аналитики винят Саудовскую Аравию в падении цен и видят в этом стратегию, призванную ограничить доходы Тегерана от снятия санкций. В начале января нефть упала ниже 30 долларов за баррель, поэтому в краткосрочной перспективе Иран не получит прибыли от снятия санкций.
Но падение цен на нефть – плохая новость и для самой Саудовской Аравии. Дефицит ее текущего платежного баланса увеличился, поэтому пришлось брать средства из фонда благосостояния и других резервов, чтобы обеспечить функционирование механизмов социального государства. Саудовцам уже предложили задуматься о введении налогов. Сделать это будет непросто. Система благосостояния, основанная на доходах от нефти, позволяет Аль-Саудам управлять страной как они считают нужным, без общественного контроля и подотчетности. Если населению придется платить налоги, даже символические, такое положение станет невозможным.
Падение цен на нефть также затруднит использование Саудовской Аравией «дипломатии с чековой книжкой» для разрешения проблем и ослабления региональной напряженности. Например, президент Сирии Хафез Асад был вовлечен в операцию «Буря в пустыне» против Саддама Хусейна после того, как Саудовская Аравия списала его стране долг в 2,5 млрд долларов. В рамках ССАГПЗ финансовая помощь была обещана Иордании и Марокко, когда те столкнулись с народными протестами во время «арабской весны». По мнению экспертов, помощь соседа составляет значительную долю бюджета Бахрейна. Кампания в Йемене обходится в 5 млн долларов в день, миллионы долларов тратятся на Сирию. В марте 2015 г. Эр-Рияд пообещал 4 млрд долларов президенту Египта Абдул Фаттаху ас-Сиси на стабилизацию экономики. Участие в многочисленных конфликтах в регионе, включая Ливан, Судан, Ирак, Ливию и Палестину, подразумевает значительную финансовую помощь государственным и негосударственным акторам. Поэтому падение цен на нефть станет препятствием для использования финансов в качестве инструмента дипломатии, как это привыкла делать Саудовская Аравия.
Третьим источником власти являлись непоколебимые обязательства Соединенных Штатов. Основы тесных связей двух стран были заложены в феврале 1945 г. на встрече президента Рузвельта с королем Ибн Саудом на корабле ВМС США «Куинси» после Мальтийской конференции. Политический реализм и схожесть стратегических позиций, несмотря на идеологическую несовместимость, обеспечили длительное партнерство. Без прочных американских обязательств монархия не смогла бы использовать исламский фактор и доходы от нефти, чтобы стать региональным игроком. Турбулентность региона и стратегические опасения вынуждали и демократов, и республиканцев идти на компромисс в чувствительных для Саудовской Аравии вопросах, включая гендерные права, права человека, демократию, коррупцию и т.д. Желание американцев получать энергоресурсы по стабильным ценам позволило Эр-Рияду добиться особого статуса, особенно после свержения шейха в Иране в 1979 году. Зависимость и влияние были взаимными, иногда монархии удавалось преодолеть опасения и аргументы произраильских кругов в Вашингтоне.
Однако отношения стали более напряженными в результате различных факторов, сделавших вмешательство в международные конфликты, особенно на Ближнем Востоке, менее привлекательным для Америки. Две дорогостоящие и непродуманные военные кампании в Афганистане и Ираке после терактов 11 сентября совпали с кризисом на рынке недвижимости и отсутствием четкой стратегии в Вашингтоне. У Соединенных Штатов не было не только ясно определенной стратегической цели в регионе, но и политической воли, чтобы преследовать свои интересы. Роль энергетики в ближневосточных расчетах также претерпела изменения, поскольку США менее заинтересованы и, следовательно, менее связаны обязательствами по обеспечению энергетической безопасности своих союзников. Нерешительность Америки проявилась во время массовых протестов против деспотичных режимов в арабских странах. Давние американские союзники, такие как Хосни Мубарак, чувствовали, что администрация Обамы их предала, а протестующие были разочарованы слабой поддержкой демократов. Сближение американской администрации с Мухаммедом Мурси не порадовало Эр-Рияд.
Однако самые заметные признаки деградации отношений США и Саудовской Аравии можно увидеть в стремлении Вашингтона заключить соглашение по ядерной программе Ирана, которое было подписано 14 июля 2015 года. Некоторое время Эр-Рияд выражал недовольство тем, что Америка пренебрегает его опасениями в отношении Ирана, особенно в сфере ядерной безопасности. Обеспокоенность, высказывавшаяся по дипломатическим каналам, стала достоянием общественности благодаря WikiLeaks. Отказ Саудовской Аравии занять кресло непостоянного члена Совета Безопасности ООН интерпретировался как признак недовольства политикой Соединенных Штатов по целому ряду вопросов, прежде всего по Ирану. Хотя Вашингтон отрицает это, ядерное соглашение означает тектонический сдвиг на Ближнем Востоке, а США отдаляются от своего давнего ваххабитского друга, предпочтя ему иранского аятоллу. Даже если американо-иранские связи не вернутся к уровню дружбы, существовавшей до 1979 г., игнорируя опасения Саудовской Аравии, президент Обама изменил приоритеты, и на передний план политико-дипломатической вовлеченности США в дела Ближнего Востока вышла проблема «Исламского государства» (запрещено в России. – Ред.). Восприятие Саудовской Аравии как близкого союзника Соединенных Штатов в регионе, особенно после свержения шаха в Иране, являлось ключевым фактором ее доминирования и дипломатических успехов. Поэтому ослабление американского влияния в регионе и невнимание к опасениям Эр-Рияда подрывает позиции последнего.
На фоне отрицательной реакции на связи монархии с исламом после терактов 11 сентября ходили разговоры, что Саудовская Аравия повернется на восток и будет искать друзей в лице Китая и России. Однако рост торговли и экономических связей не сопровождался политическими сдвигами. Саудовской Аравии также не удалось заручиться поддержкой новых друзей, которые могли бы компенсировать снижение интереса со стороны США. Так, давняя политическая и экономическая поддержка не заставила Пакистан поддержать саудовскую кампанию в Йемене.
Прогноз
Саудовская Аравия воспринимает Исламскую Республику Иран как главную угрозу – это понятно и даже легитимно, но способы, которые она использует, ошибочны и контрпродуктивны. Три основных опоры саудовской власти – ислам, нефть и патронат США – существенно ослабли в последние годы, и страна нуждается в смене приоритетов и политической стратегии. Эпоха дипломатии с чековой книжкой закончилась, Эр-Рияду придется больше инвестировать в традиционную дипломатию, учитывая, что чеки уменьшаются, а их эффективность снижается. Провал многочисленных саудовских дипломатических инициатив усугубляется неэффективной политикой в отношении Тегерана. Это привело к расширению сферы иранских интересов и заложило фундамент для неоспоримого господства Тегерана в регионе Персидского залива. Иными словами, Аль-Сауды, сами того не ведая, поспособствовали доминированию Ирана на Ближнем Востоке.

Пора быть жестче с Тегераном
Элиот Коэн, Рей Такей, Эрик Эдельман
Политика Ирана после ядерной сделки
Элиот Коэн – профессор стратегических исследований на факультете передовых международных исследований Джона Хопкинса.
Рей Такей – старший научный сотрудник Совета по внешним связям. Вместе со Стивеном Саймоном он написал книгу «Прагматичная сверхдержава: победа в холодной войне на Ближнем Востоке».
Эрик Эдельман – заслуженный советник по практике в Центре стратегических исследований Филиппа Мерила при факультете передовых международных исследований Джона Хопкинса.
Резюме Конфронтация между США и Ираном – это конфликт между единственной сверхдержавой мира и второсортной автократией. Решительная политика давления приблизит тот день, когда иранский народ устранит режим, обрекающий его на многочисленные лишения.
Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 1, 2016 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
Ядерная сделка, которую Соединенные Штаты и пять других великих держав заключили с Ираном в июле 2015 г., – плод десятилетних усилий по контролю над вооружениями. Эти усилия включали санкции с целью помешать Ирану в развитии ядерного потенциала. Считается, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) – одно из самых неудачных соглашений в области контроля над вооружениями за всю историю. Но президент Барак Обама твердо пообещал посвятить оставшееся время на президентском посту тому, чтобы всячески сопротивляться нажиму Конгресса, требующему скорректировать условия договора.
Еще более серьезная проблема – отсутствие у Вашингтона комплексной политики в отношении Ирана. На протяжении нескольких десятилетий США отказывались замечать природу и сущность иранского режима, хотя именно это делает ядерную проблему столь важной. При обсуждении политики Ирана следует прежде всего исходить из того, что Исламская Республика – не традиционное государство, прагматично оценивающее свои интересы, а революционный режим.
Со времен президента Рональда Рейгана американские политики не могут понять простую истину: никакого настоящего сближения между правительствами наших двух стран не может быть в принципе, поскольку это подорвало бы основы иранского режима, как их понимают лидеры Ирана. Из поля зрения наших политиков ускользает тот факт, что Иран – исключительно опасное государство для соседних стран, для ближайших союзников Соединенных Штатов, таких как Израиль, и для стабильности на Ближнем Востоке в широком понимании. С учетом серьезного вызова, который Тегеран бросает интересам США, Вашингтону следует стремиться к ослаблению влияния этой страны на Ближнем Востоке, а также систематически размывать основы ее власти. В долгосрочной перспективе Исламская Республика пойдет по стопам Советского Союза и других идеологических реликтов XX века. Иными словами, режим ожидает неминуемый крах. Но до этого момента между Вашингтоном и Тегераном не может быть реального мира.
Сырая сделка
Никакая разумная политика в отношении Ирана не может сосуществовать с СВПД в том виде, в каком план был подписан, поскольку он признает за Тегераном право создавать развитую ядерную инфраструктуру для научных исследований и разработок. В нем предусмотрена система проверок, по которой Ирану дается слишком много времени от даты оповещения до приезда инспекторов, и которая не вводит никаких серьезных ограничений на разработку баллистических ракет – основы любой программы ядерных вооружений. План не предусматривает надлежащего доступа к инфраструктуре и ученым, участвовавшим в работе над ядерным оружием в прошлом, тем самым лишая инспекторов возможности получения необходимой информации для оценки масштабов нынешней программы Ирана. Через 15 лет, когда закончится срок действия соглашения, Иран сможет беспрепятственно строить любое число ядерных установок и накапливать столько обогащенного урана, сколько пожелает, а также обогащать уран до любого уровня. По сути СВПД утверждает Иран в роли пограничной ядерной державы сегодня и прокладывает путь для создания ядерного оружия в будущем.
Это соглашение также побудит региональных противников Ирана стать ядерными державами. Суннитские конкуренты Ирана за власть в регионе – в частности, Саудовская Аравия – вряд ли будут стоять в стороне, наблюдая за тем, как Иран становится ядерной державой без всяких ограничений по обогащению урана. Объединенные Арабские Эмираты, отказавшиеся от обогащения урана в рамках соглашения по ядерной энергетике с США, сегодня пересматривают свое обещание. Ирония в том, что администрация Обамы, вероятно, спровоцирует ту самую гонку ядерных вооружений, которую надеялась предотвратить.
Сторонники сделки указывают на то, что экономические лишения вынудили Тегеран с ней согласиться. Однако Иран был также мотивирован научными потребностями в процессе создания ядерных вооружений. Большую часть времени ядерная программа страдала от саботажа и санкций, довольствуясь примитивными центрифугами. Как признался один из ведущих иранских переговорщиков Хамид Байдинежад, научный истеблишмент Ирана понял, что надежная ядерная программа в промышленных масштабах потребует передовых центрифуг, которые работают в 20 раз быстрее примитивных аналогов. И иранские официальные лица осознали, что нужно защитить свою программу от саботажа и возможного военного возмездия. Проблема в том, что на замену старых центрифуг уйдет от 8 до 10 лет. Поэтому главная задача иранской дипломатии состояла в том, чтобы узаконить ядерную программу, ведя переговоры о графике научных исследований и разработок, который бы удовлетворил нужды иранских ученых.
Итоговый текст соглашения соответствовал их потребностям. СВПД позволяет Ирану разрабатывать передовые центрифуги и начать их установку на восьмой год действия соглашения. Таким образом, Тегеран добился не только снятия санкций и узаконивания своей ядерной программы; он также договорился о времени, которое ему потребуется, чтобы начать массовое производство передовых центрифуг. Описывая достижения своих переговорщиков, иранский президент Хасан Роухани особо подчеркнул «разработку новых центрифуг – от концепции до массового производства». Новое поколение центрифуг настолько быстро и эффективно, что Иран может легко построить небольшое устройство, производящее уран оружейного качества, которое невозможно обнаружить. А когда Иран получит оружейный уран, у него под рукой уже будет целый парк надежных баллистических ракет.
Пересмотр и повторное представление
Учитывая многочисленные тревожные моменты в СВПД, следующий президент США должен настоять на его пересмотре. Даже государственный секретарь Джон Керри признал, что будущей администрации, возможно, придется найти «какой-то способ для его усиления». На самом деле есть несколько способов.
Самое важное – пересмотреть положение об истечении срока действия, согласно которому самые важные ограничения, наложенные на ядерную программу Ирана, будут сняты через 8 лет. Вместо того чтобы устанавливать произвольные сроки, американским официальным лицам следует настоять на том, чтобы по истечении нынешнего договора США, пять других великих держав, подписавших соглашение, и Иран провели голосование и решили большинством голосов, следует ли продлить оговоренные ограничения еще на пять лет. Подобное голосование следует проводить каждые пять лет. Прецедентом служит Договор о нераспространении ядерных вооружений: после истечения срока его действия подавляющее большинство стран-участниц проголосовали за бессрочное продление договора.
Соединенным Штатам также следует призвать Тегеран навсегда вывезти весь обогащенный уран из страны. В конце концов, в СВПД оговорено, что отработанное плутониевое топливо будет постоянно вывозиться из Ирана; аналогичный процесс нужно предусмотреть и для обогащенного урана. С учетом того, что новое поколение центрифуг резко расширит возможности по обогащению и сократит время, требуемое для получения оружейного урана, Соединенным Штатам следует настаивать на том, чтобы Иран имел центрифуги только старого поколения. Что касается баллистических ракет, то их единственная функция – доставка ядерного груза, поэтому мировому сообществу следует и дальше требовать, чтобы Иран навсегда отказался от разработки таких ракет.
США также нужно добиваться более жестких инспекций. Согласно нынешнему плану, Ирану дается 24 дня для допуска инспекторов на определенные объекты. Это не означает инспекции «в любое время и в любом месте», которые обещал Белый дом. При пересмотре условий сделки следует опираться на опыт ЮАР, которая демонтировала свое ядерное оружие примерно в 1990 году. Страна предоставила Международному агентству по ядерной энергии полный отчет об истории ядерных испытаний и разработок и позволила инспектировать военные установки при уведомлении за сутки. Поскольку ЮАР приняла решение о разоружении, у нее не было особых возражений против подобных требований. Если Иран намерен доказать наличие у него доброй воли, он должен согласиться с аналогичным планом проверок.
По мнению администрации Обамы, любая попытка пересмотреть процедуры СВПД воспламенит международную критику и изолирует Соединенные Штаты от союзников. Делающие подобные нервные заявления игнорируют тот факт, что СВПД – не юридически обязывающий договор, а добровольное политическое соглашение. Более того, СВПД не пользуется поддержкой американской общественности или ее представителей в Конгрессе. Новый президент может и должен пересмотреть его.
Считается, что союзники США не поддержат пересмотр СВПД. Будучи продуктом мучительных многосторонних усилий, документ получил единодушное одобрение в Совете Безопасности. Вместе с тем большинство ближневосточных союзников Вашингтона приветствовали бы изменения. Израиль – противник этой сделки; страны Персидского залива, такие как Саудовская Аравия, дали понять, что неохотно поддержали СВПД – в основном чтобы сделать что-то приятное для администрации Обамы.
Труднее будет убедить Францию, Германию и Великобританию. Следующему президенту нужно дать ясно понять союзникам, что он или она готов вести переговоры с Ираном, но не допустит появления у него ядерного потенциала. В частных беседах американским дипломатам необходимо донести до европейских стран, что их реакция на поправки к СВПД повлияет на отношения с Соединенными Штатами. Решительно настроенный президент мог бы мобилизовать мировое сообщество вокруг требований, способных ощутимо усилить соглашение, и заручиться поддержкой обеих партий внутри США.
Сторонники СВПД предполагают, что Иран никогда не согласится с его пересмотром. Но страны в конце концов приходят к договоренностям, которые когда-то казались невозможными. В начале 1980-х гг. в ходе переговоров с СССР о контроле над вооружениями Рейгана критиковали за наивность, поскольку он настаивал, чтобы Советский Союз вывел из Европы все ракеты среднего радиуса действия, и тем не менее в 1987 г. Москва именно это и сделала. Столкнувшись с серьезными внутренними проблемами, Советы были вынуждены пойти на уступки. То же можно сказать сегодня и об Иране, особенно если США окажут на него более сильное давление и проявят терпение.
Изолировать и принудить
Помимо пересмотра ядерного соглашения, Соединенным Штатам следует наказать Тегеран за агрессивность в регионе, спонсирование терроризма и нарушение прав человека. Для этого необходимо отделить Иран от мировой экономики, по возможности восстановив архитектуру санкций. (Как согласился Керри, несмотря на сделку, любая иранская организация, причастная к терроризму или нарушению прав человека, все еще может подвергнуться санкциям.) США также нужно начать политическую кампанию, чтобы усилить разочарование иранской общественности в режиме и углубить раскол в правящей элите.
Администрация Обамы проявляет удивительное нежелание критиковать Исламскую Республику за внутренние злоупотребления. Похоже, что Белый дом так отчаянно пытался заключить ядерную сделку, что отказался от критики правителей Ирана, несмотря на тюремное заточение диссидентов, нечестные выборы, цензуру средств массовой информации и казни заключенных. Моральный долг Соединенных Штатов – порицать эти преступления. И никакая стратегия давления не будет успешной без слаженных попыток осуждения Ирана за преступления против своих граждан.
Будущие историки будут рассматривать 2009-й как год решительных перемен в современном Иране. В июне того года вялая предвыборная кампания с участием слабых кандидатов на президентский пост внезапно превратилась в напряженную борьбу за политическую власть, когда иранцы вышли на улицы, протестуя против подтасовки итогов выборов. Этот эпизод лишил законности и легитимности теократическое правление и нарушил связи между государством и обществом. С тех пор политическое пространство в Иране сузилось, поскольку сторонники жесткой линии выхолостили левое крыло политического истеблишмента. Самые популярные политики были либо выведены из коридоров власти, либо брошены в тюрьму.
Избрание Роухани в 2013 г. не означало приход к власти нового реформистского крыла, как наивно полагали некоторые западные политики. Роухани не проявил заинтересованности в проведении демократических реформ или защите прав человека; его задача сводилась исключительно к стабилизации ядерного досье. Сегодня Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) правит государством, которое систематически очищается от нежелательных элементов, и все больше полагается на запугивание граждан для увековечивания своей власти.
Чтобы сделать Исламскую Республику нелегитимной, американские официальные лица должны начать подвергать сомнению ценности режима и его жизнеспособность. Им следует бичевать Иран как пережиток тоталитаризма XX века, который неизбежно вымрет – рано или поздно. Ни у кого нет большей власти для мобилизации разногласий за рубежом, чем у американского президента. Осуждение Рейганом Советского Союза сделало многое для того, чтобы пробудить к жизни реформаторские силы за железным занавесом. К сожалению, Обама, одаренный оратор, не поддерживает борьбу иранского народа за свободу. Это предстоит следующему президенту. Тем временем правительство Соединенных Штатов должно использовать телевидение, радио и социальные средства массовой информации для донесения сведений о том, что плохое управление клириков приводит лишь к экономическим лишениям и политическому бесправию. Оно должно разоблачить дорогостоящие империалистические авантюры Ирана и тот факт, что и без того скудные ресурсы используются для поддержки террористических организаций, как «Хезболла» в Ливане, а также таких деспотов, как Башар Асад в Сирии. Пора противопоставлять нынешнюю жизнь в Иране тому процветанию, которого можно было бы добиться при более ответственных правителях. В то же время Соединенным Штатам следует поощрять и предавать огласке факты измены внутри режима. Это может посеять семена сомнения и недоверия внутри и без того параноидального правительства.
Чтобы усилить давление, США следует направить некоторые санкции конкретно против той части режима, которая несет главную ответственность за репрессии, терроризм и региональную агрессию: КСИР. Эта группа хвастается существенными бизнес-активами в целом ряде отраслей, включая автомобильную промышленность, телекоммуникации, энергетику, строительство, машиностроение, кораблестроение и авиасообщение. Вашингтону необходимо обложить эти активы дополнительными санкциями – любые фирмы, заключающие контракты с этими иранскими компаниями, должны лишиться доступа на американский рынок. Для облегчения такого шага Госдепартамент должен внести КСИР в перечень зарубежных террористических организаций. И правительству США следует включить больше официальных лиц из этой группы в список нарушителей прав человека.
Вашингтону также обязательно нужно сохранить санкции против финансового сектора Ирана. Эти ограничения не дают возможности проводить обычные сделки через мировую финансовую систему, что вполне оправданно. Американское Казначейство нередко выявляло разные преступления, совершаемые ведущими банками страны, включая финансирование распространения ядерных вооружений, терроризм и отмывание денег.
Соединенные Штаты совершили трагическую ошибку, промолчав во время иранских протестов в 2009 г., но Исламская Республика остается уязвимой для народных бунтов и волнений. С самого своего зарождения теократия борется с движениями, требующими отчетности и свободы. В начальные годы революции муллам пришлось подавлять целый ряд светских сил, желавших направить государство в более либеральное русло. В 1990-е гг. реформаторы настояли на проведении исламским правительством демократических реформ. А в 2009 г. «Зеленое движение» поколебало основы системы. О будущем Ирана известно только одно: в конце концов, появится еще одно протестное движение, и США должны быть готовы на этот раз поддержать его.
Вернуть регион на исходные позиции
Чтобы несговорчивые иранские муллы подчинились международным нормам, необходимо наглухо заделать вокруг них все стены. Оказывая давление на иранскую экономику и раскалывая иранское общество, США должны противодействовать влиянию Ирана на Ближнем Востоке. Оспаривая приобретения и выгоды Тегерана, Вашингтон может обречь режим на дополнительные издержки и способствовать региональной стабильности.
Это означает помощь региону в восстановлении разрушающихся государств и окончании многочисленных гражданских войн, поскольку Иран процветает во время хаоса. В настоящий момент он, похоже, достиг зенита своего могущества. Его близкие союзники доминируют в трех арабских столицах – Дамаске, Багдаде и Сане – и крайне влиятельны в четвертой, Бейруте. Сотни, если не тысячи его агентов и солдат воюют в Сирии за режим Асада. Имеются послушные Тегерану отряды партизан, легкой пехоты и террористов, объединенных в организацию «Хезболла», действующую на территории Ливана. Однако такая интенсивная деятельность чревата перенапряжением сил. Иран уже понес ощутимые потери на поле боя среди офицерского корпуса элитного подразделения «Кудс», неотъемлемой части Стражей революции. Если Тегеран будет отправлять еще больше бойцов в Сирию, потери вырастут. Тем временем Ирану приходится нести расходы на поддержание множества ополчений и террористических организаций, которые он субсидирует. Империализм может быть большим соблазном, но такая политика требует серьезных финансовых вливаний.
США противостоят Ирану, однако им нужна помощь союзников в регионе, которые должны нести определенную меру ответственности. Ни один из этих игроков не желает подчиняться имперским притязаниям Ирана, но когда Соединенные Штаты отступили, то решили перестраховаться и не поддерживать активно ни одного из двух противников. Пора закончить эту линию. Иракские политики, шейхи стран Персидского залива, сирийские повстанцы – все должны сыграть определенную роль в сдерживании имперских устремлений Ирана. Американским официальным лицам следует ясно дать понять арабским союзникам, что в обмен на защиту и охрану они должны оказать Вашингтону услугу: сократить торговые связи и уменьшить дипломатическое представительство в Тегеране. Когда лидеры Ирана будут смотреть за горизонт, то должны увидеть арабский мир, сплачивающийся против них под руководством США. Для создания новой антииранской коалиции потребуется нечто, чего не было у администрации Обамы: стратегия ужесточения ограничений в отношении Тегерана и углубление взаимоотношений с традиционными союзниками.
Это будет непросто. Пассивность Вашингтона привела к тому, что регион в настоящее время представляет собой водоворот конфликтующих групп и интересов, а американская общественность по понятным причинам обеспокоена любой политикой, требующей большого количества американских военных для проведения сухопутных военных кампаний. Недавнее добавление в общее уравнение российской военной мощи еще больше затрудняет положение.
Конечно, многих проблем можно было бы избежать, если бы США предоставили действенную помощь здравым элементам сирийской оппозиции в 2011 году. Сегодня это было бы затруднительно, если вообще возможно, поскольку сирийское население больше радикализировано, и группы экстремистов захватили большие территории. Тем не менее Соединенные Штаты все еще могут обучить, оснастить и вооружить своих доверенных лиц, способных нанести большой урон режиму. Главными среди них следует считать курдов, бойцов арабских племен и друзов. Но эти группы добьются значимых успехов, только если США позволят им атаковать режим Асада. Ранее проведенные программы обучения отчасти потерпели крах потому, что американцы требовали от повстанцев ограничиться боевыми действиями против ИГИЛ, поэтому у них возникали трудности с набором добровольцев. Более активная поддержка оппозиции и предоставление ей свободы действий, вне всякого сомнения, облегчило бы решение этих проблем, равно как и присутствие большего числа американских спецподразделений, включая передовых авианаводчиков внутри сирийских границ.
Чтобы склонить чашу весов в сторону противников Асада, придется также убедить Турцию изменить свои приоритеты в Сирии. До недавнего времени турки в первую очередь сражались с курдами, затем с Асадом, тогда как битва с ИГИЛ отходила на задний план. Выравнивание действий Анкары с приоритетами американской внешней политики потребует реального обмена мнениями вместо диалога глухих, как это происходит с 2011 года. Американским дипломатам придется продемонстрировать, что они разделяют желание Турции избавить Сирию от режима Асада. В свою очередь, туркам придется отказаться от войны с курдами как главного приоритета и сделать своими целями войну с Асадом и ИГИЛ. Турцию нужно убедить, что лучший способ улучшить отношения с курдами – вернуться к изначальной политике Реджепа Тайипа Эрдогана, нацеленной на улучшение их бедственного положения внутри Турции. Вашингтону также следует поддержать создание безопасной зоны для беженцев, которая почти наверняка потребует установления бесполетной зоны (Анкара давно уже хотела, чтобы США создали зону безопасности, но ее просьба наталкивалась на безразличие и высокомерное презрение). Безопасная зона, защищающая сирийское население от бочковых бомб Асада и атак с применением хлоргаза, помогла бы остановить поток беженцев и справиться с трагическими гуманитарными последствиями гражданской войны в Сирии. При правильном управлении зоной она была бы также видимой альтернативой жестокости правления ИГИЛ и позволила бы создать пространство, в котором разрасталась бы современная оппозиция суннитских арабов режиму Асада.
Критики создания Соединенными Штатами бесполетной зоны говорят, что с учетом присутствия российской авиации слишком высок риск случайного конфликта. Похоже, что именно по этой причине администрация Обамы отказалась от самой идеи. Но российский президент Владимир Путин, вне всякого сомнения, разделяет озабоченность США по поводу непреднамеренной конфронтации, и у него были бы веские основания, чтобы воздержаться от оспаривания бесполетной зоны. А продолжающиеся между Москвой и Вашингтоном дискуссии о способах предотвращения возможных конфликтов во время воздушной кампании в Сирии должны снизить вероятность прямого столкновения. Что касается гражданской войны в Сирии, администрация Обамы, похоже, считает, что военного решения не существует, а дипломатическое невозможно без участия России и Ирана. К сожалению, не совсем понятно, открыты ли эти две страны для подобного урегулирования. Но если даже открыты, они сделают все возможное, чтобы их доверенное лицо Асад находился в более выгодном положении до начала переговоров. В этом свете понятно, что антиасадовские силы должны отвоевать новые территории у режима, чтобы создать предпосылки для приемлемого урегулирования. В противном случае итогом переговоров станет капитуляция перед иранско-российским альянсом.
Объединение
Вашингтону следует попытаться уменьшить влияние Ирана в Багдаде. Задача не из легких, но она упрощается тем, что большинство иракских арабов, включая шиитов, не заинтересованы в том, чтобы служить Ирану. Главная цель – уничтожение ИГИЛ, чтобы уменьшить зависимость правительства Ирака от поддержки и помощи Ирана. Если США будут опираться на хорошие отношения с иракскими курдами, умеренными шиитами и суннитами Ирака, то Тегерану по крайней мере будет трудно использовать Ирак в качестве базы для своих более масштабных планов.
На практическом уровне Вашингтону следует требовать от Багдада более инклюзивного правления, чтобы центральное правительство создавало благоприятные условия для суннитов и курдов, а не только для шиитов. Оно должно служить интересам суннитских племен в масштабах, сопоставимых с теми, которые имели место на пике военного присутствия Соединенных Штатов в 2007 году. И оно должно увеличить помощь ополчению курдов и суннитов, а также активизировать воздушную кампанию против ИГИЛ в Ираке и Сирии и меньше полагаться на американский персонал в иракской армии. Повышенное присутствие США в Ираке не должно означать наращивания боевых подразделений. Ведь с увеличением американского контингента в Ираке повышается и риск потерь среди американских военных. Опять же американцы могли бы активнее участвовать в делах региона, если бы местные союзники проявили больше решимости, давая отпор Тегерану и его доверенным организациям.
Влияние Ирана на Ближнем Востоке выходит за границы Сирии и Ирака. В Йемене оно связано с успехами повстанцев-хуситов – шиитского племени, контролирующего сегодня большую часть территории страны. Государства Персидского залива возглавили вооруженный отпор хуситам. Если этим государствам нужна помощь, скажем, в поддержании блокады иранских кораблей, осуществляющих снабжение своих союзников, США должны ее предоставить. Только Вашингтон может обеспечить патрулирование всеобщего достояния – в том числе с помощью разведданных и постоянного наблюдения.
Соединенным Штатам нужно не только попытаться ослабить хватку Ирана в регионе, но и вернуть доверие Израиля и стран Персидского залива. Америка не сможет просто откупиться от них с помощью продажи новых вооружений, хотя и они понадобятся. Скорее официальные лица США должны проводить с Израилем и странами Залива постоянные консультации и глубоко обсуждать характер иранской проблемы для выработки всеобъемлющей стратегии, исходящей из того, что Иран остается главным стратегическим противником. Если это будет сделано, региональным соперникам Ирана станет легче координировать политику, а также тайную деятельность, а Соединенным Штатам – публично защищать меры противодействия влиянию Тегерана.
Договариваться со странами Залива о совместных действиях всегда было трудно, но после долгих лет пренебрежения со стороны администрации Обамы они, скорее всего, будут более восприимчивы к новой антииранской стратегии. США стоит помогать государствам Залива не только когда те сражаются с проиранскими формированиями в Сирии, Ираке и Йемене, но и в решении целого ряда других проблем. К ним относится защита от попыток Ирана подорвать их внутреннюю безопасность, защита экономической инфраструктуры (такой как нефтяные и газовые платформы, установки по опреснению воды и туристические объекты), а также недопущение блокады Ираном их энергетического экспорта по основным транзитным маршрутам.
Для противодействия Тегерану странам Залива понадобятся возможности, соизмеримые с вызовом. В частности, Соединенным Штатам стоит подумать о поставках систем защиты от управляемых ракет и минометных снарядов, таких как Centurion c-ram. США также могли бы выступить посредником на переговорах между Израилем и странами Залива, чтобы снабдить последних израильской версией системы «Железный купол» для защиты жизненно важной экономической и туристской инфраструктуры от иранских ракет. А в долгосрочной перспективе страны Персидского залива, обладающие достаточными финансовыми ресурсами даже при нынешних ценах на нефть, могут инвестировать в разработку следующего поколения противоракетных технологий, таких как лазерное оружие, которое снизит способность Ирана атаковать их.
Государства региона, имеющие внушительные силы специального назначения, такие как Иордания и Объединенные Арабские Эмираты, должны использовать это преимущество, чтобы помочь более уязвимым соседям, таким как Бахрейн, в решении проблем внутренней безопасности, а Вашингтон мог бы выступить посредником на переговорах между ними. Противники Тегерана в состоянии даже создать силы особого назначения для засылки их на территорию Ирана, чтобы эксплуатировать недовольство различных этнических меньшинств. Цель в том, чтобы заставить Иран дважды подумать, прежде чем продолжать кампанию региональной дестабилизации. Ему надо показать, что это обоюдоострый меч.
Наконец, странам Залива нужно уменьшить возможности Ирана душить нефтяной экспорт путем блокирования Ормузского пролива. Хотя они уже построили нефтепроводы в обход Залива, предстоит принять меры по увеличению пропускной способности этих нефтепроводов. Государствам Персидского залива нужно инвестировать в передовые ракеты класса «воздух-воздух», чтобы сбивать иранские крылатые ракеты класса «воздух-земля» и уничтожать противокорабельные крылатые ракеты. Эти системы следует также усиливать подлодками, способными вести охоту на надводные цели Ирана, включая его многочисленные небольшие катера.
Описанная повестка дня трудновыполнима для американских дипломатов и чиновников Пентагона; но даже простые консультации союзников относительно наиболее действенных способов противодействия сразу привлекут внимание Тегерана. Какими бы серьезными ни казались эти усилия, подобные масштабные планы понадобятся для того, чтобы отрезвить иранских лидеров и дать им понять, какую цену придется заплатить в случае дальнейшей дестабилизации Ближнего Востока. При правильной реализации такая стратегия вынудит Иран изменить внешнюю политику или приведет к накоплению критической массы противоречий, которые уже вынуждают иранский режим действовать на пределе своих возможностей.
Не нужно успокаиваться
Требуется всеобъемлющая стратегия противодействия режиму, который представляет столь серьезную угрозу интересам США. Необходимо эксплуатировать все уязвимые места Ирана: повышать издержки его внешних авантюр, ослаблять экономику и поддерживать внутреннее недовольство. На осуществление этой стратегии уйдет определенное время, но в конечном итоге она позволит Соединенным Штатам диктовать Тегерану свои условия, в том числе и в ядерной области.
Вашингтону следует стремиться к строгому соглашению по контролю над вооружениями, а не к такому, которое облегчает Ирану задачу создания атомной бомбы. Нужно заставить Тегеран отказаться от подрывных действий в регионе, а не создавать вакуумы власти, которые поощряют к этому. И права человека нужно поставить во главу угла, а не закрывать глаза на угнетение иранского народа.
Некоторые в Вашингтоне полагают, что проблема Ирана вторична по своей значимости для США в сравнении с террористическими джихадистскими группировками, такими как ИГИЛ. Но это не так. Несмотря на все их достижения на фоне хаоса, царящего в Сирии и Ираке, эти радикальные движения не имеют средств и возможностей большого государства. Иран же такие возможности имеет. Не забывайте, что иранский режим изначально был революционным исламским государством. Его успехи вдохновили радикалов разных мастей на всем Ближнем Востоке. На фундаментальном уровне конфронтация между США и Ираном – конфликт между единственной сверхдержавой мира и второсортной автократией. Вашингтону нельзя успокаиваться на подписании катастрофически ущербного соглашения о контроле над вооружениями в надежде на то, что теократические лидеры Ирана, не заинтересованные в том, чтобы ослаблять свою хватку, как-нибудь переродятся в умеренных правителей. Решительная политика давления приблизит тот день, когда народ Ирана устранит режим, обрекающий его на лишения. А до этого такая политика снизит угрозу, которую победоносный режим иранских клириков, вооруженный ядерным оружием, может представлять для Ближнего Востока и мира в целом.

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел ОАЭ А.Аль Нахайяном и Генеральным секретарем ЛАГ Н.Араби по итогам заседания третьей сессии Российско-Арабского Форума сотрудничества, Москва
Уважаемые дамы и господа,
Сегодня мы провели третье заседание Российско-Арабского Форума сотрудничества, который был создан в 2009 г.
Мы одобрили развернутое заявление, которое будет распространено, и План действий по реализации принципов, целей и задач Российско-Арабского Форума на 2016-2018 гг. В этих документах мы изложили совместные подходы России и стран-участниц Лиги Арабских государств (ЛАГ) к наиболее «жгучим» проблемам международной политики, прежде всего, в отношении кризисов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.
Особое внимание мы уделили проблеме международного терроризма. У нас единые позиции, которые заключаются в необходимости бескомпромиссной борьбы с этим абсолютным злом военными методами, путем пресечения каналов подпитки террористов, в частности т.н. «Исламского государства» и, конечно, в необходимости борьбы с распространением идеологии экстремистов и террористов.
В заявлении поддерживается инициатива Президента Российской Федерации В.В.Путина по формированию широкого антитеррористического фронта на универсальной международно-правовой основе и под эгидой ООН. Приветствуются усилия на треке борьбы с терроризмом, которые предпринимаются в рамках ОДКБ, СНГ, ШОС, и те меры, которые принимают государства-члены ЛАГ по антитеррористической пропаганде, формированию основ для недопущения ситуации, когда терроризм будет пускать корни в новых странах.
Отмечаются действия, которые предпринимаются в Египте, ОАЭ, Алжире, на Бахрейне, в других странах региона по противодействию террористической идеологии. Мы считаем это очень важной сферой дальнейшего развития нашего сотрудничества, в том числе в рамках Группы стратегического видения «Россия-Исламский мир», которая создана по линии нашего взаимодействия с Организацией исламского сотрудничества (ОИС).
Мы рассмотрели конкретные кризисы и конфликты в регионе, но делали это на основе общих принципов, которые предполагают признание права народов самим определять свою судьбу и судьбу своих стран, недопустимость вмешательства извне во внутриполитические процессы, необходимость уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности всех государств региона.
Под этим углом зрения мы рассмотрели усилия международного сообщества, в которых участвуют Россия и страны арабского мира, по содействию урегулированию кризисов в Сирии, Йемене, Ливии, по нормализации ситуации в Ираке, Сомали, других странах региона.
Все три участника сегодняшней пресс-конференции являются членами Международной группы поддержки Сирии (МГПС). Сегодня мы подтвердили приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты в рамках т.н. «Венской группы», СБ ООН. Подтвердили поддержку российско-американской инициативе о прекращении боевых действий, начиная с 00.00 часов (по Дамаску) завтрашнего дня.
При всей значимости и остроте конфликтов в Сирии, Йемене, Ливии, других странах этого региона на центральное место в нашем заявлении вынесена задача скорейшего возобновления усилий по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. Подтверждена позиция в пользу существенной активизации усилий в рамках «квартета» международных посредников. Российская сторона вновь подчеркнула, что считает крайне важным наладить теснейшее повседневное взаимодействие между «квартетом» и ЛАГ. Это является тем более необходимым, что именно Арабская мирная инициатива наряду с соответствующими резолюциями СБ ООН создает абсолютно четкую недвусмысленную основу для долгосрочного, устойчивого, всеобъемлющего урегулирования палестино-израильского и в более широком плане арабо-израильского конфликта. Арабская мирная инициатива должна служить основой для восстановления палестинского единства. Россия активно стремится содействовать достижению соответствующих договоренностей между ФАТХ и ХАМАС. В этом же направлении предпринимали и предпринимают усилия многие арабские страны. В свое время этим активно занимался Египет, сейчас соответствующие усилия предпринимает Катар. Мы договорились сотрудничать и на этом направлении.
Россия также подтвердила свою приверженность всем решениям международного сообщества, которое нацелено на создание на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения. Мы в тесном контакте со всеми заинтересованными сторонами продолжим продвигать задачу скорейшего начала соответствующего процесса.
Сегодня мы также подтвердили готовность продолжать нашу линию на оказание содействия нашим арабским друзьям в нормализации отношений между ними и Исламской Республикой Иран. Считаем это очень важной задачей, которая самоценна сама по себе, но решение которой существенно способствовало бы продвижению в урегулировании различных кризисов в регионе, включая сирийский, йеменский и ряд других. На это направлена наша известная концепция обеспечения безопасности в районе Персидского залива. Мы будем продолжать продвигать соответствующие инициативы в расчете на то, что в итоге сформируется необходимая критическая масса для завязывания предметного диалога по всем этим вопросам.
Вопрос: Каких конкретных результатов удалось достичь за время существования Российско-Арабского форума?
С.В.Лавров: Наверное, необходимо выслушать не только наши оценки, но и оценки наших арабских друзей. Думаю, что они во многом совпадают. Мы позитивно оцениваем развитие этого важного механизма. Сейчас, когда регион Ближнего Востока и Северной Африки буквально бурлит, перенасыщен кризисами и конфликтный потенциал в нем, к сожалению, не уменьшается, регулярный диалог имеет важнейшее значение. Мы проводим такой диалог на разных уровнях. Есть договоренность как минимум о ежегодных встречах министров иностранных дел, есть механизм встреч старших должностных лиц (это, как правило, уровень директоров департаментов). Сегодня мы договорились, что этот механизм будет регулярным, и его участники будут встречаться не реже, чем раз в 6 месяцев. Все это позволяет сделать системным наш политический диалог с Лигой арабских государств, заранее планировать повестку дня, причем не просто в контексте абстрактных академический дискуссий, а с прицелом на конкретный результат и практическую координацию действий в различных международных форматах.
Второе направление, где налицо конкретные результаты, – это торгово-экономические и инвестиционные связи. Помимо заметного устойчивого роста объемов взаимодействия в этой сфере по двусторонней линии, у нас создан и многосторонний механизм – Российско-Арабский деловой совет. Это очень полезная зонтичная структура, под эгидой которой проводятся форумы бизнесменов России и отдельных стран региона.
Со всеми странами ЛАГ у нашей страны давние добрые исторические связи, которые уходят корнями еще в эпоху середины прошлого столетия. Общение между людьми занимает очень важное место в наших сегодняшних отношениях. Как сказали мои коллеги, мы стремимся отразить в работе нашего форума обоюдные интересы наших граждан. В частности, гуманитарные и культурные связи будут стимулировать нас к созданию соответствующих рамок, которые сделали бы эти контакты более удобными. Мы поддержали идею наших арабских друзей по созданию в Москве центра арабской науки и культуры. Я убежден, это поможет расширению гуманитарных и образовательных обменов. Мы заинтересованы во всемерном поощрении туризма, готовы с этой целью к дальнейшему прогрессу в деле либерализации визовых режимов, которые у нас и так облегчены со многими странами региона.
Российско-Арабский форум – весьма полезная структура. Тот факт, что мы сегодня наблюдаем такое присутствие на министерском уровне, думаю, говорит сам за себя.
Вопрос: В контексте прекращения огня, насколько сейчас важно восстановить политический процесс, чтобы сирийские оппозиционные и правительственные делегации вернулись в Женеву 7 марта?
С.В.Лавров: С созданием Международной группы поддержки Сирии, т.н. «Венской группы», был действительно достигнут новый качественный уровень в усилиях мирового сообщества по содействию сирийскому урегулированию. Работа «Венской группы» была поддержана Советом Безопасности ООН, который принял резолюцию 2254, закрепив три приоритетных направления работы: облегчение гуманитарной ситуации в Сирии, скорейшее согласование условий перемирия и начало настоящего инклюзивного политического процесса. При этом было четко зафиксировано, что все три направления усилий должны развиваться параллельно, что никаких предварительных условий для политических переговоров не должно и не может быть.
С тех пор достигнут заметный и всеми признаваемый прогресс в доставке гуманитарной помощи нуждающемуся населению, в том числе в районах, блокированных как оппозицией, так и правительственными войсками. В соответствие с решениями Мюнхенской встречи Международной группы поддержки Сирии Россия и США как ее сопредседатели разработали документ об условиях прекращения боевых действий, который также позитивно был встречен в международном сообществе и сегодня будет одобрен Советом Безопасности ООН и заседанием МГПС в Женеве. Конечно, никаких стопроцентных гарантий никто дать не может, но есть очень серьезные основания, чтобы закрепить этот позитивный сдвиг и сделать его устойчивым.
Единственное направление, согласованное в рамках Венского процесса, по которому нет никаких позитивных перемен, – это политические переговоры. Связано это с тем, что отдельные группы оппонентов режима и их зарубежные покровители пытаются выторговать себе привилегированное положение, обеспечить какие–то позиции, которые будут создавать преимущество по сравнению с другими оппозиционерами. Все это, безусловно, не красит тех, кто этим занимается. Но теперь, когда достигнут реальный прогресс на гуманитарном направлении, когда согласованы условия по прекращению боевых действий, у этой группы «саботажников» политических переговоров не осталось никаких предлогов для того, чтобы продолжать выдвигать предварительные условия для начала межсирийского диалога. Будем надеяться, что те, кто имеют на них решающее влияние, сделают соответствующие выводы и снимут препятствия на пути всестороннего полноценного осуществления договоренностей, закрепленных в резолюции 2254 СБ ООН.
Вопрос: Уже через несколько часов в Сирии начнется выполнение режима прекращения огня. Каковы перспективы положительного начала? Какие группировки на данный момент готовы присоединиться к прекращению огня? Не считаете ли Вы, что объявленные Президентом САР Б.Асадом на 13 апреля парламентские выборы в Сирии, противоречат резолюции 2254 Совета Безопасности ООН?
С.В.Лавров: Я уже сказал, что, к сожалению, никто не может дать стопроцентных гарантий выполнения договоренности о прекращении огня. Договоренность достигнута и сегодня будет одобрена Советом Безопасности ООН, но это не значит, что она будет выполняться сама собой. Требуются повседневные усилия по сопровождению этой договоренности, по ее воплощению в практические шаги «на земле».
Успех зависит от целого ряда факторов. Во-первых, от способности всех внешних игроков поставить интересы сирийского народа и стабильности в регионе выше собственных неоимперских и прочих геополитических амбиций. Это означает, что все «внешние игроки» должны надавить на силы внутри Сирии, которые опираются на поддержку извне с той или иной стороны. Такое давление должно идти в одном направлении: все обязаны выполнять условия прекращения огня, как они были одобрены Советом Безопасности ООН. Такое одобрение сегодня последует.
Успех в деле реализации договоренности о прекращении боевых действий будет зависеть и от способности мирового сообщества выполнять уже принятые решения, включая резолюции 2199 и 2253 Совета Безопасности о пресечении потоков в Сирию из-за границы иностранных террористов-боевиков, о пресечении контрабандной торговли нефтью и прочими товарами, благодаря которой ИГИЛ получает существенную финансовую подпитку. Это предполагает установление жесткого контроля на внешних границах Сирии. Соответствующий механизм имеется в Совете Безопасности ООН. Важно, чтобы этот механизм честно и объективно докладывал СБ ООН, а не пытался прятать от Совбеза факты, как это иногда случается. Успех также будет зависеть от способности самих сопредседателей МГПС выполнять свои обязанности четко и без каких бы то ни было двусмысленностей. Не должно быть, в частности, спекуляций вокруг того, что «Джабхат Ан-Нусра», возможно, и не заслуживает исключения из режима перемирия сразу.
В рамках возглавляемой США коалиции не должно быть других двусмысленных разговоров про какой-то план «Б», подготовку наземной операции, создание каких-то буферных бесполетных зон, которые уже давным-давно были признаны абсолютно неприемлемыми. Необходимо, чтобы в рамках возглавляемой США коалиции прекратились попытки спекулировать на теме борьбы с террором. Например, вчера в ходе своего выступления по вопросам борьбы с ИГИЛ Президент США Б.Обама сказал, что невозможно мобилизовать мировое сообщество на эффективную борьбу с терроризмом, пока Президент САР Б.Асад находится у власти. Это полностью противоречит всем решениям, под которыми США подписались в Совете Безопасности ООН и которые гласят, что терроризм не может быть ничем оправдан. Наряду с подобным вольным или невольным оправданием терроризма есть попытки как бы с противоположного направления использовать антитеррористические лозунги для оправдания линии на прямое вооруженное вмешательство в дела суверенных государств и на уничтожение политических оппонентов у себя дома. Как Вы знаете, именно этим занимается нынешнее турецкое руководство. Мы солидарны с позицией ЛАГ, которая выразила резкий протест против попыток вмешательства Турции во внутренние дела Ирака. Ираком это не ограничивается. Здесь, наверное, тоже должна быть употреблена некая блоковая дисциплина.
Тем не менее, еще на этапе до вступления в силу прекращения боевых действий в предложенные сроки уже целый ряд участников конфликта заявляют о своем присоединению к режиму перемирия. Это уже сделало сирийское Правительство. Убежден, что аналогичным образом поступят и те, кто находится в Сирии с оружием в руках по приглашению законных властей САР. Это уже сделала Партия демократического союза и другие группировки сирийских курдов, а также целый ряд из многочисленных отрядов сирийской оппозиции на востоке страны, в том числе суннитские отряды, которые вышли на контакт с российскими военными. Об этом, кстати, можно почерпнуть информацию из репортажей российского телевидения. В поддержку перемирия выступили участники встреч сирийской оппозиции, которые проходили в течение последнего года в Каире и Москве. Я слышал, что т.н. «Высший комитет по переговорам», сформированный на встречах оппозиции в Эр-Рияде, тоже заявил о своем согласии с перемирием, но в отличие от всех других сделал это с оговоркой, что они будут соблюдать режим перемирия только две недели, хотя каких-либо предварительных условий и оговорок российско-американская инициатива не предусматривает.
Россия твердо привержена договоренностям, закрепленным в решениях «Венской группы» и в резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. Там четко изложен график политического процесса. Он начинается с переговоров между сирийским Правительством и всем, подчеркну, спектром оппонентов режима. Первые шесть месяцев отводятся на то, чтобы Правительство и все оппозиционеры на основе взаимного согласия договорились о формировании исполнительной структуры, которая подготовит новую конституцию, на основе которой должны состояться всеобщие выборы. На весь политический процесс отводится восемнадцать месяцев. Это график, с которым Совет Безопасности ООН призвал согласиться всех участников сирийского конфликта, разумеется, включая сирийское Правительство.
С.В.Лавров (добавляет после Министра иностранных дел ОАЭ А.Аль Нахайяна): Как видите, дискуссия продолжается. Тема относительно принадлежности тех или иных группировок к террористическим активно обсуждалась в Международной группе поддержки Сирии. Пока единственным общим для этого критерием является решение к тергруппировкам относить ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусра» и связанные с ними структуры, как они определены в резолюциях Совета Безопасности.
Хотел бы искренне поблагодарить наших друзей из Лиги арабских государств за сегодняшнюю совместную работу, которая нам позволила конкретно продвинуться вперед по целому ряду очень важных проблем и создать условия для более эффективного взаимодействия по их решению.

Интервью Министра иностранных дел России С.В.Лаврова газете «Московский комсомолец», опубликованное 10 февраля 2016 года
Вопрос: 10 февраля – День дипломатического работника. В советское время в преддверии таких праздников было принято рапортовать об успехах. Есть ли у Вас сейчас, о чем отрапортовать? Можете ли Вы вообще чем-то порадовать страну?
С.В.Лавров: Честно говоря, эта традиция мне никогда не нравилась. Надо докладывать о том, что ты делаешь по поручению руководства. Как правило, поручения содержат конкретные сроки их исполнения, так что тут никуда не денешься: праздник – не праздник, но даты обозначены в соответствующих документах, которые подписывает глава государства.
Не буду сейчас перечислять то, что мы считаем важным, но тот факт, что в прошлом году окончательно завершилась вся дипломатическая работа по урегулированию иранской ядерной программы, и что эта договоренность уже осуществляется на практике, – это, безусловно, один из важнейших итогов, учитывая, что этот кризис был вместе с нами больше десяти лет и до предела раздражал международные отношения.
В прошлом же году завершилось химическая демилитаризация Сирии, что тоже было инициировано российской стороной. Напомню, что в 2013 г. об этом договорились Президент России В.В.Путин с Президентом США Б.Обамой в Санкт-Петербурге «на полях» «Группы двадцати». Во-первых, это позволило ликвидировать очень опасные и «беспризорные» запасы химического оружия, а во-вторых, – отвести, по крайней мере, на тот момент, угрозу ударов по Сирии.
Эти две вещи я бы выделил особо, но в контексте тех задач, которые мы сейчас решаем, борьба с терроризмом – это приоритет «номер один». И здесь пока, несмотря на значительные успехи в Сирии в борьбе с ИГИЛ, нам предстоит сделать еще очень многое. Все пошло бы гораздо эффективнее и быстрее, если бы американцы и члены их коалиции откликнулись на наши многократные, делавшиеся с самого начала операции ВКС России в Сирии предложения наладить подлинную координацию, а не просто договариваться о процедурах избежания инцидентов. О такой координации мы продолжаем говорить с американцами, они, вроде бы, начинают склоняться к тому, что от сотрудничества отказываться контрпродуктивно, но реальных результатов мы еще пока не добились.
Вопрос: То есть мы ждем следующего 10 февраля 2017 года?
С.В.Лавров: Честно говоря, я не думаю, что ситуация безнадежна, хотя пока, повторю, у них постоянно присутствует какой-то сдерживающий момент. Они как бы «кивают» на своих союзников в регионе, которые якобы не поймут, если американцы будут тесно координироваться с Россией, которую некоторые из этих стран, в том числе и Турция, считают главной проблемой на Ближнем Востоке. Я могу это понять. Турки, не скрывая, заявляют, что мы «спутали им карты», а сейчас они пытаются «пригвоздить к позорному столбу» и американцев. Президент Турции Р.Т.Эрдоган прямо потребовал от Вашингтона выбрать – либо курды либо Турция. Из Вашингтона уже прозвучал ответ (пока анонимно) о том, что курды, включая Партию демократического союза, которую турки ассоциируют с терроризмом, являются союзниками Вашингтона в борьбе с ИГИЛ. Мы с ними тоже работаем. Тот факт, что их отстраняют от сирийских переговоров, это такая исключительная аррогантная позиция Турции, никем более не разделяемая.
Вопрос: В 1856 году новый Министр иностранных дел Российской Империи А.М.Горчаков направил в посольства России за рубежом знаменитую депешу, в которой содержалась фраза: «Говорят, что Россия сердится. Россия не сердится, Россия сосредотачивается». Как сегодня звучит современное неформальное кредо российской дипломатии? Не звучит ли оно на самом деле, например, так: «Россия почти со всеми поссорилась и почти на всех обиделась»?
С.В.Лавров: Вы знаете, обижаться мы не умеем. Президент России В.В.Путин как-то сказал, что такие понятия как «любовь» и «дружба» скорее относятся к личным отношениям, а у государства есть интересы. Точно так же мы оставляем для отношений между конкретными людьми обиды по частным житейским вопросам, а в межгосударственных отношениях обижаться вообще непозволительно, равно как самоуспокаиваться и сердиться. «Кто сердится, тот неправ» – эта известная истина живет много веков.
Мы все-таки ощущаем, что нас поддерживает, по большому счету, большинство стран мира. Есть ощущение, что мы оказались чуть ли не главной проблемой международных отношений, потому что сейчас доминируют те СМИ, которые разносят западную точку зрения. Руководство НАТО и целого ряда европейских стран, особенно Великобритании, скандинавов, наших соседей прибалтов, Польши, Румынии, некоторых других государств просто до истерики раздувают миф о российской угрозе и о том, что мы планируем угрожать Швеции и странам Балтии ядерным оружием. «Би-Би-Си» показывают фильмы. В Швеции что-то происходит с какими-то подводными лодками. Из этого сначала делают аншлаг, заголовки всех газет и телевизионных новостей только из этого и состоят, а потом оказывается, что никаких лодок там вообще не было, а были какие-то никому не известные и точно не нам принадлежавшие аппараты. Это информационная война, мы это видим, понимаем и воспринимаем ее как таковую. Но отвечать на истерику истерикой мы не собираемся, стараемся отвечать только фактам, которые предъявляем.
Последний пример. Попытались сделать гуманитарную ситуацию в Сирии чуть ли не мерилом способности двигаться к политическому урегулированию и предварительным условием начала содержательных переговоров между всеми сирийцами. Нас обвинили в том, что мы ухудшаем гуманитарную ситуацию, якобы отказываемся договариваться о доставке гуманитарных грузов, и поэтому, мол, ООН была вынуждена прервать переговоры по Сирии. Мы в ответ распространили в ООН (надеюсь, можем представить это широкой мировой общественности) многостраничный материал, который на основе фактов показывает, кто и как усугубляет положение гражданского населения. Можно сколько угодно кричать о том, что в городке Мадайя 40 тыс. гражданских лиц не могут получить достаточно продовольствия, медикаментов и прочих товаров первой необходимости, потому что они находятся «в кольце» правительственных войск, и при этом молчать «как рыба» в отношении того, что более 200 тыс. человек окружены в городе Дейр-эз-Зор силами боевиков, игиловцев и прочих, и им как бы гуманитарная помощь абсолютно не нужна.
Мы начали сбрасывать гуманитарную помощь в такие населенные пункты с воздуха при поддержке и участии сирийских ВВС. Нас тут же стали упрекать, что мы якобы сбрасываем грузы «вслепую» без гарантий того, что на земле эта помощь попадет в надежные руки. Можно придумать любые причины. Мы уверены в том, что самым главным критерием является договороспособность. Я все время призываю своих партнеров, которые начинают жаловаться на то, что мы делаем, дать мне конкретные факты нарушения нами любого из подписанных за все эти годы документов: Женевского коммюнике от 30 июня 2012 г., договоренность о начале переговоров «Женевы-2» и, особенно, «Венских документов», резолюции 2254 СБ ООН, которая и поручила организовать нынешний политический процесс. Никто из моих коллег не может привести ни единого случая, когда мы кого-то обманули бы в том, что касается наших обязательств в содействии выполнению этих документов.
На днях я разговаривал с Государственным секретарем США Дж.Керри и привел пример, касающийся не Сирии, а Украины, потому что и по Украине проблема договороспособности становится ключевой. Мы с Государственным секретарем США Дж.Керри в апреле 2014 г. вместе с бывшими в то время Высоким представителем ЕС по иностранным делам К.Эштон и и.о.Министра иностранных дел Украины А.Дещицей утвердили Женевское заявление от 17 апреля 2014 г., один из ключевых пунктов которого гласил: «немедленное начало конституционной реформы с участием всех регионов и политических сил Украины». В таких случаях наши партнеры разводят руками и говорят, что ситуация уже изменилась. Однако от того, что она изменилась, не меняется простая данность, что наши западные коллеги вместе с украинцами не смогли выполнить то, под чем подписались. Это касается и февральских соглашений В.Ф.Януковича с оппозицией, которые завизировали французы, немцы и поляки, а наутро ничего не смогли сделать.
Вопрос: Да, забыли.
Сирия, Украина, противостояние с Западом, острый конфликт с Турцией – по силам ли даже такой сильной стране, как Россия, одновременно справляться с таким количеством внешнеполитических вызовов и угроз?
С.В.Лавров: Мы же справляемся не в одиночку: они пытаются возложить на нас ответственность за очень многое, что происходит в Сирии и на Украине, но одновременно все они идут к нам и просят решить проблему по САР, установить прекращение огня. Не раскрывая особых деталей, замечу, что в отличие от тех, включая американских коллег, кто постоянно просто призывают к немедленному объявлению прекращения огня, против чего выступают, прежде всего, союзники США в регионе, настаивая на том, что этот вопрос можно будет обсуждать только, когда станет ясно, что Б.Асад уходит, мы в контактах с Вашингтоном предложили абсолютно конкретную схему, которую они сейчас взяли в работу. Госсекретарь США Дж.Керри на днях отзывался о ней в своем интервью. Надеюсь, что содержащиеся в ней очень простые предложения не займут слишком долгое время для того, чтобы их рассмотрели в Вашингтоне.
По Украине они говорят, что все понимают, что П.А.Порошенко не может сейчас все выполнить, но просят им помочь и т.д. Ни по Сирии, ни по Украине никто от нас не «отруливает», наоборот – безысходность и такая риторика сопровождаются очень прагматичными подходами к нам с просьбой помочь. Мы готовы, но будем опираться, безусловно, на принципы и конкретные договоренности, которые закреплены по Украине и сирийскому урегулированию.
Что касается Турции, то нас удивила безоговорочная поддержка Анкары во всей сирийской истории, прозвучавшая в ходе визита в эту страну Канцлера ФРГ А.Меркель. При этом главным виновником происходящего была названа Россия, поскольку, мол, от ударов ее ВКС множатся потоки беженцев. Ни слова не было сказано – по крайней мере, публично – про очевидные факты о том, что террористическая угроза в Сирии подпитывается контрабандой через турецкую границу в обоих направлениях: туда – боевиков, оружия, денег и прочих необходимых для продолжения террористической деятельности вещей, а оттуда – нефти и иных запрещенных для коммерческой операции с бандитами товаров. Все это – на фоне откровенного шантажа Анкары в связи с проблемой мигрантов. Напомню, эта проблема возникла несколько лет назад – не сегодня, не вчера и точно не после начала работы наших ВКС по просьбе сирийского Правительства, а была вызвана незаконной операцией НАТО против Ливии и последующими действиями, которые приводят к развалу других государств региона, поднимая все новые волны беженцев.
Вопрос: К вопросу о шантаже. Не превратилась ли российская экономика в заложника активной российской внешней политики?
С.В.Лавров: Не думаю, что это так. По крайней мере, мои скромные познания в этой сфере позволяют делать вывод, заключающийся в том, что бывают разные циклы в мировой экономике, к которой мы открыты и являемся ее частью при всей незавершенности наших реформ, поэтому мы испытываем это на себе. Конечно, я считаю, что крайне важно нам самим предпринимать более эффективные шаги, которые нацелены на структурное изменение в нашей экономике, о чем Президент России В.В.Путин говорит очень давно, об этом говорило и Правительство Российской Федерации. Возможно, сейчас жизнь заставит осуществить эти структурные реформы в экономике до конца с тем, чтобы сделать необратимой тенденцию ослабления зависимости от нефтегазовых доходов.
Повторю, активная внешняя политика – это сложный вопрос. Многие говорят, что внешняя политика должна, прежде всего, способствовать тому, чтобы люди хорошо жили, питались, получали медицинское обслуживание. Я полностью с этим согласен, но у нашего народа еще есть чувство идентичности, как принято говорить, сопричастности к тысячелетней истории становления государства, наших этносов как единой нации и чувство национальной гордости. Помните, какая дискуссия велась вокруг абсолютно, по моему мнению, неприемлемых констатаций или допущений, прозвучавших в эфире одного СМИ относительно того, зачем была нужна блокада Ленинграда, зачем нужно было так долго сопротивляться и терять сотни тысяч жизней вместо того, чтобы просто сдаться, а дальше – посмотрим. Может, это запредельный пример, слишком радикальный, но об этом идет речь. Либо ты говоришь, что хочешь кусок хлеба с колбасой и варенье с чаем, поэтому «ну его, Крым, наплевать на то, что происходит там с русскими, на то, что состоялся переворот». При этом, повторю, что никогда я не буду выступать за то, чтобы вообще забыть про экономические интересы, необходимость создать максимально благоприятные условия для нашего экономического развития и роста. Но такая страна, как Россия, не может «вертеться, как флюгер» в зависимости от того, что хотят «сильные мира сего», которые исходят из того, что вершат судьбы всех стран и людей на планете.
Вопрос: Российский востоковед В.В.Наумкин сказал мне на днях, что видит три основных сценария развития ситуации в Сирии: компромиссные переговоры в Женеве, военная победа правительственных войск и большая война с прямым участием различных иностранных государств. Согласны ли Вы с такой оценкой и, если да, то какой сценарий кажется Вам наиболее вероятным?
С.В.Лавров: Согласен, поскольку все это на поверхности. Если переговоры не увенчаются успехом или даже если их не дадут начать, то, наверное, делается ставка на силовые решения, о чем «в лоб» говорят некоторые страны, которые руководствуются, как я понимаю, чуть ли не личной ненавистью персонально к Б.Асаду. Мы и США были готовы и активно предлагали в ходе венских встреч Международной группы поддержки Сирии записать в документах, а потом и в резолюцию СБ ООН очень простую фразу – сирийский кризис не имеет военного решения. США, Россия и европейцы выступали за эту фразу. Однако некоторые американские союзники из региона категорически заблокировали эту идею. Так что это вполне реально. Сейчас мы слышим заявления о том, что есть планы направить наземные силы.
Саудовская Аравия заявила, что для борьбы с ИГИЛ они не исключают задействования войск созданной ими т.н. «Исламской антитеррористической коалиции». Некоторые другие страны стали говорить, что они готовы поддержать эту идею. Во время визита Его Величества Короля Бахрейна Хамада Аль Халифы прошла вдруг информация, что Бахрейн под этим подписался. Но, находясь в России (прим. 8 февраля 2016 г.), Его Величество Король Бахрейна и Министр иностранных дел этой страны заявили, что это не так и таких планов нет.
Нас очень тревожат сообщения, которые постоянно поступают публично и через закрытые каналы о том, что турки конкретно планируют или даже, может быть, уже начали осваивать части сирийской территории под предлогом создания там палаточных городков, чтобы аккумулировать сирийских беженцев, не позволяя им пересечь турецкую границу, где, по их словам, лагеря уже переполнены. Со стороны Турции продолжаются разговоры о том, чтобы создать зону безопасности на сирийской территории, свободную от ИГИЛ. Все понимают, что речь идет об участке границы между двумя курдскими анклавами, соединение сил которых Турция считает для себя абсолютно неприемлемым хотя бы потому, что это перекроет возможности Турции снабжать боевиков в Сирии и получать от них контрабандные поставки.
Есть сведения о том, что руководство ИГИЛ продолжает тайные контакты с турецким руководством. Они обсуждают варианты действий в нынешних условиях, когда ударами наших ВКС возможности традиционных маршрутов контрабанды серьезно ограничены. По нашим данным, турки в НАТО уже обсуждали свои замыслы создания на территории Сирии зон, свободных от ИГИЛ. Это, конечно, будет нарушением всех принципов международного права, а также существенно и качественно повышать эскалацию. Поэтому из трех вариантов обозначенных моим добрым другом Директором Института Востоковедения В.В.Наумкиным, конечно, мы делаем ставку на первый – на достижение компромиссов на переговорах.
Вопрос: Как отреагирует Россия, если Турция действительно выполнит свою угрозу и осуществит полномасштабное вторжение в Сирию?
С.В.Лавров: Я не думаю, что это произойдет, потому что мелкие провокации, о которых я уже сказал (строительство палаточных городков, подготовка каких-то инженерных сооружений на расстоянии 100-200 м. вглубь сирийской территории и нескольких километров по фронту), – это все-таки не полномасштабное вторжение. Я не думаю, что коалиция, которую возглавляют американцы и в которую входит Турция, позволит подобным безрассудным планам материализоваться.
Вопрос: Если все же начнет реализовываться самый страшный, кошмарный вариант, не приведет ли турецкое вторжение к реальной возможности прямых столкновений между нашей авиацией и турецкими войсками?
С.В.Лавров: К сожалению, 24 ноября прошлого года уже произошло прямое столкновение. По-прежнему, никаких извинений и даже никакого намека на раскаяние не звучит. Более того, от нас требуют извинений за то, что мы нарушали турецкое воздушное пространство. Хотя всем известно, как сами турки относятся к суверенитету, например, Греции, Кипра над своим воздушным пространством. Мы проявили максимум выдержки. Но мы приняли все меры предосторожности на будущее: наши бомбардировщики больше не летают без прикрытия истребителей. Более того, «на земле» развернуты комплексы С-400 и другие средства ПВО, которые на 100% гарантируют безопасность воздушного пространства, в котором работают наши летчики.
Вопрос: Президент России В.В.Путин отказывается разговаривать с Президентом Турции Р.Т.Эрдоганом, и у него на это, безусловно, есть веские причины. Означает ли это, что политический диалог между Москвой и Анкарой сейчас заморожен? Ведется ли такой диалог на Вашем уровне?
С.В.Лавров: Я встречался с Министром иностранных дел Турции М.Чавушоглу один раз, один раз мы говорили с ним по телефону сразу после этого отвратительного случая. У меня такое ощущение от этого контакта, что, наверное, в Турции многие понимают неприемлемость того, что было сделано, неприемлемость приказа, который, судя по всему, был отдан заранее, потому что сбить самолет даже за те 17 секунд (если принять на веру, что самолет действительно был, как утверждают турки, в их воздушном пространстве) просто заметив его, невозможно. Надо готовиться, как говорят военные, «пасти» его.
Отмечу также, что мы обращали внимание на действия Турции, которые становились все менее адекватными, задолго до этого эпизода, еще до того, как в Сирии начали работать наши ВКС. Только потому, что мы были категорически против решений СБ ООН, требующих свержения Б.Асада, и настаивали на выполнении имеющихся договоренностей о политических переговорах и дипломатическом урегулировании, турки начали обвинять нас во всех смертных грехах. Вспомните, весной в начале лета прошлого года Р.Т.Эрдоган заявлял, что «мы найдем замену русским как торговым партнерам». «Волынили» они с решением по «Турецкому потоку», с выдачей разрешений, намекая на то, что они найдут себе другие источники снабжения энергией. Более того, будучи здесь в сентябре прошлого года на открытии Соборной мечети Президент Турции Р.Т.Эрдоган также позволял себе высказывания, которые в приличном обществе гости никогда допускать не могут. Угрожали, что отменят саммит в рамках Совета сотрудничества высшего уровня, договоренность о встрече на уровне министров тоже не раз откладывалась задолго до того, как это все произошло. Эта неадекватность, конечно, была замечена, но мы исходили из того, что здравый смысл все-таки возобладает, и турки поймут, что мы соседи и ничего плохо лично им не делали, а наоборот, как отмечал Президент России В.В.Путин «закрывали глаза» на многие вещи.
Вопрос: Может быть, не надо было «закрывать глаза»?
С.В.Лавров: Может быть. Есть такая народная пословица: «Сделай доброе дело – оно тебя достанет». В данном случае, может быть, частично это и объясняет, что турецкие руководители абсолютно потеряли ориентир в реальном мире.
Вопрос: Украина демонстративно не выполняет Минские соглашения, а под западными санкциями почему-то до сих пор находится Россия. Долго ли еще, с Вашей точки зрения, может продлиться такая ситуация?
С.В.Лавров: Это результат того, что Европа, как и в случае с сирийским кризисом, все-таки утрачивает свою внешнеполитическую самостоятельность, по крайней мере, на данном этапе. В украинском кризисе это проявляется абсолютно ясно. Всем известен тот факт, что американцы не скрывали, что это именно они заставили европейцев пойти на антироссийские санкции, равно как и то, что они придумали «формулу» – выполнение Минских соглашений будет означать, что с России можно будет снимать санкции. Может быть, не очень далекие европейцы ухватились просто потому, что они искали какой-то способ сказать, что санкции не вечны. Вот им и предложили. Теперь они понимают, что это – ловушка «чистой воды», потому что Украина не собирается выполнять Минские соглашения, если ее не заставят по-настоящему, а сделать это могут только американцы.
Сейчас у Украины «аховое» политическое и экономическое положение, полный раздрай. Но с точки зрения Минских соглашений, чем меньше они стараются их выполнять, тем дольше будут санкции против России, и об этом прямо говорят. Ненормальность этого все понимают, все-таки у немцев и французов, которые напрямую соприкасаются с участниками переговоров в т.н. «нормандском формате», где скрупулезно рассматривается по деталям кто и что должен делать, что сделал или не сделал в развитие тех пунктов, которые записаны в Минских договоренностях, уже есть понимание, что слишком долго так «валять дурака» не получится. У американцев, по крайней мере, на словах есть желание, о котором они нам говорили. Я это регулярно обсуждаю с Госсекретарем США Дж.Керри, в Калининграде состоялась специальная встреча помощника Президента Российской Федерации В.Ю.Суркова с заместителем Госсекретаря США В.Нуланд, в ходе которой вроде бы звучали разумные вещи касательно выполнения «Минска» и конкретных путей продвижения к этой цели. Повторю, мы готовы на гибкость, и наши партнеры об этом знают. Но Украина требует практически выполнения ультиматумов: чтобы сначала из Донбасса ушли все, кто хоть как-то влияет на эту ситуацию, чтобы Донбасс, по сути дела, сложил оружие, и только после этого они будут думать, дать ли какую-то децентрализованную власть, отреформировать ли конституцию – это все ставит Минские договоренности «с ног на голову». В Европе начинают это понимать.
Вопрос: Есть ли у американцев стимул заставить Украину выполнить Минские соглашения или им выгодна нынешняя ситуация?
С.В.Лавров: Я не сторонник «теории заговоров», но есть некие подтверждающие теорию факты, что кое-кто в Вашингтоне был бы не прочь, как они выражаются сами в неофициальных беседах в узком кругу, заставить Россию воевать на два фронта. Чтобы не снижалась напряженность на Украине, в Донбассе, чтобы там постоянно вспыхивали «горячие» фазы кризиса, чтобы мы отвлекались на этот кризис гораздо больше, чем в период прекращения огня, и чтобы нам жизнь в Сирии медом не казалась. Не исключаю, что такие мысли бродят в головах «неоконов», «ястребов» в Вашингтоне. Но наше общение в американской Администрации с теми, кто отвечает за украинскую политику, все-таки показывает, что они хотели бы добиться реального результата в этом году. Возможно, главным мотивом является необходимость предъявить что-то общественности по завершении срока Б.Обамы на посту Президента США.
Вопрос: Режим американских санкций против Ирана был введен в 1979 году и частично продолжает действовать до сих пор. Как Вам кажется, санкционная война между Россией и Западом тоже может растянуться на десятилетия?
С.В.Лавров: Может, зная американцев. С одной стороны – это великая страна, а с другой – представители ее исполнительной и законодательной власти ведут себя очень мелочно. Я не раз приводил пример с поправкой «Джексона-Вэника», которая ввела санкции за то, что СССР не выпускал евреев эмигрировать в Израиль. После того, как все, кто хотел, уехали, а многие даже вернулись по собственному желанию, когда все двери были открыты, этот «Джексон-Вэник» продолжал действовать еще более двадцати лет и был снят только потому, что американцы осознали перспективу экономических торговых потерь в связи с нашим вступлением в ВТО. Сохранение санкций против нас означало, что они не будут пользоваться благами снижения таможенных тарифов с нами в рамках ВТО. Но после полного «закрытия еврейской темы» и признания этого всеми продлевали поправку «Джексона-Вэника» по требованию то одного сенатора, то другого. Например, они говорили: «Русские перестали закупать куриные окорочка – «ножки Буша» (которые раньше шли, как помощь, а потом мы «подсели» на этот импорт и начали их закупать)». Именно из-за таких вещей. Наш известнейший диссидент, правозащитник и на определенном этапе член правительства Израиля Н.Щаранский в публичных выступлениях в свое время, когда еще действовала поправка «Джексон-Вэника», говорил, что он сидел в советской тюрьме не из-за американских курочек. Кстати, отменив «Джэксона-Вэника», тут же приняли «закон Магнитского», вздохнув с облегчением, что они все-таки русских будут «держать на крючке». Это пример того, что все происходит не из-за Украины или Сирии. Просто наше укрепление как страны, которая может иметь собственный взгляд на вещи, было многим в Вашингтоне абсолютно не по нутру. «Магнитский», после этого просто психическое помешательство по поводу Э.Сноудена, потом на ровном месте, без каких-либо причин, попытки сорвать нам Олимпиаду в Сочи, по крайней мере, в медийном пространстве, измышления всякого рода, призывы чуть ли не бойкотировать ее и т.д.
У нас нет паранойи, мы прекрасно понимаем, что крупные страны, тем более такие ведущие государства, как США, конечно, не хотят, чтобы появлялись конкуренты. Поэтому этот менталитет будет всегда сказываться на их отношениях с нами, с Китаем, Индией и другими потенциальными, бурно растущими экономиками и финансовыми центрами. Это все нам понятно. Но мы хотим, чтобы наши интересы обеспечивались в этой конкурентной борьбе на международной арене, и хотим делать это честно и на основе правил. Когда правила переписываются каждый раз и по ходу игры переносятся штанги футбольных, регбийных ворот или ворот американского футбола, – это уже нечестно и непорядочно. К сожалению, Вашингтон не раз делал такие вещи, которые позволяют так о нем говорить. Но подчеркну, что никто не заинтересован в ухудшении отношений с США. Мы не будем делать это во вред себе, и они это прекрасно знают. Но будем сотрудничать настолько, насколько они к этому готовы, на основе уважения интересов друг друга, взаимной выгоды, а не в виде подчинения диктату: «Мы вам объявим санкции и потом посмотрим, как вы будете справляться».
Вопрос: Сколько еще может продлиться активная фаза «санкционной войны»?
С.В.Лавров: Мне кажется, что сейчас наступает «момент истины». По крайней мере, в этом году будет ясно, насколько Евросоюз уже осознает, что нынешняя ситуация становится неприличной для внешнего имиджа ЕС. Когда летом истечет срок действия очередной порции санкции, тогда будет ясно: Европа все-таки будет по-честному относиться к своим заявлениям касательно необходимости выполнения не только Россией, но и Украиной Минских соглашений или пойдет на поводу у агрессивного меньшинства, которое есть в ЕС и которое сформировано русофобскими странами – их насчитывается 5-6, но они «заказывают музыку», пользуясь принципом консенсуса и т.н. «солидарности».
Вопрос: Турецкое государство северной части Кипра де-факто существует с 1974 года, но признается эта Республика только Турцией. Нет ли у Вас ощущения в плане международного признания его нынешнего статуса, что Крыму светит похожая история?
С.В.Лавров: Нет. Думаю, что все понимают разницу. В Крыму действительно было волеизъявление народа, там была реальная угроза захвата власти путчистами, которые объявили войну всему русскому. Неоднократно я приводил слова Д.Яроша, который сказал, что «русский в Крыму никогда не будет говорить на «мове», никогда не будет чтить С.Бандеру и Р.Шухевича, поэтому русских в Крыму быть не должно» – это его прямая цитата. Сейчас пытаются сказать, что он маргинальный политик. Ничего подобного, в период «майдана» он был одним из тех, кто решал вопросы и сыграл ключевую роль в этом государственном перевороте. Потом были «поезда дружбы», попытка захвата Верховного совета Автономной Республики Крым, который был легитимно избран по законам Украины и который, будучи легитимным, принимал решение о референдуме.
Так что я бы здесь не проводил никаких параллелей, тем более, что по Кипру существует решение СБ ООН о том, что этот кризис необходимо урегулировать на основе договоренностей между двумя общинами. Там был вооруженный конфликт. В Крыму никакой кризисной конфликтной вооруженной ситуации не было. Была обеспечена безопасность для голосования. У меня нет каких-либо опасений по поводу будущего Крыма. Все больше европейцев, включая парламентариев и бизнесменов, устремляются в Крым. Кто-то сделает «быстрые» деньги, потому что сейчас есть спрос на иностранные инвестиции. Но приезжает все больше людей – парламентариев, журналистов – чтобы увидеть своими глазами, что там происходит. Недавно с таким визитом там побывал представитель Совета Европы, швейцарский дипломат Ж.Штудманн, которому показали все, о чем он и его команда попросили. Я очень надеюсь, что доклад, который он подготовит, будет еще одним вкладом в формирование объективной картины ситуации в Крыму.
Все, кто там побывали, говорят, что это инсценировать невозможно.
Вопрос: Когда можно ожидать международного признания вхождения Крыма в состав России?
С.В.Лавров: Это происходит постепенно – «Кока-кола» уже признала. Жизнь заставляет. Можно делать вид, что ничего не произошло, а произошло очень многое. Было очень много эмоциональных разговоров относительно юридической чистоты вхождения Крыма в состав Украины после развала Советского Союза. Политические деятели в Российской Федерации, включая парламентариев, говорили о том, что это было несправедливо, противоречило законам, которые на тот момент существовали и на основе которых Украина вышла из Советского Союза. По тем законам нельзя было забирать Крым и уж тем более нельзя было забирать Севастополь. Тогда наши западные партнеры нам говорили, что все уже хорошо, все успокоилось, что мы ведь все друзья и живем в новом мире. Референдум, наверное, можно было бы дольше готовить и нагнать туда больше наблюдателей. Они спрашивают, почему мы его провели за одну неделю. Мы отвечаем, что была прямая военная угроза, бандиты неслись на поездах с оружием в руках с угрозой выкорчевать оттуда русских. Сейчас можно цепляться за какие-то юридические, технические аспекты по поводу произошедшего, хотя референдум трудно отрицать. Даже американцы говорят нам на ухо: «Проведите его повторно, уже со всеми атрибутами и виньеточками, все равно результат будет такой же, и все вздохнут спокойно». Это же чистой воды лицемерие! Придираясь к этим юридическим или квазиюридическим моментам, эти же люди, откровенно игнорируя нарушение законов при передаче Крыма Украине в 1954 году, предлагают об этом не вспоминать. Историческая справедливость – это величайший двигатель истории развития событий.
Вопрос: Некоторые из самых близких внешнеполитических партнеров России являются членами НАТО. Почему Россия столь нервно отреагировала на желание Черногории вступить в этот Альянс?
С.В.Лавров: Мы отреагировали не на желание Черногории, и я бы не сказал, что это было нервно. Мы были убеждены, как и все, кто это задумал, что это искусственное решение, никакой безопасности это натовцам не добавит. Объяснения, что этого хочет черногорский народ, разбиваются об аргумент относительно того, что, если это так, то почему не провести референдум. Они категорически не хотят проводить референдум, потому что знают, что, скорее всего, народ, который НАТО бомбило еще пару десятилетий назад, этого не забыл и едва ли с энтузиазмом воспримет идею своего руководства «спрятать многие концы в воду» путем присоединения к НАТО. Сам факт того, что НАТО безоглядно движется на Восток, говорит о полном игнорировании обязательств, дававшихся при распаде Советского Союза, о том, что этого не будет происходить, что военная инфраструктура не будет размещаться на территории новых членов (это было уже потом, когда расширение стало реальностью, вопреки дававшимся заверениям), и, конечно, когда будет принята декларация о том, что никто не будет обеспечивать в Европе свою безопасность за счет ущемления безопасности других. Это была неправда, которую лидеры западного мира произнесли, положили на бумагу, поставили под ней свои подписи и категорически не хотели и не хотят воплощать в жизнь. Когда мы предложили сделать тезис о неделимости безопасности юридически обязывающим, они дали категорический отрицательный ответ. Юридические гарантии безопасности есть только в НАТО. Это искусственное создание ситуации, когда маленькими странами манипулируют: «Если вы к нам вступите, то безопасность будет гарантирована, а если не вступите, то мы вас защищать не собираемся». Нагнетание «российской угрозы», искусственное нагнетание страхов на ровном месте и за счет этого попытка освоения геополитического пространства все ближе и ближе к нашим границам. Мы все это видим. Они все это понимают, но прикидываются наивными людьми, в том числе по проблематике ПРО, которая наряду с расширением НАТО является дестабилизирующим фактором для глобальной стабильности и нарушает глобальные паритеты.
Дело не в Черногории, а в том, как НАТО относится к развитию отношений не просто с Россией, а к обеспечению глобальной безопасности: НАТО отвечает за свой участок и, как записано в Вашингтонском договоре, обеспечивает коллективную оборону от нападения. Но тогда сидите в своих границах, и никто вас трогать не собирается. Им-то этого мало, потому что существование военного политического блока теряет смысл. Вслед за тем, как исчез Варшавский договор, многие говорили, что НАТО утратило смысл своего дальнейшего существования. Этот смысл искали долго. Поначалу была проблема Афганистана. Сейчас поняли, что эта операция провалилась, и какие-то остаточные контингенты поддерживают какой-то минимум безопасности, но ситуация там стремительно деградирует. Поскольку афганская тема ушла с первых полос газет, объявили, между прочим, победу, хотя терроризма стало больше, в десятки раз увеличился наркотрафик. Но для политического пиара все сгодится. Сейчас в связи с Крымом и Сирией подвернулась т.н. «российская угроза». Ее активно эксплуатируют для того, чтобы объяснить дальнейшее существование этой Организации.
Вопрос: Некоторое время назад Вы высказались по поводу истории с девочкой Лизой, которая, как считают у нас, подверглась сексуальному насилию в Берлине. Вы удовлетворены объяснениями, которые Вам обещала дать немецкая сторона? Сумели ли немцы Вас убедить, что вся эта история выдумка недобросовестных российских журналистов?
С.В.Лавров: На все вопросы ответ «нет». Убедить нас ни в чем не сумели, нам не дали обещанной информации. Мы, кстати, никогда не заявляли о том, что Лизу изнасиловали, и что необходимо что-то делать. Мы говорили о том, что озабочены информацией, что девочка, являющаяся российской гражданкой, о чем в Германии предпочитают молчать (ее родители – один гражданин России, другой – Германии), судя по всему, недобровольно исчезла из семьи, будучи ребенком, на 30 часов, и просили объяснить, что могло с ней произойти. Та вакханалия, которая развернулась в «свободных» германских СМИ, возмутительна. Я полностью поддерживаю заявление ваших коллег, членов Совета при Президенте по правам человека, российских журналистов, которые заявили, что каковы бы ни были политические отношения между государствами, объявлять уголовное преследование журналиста за то, что он опубликовал материал с призывом к властям ФРГ дать им информацию о том, что произошло с российской гражданкой, уже напоминает действия того же Президента Турции Р.Т.Эрдогана, которому все сходит с рук, включая судебный процесс и приговор на многие десятилетия двум журналистам, которые разоблачили контрабанду оружия из Турции под видом гуманитарной помощи. Я только сейчас об этом подумал: настораживает такое совпадение линии Анкары и Берлина в отношении журналистов, которые пытаются узнать правду.
Вопрос: Вы, как известно, пишете стихи. Есть ли у Вас стихотворные строки, которые наиболее точно описывают нынешнюю международную обстановку?
С.В.Лавров: После назначения министром, я практически ничего такого серьезного не сочинил, кроме «капустников» на дни рождения друзьям. Обстановка тяжелая, она никогда не будет легкой в нынешнем мире, потому что мы находимся на переломном этапе: меняется парадигма всех этих отношений, появились новые могучие центры роста. С этим не хотят мириться старые центры роста.
Идет борьба между теми, кто проповедует новую индустриализацию, и теми, кто ратует за деиндустриализацию. Цифровая экономика, сектор услуг, роль сырья – сейчас много неясностей. В этом конкурентном мире каждый пытается «толкаться локтями», чтобы занять наиболее благоприятное место для дальнейших договоренностей. Все это понятно. Главное, чтобы здесь не было нечистоплотной игры и чтобы, пока новые правила не написаны, мы руководствовались теми, которые имеем.
Вопрос: Разве дипломатия бывает без нечистоплотной игры?
С.В. Лавров: Смотря как судить о том, что такое нечистоплотная игра. В футболе, хоккее, в любом виде спорта есть нарушение правил. Дипломатия, конечно, не спорт, но это тоже конкуренция. Наверное, есть некие действия, которые партнер сочтет не вполне изящными. Мы стремимся действовать так, чтобы к нам не было подобных претензий. Нас упрекают в том, что мы слишком много о себе думаем, что мы многого хотим в этом мире, не соразмерного нашим способностям и возможностям. Но серьезные люди никогда не бросают в наш адрес упреков в том, что мы ведем нечестную игру. А несерьезные и маргинальные даже обвиняют нас во лжи, в том числе меня лично. Последний такой образчик был в одном СМИ (не хочу делать ему рекламу и называть – оно малоизвестно), где прозвучало заявление, что МИД и лично С.В.Лавров врут о том, что Россия выполнила условия Будапештского меморандума, который в 1994 г. гарантировал безопасность, суверенитет и территориальную целостность Украины. Действительно, мы сказали, что единственное конкретное обязательство в этом Меморандуме заключалось в том, что Россия, США и Великобритания не будут применять против Украины ядерное оружие. Ложь, мол, заключается в том, что мы промолчали о другом обязательстве, которое там якобы содержится, а там просто говорится о том, что все участники Меморандума будут и далее руководствоваться принципами ОБСЕ, в том числе касательно территориальной целостности, суверенитета, невмешательства во внутренние дела. Россия, дескать, нарушила эти принципы, а МИД об этом не говорит и даже врет, что Россия выполнила весь Будапештский меморандум. Принципы ОБСЕ нигде и никогда не разрешали проводить государственные перевороты, запрещали покушаться на национальные и языковые меньшинства. Так что эти принципы были грубейшим образом нарушены путчистами, совершившими государственный переворот на Украине.
Повторю еще раз, что в дипломатии применяются разные методы, но главное, чтобы ты был честен перед самим собой. Я убежден, что наши партнеры, которых мы тоже уважаем, видят нашу работу правильно.

Среди шести стран, входящих в Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива, Бахрейн испытывает наиболее серьезные экономические трудности в связи с падением цен на нефть. Дело дошло до того, что власти королевства создали специальную комиссию, которая рассматривает, как еще можно сократить госрасходы, которые итак были сокращены на треть. В то же время в ближайшие годы Бахрейн планирует реализовать ряд крупных проектов в области энергетики, в частности, строительство нового газоперерабатывающего завода и терминала по приему СПГ, прокладку нового трубопровода между Бахрейном и Саудовской Аравией, откуда с саудовского месторождения Абкаик нефть поступает на НПЗ в Бахрейне.
Сколько потерял Бахрейн в результате падения цен на нефть, планирует ли королевство сокращать нефтедобычу, что ждет Манама от энергетического сотрудничества с Россией, в интервью корреспонденту РИА Новости Юлии Троицкой рассказал министр энергетики Бахрейна, председатель совета директоров Национального нефтегазового управления Абдель Хусейн бен Али Мирза.
— В конце прошлого года сообщалось, что Бахрейн и РФ вели переговоры по поставкам в королевство российского сжиженного природного газа. Есть ли какие-то подвижки в переговорах? Какие-то договоренности?
— Во время визита в Бахрейн председателя совета директоров компании "Газпром" Виктора Зубкова 21 января мы договорились, что команда из Бахрейна посетит Россию в марте, чтобы продолжить обсуждение этого вопроса.
— Какие еще совместные с Россией энергетические проекты сейчас рассматриваются?
— Мы обсуждаем возможность участия российских нефтяных компаний в разведке новых нефтяных и газовых месторождений на бахрейнских нефтяных блоках, которые будут предложены международным нефтяным компаниям.
— Какая цена на нефть заложена в бюджете Бахрейна на 2016 год?
— Цена на нефть, заложенная в бюджете Бахрейна на 2016 год, составляет 50 долларов за баррель.
— Каков ваш прогноз по динамике цен на нефть на 2016 год? Можем ли мы ожидать, что цены на нефть вырастут в этом году?
— Всемирный банк в октябре 2015 года сообщил, что со второй половины 2016 года цены на нефть начнут медленно расти и этот процесс будет продолжаться до 2025 года, но цены не достигнут трехзначного значения. Однако существуют другие различные прогнозы. В целом мы все знаем, что предсказывать будущие цены на нефть очень сложно.
— Как вы думаете, упадут ли цены на нефть еще больше? Можно ли ожидать, что цены на нефть опустятся ниже 20 долларов за баррель?
— Как я уже сказал, прогнозировать уровень цен на нефть очень сложно. Если мы вспомним, в 1986 году цены были на уровне 31 доллара за баррель и в этом же году они упали до 10 долларов. То же самое случилось в 1990 году, когда в течение года цены на нефть снизились с 41 до 17 долларов. В 2000 году цены на нефть держались на уровне 38 долларов и в этом же году опустились ниже 17 долларов.
— Насколько сильно низкие цены на нефть оказывают негативное влияние на экономику страны?
— Доходы от продажи нефти и газа в бюджете Бахрейна 2015 года должны были составить 1,7 миллиарда динар (более 4,5 миллиарда долларов), и такой же показатель заложен в бюджете 2016 года. Таким образом, дефицит государственного бюджета в 2015 году составил 1,5 миллиарда динар (около 4 миллиардов долларов), аналогичный дефицит бюджета ожидается в 2016 году. Негативные последствия для нашей экономики очевидны.
— Планирует ли Бахрейн увеличивать или сокращать добычу нефти и газа?
— По сравнению с другими странами, входящими в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, мы добываем и экспортируем довольно ограниченное количество углеводородов. Бахрейн добывает 200 тысяч баррелей в сутки и отправляет на экспорт 150 тысяч баррелей. Мы надеемся, что сможем увеличить добычу, если это возможно, проводя разведку для открытия новых месторождений.
— Какой, на ваш взгляд, будет политика ОПЕК в 2016 году? Поменяется ли она с учетом выхода Ирана на мировой рынок?
— В прошлом ОПЕК сокращал добычу, когда цены на нефть падали. Сегодня основные производители среди стран-членов ОПЕК не хотят уменьшать добычу из опасений потерять свою долю на рынке. Но если мнения стран-членов ОПЕК и не входящих в эту организацию государств о необходимости сократить добычу совпадут, тогда снижение производства с целью повысить цены на нефть возможно.

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел Королевства Бахрейн Х.Аль Халифой, Москва, 16 декабря 2015 года
Уважаемые дамы и господа,
Мы провели переговоры с моим коллегой и другом Министром иностранных дел Королевства Бахрейн Х.Аль Халифой. Мы начали наши переговоры с поздравления в адрес наших бахрейнских друзей по случаю Национального дня Королевства, который отмечается сегодня. Мы рады, что наши коллеги проводят этот праздник вместе с нами.
В ходе переговоров основное внимание мы уделили рассмотрению хода реализации договоренностей, которые были достигнуты во время состоявшихся в прошлом году визитов в Российскую Федерацию Короля Бахрейна Х.Аль Халифы и Наследного принца Бахрейна С.Аль Халифы с руководством Российской Федерации.
Мы едины в том, что хорошие заделы, которые были созданы в сфере энергетики, банковского дела, инвестиционной области должны быть как можно скорее переведены в практическую плоскость. Возможности для этого есть. Уже есть практические результаты сотрудничества между Российским фондом прямых инвестиций и бахрейнской инвестиционной компанией «Mumtalakat». В конкретном плане обсуждается перспектива взаимодействия ПАО «Газпром» с бахрейнскими партнерами по конкретным направлениям. Договорились содействовать этим усилиям, а также усилиям других российских компаний, которые заинтересованы в развитии сотрудничества с Бахрейном. Важным этапом станет качественная подготовка к очередному заседанию Российско-Бахрейнского делового Совета, который состоится в Королевстве в феврале следующего года.
Мы укрепляем договорно-правовую базу. Сегодня, до нашей встречи с Министром иностранных дел Королевства Бахрейн Х.Аль Халифой, в Министерстве юстиции Российской Федерации было подписано Соглашение о передаче лиц, осужденных к лишению свободы. Только что мы подписали Соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов. По предложению наших друзей договорились продолжить усилия по облегчению визового режима, в частности, для бизнесменов двух стран. С удовлетворением отметили завершающийся процесс ратификации подписанных ранее соглашений, двух очень важных документов: Соглашения о взаимной защите и поощрении инвестиций и Межправительственного соглашения о военно-техническом сотрудничестве.
Наши контакты с Бахрейном, помимо сугубо двустороннего измерения, являются еще и составной частью стратегического диалога между Россией и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Механизм нашего стратегического сотрудничества предполагает регулярные встречи на министерском уровне, состоялось уже 3 таких раунда. Следующий, четвертый раунд пройдет в Российской Федерации. Мы рады, что наши друзья из Бахрейна поддерживают такой подход. Так же как и с ССАГПЗ, у нас есть механизм стратегического диалога Россия – Лига арабских государств (ЛАГ). Очередной министерский раунд диалога России – ЛАГ намечен к проведению в Москве в начале 2016 года. Об этом мы сегодня тоже говорили, прежде всего, в контексте качественной подготовке к этому мероприятию. Такие разветвленные механизмы многостороннего сотрудничества России со странами региона наряду с доверительными двусторонними контактами, которые осуществляются на регулярной основе, помогают предметно и откровенно рассматривать все ключевые проблемы, конфликтные ситуации, к сожалению, сохраняющиеся и даже обостряющиеся в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.
Сегодня состоялся именно такой товарищеский разговор, который позволил подтвердить совпадение или близость позиций между Россией и Королевством Бахрейн по большинству региональных проблем. Это касается формирования максимально широкого единого фронта для борьбы с терроризмом, усилий по урегулированию кризисов в Сирии, Йемене на основе организации общенационального диалога под эгидой ООН, нашей общей заинтересованности в нормализации ситуации в других странах, включая Ирак, Афганистан. Конечно же, это касается и нашей неизменной позиции, которую полностью разделяет Бахрейн, о необходимости вывода из тупика такого застарелого конфликта, как палестино-израильская проблема. Мы договорились продолжать совместными усилиями искать пути продвижения к урегулированию всех этих и других проблем как по линии продолжающихся двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях, так и в рамках региональных структур, о которых я упомянул, и, конечно же, в рамках ООН, где наши делегации весьма плодотворно сотрудничают.
Я весьма признателен моему другу, коллеге за то, что он принял наше приглашение и за состоявшиеся полезные переговоры.
Вопрос (адресован Х.Аль Халифе): Какова программа реальных действий коалиции исламских государств?
С.В.Лавров (добавляет после Х.Аль Халифы): Хотел бы добавить, что мы тоже с большим вниманием восприняли инициативу Саудовской Аравии. Сейчас мы анализируем ее содержание и место, которое призвана занять эта инициатива в общей антитеррористической борьбе. Особое значение имеет аспект, который сейчас подчеркнул мой коллега и друг Х.Аль Халифа, о том, что ее неотъемлемой частью будет идеологическое измерение, призванное не допустить одурманивание молодежи путем спекулирования на величайших принципах ислама. Считаю это чрезвычайно важным моментом, учитывая роль Саудовской Аравии и лично Короля Сальмана как хранителя двух главных мусульманских святынь. Рассчитываем, что эта инициатива послужит стимулом для того, чтобы все без исключения мусульманские страны, возможно, через Организацию исламского сотрудничества (ОИС), встали в один ряд против любых проявлений терроризма и попыток спекулировать на религиозном факторе. Россия всегда будет открыта к диалогу с любыми государствами и группами государств в контексте начинаний по мобилизации дополнительных усилий на борьбу с террором. Это касается региона Ближнего Востока и Севера Африки в свете антитеррористических задач, которые решает там Российская Федерация по просьбе сирийского Правительства, а также наших действий по согласованию усилий в этой борьбе с возглавляемой США коалицией. Безусловно, мы бы предпочитали и рассчитываем, что возможно проводить эту работу при координирующей роли ООН в рамках тех универсальных и глобальных решений, которые принимались Организацией Объединенных Наций.
Думаю, что инициатива Саудовской Аравии вполне может стать отправной точкой для рассмотрения возможности созыва под эгидой ООН глобальной конференции, посвященной роли всех мировых религий в борьбе с террором. Мы будем готовы к предметному разговору на этот счет с нашими друзьями из Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), включая Бахрейн, Саудовскую Аравию и все другие страны, заинтересованные в том, чтобы победить это зло.
Вопрос: Рассматривался ли сегодня вопрос обновленного варианта российской концепции о коллективной безопасности в регионе Персидского залива? Что нового в этом варианте? Какая роль отведена Ирану? Предпринимаются ли шаги со стороны России по нормализации отношений Ирана как с Бахрейном, так и с другими странами Персидского залива?
С.В.Лавров: Мы выдвинули концепцию безопасности в районе Персидского залива еще в начале 90-х гг. и исходили из того, что все прибрежные государства этого важнейшего водоема, конечно же, должны жить в мире, согласии и взаимовыгодно сотрудничать. Это важно не только для непосредственно стран региона, но и для большинства других государств мира, учитывая роль Персидского залива в мировых экономике и политике.
Продвигая эту инициативу, естественно, мы действовали аккуратно и хотели поначалу через доверительный диалог понять, насколько реальны по сути и срокам шаги, которые мы хотели бы предложить странам Залива – арабам и Ирану – сделать навстречу друг другу. Мы исходили из того, что в случае заинтересованности и реальных возможностей, можно начать двигаться по этому пути. К поддержке этого процесса могли бы быть привлечены и пять постоянных членов СБ ООН, ЛАГ, ЕС. Такой подход стал вырисовываться в первое десятилетие нынешнего века и был с симпатией встречен целым рядом стран-участниц ССАГПЗ, включая наших друзей из Бахрейна. Мы не форсировали этот процесс, а стремились сделать так, чтобы непосредственно вовлеченные в перспективу такого взаимодействия страны сами созрели для того, чтобы заняться этим напрямую.
Сегодня мы с г-ном Х.Аль Халифой пришли к общему выводу, что прошедшие годы изменили ситуацию в пользу ускорения начала такого диалога. С одной стороны, резко обострилась угроза терроризма – общего врага как для арабских государств Персидского залива, Ирана и для всех нас. С другой стороны, совершен радикальный качественный прорыв в урегулировании одной из сложнейших проблем современности – ситуации вокруг иранской ядерной программы (ИЯП). Эта договоренность важна и с точки зрения обеспечения законных интересов Ирана, и с точки зрения гарантий снятия всяческих рисков для режима нераспространения ядерного оружия. Она нам важна и для того, чтобы более эффективно подходить к решению целого ряда региональных проблем, включая создание зоны, свободной от оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке и продвижение концепции безопасности в регионе Персидского залива. С учетом этих новых моментов развития обстановки, конечно, концепция такой возможной схемы безопасности должна обновляться. Мы сегодня с г-ном Министром сошлись во мнении, что оптимально было бы начать этот процесс с участием стран региона и «внешних игроков», в частности, как я уже сказал, «пятерки» постоянных членов Совета Безопасности ООН, на уровне экспертов и академических кругов. Думаю, что это было бы полезно сделать в одной из стран региона.
Вопрос: Как Вы оцениваете перспективу принятия на переговорах МГПС проекта резолюции по Сирии и последующего внесения его в Совет Безопасности ООН? Что может этому, на Ваш взгляд, воспрепятствовать?
С.В.Лавров: Мы уже с самого начала появления идеи собраться в Нью-Йорке не раз говорили о том, что будем готовы собираться в Нью-Йорке, как и в любой другой точке при понимании, что встреча будет посвящена реализации договоренностей, достигнутых в рамках Венского формата 30 октября и 14 ноября с.г. Вчера мы обсуждали этот вопрос на переговорах с Государственным секретарем США Дж.Керри, учитывая, в частности, то обстоятельство, что Россия и США вместе со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии С.де Мистурой являются сопредседателями МГПС. В качестве сопредседателей этой Группы мы пришли к мнению, что было бы полезно придать достигнутым МГПС в Вене договоренностям международно-правовой статус и одобрить их в резолюции Совета Безопасности ООН, как в свое время там было одобрено Женевское коммюнике от 30 июня 2012 г. Считаем это важным, поскольку принятие резолюции, одобряющей Венские договоренности, позволило бы придать обязательный характер выдвинутым МГПС инициативам в том, что касается необходимости выработки единого подхода к борьбе с террористическими структурами и содействия ООН в формировании представительной делегации оппозиции для переговоров с Правительством Сирии на конструктивной платформе. Учитывая, что инициативы МГПС по списку террористов и формированию делегации оппозиции прямо предполагают, что окончательное слово по обоим этим вопросам должно принадлежать ООН, тем более логично закрепить эти понимания в резолюции Совета Безопасности ООН. МГПС уже была универсально признана всем международным сообществом как ключевой механизм, который обеспечивает консенсус всех основных внешних игроков в отношении создания необходимых условий для начала сирийского политического процесса. Но все-таки эта Группа не имеет официального статуса, и принимаемые ею решения получают дополнительный вес и международно-правовое измерение в рамках Совета Безопасности ООН. Этим подходом мы и будем руководствоваться.
Что может помешать принятию резолюции? Я думаю, что это очень маловероятно, но помешать может попытка кого бы то ни было переписать Венские договоренности в рамках резолюции Совета Безопасности ООН, принизить их значение или в целом ослабить роль, которую все согласились видеть в деятельности МГПС. Учитывая, что в этой группе присутствуют все пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, я практически уверен, что никто не попытается ломать уже достигнутый консенсус.
Еще раз хочу подчеркнуть, что речь ни в коем случае не идет о переписывании того, о чем договорились в Вене, а о том, чтобы через резолюцию Совета Безопасности придать дополнительный международно-правовой вес достигнутым в Вене договоренностям. Все это мы вчера сразу по завершении переговоров с Государственным секретарем США Дж.Керри подробно разъяснили через наших послов в соответствующих странах. Я убежден, что правильное понимание того, чем мы собираемся заниматься в Нью-Йорке, присутствует.

Вручение верительных грамот Президенту России.
Владимир Путин принял верительные грамоты у 15 послов иностранных государств. По традиции церемония, символизирующая официальное начало работы главы дипломатического представительства в Российской Федерации, состоялась в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.
Верительные грамоты главе Российского государства вручили: Пак Ро Бёк (Республика Корея), Майк Николас Санго (Республика Зимбабве), Абдельхафиз Нофаль (Государство Палестина), Знаур Николаевич Гассиев (Республика Южная Осетия), Махешварсингх Хемлолива (Республика Маврикий), Мигель Умберто Лекаро Барсенас (Республика Панама), Надир Юсиф Элтайеб Бабикер (Республика Судан), Эдриан Макдэйд (Ирландия), Саман Кумара Ранджит Вирасингхе (Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка), Ахмед Абдулрахман Махмуд Исмаил Аль-Саати (Королевство Бахрейн), Йон Петер Эриксон (Королевство Швеция), Арти Хилпус (Эстонская Республика), госпожа Хаяти Бинти Исмаил (Малайзия), Цви Хейфец (Государство Израиль), Валентин Нкуман Тавун Матунгул (Демократическая Республика Конго).
* * *
Выступление на церемонии вручения верительных грамот Президенту России.
В.Путин: Уважаемые дамы и господа! Приветствую вас в Московском Кремле и поздравляю с началом важной и почётной дипломатической миссии в России.
Ответственные, нацеленные на взаимопонимание и сотрудничество усилия дипломатии особенно востребованы в нынешней сложной международной ситуации, когда все мы сталкиваемся с беспрецедентными по своему масштабу и характеру вызовами и угрозами. Эти угрозы, прежде всего, связаны с террором, с его варварскими коварными преступлениями.
За 10 лет в мире совершено более 100 тысяч террористических актов, их жертвами стали люди самых разных национальностей и вероисповедания. От рук экстремистских террористических группировок только в 2014 году погибло свыше 32 тысяч человек из 67 стран мира.
За 10 лет в мире совершено более 100 тысяч террористических актов, их жертвами стали люди самых разных национальностей и вероисповедания. От рук экстремистских террористических группировок только в 2014 году погибло свыше 32 тысяч человек из 67 стран мира.
Позиция России в отношении терроризма всегда была последовательной, твёрдой и ясной: с этим злом нужно бороться бескомпромиссно, последовательно. Считаем, что любые попытки обелить терроризм, потворствовать террористам должны рассматриваться фактически как соучастие в терроре, соучастие в преступлениях.
Напомню, что именно пассивность ряда стран, а зачастую и непосредственное пособничество терроризму, собственно, и привело к возникновению кошмарного феномена так называемого Исламского государства. Террористов, их незаконную торговлю нефтью, людьми, наркотиками, произведениями искусства, оружием не только покрывали и покрывают, но на этом кое–кто продолжает зарабатывать, причём зарабатывать сотни миллионов и миллиарды долларов.
Хотелось бы надеяться, что после теракта против российского авиалайнера в Египте, трагических событий во Франции, жестоких массовых убийств в Ливане, Нигерии, Мали придёт наконец понимание необходимости объединения усилий всего международного сообщества в борьбе с террором.
Рассчитываю, что будет сформирована действительно широкая международная антитеррористическая коалиция, которая выступит скоординировано, как единая мощная сила, и, в частности, поддержит действия российских военных, осуществляющих успешные операции против террористических группировок и структур в Сирии.
Будем настойчиво продолжать наши попытки договориться со всеми партнёрами, в том числе в рамках венского процесса. Мы исходим из заинтересованности всех государств мира именно в такой скоординированной совместной работе. И конечно, в этой связи не могу не сказать, что мы считаем абсолютно необъяснимыми предательские удары в спину от тех, в ком мы видели партнёров и союзников по антитеррористической борьбе, – имею в виду инцидент со сбитым турецкими военно-воздушными силами российским бомбардировщиком.
То, что произошло два дня назад в небе над Сирией, противоречит здравому смыслу и международному праву: самолёт был сбит над сирийской территорией. При этом до сих пор мы не слышим ни внятных извинений с высшего политического уровня Турции, ни предложений по возмещению вреда и ущерба, ни обещания наказать преступников за содеянное преступление. Создаётся впечатление, что турецкое руководство сознательно загоняет российско-турецкие отношения в тупик, – мы сожалеем об этом.
Мы считаем абсолютно необъяснимыми предательские удары в спину от тех, в ком мы видели партнёров и союзников по антитеррористической борьбе, – имею в виду инцидент со сбитым турецкими военно-воздушными силами российским бомбардировщиком.
Уважаемые дамы и господа! На сегодняшней церемонии присутствуют 15 послов. По традиции кратко охарактеризую состояние отношений с каждым из ваших государств.
В этом году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений с Республикой Корея, важным и перспективным партнёром России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Настроены на совместную реализацию крупных торговых и инвестиционных проектов. Будем и далее способствовать поддержанию мира и безопасности на Корейском полуострове.
Заинтересованы в углублении взаимовыгодного политического, экономического и военно-технического сотрудничества с Республикой Зимбабве. Готовы развивать промышленную кооперацию, вкладывать капиталы и технологии в добывающую отрасль вашей страны, уважаемый господин Посол.
Отношения дружбы связывают Россию и Палестину. Поддерживаем палестинцев в их стремлении к установлению справедливого и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке. Развитию делового взаимодействия будет способствовать намеченный на начало будущего года запуск работы Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
В марте этого года Россия и Южная Осетия заключили договор о союзничестве и интеграции. Его цель – поэтапное углубление сотрудничества в экономической, социальной и гуманитарных сферах, а также в вопросах обороны. Будем и впредь оказывать всестороннюю поддержку юго-осетинскому народу, обеспечивать безопасность вашей республики.
Ценим дружественные связи с Республикой Маврикий. Видим хороший потенциал для их расширения, в том числе в сфере туризма, рыболовстве, морском и авиационном транспорте.
Выступаем за активизацию связей с Республикой Панама. Ведём вместе работу по совершенствованию договорно-правовой базы. Открыты к более плотным контактам по экономической и финансовой повестке дня. Будем и дальше помогать панамцам готовить национальные кадры, в частности для правоохранительных органов.
В конструктивном ключе выстраиваются российско-суданские отношения. Намерены и далее содействовать коллективным усилиям в интересах устойчивой нормализации ситуации в Дарфуре – конечно, на основе уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности Судана.
Позиция России в отношении терроризма всегда была последовательной, твёрдой и ясной: с этим злом нужно бороться бескомпромиссно, последовательно. Считаем, что любые попытки обелить терроризм, потворствовать террористам должны рассматриваться фактически как соучастие в терроре, соучастие в преступлениях.
Имеются хорошие возможности для расширения торгово-экономического взаимодействия с Ирландией. Мы заинтересованы в реализации взаимовыгодных проектов в области инвестиций и новых технологий, налаживании межрегиональных обменов.
В последнее время нам удалось укрепить договорно-правовую базу наших отношений со Шри-Ланкой. Это создаёт предпосылки для развития всего комплекса двусторонних отношений, двустороннего сотрудничества. Расширяются традиционные контакты в области рыболовства и сельского хозяйства.
Королевство Бахрейн – надёжный партнёр России в зоне Персидского залива. Рассчитываем на эффективную реализацию договорённостей, достигнутых в ходе прошлогоднего визита в нашу страну короля Хамада [Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа]. Будем работать над углублением сотрудничества в энергетической, инвестиционной, военно-технической сферах, над развитием культурных программ и туристических обменов.
Придаём важное значение отношениям с нашим северным соседом – Швецией. Сегодня на повестке дня работа по преодолению сбоев в торгово-экономическом взаимодействии и по возобновлению полезных политических и иных контактов; деловые круги обеих стран, конечно, в этом заинтересованы.
Настроены на взаимоуважительный диалог с Эстонией в духе добрососедства. Повышению доверия могло бы способствовать вступление в силу пограничных договоров. Наша позиция вам хорошо известна по поводу прав и законных интересов наших соотечественников, проживающих в Эстонии, и, конечно, исходим из того, что они будут неукоснительно соблюдаться.
Будем и далее способствовать продвижению политического и торгово-инвестиционного взаимодействия с Малайзией. Готовы к совместной работе по обеспечению стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ожидаем участия Премьер-министра Наджиба Разака в юбилейном саммите Россия–АСЕАН, который состоится в мае следующего года в Сочи.
Хотелось бы надеяться, что после теракта против российского авиалайнера в Египте, трагических событий во Франции, жестоких массовых убийств в Ливане, Нигерии, Мали придёт наконец понимание необходимости объединения усилий всего международного сообщества в борьбе с террором.
Удовлетворены состоянием конструктивных партнёрских отношений с Израилем. Отношения между нашими государствами находятся на высоком уровне. В сентябре провели с Премьер-министром Биньямином Нетаньяху насыщенные и весьма результативные переговоры. Договорились углублять наше взаимодействие в промышленности, сфере высоких технологий, сельском хозяйстве. Будем и впредь поддерживать контакты с израильским руководством в целях установления справедливого, всеобъемлющего и долгосрочного мира на Ближнем Востоке, обмениваться информацией на антитеррористическом треке.
Выступаем за поступательное развитие связей с Демократической Республикой Конго. Совместно с международным сообществом продолжим оказывать содействие народу и руководству Конго в деле восстановления внутреннего мира и национального согласия, упрочения государственности.
Уважаемые дамы и господа! Впереди у вас напряжённая, насыщенная и, надеюсь, интересная работа в Москве. Можете быть уверены в том, что со стороны российского руководства, наших ведомств, местных властей вам будет оказана всяческая поддержка и содействие.
Желаю вам успехов. Благодарю за внимание.

Конец Pax Americana
Почему отступление Вашингтона на Ближнем Востоке кажется разумным
Стивен Саймон – приглашенный лектор Дартмутского колледжа, старший директор по делам Ближнего Востока и Северной Африки в Белом доме в 2011–2012 годах.
Джонатан Стивенсон – профессор стратегических исследований в Военно-морском колледже США, директор по политическим и военным вопросам на Ближнем Востоке и в Северной Африке в аппарате Совета национальной безопасности США в 2011–2013 годах.
Резюме Вашингтону следует стремиться к здоровому равновесию в отношениях с Ближним Востоком, что предполагает сокращение управленческой роли Америки. Политика военного вмешательства стала отклонением и не должна превратиться в долгосрочную норму.
Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 6, 2015 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
Несмотря на укрепление «Исламского государства» (также известного как ИГИЛ) и авиаудары возглавляемой Соединенными Штатами коалиции по его позициям, администрация Обамы явно отступила от политики вмешательства на Ближнем Востоке. Критики связывают это с тем, что администрации надоела активность США в регионе, она не готова к крупным военным операциям, а президент Обама якобы предпочитает сокращать вовлеченность в мировые дела. На самом деле интервенции Вашингтона в регионе после 11 сентября – особенно вторжение в Ирак – были аномалиями и сформировали как в стране, так и в регионе ложные представления о «новой норме» американского вмешательства. Нежелание использовать сухопутные войска в Ираке или Сирии представляет собой не отступление, а скорее корректировку – попытку восстановить стабильность, существовавшую на протяжении нескольких десятилетий благодаря американской сдержанности, а не агрессивности.
Можно утверждать, что это отступление – не выбор, а необходимость. Некоторые эксперты-реалисты считают, что в период экономической неопределенности и сокращения военного бюджета экспансионистская политика в регионе стала слишком затратной. Согласно этой точке зрения, Соединенные Штаты, как в прошлом Великобритания, стали жертвой «имперского перенапряжения». Другие утверждают, что американские политические инициативы, особенно недавние переговоры по иранской ядерной программе, отдалили Вашингтон от традиционных союзников на Ближнем Востоке. Иными словами, США отступают не по своей воле, их вынуждают это сделать.
Однако в действительности отступление спровоцировано событиями не в Америке, а в самом регионе. Развитие политической и экономической ситуации на Ближнем Востоке сократило возможности эффективного американского вмешательства до минимума, Вашингтон признал это и начал действовать соответствующим образом. Учитывая вышесказанное, Соединенным Штатам стоит продолжать умеренное отступление, по крайней мере пока нет серьезной угрозы их ключевым интересам.
Обратно к норме
После Второй мировой войны и до терактов 11 сентября 2001 г. Соединенные Штаты были основным гарантом статус-кво на Ближнем Востоке, прибегая к военным интервенциям лишь в исключительных случаях. Прямого военного участия США не было вовсе, либо оно являлось номинальным или непрямым во время арабо-израильской войны 1948 г., суэцкого кризиса 1956 г., шестидневной войны 1967 г., «войны Судного дня» в 1973 г. и ирано-иракской войны в 1980-е годы. Миротворческая миссия Соединенных Штатов в Ливане в 1982–1984 гг. завершилась провалом и обусловила появление доктрины «подавляющей силы», которая препятствовала американским интервенциям вплоть до неожиданного вторжения Саддама Хусейна в Кувейт в 1990 г., заставившего Вашингтон вмешаться.
Америке не нужна была политика с прицелом на будущее, потому что ее цели совпадали с интересами стратегических союзников и партнеров в регионе, и достичь их можно было посредством экономических и дипломатических отношений в сочетании с незначительным военным присутствием. США и арабские государства Персидского залива были заинтересованы в стабильности нефтяных поставок и цен, как и в политической стабильности вообще. После иранской революции 1979 г. общей задачей для Соединенных Штатов, Израиля и государств Персидского залива стало сдерживание Ирана. Начиная с Кэмп-Дэвидских соглашений (1978 г.) интересы США, Египта и Израиля все больше сближались, а трехсторонние отношения укреплялись благодаря существенной американской помощи и Египту, и Израилю. И даже после терактов 11 сентября у Соединенных Штатов, Израиля и арабских государств Персидского залива были общие приоритеты в борьбе с терроризмом.
Но за последние 10 лет несколько факторов, в основном не связанных с политической повесткой Вашингтона, ослабили фундамент этих альянсов и партнерств.
Прежде всего разработка технологии гидравлического разрыва пластов резко сократила прямую зависимость США от нефти из Персидского залива и снизила стратегическую ценность и приоритетность отношений с Саудовской Аравией и небольшими государствами Залива. На самом деле скоро Соединенные Штаты опередят Саудовскую Аравию, став крупнейшим мировым производителем нефти, и им придется импортировать значительно меньше ископаемых видов топлива. Хотя страны Персидского залива продолжат определять мировые цены на нефть, а американские компании сохранят свою долю в месторождениях Залива, США значительно расширят пространство для политического маневра.
Распространение и укрепление джихадизма также ослабило стратегические связи между Соединенными Штатами и их региональными партнерами. Десять лет назад американское давление в сочетании с шоком от масштабных атак «Аль-Каиды» убедили саудовцев и их соседей начать активную борьбу с джихадистами. Но сегодня подавление джихадизма отошло на второй план, а главной целью стран Персидского залива стало свержение сирийского президента Башара Асада и сдерживание его покровителей в Иране. Они поддерживают суннитских экстремистов в Сирии, несмотря на увещевания Вашингтона и желание Саудовской Аравии избежать прихода к власти в Дамаске радикалов после падения режима Асада. Региональные партнеры считают себя все менее подотчетными Вашингтону, а тот, в свою очередь, все в меньшей степени полагает себя обязанным защищать их интересы, которые становятся местническими и все дальше отходят от американских интересов и ценностей.
Кроме того, повсеместная радикализация ислама привела к возникновению панисламистской идентичности, что затрудняет участие Запада в делах Ближнего Востока. Возьмем, к примеру, нежелание многих представителей умеренной суннитской оппозиции в Сирии принимать помощь Европы или Америки, поскольку она лишит их доверия в глазах исламистов.
В то же время, с точки зрения США, Ближний Восток с его подорванными политическими и экономическими функциями стал слишком сомнительным местом для инвестиций. Регион испытывает нехватку воды, трудности с сельским хозяйством и серьезный переизбыток трудовых ресурсов. Из все еще функционирующих ближневосточных государств большинству приходится иметь дело со значительным внешним долгом и дефицитом бюджета, содержать огромный и неэффективный аппарат госслужащих, субсидировать топливо и другие нужды населения. Снижение доходов от нефти ограничит возможности стран Залива по финансированию этих изношенных механизмов. Из-за конфликтов, которые во многих странах Ближнего Востока находятся в активной стадии, значительная доля населения вынуждена покинуть свои дома, молодежь лишилась надежд на будущее и возможности получать образование. Эти обстоятельства ведут к полному отчаянию или, что более опасно, к политической и религиозной радикализации. Попытки превратить Ближний Восток в инкубатор либеральной демократии, чтобы утихомирить молодых мусульман, проваливались, даже когда у Соединенных Штатов было достаточно денег и оснований для оптимистичной оценки проекта – в первые годы после терактов 11 сентября.
Наконец, группы, которые когда-то были надежными бастионами прозападных настроений на Ближнем Востоке – военные, элита нефтяной отрасли, светские технократы – переживают спад своего влияния. А в случаях, когда традиционно прозападные элементы сохранили влияние, их интересы и политика серьезно отличаются от американской. Например, в Египте военные на протяжении десятилетий служили опорой отношений с американцами. После переворота 2013 г., в результате которого бывший армейский генерал Абдель-Фаттах ас-Сиси оказался во главе нового авторитарного режима, военные получили больше контроля в стране, чем когда-либо ранее. Но это вряд ли сулит что-то хорошее Вашингтону: если считать прошлое прологом, то жесткие действия военных против «Братьев-мусульман», вероятно, приведут к росту насилия со стороны джихадистов и подвергнут США рискам, которых они стремились избежать, оказывая помощь Египту. Надежды 1950-х – 1960-х гг. на появление светской, технократической, ориентированной на Запад арабской элиты, которая поведет за собой общество, давно исчезли.
Мощные, но бессильные
Одновременно со снижением значимости Ближнего Востока для Вашингтона и расхождением интересов Соединенных Штатов и их традиционных партнеров уменьшаются и возможности американских вооруженных сил добиваться кардинальных перемен в регионе. Децентрализация «Аль-Каиды» и появление ИГИЛ – экспедиционной армии джихадистов и квазигосударства – увеличили асимметрию между военным потенциалом США и первостепенными угрозами, стоящими перед регионом. Когда оккупированный американцами Ирак скатился в 2006 г. к гражданской войне, Пентагон занялся улучшением стратегии и тактики действий против повстанцев, перекроив военную структуру и сделав акцент на борьбе с нерегулярными формированиями и спецоперациях. Но либеральным и ответственным демократическим правительствам трудно проявлять стойкость и жестокость, которые обычно требуются для подавления непокорных и преданных идее местных жителей – особенно если речь идет об общественном движении регионального масштаба, не признающем физических и политических границ, как ИГИЛ. Это особенно справедливо, если у внешней державы нет в регионе партнеров со сплоченной бюрократией и народной легитимностью. Соединенные Штаты по-прежнему обладают достаточными ресурсами и военным потенциалом, чтобы вести войны против современных национальных государств и добиваться в них убедительной победы и вполне конкретных результатов. Но американцы на собственном горьком опыте узнали, как сложно управлять и тем более манипулировать этническими группами, заряженными религиозными идеями.
Военная операция американской коалиции против ИГИЛ, несомненно, может привести к впечатляющим победам на поле боя. Но последствия конфликта в конечном итоге докажут бессмысленность проекта. Для закрепления тактических побед потребуется политическая воля и поддержка американского общества; размещение большой группы гражданских экспертов по восстановлению и стабилизации; детальные знания о народе, за судьбу которого победоносные Соединенные Штаты возьмут на себя ответственность, и, что особенно проблематично, постоянный военный контингент для обеспечения безопасности населения и инфраструктуры. Даже при наличии всех этих условий Вашингтону будет непросто найти зависимых и преданных избирателей, клиентов или союзников, готовых помочь. Все это звучит знакомо, потому что вышеперечисленный набор условий США не смогли собрать в ходе двух последних интервенций на Ближнем Востоке – вторжении в Ирак в 2003 г. и натовских бомбардировок Ливии в 2011 году. Проще говоря, американцы, скорее всего, проиграют еще одну войну на Ближнем Востоке по тем же причинам, по которым проиграли две предыдущие.
Даже менее интенсивный, контртеррористический подход к ИГИЛ, который потребует постоянных ударов беспилотников и периодических операций спецназа, несет серьезные риски. Так, сопутствующий ущерб от атак беспилотников мешает правительству Пакистана расширять сотрудничество с США. Пять лет назад американские военные с гордостью рапортовали о спецоперациях в Афганистане, в результате которых были уничтожены или захвачены многие руководители «Талибана». Но жертвы среди мирного населения в ходе этих рейдов подорвали стратегические цели, так как вызвали негодование местных жителей и подтолкнули их к талибам.
Поэтому американские политики должны испытывать серьезные сомнения по поводу участия в любом из нынешних конфликтов на Ближнем Востоке. Особенно если эти сомнения объясняют и оправдывают нежелание администрации Обамы более активно вмешиваться в ситуацию в Сирии. С 2012 по начало 2013 гг. администрация рассматривала полный спектр вариантов по Сирии, включая введение бесполетной и буферной зоны, насильственную смену власти (для этого потребовалась бы более значительная военная помощь противникам Асада) и ограниченные ответные удары против режима в случае применения химического оружия. Но растущее участие иранского Корпуса стражей исламской революции и ливанской шиитской группировки «Хезболла» в защите Асада означало бы неприкрытую опосредованную войну с Ираном, которая в случае эскалации охватила бы весь регион. Плодотворные переговоры по сворачиванию ядерной программы Тегерана оказались бы невозможны, а Соединенным Штатам пришлось бы перекрывать уровень обязательств и инвестиций Ирана в этом конфликте. Кроме того, американская интервенция получила бы минимальную международную поддержку: Китай и Россия наложили бы вето на любую резолюцию ООН, разрешающую операцию, как поступали и с менее жесткими резолюциями, а Лига арабских государств и НАТО не одобрили бы операцию. Масштабное военное вмешательство Запада скорее всего подстегнуло бы распространение джихадизма в Сирии, как это происходило в других странах.
Сохранять спокойствие и двигаться дальше
Основной интерес Вашингтона на Ближнем Востоке – региональная стабильность. На данный момент факторы, сдерживающие США, и сложная, взаимозависимая природа американских интересов в регионе (а также вероятность длительного соперничества Соединенных Штатов и Китая, которое неизбежно переключит стратегическое внимание США на Азиатско-Тихоокеанский регион) позволяет предположить, что лучшая для Вашингтона политика на Ближнем Востоке – «оффшорное балансирование», как выражаются теоретики международных отношений. Это означает воздерживаться от участия в военных операциях за рубежом и квазиимперского строительства государств, сосредоточившись на выборочном использовании рычагов влияния для оказания воздействия и защиты американских интересов. Вашингтону следует экономить свою власть на Ближнем Востоке, если только не появится экзистенциальная угроза региональным союзникам, что маловероятно. Этот подход требует избегать дальнейшего проецирования американской военной мощи на Ближнем Востоке – например, масштабного развертывания сухопутных сил для борьбы с ИГИЛ.
Критики сдержанности утверждают, что в отсутствии твердо заявленной американской власти Иран или другие противники Соединенных Штатов усилят свои позиции – и тогда сдержанность приведет к войне. Но враги США, скорее всего, будут судить о решимости Вашингтона по условиям, сложившимся к тому моменту, когда они всерьез задумаются об агрессивных действиях, независимо от условий, существовавших за годы или месяцы до этого. Пока пределы сдержанности Вашингтона будут четко обозначены, и он будет давать понять, что альянс с Израилем остается без изменений, Иран не захочет конфликтовать с Израилем или действовать более агрессивно в Ираке, Сирии, Йемене или других странах региона. Тегеран попросту станет опасаться решительного ответа США, который приведет к срыву ядерной сделки и возвращению болезненных санкций, в первую очередь заставивших Исламскую Республику сесть за стол переговоров. В любом случае нельзя с полной уверенностью сказать, спровоцирует ли потенциального противника угроза применения силы или будет его сдерживать, потому что люди, принимающие решения, часто неверно судят о представлениях и темпераменте оппонентов.
Является ли сближение многообещающей парадигмой американо-иранских отношений – увидим. Тегеран явно стремится оказывать влияние, где это возможно, но пока не ясно, сможет ли он доминировать в регионе. Иранскому влиянию в Ираке способствовал вакуум, возникший в результате вторжения, но в более широком смысле оно обусловлено демографическим и политическим главенством иракских шиитов и поэтому неизбежно. Пока Багдад в борьбе с ИГИЛ зависит от США, они должны сохранять рычаги воздействия на иракскую политику и ограничивать влияние Ирана. Поддержка повстанцев-хоуситов в Йемене и диссидентов-шиитов в Бахрейне – скорее конъюнктурный, чем стратегический шаг Ирана, и он вряд ли кардинально изменит баланс сил в обеих странах. Участие Тегерана в палестино-израильском конфликте не дотягивает до уровня стратегического вызова: палестинская группировка ХАМАС не смогла трансформировать иранскую щедрость в серьезное преимущество в Израиле, не говоря уже о Египте и Палестинской администрации, оппонентах ХАМАС. Иранские позиции в Ливане и Сирии прочны десятки лет, но, хотя ставленники Тегерана в этих странах постоянно подтверждали обязательства защищать режим Асада, им не удалось предотвратить фактический распад страны. Даже если Иран решит превратить Сирию в свой Вьетнам, максимум, чего он сможет добиться в борьбе с пользующейся зарубежной поддержкой антиасадовской оппозицией, – консолидация статус-кво, а скромный успех придется разделить с Москвой. Таким образом, Сирия может стать трамплином для дальнейших маневров Ирана, но вряд ли превратится в плацдарм для контролирования региона. Иными словами, несмотря на заключение сделки по ядерной программе, сейчас Иран вряд ли способен делать больше – а скорее даже меньше – чем в прошлом.
Ядерная сделка расколола американцев и израильтян, считающих ее условия слишком мягкими и не способными помешать иранцам разрабатывать ядерное оружие. Но разногласия едва ли возымеют серьезные практические последствия. У Вашингтона есть обязательства по сохранению уникальных отношений с Израилем, а также стратегическая заинтересованность в двусторонних связях с израильскими военными – самой мощной силой в регионе. Ядерная сделка с Ираном также расстроила государства Персидского залива. Но глобальные экономические обязательства и контртеррористические интересы Вашингтона требуют сохранения стратегических отношений с этими странами, в первую очередь Саудовской Аравией. Кроме того, у государств Залива более тесные культурные связи с США, чем с другими ведущими державами: элита этих стран отправляет детей в американские университеты, а не в Китай, Россию или Европу.
Израилю и государствам Персидского залива не стоит паниковать: здравый смысл требует устойчивого военного присутствия Соединенных Штатов в регионе, чтобы не допустить дальнейшего распространения ИГИЛ (например, на Иорданию) и нарушения Ираном условий ядерной сделки, а также быстрого реагирования на его дестабилизирующие шаги вроде масштабного вторжения сухопутных сил в Ирак. Американское военное присутствие в регионе сохранится. По крайней мере одна авианосная ударная группа должна находиться в Аравийском море. Структуру и численность контингента американских военных баз на Ближнем Востоке следует оставить без изменений. Авиаудары по ИГИЛ нужно продолжать, а американские войска могут быть выборочно развернуты для ликвидации террористических угроз, ограниченного ответа на чудовищные злодеяния или на случай природных катастроф. Но последовательная политика сдержанности требует избегать крупных наземных интервенций на Ближнем Востоке, а региональных партнеров нужно убедить брать больше ответственности за собственную безопасность.
Более скромные цели – более крупные результаты
В дополнение к твердому отказу от военных вмешательств, характерных для периода после 11 сентября, Вашингтону следует пересмотреть дипломатические приоритеты. Последствия арабских восстаний 2011 г. – особенно в Египте, Ливии и Сирии – продемонстрировали, что в основном общество на Ближнем Востоке не готово к кардинальным шагам в сторону демократии, поэтому попытки США продвигать политическую либерализацию должны быть более мягкими. Американским властям также следует признать, что в среднесрочной перспективе устойчивого мира между Израилем и Палестиной не достичь. Упрямая решимость Соединенных Штатов добиться этой цели даже при неблагоприятных условиях создала моральные риски. Израильские правительства последовательно и практически безнаказанно противодействовали миротворческим усилиям американцев, твердо зная, что те будут пытаться снова и снова. В то же время неспособность Вашингтона привести стороны к соглашению способствовала восприятию США как державы, теряющей влияние, – при этом некоторые союзники Соединенных Штатов в Персидском заливе считают американское давление на Израиль еще одним примером того, что США как союзнику нельзя доверять.
Соединенные Штаты должны всегда поддерживать цели демократизации и палестино-израильского мирного урегулирования. Но в среднесрочной перспективе, вместо того чтобы стремиться к нереалистичным целям, Вашингтону стоит зарабатывать капитал на иранской ядерной сделке, чтобы наладить отношения с Тегераном. Если реализация соглашения пойдет относительно гладко, можно проверить иранскую гибкость в других сферах, но стараясь не спровоцировать какого-либо временного соглашения между Ираном и Саудовской Аравией – хотя, как и раньше, это кажется маловероятным. Один из вариантов – собрать вместе Иран и другие государства, чтобы попытаться остановить гражданскую войну в Сирии путем политического соглашения. Ключевые игроки – США, Россия, Иран и державы Персидского залива – начинают понимать, что, хотя мечта ИГИЛ о разрушающем границы халифате недостижима, непрекращающийся конфликт в Сирии может укрепить позиции группировки и ускорить распространение ее экстремистской идеологии.
Все игроки начали осознавать, что предпочтительный для каждого из них способ разрешения сирийского кризиса, скорее всего, не сработает. Соединенным Штатам и их партнерам в Заливе поддержка насильственной смены режима сирийскими повстанцами, которые все больше ассимилируются с ИГИЛ, кажется контрпродуктивной и сомнительной. В то же время после четырех лет военной безысходности ясно, что поддержка Асада Ираном и недавняя активизация помощи режиму со стороны России могут сохранить статус-кво, но не изменят ситуацию кардинально в пользу Асада. Тегеран и Москва понимают, что независимо от их поддержки режим Асада сейчас слабее, чем когда-либо раньше, и восстановить унитарное правление в Сирии, вероятно, не получится. Вот почему Иран и Россия недавно продемонстрировали заинтересованность в поиске путей урегулирования посредством переговоров. Хотя заявления России об отсутствии тесных связей с Асадом кажутся лицемерными, Москва не препятствовала расследованию Советом Безопасности ООН предполагаемых случаев применения бочковых бомб с хлором. В августе 2015 г. Россия поддержала заявления Совета Безопасности о «политическом переходе» в Сирии. Тегеран при содействии «Хезболлы» продвигает мирный план, предполагающий создание правительства национального единства и пересмотр конституции, при этом Асад или его режим останутся во главе страны по крайней мере на ближайший период.
Реалистичный механизм, который позволил бы воспользоваться условным совпадением интересов, пока не выстроен. Но иранская ядерная сделка продемонстрировала потенциал дипломатии в разрешении региональных кризисов. Помимо противодействия распространению джихадизма, соглашение о прекращении гражданской войны в Сирии, достигнутое при посредничестве Вашингтона, смягчит, а в конечном итоге и остановит самый острый мировой гуманитарный кризис, восстановит утраченный авторитет США в регионе. Эффективное и включающее всех урегулирование сирийского конфликта подкрепит налаживание отношений с Ираном и поможет убедить Израиль в действенности нового подхода американцев.
Вашингтон должен использовать дипломатические инструменты, наработанные в ходе ядерных переговоров ведущими державами – в особенности представителями Соединенных Штатов и Ирана, – чтобы придать импульс многосторонним переговорам по Сирии. Первым шагом может стать новое заседание конференции «Женева-2», которая собиралась в феврале 2014 г., теперь к участникам должен присоединиться Иран. Россия настаивает, что уход Асада не может быть условием политических переговоров, но это не должно стать препятствием для сделки, а скорее привлечет Тегеран к участию. Кстати, теперь госсекретарь Джон Керри может этому поспособствовать, напрямую обратившись к главе иранского МИДа Мохаммаду Джаваду Зарифу. Осторожное одобрение ядерного соглашения странами Залива и участие Саудовской Аравии в трехсторонних переговорах по Сирии с США и Россией в начале августа позволяют предположить, что эти страны все больше осознают значимость дипломатии как средства ослабления стратегической напряженности в отношениях с Ираном. Понимая актуальность угрозы ИГИЛ, Катар, Саудовская Аравия и Турция могут отказаться от требования ухода Асада как условия переговоров.
Разумеется, сложнее всего добиться приемлемых договоренностей по переходному периоду. Одна из возможностей – формирование органа исполнительной власти с участием различных политических сил, который сможет вытеснить ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусра», сирийскую группировку, аффилированную с «Аль-Каидой», как косвенно отмечалось в августовском заявлении СБ ООН. Еще один вариант – разделение страны и создание некой конфедерации взамен централизованного правления из Дамаска. Тактическое перемирие между режимом и умеренной оппозицией могло бы стать фундаментом для дальнейших политических договоренностей и позволило бы сторонам сосредоточиться на борьбе с общим врагом – джихадистами.
Зрелое отступление
Длительный период американского доминирования на Ближнем Востоке заканчивается. Война в Ираке подорвала доверие к Вашингтону и укрепила позиции его противников, но к моменту американского вторжения в регион уже стал менее податлив. Соединенные Штаты не могут и не должны уходить в буквальном смысле слова, им следует постепенно отступать ради стратегических приоритетов в других регионах, а также осознавая снижение своего влияния. Ни США, ни их региональные партнеры не хотят, чтобы Иран обладал ядерным оружием или существенно увеличил влияние в регионе. И никто из основных игроков в регионе не желает резкого скачка мощи ИГИЛ или других салафитских джихадистских группировок. Но поскольку рычагов американского воздействия стало меньше, нужно сосредоточиться на укреплении региональной стабильности. Это более разумный подход, чем продвижение политической либерализации и палестино-израильское урегулирование, к которым стремилась администрация Обамы, или попытки трансформировать регион силой – стратегия, на которую полагалась администрация Буша и получила печальные результаты.
В частности, Вашингтону пора признать, что уменьшение его военной роли будет означать большую независимость союзников в военных решениях. В свою очередь, союзники должны понимать, какую поддержку им готовы оказать Соединенные Штаты, прежде чем начинать рискованные военные авантюры вроде ударов Саудовской Аравии по повстанцам-хоуситам в Йемене. Америке и ее партнерам нужно улучшать двусторонние и многосторонние контакты и планирование. США должны более четко сформулировать, что может побудить их к военному вмешательству и какой уровень силы они готовы применить. Кроме того, нужно выработать детальный совместный план возможных ответных реакций.
Израиль по-прежнему предпочитает противодействовать Ирану, а не налаживать отношения, и Вашингтону придется проследить, чтобы выполнение ядерного соглашения убедило израильтян в эффективности такого подхода. На фоне укрепления ИГИЛ страны Персидского залива и Турция немного смягчили позицию в отношении американского подхода к Ирану, а также мнения Вашингтона, что сдерживание джихадизма сейчас важнее смены режима в Сирии.
Для успешного и конструктивного отступления с Ближнего Востока Соединенным Штатам придется приложить максимум усилий, чтобы избежать прямых противоречий с приоритетами своих союзников и партнеров – то же самое должны сделать и друзья Америки в регионе. Для этого понадобится целенаправленная дипломатия и четкая артикуляция приверженности Вашингтона своим основным интересам. Он должен, в частности, подчеркивать, что сделка по Ирану фактически будет обеспечивать устойчивое дипломатическое участие США в делах региона, а не угрожать ему. Вместо того чтобы двигаться назад, Вашингтон должен стремиться к здоровому равновесию в отношениях с Ближним Востоком, что предполагает сокращение управленческой роли Америки. Политика последних 14 лет, основанная на военном вмешательстве, стала отклонением от длительной истории американской сдержанности, но она не должна превратиться в новую долгосрочную норму.

Саудовская Аравия – Иран: есть ли шансы на историческое примирение
Развитие событий на Ближнем Востоке протекает под знаком противоборства Эр-Рияда с Тегераном
А.Г. Аксенёнок – кандидат юридических наук, Чрезвычайный и Полномочный Посол, опытный дипломат, арабист, долго работавший во многих арабских странах, в том числе в качестве посла России в Алжире, а также спецпредставителем на Балканах и послом Российской Федерации в Словакии.
Как показывает весь ход постреволюционных потрясений на Ближнем Востоке, без снятия напряженности между Саудовской Аравией и Тегераном – двумя региональными центрами влияния – разорвать порочный круг насилия и террора, братоубийственных гражданских войн и разрушения государственности становится едва ли возможным. К такому выводу приходят многие эксперты-ближневосточники, хотя политики мирового уровня пока избегают говорить об этом из соображений дипломатической деликатности.
Крушение прежних устоев в арабском мире произошло в тот период, когда парадигма международных отношений, обеспечивающая при биполярной системе баланс относительной устойчивости, в том числе за счет более или менее контролируемого поведения «малых государств» (союзников, партнеров великих держав), окончательно осталась в прошлом. Новые правила, соответствующие изменившемуся миропорядку, так и не сложились. Региональные государственные и негосударственные субъекты, к тому же окрепшие экономически в условиях глобализации, стали вести себя более автономно, а порой даже и вопреки интересам мировых держав. Такие тенденции особенно проявились на Ближнем Востоке, чаще всего в последние годы, с началом разрушительных процессов, вызванных арабской весной.
Взлет протестной активности изначально под демократическими лозунгами и социально-политические катаклизмы, охватившие весь регион, существенно изменили соотношение сил между ведущими региональными игроками. Роль и влияние Египта, пережившего за четыре года две революции, временно ослабла. Сирия и Ирак раздираются внутренними кровопролитными противоборствами на конфессионально-этнической почве. Турция, претендовавшая на универсальность своей модели «исламской демократии», по мере нарастания оппозиционного движения и проблем с соседями перестала рассматриваться как пример для подражания.
Арабские государства, не затронутые напрямую радикальными переменами, были вынуждены срочно изыскивать дополнительные внутренние ресурсы для выживания, вносить коррективы в свою внешнеполитическую стратегию. В отличие от монархических режимов в Иордании и Марокко, вставших на путь политической модернизации, Саудовская Аравия почувствовала себя наиболее уязвимо. Негибкость архаической системы власти в королевстве – хранителе святых мест ислама отягощалась традиционно сильным влиянием жесткой ваххабитской его ветви на все области общественной жизни и нарастающими проблемами престолонаследия.
Свержение режима Хосни Мубарака в Египте было воспринято в Эр-Рияде как потеря предсказуемого союзника и, что более болезненно, как свидетельство ненадежности американского покровительства.
Заигрывание США с пришедшими к власти умеренными «братьями-мусульманами», соперниками ваххабитов на поле толкования ислама, вызвало у саудовцев еще большую настороженность. После того как революционная волна захлестнула Сирию и Йемен, ощущение внешних угроз только усилилось. Саудовско-иранские отношения и до арабской весны были напряженными, но с началом внутригосударственных конфликтов в соседних арабских странах Иран занял в Саудовской Аравии место главного противника, а последующее развитие событий в регионе стало протекать под знаком этого противоборства.
Шиитскому Ирану действительно удалось значительно укрепить свои позиции в Ираке (этому парадоксально способствовало американское вторжение в эту страну в 2003 году, изменившее конфессиональный баланс во власти в пользу шиитского большинства), опрокинуть расчеты на быстрое свержение близкого к нему режима Башара Асада в Сирии и создать опору в Ливане в виде шиитского движения «Хезболлах», располагающего крупной военной силой. Одновременно активизировалась шиитская оппозиция суннитскому правящему меньшинству в Бахрейне, а также партия хоуситов в Йемене, считающиеся, хотя и с известной долей преувеличения, креатурой Тегерана.
Все это создало в Эр-Рияде устойчивое представление о том, что Иран преследует цель окружить шиитским поясом святыни ислама и дестабилизировать саудовскую монархию через шиитское меньшинство на востоке страны.
Во внешнеполитическом плане усилия саудовцев были направлены на то, чтобы выбить Сирию из цепочки иранского влияния и создать в Ираке противовес Ирану путем консолидации близких к ним суннитских племен и политических деятелей в правящей коалиции. Саудовское финансирование исламистской части сирийской и иракской оппозиции сыграло главную роль в изменении характера внутренних конфликтов в сторону борьбы за власть на конфессионально-этнической почве. Катастрофическая эскалация насилия в Йемене также показывает, что борьба за сферы влияния на региональном уровне уходит корнями не столько в соперничество мировых держав, сколько в историческую вражду на поле самого ислама. На фоне йеменского кризиса враждебная риторика между этими двумя религиозными центрами приобрела, пожалуй впервые, именно такую окраску.
Трудности адаптации Саудовской Аравии к новому внешнему окружению усугубляются в еще большей степени изменившимся характером ее отношений с американским союзником. Стало очевидным, что их интересы далеко не во всем совпадают, а по отдельным направлениям даже расходятся.
Сближение США с Ираном в процессе переговоров по ядерной проблематике, стремление американцев избавиться от нефтяной зависимости от непредсказуемого Ближнего Востока и занять лидирующие позиции на глобальном энергетическом рынке, отказ президента Барака Обамы от планов прямого военного вмешательства в Сирии по ливийскому сценарию (на это очень рассчитывали саудовцы), критика силового подавления бахрейнской оппозиции – все это вело к накоплению множества раздражителей, хотя американцы и старались спокойно реагировать на сигналы недовольства из Эр-Рияда.
Дело дошло до радикальных демаршей с саудовской стороны, призванных возложить на международное сообщество и администрацию США всю ответственность за катастрофическое развитие событий в регионе. Бывший глава саудовской разведки принц Бандар даже заявил о том, что отношения с США могут быть коренным образом пересмотрены. О воздушных ударах по Йемену Вашингтон, например, был поставлен в известность только за три часа до начала бомбардировок.
Возникают вопросы: не слишком ли далеко зашла такая конфронтация, каким образом можно ее остановить, способны ли внешние акторы, в первую очередь США и Россия, внести элементы разрядки? Переговоры США о финализации «ядерного соглашения» с Ираном выходят за рамки проблемы нераспространения ядерного оружия. Американская администрация вкладывает свой политический капитал также в выработку новых подходов к решению ближневосточных проблем, получивших название «стратегии саморегулирующегося баланса». По этим расчетам Иран, вышедший из международной изоляции, будет вести себя более умеренно, проявлять склонность к компромиссам по Сирии, Ираку, Йемену и по вопросам безопасности в Персидском заливе. В свою очередь, аравийские монархии, получив заверения в готовности защитить их от иранской агрессии, станут проводить в регионе более ответственную политику с учетом новых реалий.
По мере того как две противоборствующие силы в регионе истощают свои ресурсы, а международное сообщество чувствует усталость и бессилие остановить порочный круг насилия, появляются некоторые предпосылки к достижению пакетных договоренностей по урегулированию очагов ближневосточных конфликтов. Иран жизненно заинтересован в снятии экономических и финансовых санкций и, со своей стороны, подает сигналы готовности к переговорам. Саудовская Аравия пока не идет навстречу, хотя баланс выигрышей и неудач складывается в целом не в ее пользу. Многое здесь будет зависеть от того, по какому сценарию пойдет развитие ситуации в Сирии и Йемене. Эти два кровопролитных конфликта, вызвавшие беспрецедентные гуманитарные катастрофы, не могут продолжаться до бесконечности.
Другим фактором, способствующим поискам примирения, может стать наличие общего противника в лице международного терроризма, который с образованием «Исламского государства» (ИГ) получил как бы духовный ореол, апеллирующий к памяти мусульман о славных временах арабского «Халифата». Иран через своих советников и подконтрольные ему части шиитского ополчения де факто принимает участие в вооруженных действиях против ИГ в Ираке и Сирии, не входя в состав образованной Америкой международной коалиции. Саудовская Аравия осудила создание ИГ и его действия как террористические, а также присоединилась к коалиции. Новая волна воинствующего исламизма бьет бумерангом и по ее интересам. Идеология «халифатизма» имеет своих приверженцев в самой Саудовской Аравии, где в последнее время начались теракты от имени ИГ. Вооруженная борьба в Йемене с участием Саудовской Аравии под флагом защиты «конституционной законности» ведет к дальнейшему усилению террористических группировок на юге Аравийского полуострова, уже в самой непосредственной близости от ее границ.

Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума.
Владимир Путин принял участие в пленарном заседании XIX Петербургского международного экономического форума. Заседание состоялось под девизом «Время действовать: совместными усилиями – к стабильности и росту».
В.Путин: Добрый день, уважаемые дамы и господа! Дорогие друзья!
Я рад приветствовать всех вас на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге – городе, который на протяжении всей своей истории был символом открытости России, её стремления вбирать лучший мировой опыт, сотрудничать и вместе идти вперёд.
Прежде всего хотел бы поблагодарить гостей форума: и политиков, и бизнесменов – за интерес и доверие к нашей стране. Мы видим в вас, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, серьёзных долгосрочных партнёров и потому по традиции на Петербургском форуме всегда откровенно, доверительно говорим как о наших достижениях, так и о новых возможностях, и, конечно, о проблемах, трудностях, с которыми мы сталкиваемся, задачах, которые нам пока не удалось решить.
Со многими из вас мы встречались год назад. За этот период ситуация, в которой развивается мировая, да и российская экономика, изменилась, причём по некоторым направлениям изменилась серьёзно. Мы, имею в виду Россию, ограничены в доступе на мировой рынок капиталов; к этому нужно добавить падение цен на наши основные экспортные товары; несколько сократился и потребительский спрос, который прежде толкал экономику вверх. Правда – я согласен с теми участниками дискуссий, которые уже состоялись в ходе работы форума вчера, – спрос тоже начинает восстанавливаться.
Если говорить о ценах на энергоносители, от которых, к сожалению, до сих пор значительно зависит наша экономика, то напомню, что средняя цена на нефть марки «Юралс» в 2013 году была 107,9 доллара, в 2014 – уже 97,6 [доллара] за баррель, а за январь–май текущего года средняя цена составила 56 долларов за баррель. По оценке Росстата, в первом квартале этого года ВВП России сократился на 2,2 процента к соответствующему периоду 2014 года, а промышленное производство в январе–апреле сократилось на 1,5 процента.
Но что хотел бы отметить: ещё в конце прошлого года нам предрекали, и вы это хорошо знаете, глубокий кризис. Этого не произошло, мы стабилизировали ситуацию, погасили негативные колебания конъюнктуры и уверенно проходим через полосу трудностей, прежде всего потому, что экономика России накопила достаточный запас внутренней прочности. У нас сохраняется положительный торговый баланс, растёт несырьевой экспорт.
Что в этой связи хотел бы отметить особо или чем бы хотел проиллюстрировать этот тезис: физический объём несырьевого экспорта в первом квартале 2015 года вырос на 17 процентов, экспорт продукции с высокой степенью переработки в первом квартале составил почти 7 миллиардов долларов, увеличившись на 6 процентов в стоимостном выражении и на 15 [процентов] – в физическом объёме.
Мы сохранили контроль над инфляцией. Да, она подскочила из–за девальвации рубля, но сейчас эта тенденция идёт на убыль. После значительного роста цен в первые три месяца текущего года (в январе, напомню, это было 3,9 процента, в феврале – 2,2 [процента], а в марте уже 1,2 процента), в апреле инфляция выросла на 0,5 процента, то есть тенденция на снижение очевидна, мы её видим.
У нас устойчивый бюджет. Наша финансовая и банковская системы адаптировались к новым условиям, удалось стабилизировать валютный курс, сохранить резервы. При этом подчеркну, мы не прибегали к каким–либо мерам ограничения свободного движения капитала – напомню, так же как и в 2008–2009 годах.
Дефицит федерального бюджета в январе–мае 2015 года составил 1 триллион 48 миллиардов рублей, или 3,6 процента ВВП. Ожидается, что размер дефицита по итогам года будет составлять 3,7 [процента ВВП], это по действующему закону о бюджете.
Объём золотовалютных резервов, о которых я уже говорил, у нас составляет свыше трёхсот [миллиардов долларов]. Сейчас только с Эльвирой Набиуллиной разговаривал – по моим данным, на 5 июня было 360,6 миллиарда долларов, сейчас чуть-чуть пониже, потому что средства использовались.
Вместе с тем объём резервного фонда Правительства на 1 июня 2015 года составил 76,25 миллиарда долларов, то есть 5,5 процента ВВП. Объём второго нашего фонда, Фонда национального благосостояния, – 75,86 миллиарда долларов, или ещё 5,5 процента к ВВП.
Мы не допустили скачка безработицы. Сейчас она составляет 5,8 процента от экономически активного населения. Напомню, что в кризис 2008–2009 годов её уровень вырос до 8,3 процента. Введение так называемых санкций подтолкнуло нас к тому, чтобы существенно активизировать работу по импортозамещению. И по ряду направлений мы сделали серьёзные шаги и добились заметных результатов. Огромный потенциал у нашего машиностроения, нефтехимии, лёгкой и перерабатывающей промышленности, фармацевтики, по некоторым другим отраслям. Зримым примером являются достижения нашего агропромышленного сектора.
Да, конечно, ещё очень многое нужно сделать по этому направлению, но, допустим, производство молочной продукции в январе–апреле 2015 года выросло относительно соответствующего периода прошлого года на 3,6 процента, масла – на 8,7 процента, сыра – на 29 с лишним процентов, рыбы, рыбных продуктов – на 6, мяса – на 12–13 процентов. Суть программ импортозамещения не в том, чтобы закрыть свой рынок, отгородиться от мировой экономики. Мы должны научиться производить качественную конкурентную продукцию, востребованную не только у нас в России, но и на мировых глобальных рынках. В конечном счёте задача заключается в том, чтобы полнее и эффективнее использовать наши внутренние возможности для решения задач развития.
Вновь повторю, на внешние ограничения мы отвечаем не закрытием экономики – мы отвечаем расширением свободы, повышением открытости России. И это не лозунг – это содержание нашей реальной политики, той работы, которую мы сегодня ведём по созданию условий для бизнеса, по поиску новых партнёров и открытию новых рынков, по участию в реализации крупнейших интеграционных проектов. Отмечу, что только за последний год в России начали свою практическую деятельность более 60 предприятий с зарубежным участием. Так, буквально в дни нашего форума открывается несколько предприятий, в том числе здесь, в Петербурге: фармацевтическое предприятие, по производству газовых турбин с инопартнёрами и так далее.
Хотел бы поблагодарить всех наших партнёров, которые, несмотря на известные политические проблемы, продолжают работать в России, вкладывать свои капиталы и технологии, создавать здесь предприятия и новые рабочие места. Большое вам спасибо, уважаемые друзья.
Уважаемые дамы и господа! Оперативно принятые меры поддержки экономики и финансовой системы в целом сработали, безусловно, сработали. И сейчас мы вновь сосредотачиваемся на решении системных задач, на повестке долгосрочного развития. Наша задача – обеспечить устойчивый рост, повышение эффективности экономики, производительности труда, приток инвестиций. Наши приоритеты – это улучшение делового климата, подготовка кадров для экономики и госуправления, образование, технологии. На этих вопросах позвольте остановиться чуть подробнее.
Начну с повышения качества деловой среды, конкурентоспособности российской юрисдикции. Наша позиция заключается в том, чтобы создать максимально свободные, предсказуемые, благоприятные условия и возможности для инвесторов – для того, чтобы вкладывать в Россию было выгодно. Мы приняли принципиальное решение: на ближайшие четыре года зафиксировать налоговые ставки, не увеличивать фискальное бремя на бизнес, чтобы компании могли планировать свою работу на среднесрочную перспективу.
Будем придерживаться этого принципа независимо от внешних условий или нагрузки на бюджет. И, как вы видели, я уже цифры приводил, наши резервные фонды позволяют рассчитывать именно на такую политику. При этом создаём дополнительные стимулы для новых развивающихся компаний. В этой связи, ещё раз напомню, принято решение о введении налоговых каникул в отношении индивидуальных предпринимателей, о существенном снижении фискальной нагрузки на малый и средний бизнес в рамках специальных налоговых режимов, а также о предоставлении налоговых льгот для вновь создаваемых промышленных предприятий – так называемых гринфилдов.
Мы вчера обсуждали с руководителями наших промышленных предприятий целый ряд проблем, с которыми мы, безусловно, сталкиваемся. Поступило предложение: такое же регулирование, такие же льготы предоставлять и для новых инвестиций вообще, а не только по гринфилдам. Мы рассмотрим обязательно эти предложения. Думаю, что вполне можем их реализовать. Добавлю также, что от уплаты налогов освобождаются капиталы и активы, возвращающиеся в Россию из–за границы. Их владельцам даны полные гарантии защиты от любого вида преследования.
Одновременно будем предпринимать шаги по повышению прозрачности российских компаний и их подразделений за рубежом. Соответствующие поправки внесены в наше законодательство. Они полностью, хочу это подчеркнуть, согласуются с решениями «Группы двадцати», ФАТФ и других международных организаций.
Далее. В рамках национальной предпринимательской инициативы кардинальным образом обновлено федеральное законодательство, регулирующее условия для ведения бизнеса. Меняются подходы органов власти, контрольно-надзорных структур к работе с предпринимателями. Они становятся более понятными, открытыми, прозрачными. Отмечу, что начиная с 2016 года на три года от проверок будут освобождены субъекты малого предпринимательства, в работе которых ранее не были зафиксированы серьёзные нарушения.
Мы хорошо понимаем – чтобы национальная юрисдикция была конкурентной, необходимо постоянное движение вперёд, необходимо постоянное совершенствование. При этом мы должны анализировать, насколько эффективно работают уже принятые меры. И здесь нам действительно важны эффективные каналы обратной связи с бизнесом. Поэтому прошу Агентство стратегических инициатив, ведущие деловые объединения вести такой анализ правоприменения, смотреть лучшие мировые практики, лучший мировой опыт, при необходимости предлагать новые решения.
Важнейшую роль призван сыграть национальный рейтинг инвестиционного климата в регионах Российской Федерации. Сам по себе рейтинг – это, разумеется, не самоцель. Он должен стать работающим инструментом выявления и распространения лучших региональных практик по всей территории страны. Кстати, инициатива по формированию рейтинга принадлежала именно нашим ведущим предпринимательским объединениям. Особенность этого проекта в том, что сами предприниматели дают оценку состоянию деловой среды, качеству госуправления и так далее.
Кстати, в этом году в таких опросах приняли участие более 200 тысяч бизнесменов по всей России. Уже звучали, я знаю, в ходе состоявшихся дискуссий примеры этого положительного состояния дел, тем не менее я воспользуюсь случаем, чтобы ещё раз их назвать, это того стоит: это и Калужская область, Татарстан, Белгородская область, Тамбовская, Ульяновская области, Краснодарский край, Ростовская область, Костромская область, Чувашская Республика, Тульская область. Вновь подчеркну, национальный рейтинг инвестиционного климата должен стать инструментом повышения качества управления на всех уровнях власти. Это сегодня тоже одно из ключевых направлений нашего развития.
О чём бы хотелось сказать в этой связи. Первое. Необходимо сформировать целый класс государственных менеджеров, которые умеют работать гибко, по–современному, понимают запросы бизнеса к деловому климату, к системе госуправления в целом. Одним из важнейших шагов должен стать запуск механизма постоянного совершенствования управленческих кадров. В этой связи на базе одного из ведущих учебных заведений страны намерены создать центр обмена лучшими практиками госуправления и формирования бизнес-среды в регионах. Такой центр может стать хорошей площадкой не только для повышения квалификации, но и для обмена опытом, для выработки новых идей, для налаживания горизонтальных связей между представителями региональных управленческих команд.
Второе. Считаю целесообразным создать в каждом регионе специальные штабы – проектные офисы, если хотите, – которые станут своего рода администрациями развития, обеспечат внедрение лучших механизмов создания благоприятного инвестиционного климата. Комфортная деловая среда – важнейшее условие для формирования массового слоя несырьевых малых и средних предприятий. Это реальный путь к диверсификации экономики, к созданию новых рабочих мест.
Наша цель – чтобы малые и средние компании росли, завоёвывали отечественный рынок, развивали свой экспортный потенциал. Поэтому будем тесно увязывать деятельность институтов поддержки промышленности и стимулирования экспорта, имея в виду Фонд развития промышленности, который недавно создан, Фонд развития Дальнего Востока, Российский фонд прямых инвестиций, механизмы проектного финансирования, а также Российский экспортный центр, в котором отечественные компании смогут получать весь спектр услуг по поддержке своей продукции на зарубежных рынках.
Кроме того, по предложению самого делового сообщества создаётся корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства. Бизнес сможет получать здесь необходимую финансовую, юридическую, методическую поддержку, в том числе помощь по доступу к государственным закупкам и закупкам госкомпаний. По сути, мы консолидируем механизмы поддержки малого и среднего предпринимательства и рассчитываем, что это принесёт весомую, заметную отдачу.
Уважаемые друзья! Все, кто стремится занять лидирующие позиции, должны делать ставку на лидеров в бизнесе, в управлении и, конечно, в развитии технологий и образования. Мы немало сделали для укрепления отечественной научно-технической базы, для усиления кооперации науки, образования, промышленности, для практического внедрения разработок в реальное производство.
В ближайшие годы намерены приступить к широкому технологическому обновлению предприятий сырьевого и несырьевого секторов промышленности, сельского хозяйства. С 2019 года через систему технического регулирования, жёсткие экологические стандарты будем стимулировать поэтапное внедрение принципов наилучших доступных технологий. Фактически модернизация и постоянное технологическое развитие станут требованием законодательства. Важнейшая задача сегодня – создать для наших компаний стимулы инвестировать в разработку отечественных технологий. Прошу Правительство предложить здесь дополнительные решения.
Кроме того, нужно провести инвентаризацию уже существующих механизмов поддержки прикладных исследований и внедрения инноваций, посмотреть, как работают льготы, в том числе и налоговые. Что касается институтов развития, то их необходимо чётко настроить на содействие задачам технологической модернизации.
Мы запускаем проекты, которые призваны обеспечить мощную технологическую базу для наших компаний не только на сегодня, но и на будущее. При этом горизонты технологического планирования серьёзно расширяются. Российские компании должны занять ключевые позиции в тех отраслях и на тех рынках, которые будут определять характер экономики, уклад жизни людей через два-три десятилетия – так, как это произошло с IT-технологиями: за последние 20 лет они коренным образом изменили нашу жизнь.
Для решения таких перспективных задач запущена национальная технологическая инициатива, в ней участвуют ведущие представители науки и высокотехнологичного бизнеса. Очевидно, что это долгосрочный проект, но уже через два-три года должны появиться научные лаборатории, новые компании, образовательные программы для подготовки кадров, способных решать самые современные задачи, работать с передовыми технологиями.
И, наконец, ещё одно принципиально важное направление. На недавнем съезде одного из наших ведущих бизнес-объединений, «Деловой России», прозвучала идея наладить эффективную систему трансфера зарубежных технологий. У нас есть успешный опыт переноса в Россию технологий в фармацевтике, автомобилестроении, в производстве потребительских товаров. Важно поставить такую работу на системную основу, задействовать капиталы институтов развития. И прошу Правительство, деловые объединения представить на этот счёт конкретные дополнительные предложения, в том числе создать оптимальный формат взаимодействия государства и бизнеса в сфере трансфера технологий.
Далее. Мы прекрасно понимаем, что решающее значение для развития и повышения конкурентоспособности России имеет качество образования. Кстати говоря, вчера об этом говорили и наши коллеги из иностранных инвестиционных компаний, с которыми я вчера встречался. Причём подготовка специалистов должна осуществляться не только с учётом требований сегодняшнего дня, но и учитывать лучший мировой опыт, перспективы развития технологий и новых рынков.
Наши молодые люди: студенты, школьники – побеждают на самых престижных международных соревнованиях по техническим и естественнонаучным дисциплинам. Приведу лишь один пример, совсем свежий: студенты Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики не раз доказывали, что равных им в мире нет; в этом году команда университета вновь подтвердила абсолютное лидерство, оставив позади сильнейшие мировые школы программирования. Команда университета – единственная в мире шестикратная победительница командного студенческого чемпионата по программированию. Я хочу ребят ещё раз поздравить с этим.
Понятно, что очень многое зависит от руководства вузов, от ректоров. Здесь нам также нужны новые лидеры, которые сами глубоко знают производство, знают запросы промышленности, чувствуют тенденции технологического развития. Отечественный бизнес предлагает создать резерв руководящих кадров вузов, которые готовят инженерно-технических специалистов. Думаю, что это правильное предложение, и его необходимо реализовать. При этом призываю представителей бизнеса активнее работать в наблюдательных и попечительских советах вузов, теснее взаимодействовать с преподавательским корпусом, участвовать в формировании и реализации программ их развития. Это в интересах самого бизнеса.
Важнейшая задача – это обновление, повышение качества среднего профессионального образования, укрепление его связи с реальным производством. Во многих регионах уже активно и успешно занимаются развитием так называемого дуального образования, когда практика на конкретных предприятиях сочетается с теоретической подготовкой. Кстати, не случайно, что именно те регионы, которые добились существенного прогресса в развитии среднего профессионального образования, как правило, и являются лидерами регионального рейтинга и в целом демонстрируют высокую социально-экономическую динамику.
Сегодня и инженерная, и рабочая профессии требуют высочайшей компетенции. В соответствии с этим мы выстраиваем систему современных профессиональных стандартов. Основными участниками здесь также являются работодатели, бизнес-объединения в рамках Национального совета по компетенциям и квалификациям при Президенте России.
Считаю необходимым обобщить опыт, объединить наши усилия и выстроить целостную систему подготовки квалифицированных кадров с учётом лучших международных практик. Такая система должна включать в себя все звенья: дополнительное образование в сфере технического творчества детей, среднее профессиональное образование и высшее инженерное образование, национальные и международные чемпионаты рабочих профессий.
И ещё одно важное направление нашей работы на перспективу, на годы вперёд: нужно создавать механизмы сопровождения и поддержки талантливых детей, чтобы они смогли раскрыть свои способности, добиваться успеха на своей Родине, в России. Как вы знаете, мы запускаем один из таких проектов, уже фактически запускается в Сочи, – это сочинский центр для школьников со всех регионов страны, которые проявляют особые способности в спорте, искусстве, в естественных науках. Это, кстати говоря, будет ещё одним значимым элементом олимпийского наследия.
Карта глобального экономического развития меняется буквально на глазах. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, такие как Китай, Япония, Южная Корея, государства АСЕАН, уже составляют четверть мировой экономики. В ближайшее десятилетие именно эти рынки будут основным источником роста мирового спроса на товары и услуги. При всех колебаниях, которые происходят в мире, и в политике, и в экономике, эта тенденция неизбежна. Логично, что вместе с партнёрами по Евразийскому экономическому союзу мы стремимся наращивать связи со странами АТР, устранять барьеры в торговле и инвестициях. В этом году Евразийский экономический союз заключил первое соглашение о зоне свободной торговли с Вьетнамом. Российские компании получат возможность беспошлинно поставлять целый спектр товаров.
Расширяется наше взаимодействие с Китайской Народной Республикой в интересах формирования общего экономического пространства. В мае этого года было подписано совместное заявление о сопряжении развития Евразийского экономического союза и «Экономического пояса Шёлкового пути». Фактически речь идёт о новых подходах к взаимодействию между Евразийским экономическим союзом и Китаем, о расширении сотрудничества и реализации крупных совместных инфраструктурных проектов, об упрощении торговли, а также об укреплении кооперации по линии различных финансовых институтов.
Укрепление партнёрства с государствами АТР – это важнейшая часть нашей работы по развитию российского Дальнего Востока. Мы создаём здесь максимально свободные и комфортные условия для размещения капиталов и производств. Инвесторы получат уникальные возможности для работы на российском рынке и, что важно, выгодный плацдарм для прямого выхода на ёмкий растущий рынок АТР. Уже сейчас на Дальнем Востоке создаются территории опережающего развития с целым комплексом налоговых и других преференций.
Запускается система господдержки крупных инвестиционных проектов. При этом мы готовы предложить ещё более гибкие, более продвинутые механизмы. Правительство уже подготовило законопроект о создании свободного порта Владивосток. Действие этого законопроекта распространяется на все ключевые порты Приморья: от Зарубино до Находки – и 13 районов, в которых проживает около 75 процентов населения края.
Резиденты свободного порта получат широкие преференции. Это не только налоговые льготы, но и облегчённый визовый режим, введение свободной таможенной зоны, упрощённое прохождение контрольных процедур на границе. В сентябре этого года во Владивостоке пройдёт первый Восточный экономический форум, в рамках которого в том числе будут подробно представлены наши предложения для зарубежных инвесторов.
Вновь повторю, мы стремимся к сотрудничеству со всеми – со всеми, кто готов работать на основе равноправия и взаимного уважения, кто заинтересован в реализации взаимовыгодных проектов. Убеждён, большой потенциал имеет торгово-экономическое партнёрство со странами Латинской Америки, с государствами БРИКС. Предстоящий в начале июля саммит этой организации в России, безусловно, будет способствовать расширению наших деловых контактов.
Хочу подчеркнуть, активное взаимодействие с новыми центрами глобального роста ни в коем случае не означает, что мы с меньшим вниманием намерены относиться к диалогу с нашими традиционными западными партнёрами. Уверен, такое сотрудничество будет обязательно продолжено.
Уважаемые дамы и господа! Россия открыта для мира, для экономического, научного, гуманитарного взаимодействия, контактов с представителями гражданского общества и деловых кругов всего мира. Убеждён, такая политика, такой диалог отвечает общим интересам, помогает сохранить то доверие, которое служит основой для совместной работы.
Перед нами стоят большие задачи, мы будем развиваться, выходить на новые рынки, создавать современные технологии, реализовывать масштабные проекты. С нами предприниматели, граждане, новые лидеры, которые готовы работать для России и для её развития. Именно поэтому мы абсолютно уверены в успехе.
Спасибо вам за внимание.
<…>
Ч.Роуз: У нас состоится глубокая дискуссия по некоторым экономическим вопросам, которые были подняты с нашими представителями бизнеса.
Господин Президент, прежде всего позвольте сказать, что мне очень приятно находиться здесь, в Вашем родном городе, в городе, где Вы начали свою политическую карьеру. К тому же это исторически важный город, здесь Россия родилась как империя. Это очень важный город. Есть очень серьёзные вопросы, которые могут быть решены, только если Россия будет действовать, если Вы будете участвовать. Речь идёт об экономической политике, о внешней политике, Украине, балтийских странах, Европе, Сирии, Иране, Китае, России. Есть очень много вопросов, есть проблемы, есть конфликты. Для того чтобы найти решение многим проблемам, Россия должна сыграть свою роль. Возникает проблема границ. Не могли бы Вы рассказать нам о Вашем видении Украины и России, каким образом нам добиться решения проблемы?
В.Путин: Прежде всего хочу Вас поблагодарить за то, что Вы согласились сегодня вместе с нами поработать, быть модератором нашей встречи. У нас форум называется «Санкт-Петербургский международный экономический форум». Мне бы хотелось, чтобы мы сосредоточили своё внимание на проблемах экономики. Хотя я с Вами соглашусь, что без решения ряда международных острых, кризисных ситуаций трудно двигаться и в экономической сфере.
По поводу событий на Украине мы много раз говорили, и понимаю, что от этого никуда не уйти. Но, знаете, мы всё время то по Украине говорим, то несколько лет назад говорили по кризису, скажем, в Ираке, ещё в каких–то странах. Мы говорим о том, что уже произошло, но никогда не говорим, почему это произошло. А если уж вы хотите поговорить на эту тему, что, видимо, важно, то мне бы хотелось всё–таки начать именно с этого момента.
Почему мы подошли к этому кризису на Украине? Я глубоко убеждён, что после того, как так называемая биполярная система прекратила своё существование, после того, как исчез с политической карты Советский Союз, некоторые наши партнёры на Западе, в том числе и прежде всего, конечно, Соединённые Штаты, оказались в состоянии какой–то эйфории. И вместо того чтобы выстраивать в новой ситуации добрососедские и партнёрские отношения, начали осваивать новые, как им показалось, свободные геополитические пространства. Вот отсюда и движение, скажем, Североатлантического блока НАТО на восток, отсюда многие другие вещи.
Я всё время думал, почему это происходит, и в конечном итоге пришёл к выводу, что, видимо, у кого–то из наших партнёров возникла иллюзия, что после Второй мировой войны был один миропорядок создан – и тогда был такой глобальный центр в мире, как Советский Союз; теперь его нет, появился вакуум, и его надо быстренько заполнить. Мне кажется, что это очень ошибочный подход к решению проблемы. Вот так мы и Ирак получили, а мы знаем, что и в Соединённых Штатах сегодня многие считают, что в Ираке были совершены ошибки. В Ираке были совершены ошибки, многие признают, тем не менее всё повторили в Ливии. Добрались теперь до Украины.
Не мы являемся первопричиной тех кризисных явлений, которые имеют место быть на Украине. Не нужно было поддерживать, я уже много раз об этом говорил, антигосударственный, антиконституционный переворот и вооружённый захват власти, который привёл в конечном итоге к жёсткому противостоянию на территории Украины, фактически к гражданской войне.
Что сегодня нужно сделать? Чтобы долго здесь не распространяться на эту тему, сегодня, безусловно, нужно полностью выполнять договорённости, достигнутые в Минске, белорусской столице. Хочу ещё раз подчеркнуть, если бы нас что–то не устраивало, мы никогда бы не поставили свою подпись под этим документом. Если уж он состоялся, а мы поставили там свою подпись, мы будем добиваться его полного исполнения.
Вместе с тем хочу обратить и ваше внимание, и всех наших партнёров, мы не можем это сделать в одностороннем порядке. Мы постоянно, каждый день слышим одно и то же – как мантру повторяют, одно и то же, что Россия должна повлиять на юго-восток Украины. Мы влияем. Но решить эту проблему только с помощью нашего влияния на юго-восток невозможно. Нужно влиять и на сегодняшние официальные власти в Киеве, а этого мы сделать не можем. Это та дорога, по которой должны пройти наши западные партнёры – европейцы и американцы. Давайте вместе работать.
Ч.Роуз: Что Вы хотите от киевского правительства, что оно должно сделать?
В.Путин: Мы ничего не хотим. Это народ Украины должен чего–то хотеть, чтобы украинское правительство сделало. Или хотеть, чтобы оно не делало.
Мы считаем, что для урегулирования нужно, как я сказал, исполнить Минские соглашения. И ключевой момент здесь, безусловно, это элементы политического урегулирования. Они состоят из нескольких составляющих.
Первое – это конституционная реформа, и в Минских соглашениях так прямо про это и написано: с предоставлением автономии либо, как они говорят о децентрализации власти, пускай по пути децентрализации. Понятно, что это такое, наши европейские партнёры, французы и немцы, расшифровали, нас это вполне устраивает, так же как устраивает в целом и представителей Донбасса. Это первое.
Второе, что нужно сделать, – нужно распространить принятый ранее закон об особом статусе этих территорий – Луганска и Донецка, непризнанных республик, применить его, начать применять этот закон. Он принят, но до сих пор не реализуется. Для этого нужно было принять постановление Верховной Рады – парламента Украины, и это тоже в Минских соглашениях прописано.
Наши друзья в Киеве исполнили формально это решение, но одновременно с принятием постановления Рады об имплементации этого закона они в сам закон внесли изменения – по–моему, в статью 10-ю, – которые полностью дезавуировали это действие. Просто это манипуляция и ничего больше, а нужно переходить от манипуляции к практической работе.
Третье, что нужно сделать, – нужно принять закон об амнистии. Невозможно вести политический диалог с теми людьми, которые находятся под угрозой уголовного преследования. Наконец, нужно принять закон о муниципальных выборах на этих территориях и осуществить эти выборы. Но всё это – и в Минских соглашениях это прописано, обращаю на это ваше особое внимание, – всё должно быть сделано по согласованию с Донецком и Луганском.
Никакого прямого диалога, к сожалению, мы до сих пор не видим, есть только намётки того, что он начинается, но прошло уже слишком много времени с подписания Минских соглашений. Сейчас нужно, ещё раз повторяю, наладить прямой диалог между Луганском, Донецком и Киевом – вот чего не хватает. И, наконец, нужно, безусловно, начать экономическую реабилитацию этих территорий.
Я уже много раз говорил, хочу повторить: тезис о том, что «у нас нет денег», не работает в данном случае. Если сегодняшние киевские руководители считают, что это территория Украины, что там проживают украинские граждане, которые имеют право на получение, скажем, пособий по инвалидности либо пенсий и заработали их в рамках действующего на Украине законодательства, не могут киевские власти отказываться платить эти пособия, не имеют права просто. Они нарушают свою собственную Конституцию. Всё вот это должно быть реализовано, причём не на словах, а на деле, на практике.
Ч.Роуз: Как Вам известно, Соединённые Штаты Америки считают, что вы вооружаете сепаратистов и что вы поощряете их, вы используете Вооружённые Силы России, чтобы подлить масло в огонь этого конфликта. Многие обеспокоены тем, что это может привести к новой холодной войне.
В.Путин: Вы знаете, к холодной войне приводят не локальные конфликты, а глобальные решения – например, такое как выход Соединённых Штатов в одностороннем порядке из Договора по противоракетной обороне. Вот это действительно шаг, который толкает всех нас к новому витку вооружения, потому что он меняет глобальную систему безопасности.
Что касается региональных конфликтов, то где бы они ни происходили, почему–то противоборствующие стороны всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда где–то находят оружие. Это также справедливо и для восточных регионов Украины.
Что бы я хотел сказать – я хотел бы сказать, что если сегодняшняя ситуация будет решаться политическими средствами, то никакого оружия здесь и не потребуется, но для этого нужна добрая воля и желание вести прямой диалог, и мы будем этому способствовать. Чего мы не можем, с чем мы никогда не согласимся – с тем, что кто–то с кем–то, где бы то ни было, будет разговаривать с позиции силы, сначала с помощью полиции (или милицией называется), потом с помощью специальных служб, потом с помощью вооружённых сил.
Ведь до тех пор, пока подразделения армии и так называемые батальоны, националистические вооружённые формирования не появились на этих территориях, там не было никакого оружия – и не было бы, если бы с самого начала пытались решать вопросы мирными средствами. Оно там появилось только после того, как людей начали убивать с помощью танков, артиллерии, систем залпового огня и авиации. И там появились те, кто сопротивляются. Как только будет предпринята попытка политическими средствами решать вопрос, там и оружия этого не будет.
Ч.Роуз: Каковы приемлемые границы для Украины, для России? Какие границы приемлемы для вас?
В.Путин: Что Вы имеете в виду, когда говорите о границах – географические границы, политические границы? О чём идёт речь?
Ч.Роуз: Политические границы.
В.Путин: Что касается сотрудничества, мы всегда говорили и продолжаем это говорить, здесь нет ничего нового, при всех сложностях сегодняшнего дня я считаю, считал всегда и продолжаю считать, что русские и украинцы – это один народ, один этнос во всяком случае, со своим, конечно, своеобразием. Со своим, конечно, своеобразием, со своими культурными особенностями, но с общей историей, с общей культурой, с общими духовными корнями. Чего бы ни происходило, в конечном итоге Россия и Украина так или иначе обречены на совместное будущее.
Мы с самого начала исходили и сейчас исходим из того, что Украина имеет право на собственный выбор: и на цивилизационный, и на политический, и на экономический, на какой угодно. Ведь не секрет, мы же все знаем, именно Россия была инициатором фактически дезинтеграции Советского Союза, предоставления суверенитета всем этим странам. С этих пор у нас ничего не изменилось. Но и Россию, и Украину, кроме тех связей, о которых я говорил, которые сложились за столетия, связывают совершенно конкретные вещи сегодняшнего дня: это общая инженерная инфраструктура, общая энергетическая инфраструктура, общая транспортная инфраструктура, общие правила регулирования и так далее, и так далее. Наконец, нас связывает и возможность беспрепятственно говорить на одном языке. Это нас касается, это касается уже России и касается наших интересов.
Мы всегда исходили из того, что мы будем решать всё, даже спорные вопросы, а это естественно, что у соседей возникают какие–то споры, путём переговоров. Но если в этот переговорный процесс включаются третьи игроки, то мы считаем, что они должны учитывать и наши интересы, а не просто ставить нас перед выбором. Если вы спрашиваете, на что мы рассчитываем в политическом плане, – мы рассчитываем на полноценный, доверительный и равноправный диалог.
Ч.Роуз: Мне хотелось бы ещё вернуться к Украине, но давайте поговорим о взаимоотношениях России с целым рядом стран, в том числе с США и КНР. Каким образом Вы охарактеризовали бы отношения с США? Что не так с этими отношениями, что с ними так? И что требуется в этих отношениях?
В.Путин: Другими словами, где у нас есть какой–то позитив, а где есть проблемы.
Начнём с проблем. Проблемы заключаются в том, что нам постоянно пытаются навязывать свои стандарты и свои решения, не сообразуясь с нашим пониманием собственных интересов. Нам, по сути, говорят, что в Соединённых Штатах лучше знают, что нам нужно. Позвольте нам самим определить наши интересы и наши потребности исходя из нашей собственной истории, из нашей культуры.
Ч.Роуз: Каким образом Соединённые Штаты пытаются определить, что вам нужно, что вам требуется?
В.Путин: Вмешиваясь в наши внутриполитические процессы, в том числе через финансирование неправительственного сектора, навязывая решения в сфере международной безопасности.
Я упоминал, допустим, о проблеме, с которой мы столкнулись первый раз, и это сразу охладило наши отношения, – Ирак. Вы помните тезис: «Кто не с нами, тот против нас»? Это что, диалог? Это ультиматум. С нами не надо разговаривать языком ультиматумов.
Но теперь всё–таки позвольте сказать, что нас объединяет, такое ведь тоже есть. Объединяет наше желание всё–таки работать против общих угроз, какими являются терроризм, распространение наркоугрозы и очень опасная тенденция к возможному распространению средств массового уничтожения. Но есть и вопросы в сфере гуманитарного взаимодействия, например борьба со сложными и очень тяжёлыми, поражающими целые регионы мира инфекционными заболеваниями. Есть вопросы, связанные с мировой экономикой, это касается, прежде всего, той области, на которую мы серьёзно и значительным образом влияем: это энергетика. Есть и другие сферы, в которых мы в целом наладили очень неплохое взаимодействие, и я рассчитываю, что это послужит той базой, которая позволит нам восстановить прежний уровень отношений с Соединёнными Штатами и двигаться дальше.
Но что касается Китайской Народной Республики, то уровень, характер и доверительность наших отношений достигли, пожалуй, беспрецедентных в истории наших отношений значений. Мы 40 лет – хочу, чтобы все ещё раз услышали, – 40 лет вели переговоры по приграничным проблемам. Мы нашли взаимные компромиссы, развязки, пошли друг другу навстречу и закрыли этот вопрос. 40 лет! Далеко не со всеми странами нам удаётся решить эти вопросы. Кроме этого, мы развиваем экономические связи, мы активно сотрудничаем в международных организациях и на площадке Организации Объединённых Наций.
Мы создаём новые объединения, которые весьма эффективно развиваются и являются весьма привлекательными для многих стран: это и Шанхайская организация сотрудничества, она изначально создавалась для того, чтобы решить приграничные вопросы после дезинтеграции Советского Союза, но потом пошла дальше, и сейчас эта организация является привлекательной, туда стремятся попасть уже и другие страны. Мы, скорее всего, сейчас на саммите в Уфе (очередной саммит будет в нашем городе в Башкирии) примем решение о приёме и Индии, и Пакистана в эту организацию. Мы развиваем другие формы сотрудничества – например, БРИКС.
Я в своём выступлении говорил о сопряжении наших усилий в рамках Евразийского экономического союза и «Экономического пояса Шёлкового пути». То есть у нас налаживаются отношения и в этом плане. Китай – самый крупный наш торгово-экономический партнёр. Отношения развиваются очень эффективно.
Ч.Роуз: Некоторые говорят, что это естественно, потому что у Китая есть деньги, а в России есть природные ресурсы, поэтому тут логическая связь.
В.Путин: Вы почитайте американскую аналитику, я уверен, что Вы это знаете, просто делаете вид, что Вы с ней не знакомы. Так вот, американские аналитики, политологи, экономисты говорят о разворачивании самих Соединённых Штатов в сторону Китая. Китай – растущая экономика. Если кто–то высказывает озабоченности по поводу снижения темпов роста, то сейчас Первый заместитель председателя Госсовета Китая сказал об этом: 7 процентов – самый высокий темп роста в мире, всё равно это самые высокие темпы роста в мире. И не только Россия. Почему?
Весь мир смотрит на Азию, и Европа тоже ищет возможности развивать отношения, но нам–то сам Бог, как говорится, велел, мы–то соседи, это естественное движение. Кроме всего прочего, у нас есть некоторые ценности, которые мы отстаиваем на международной арене совместно и весьма эффективно, – это равноправный доступ к решению ключевых международных вопросов.
Ч.Роуз: Является ли это более логичным – взаимоотношения с Китаем, чем взаимоотношения с Европой, США? Является ли Китай более важным с точки зрения развития отношений в будущем, чем США и Европа? Могло бы это привести к каким–то антизападным интеграционным процессам и связям?
В.Путин: Антизападным?
Ч.Роуз: Антизападным и антиамериканским.
В.Путин: Мы вообще ни с кем, в том числе и с Китаем, а Китай тоже ни с кем, насколько я понимаю китайскую политику, не строит отношения против кого–то. Мы не строим союзов «против», мы строим союз «за» – за то, чтобы реализовывать свои национальные интересы.
И обращаю внимание, вот вы расширяете Североатлантический блок НАТО – Советского Союза нет, он же создавался как противодействие Советскому Союзу: Советского Союза нет, Варшавского договора нет, а блок НАТО не только существует, но ещё и расширяется. Вы это делаете, а мы с Китаем не создаём никаких военных блоков, у нас нет блокового мышления, мы пытаемся – и, насколько я чувствую, у нас это получается, – мы пытаемся и делаем это: мыслим глобально, распределяя не только ответственность, но и стремясь найти взаимоприемлемые развязки и компромиссы. Мы никогда не действуем с позиции силы. Мы всегда ищем решения, причём решения в рамках переговорного процесса.
Ч.Роуз: Мы много прочитали о вас, о вашей стране. Три компонента: первое, вы хотите быть уважаемыми; второе, вы хотите вести равные переговоры; третье, вероятно, в вашей истории есть ощущение и существует обеспокоенность в отношении границ и в отношении создания буферной зоны в России. Правильно я понимаю?
В.Путин: Вы понимаете, я всё время это слышу: Россия хочет, чтобы её уважали. А вы не хотите? А кто не хочет? Кто хочет, чтобы его унижали? Странная даже постановка вопроса. Как будто это какой–то эксклюзив Россия для себя требует, чтобы нас уважали. А кому–то приятно, чтобы на него плевали, что ли? Но дело даже не в уважении, дело совершенно не в уважении или отсутствии такового – дело в том, что мы стремимся к обеспечению своих интересов, не нанося никакого вреда нашим партнёрам. Но мы, естественно, рассчитываем на конструктивный, прямой и содержательный диалог. Когда мы сталкиваемся с отсутствием такового или с нежеланием разговаривать с нами, то это, конечно, вызывает какую–то ответную реакцию.
Смотрите, я сейчас вам расскажу интересную историю, она касается так называемого восточного партнёрства, которое продвигают наши коллеги и друзья в Западной Европе. Кстати, это очень активно поддерживается и Соединёнными Штатами. Первая наша реакция была на эту практику восточного партнёрства, идею саму, весьма положительная. Почему? Потому что мы исходили из того, что Россия и восточноевропейские страны связаны тысячью нитей между собой, в том числе и в области экономики. Это общие нормы технического регулирования, как я уже говорил, единые инфраструктуры и так далее, и так далее. И мы исходили из того, что, если Европа начнёт сейчас с ними работать, их как–то к себе подтаскивать, неизбежно начнётся конструктивный процесс взаимодействия с Россией. И мы будем работать. В чём–то будем спорить, в чём–то соглашаться, но будем выходить на какие–то общие решения, которые позволят нам создавать общее экономическое и, в конце концов, гуманитарно-политическое пространство.
Ничего этого, к сожалению, вообще не произошло. Ведь как возник кризис на Украине, с которого Вы начали: Украине предложили подписать договор об ассоциации. Замечательно. Но Украина, как известно, является членом зоны свободной торговли в СНГ (кстати, создания которой сама Украина и добивалась). И там масса преференций, масса льгот.
Мы с Евросоюзом 17 лет вели переговоры по условиям присоединения к ВТО. Теперь одним разом решили через Украину зайти на таможенную территорию Российской Федерации. Разве так делается? А на наш вопрос и наше предложение провести консультации нам ответили, это прямая речь: «Не ваше дело». Так разве решаются вопросы вообще, а в отношении России в частности?
При чём здесь какой–то тезис о пустом уважении? Дело не в уважении – дело в том, что мы хотим, чтобы наши интересы учитывались.
Ч.Роуз: Давайте поговорим о ряде мест, где есть необходимость сотрудничества России и США: Иран и переговоры по ядерной программе – и, конечно, формат «пять плюс один», «шестёрка». Думаете ли Вы, что достигнуть соглашения возможно, и какого соглашения Вы хотите?
В.Путин: Первое, что я хочу подчеркнуть и что я считаю абсолютно принципиальным, у нас есть общее понимание со всеми участниками этого процесса, в том числе и с Соединёнными Штатами, с европейскими странами, надеюсь, что и с Ираном, что все мы – категорические противники распространения оружия массового уничтожения. И это наша принципиальная позиция, и именно это обстоятельство позволило нам достаточно конструктивно работать с Соединёнными Штатами по этому направлению.
Мы очень рады тому, что иранская позиция претерпела существенные изменения и позволила выйти на тот уровень договорённостей, которые мы сегодня имеем. Мы, безусловно, поддержим эти договорённости. Единственное, что, мне кажется, было бы контрпродуктивным – это специально, хочу это подчеркнуть, специально, чтобы сорвать договорённости, требовать от Ирана каких–то вещей, которые для него являются абсолютно неисполнимыми и несущественными для решения главной проблемы – проблемы нераспространения. Но я надеюсь, что до этого не дойдёт, и в конце концов в ближайшее время – Сергей Лавров [Министр иностранных дел] лучше меня знает, когда это можно подписать.
С.Лавров: Когда будет готово.
В.Путин: «Когда подписать можно?» – Он говорит: «Когда будет готово».
У нас дипломаты всё время так отвечают. (Смех.)
Думаю, что в ближайшее время должно состояться подписание. Но самое главное – мы вчера встречались с Генеральным директором МАГАТЭ, потом должен начаться процесс имплементации этих договорённостей, он потребует примерно полгода.
Но не менее важно и другое: не менее важно, чтобы ваша страна, Соединённые Штаты, отнеслись к этому положительно, поддержали, чтобы конгресс поддержал. Мы знаем дискуссии, которые идут сейчас в Соединённых Штатах, что Президент имеет право сам подписать, что эти договорённости не нуждаются в ратификации. Это не наша проблема, мы не можем её решить. Так же как не можем некоторые вопросы сегодня решить за киевские власти, так и за вашингтонские тоже не можем некоторые проблемы решить. Поэтому на вашей стороне будет мяч. Но мы рассчитываем на то, что при всей сложности всё–таки Президенту Соединённых Штатов удастся достичь результата, который будет, безусловно, во внешнеполитической сфере одним из главных в ходе его президентства.
Ч.Роуз: Но Вы верите, что будет такое соглашение, согласно тому, что сказал господин Лавров?
В.Путин: Я верю, и мы к этому стремимся. Мы считаем, что это чрезвычайно важно, чтобы разрядить ситуацию. Но при этом не менее важно, чтобы все региональные державы не чувствовали, что для них наступает какой–то момент, после которого они могут ожидать ухудшения ситуации в регионе, наступают для них какие–то угрозы. Вот этого ни в коем случае нельзя допустить. Россия, я хочу это подчеркнуть, будет развивать добрососедские, дружеские отношения как с Ираном, так и со всеми странами этого региона.
Ч.Роуз: Ещё один вопрос из внешней политики – до того, как мы перейдём к экономике и к вопросам, которые поднимались рядом ораторов.
Сирия сегодня нас занимает. Видите ли Вы какой–то выход из сложившейся ситуации? Потому что Россия поддерживает правительство Башара Асада и поддерживала его много лет, Иран поддерживает правительство Асада. И кажется, что просто маятник качается туда-сюда, вот такая ситуация. Какое Ваше предполагаемое решение? Как можно разрешить эту ужасную гражданскую войну, вызвавшую миллионы беженцев, и когда можно найти такое решение?
В.Путин: Хотелось бы – чем быстрее, тем лучше. Вместе с тем хотел бы ещё раз подчеркнуть, на чём основана наша позиция: наша позиция основана на опасении, что Сирия может погрузиться в такое же состояние, как Ливия или как Ирак.
Вы знаете, ведь до того, как властные структуры в Ираке и сам Саддам Хусейн не были уничтожены, там не было никаких террористов, ну давайте мы не будем про это забывать. Вообще об этом сегодня никто предпочитает не говорить. Кто создал условия и как были созданы условия для вспышки терроризма на этих территориях, ну неужели непонятно? После вторжения в Ирак всех разогнали, уничтожили, Саддама повесили. Дальше что – дальше ИГИЛ.
А в Ливии что происходит? Вообще государство перестало существовать, дезинтеграция полная. Даже дипломатическая служба Соединённых Штатов понесла ущерб, мы знаем такой известный трагический случай. Вот мы не хотим, чтобы такое же развитие событий постигло и Сирию, вот в чём вопрос. Этим прежде всего продиктована наша позиция по поддержке Президента Асада и его правительства. И мы считаем, что это правильная позиция. Трудно было ожидать от нас чего–либо другого. Более того, как мне кажется, многие сегодня соглашаются с такой позицией, как наша.
Я упоминал уже несколько раз про Ирак, а мы знаем, что там происходит. Соединённые Штаты поддерживают Ирак, поддерживают и вооружают армию, обучают армию. Двумя-тремя ударами ИГИЛ захватил столько оружия, что, наверное, у иракской армии его нет в таком объёме: и бронетехнику, и ракеты (широкая общественность мало об этом знает) вот совсем недавно. Сейчас ИГИЛ вооружён лучше, чем иракская армия. И это при поддержке Соединённых Штатов всё происходит.
Вроде оттуда ушли, но, по данным наших специальных служб и по информации, которую мы получаем из самого Ирака, тысячи американских военнослужащих до сих пор находятся в Ираке. А результат – печальный и трагический.
Мы не хотим, чтобы всё то же самое повторилось в Сирии. Мы призываем всех наших партнёров, в том числе и Соединённые Штаты, европейцев, но прежде всего, конечно, Соединённые Штаты предпринять дополнительные усилия для борьбы с абсолютным злом, которым мы считаем фундаментализм и так называемое Исламское государство или несколько ещё формирований подобного же рода, которые, по сути дела, являются ответвлениями широко известных террористических организаций мирового масштаба, нанёсших неоднократные удары по самим Соединённым Штатам. Мы призываем найти путь политического урегулирования, который должен заключаться в том, чтобы, конечно, была обеспечена трансформация политического режима, это само собой разумеется, и мы готовы об этом дискутировать и с Президентом Асадом.
Сейчас, совсем недавно ООН продекларировала возможность сотрудничества с Президентом Асадом в борьбе с ИГИЛ и другими террористическими формированиями. Мы готовы работать с Президентом [Сирии] для того, чтобы обеспечить путь политической трансформации, для того, чтобы все люди, которые проживают в Сирии, чувствовали доступ к инструментам власти, чтобы уйти от вооружённого противостояния. Но это нельзя делать со стороны с помощью силы, вот в чём вопрос.
Ч.Роуз: Хорошо. Но готовы ли Вы призвать Президента Асада уйти в отставку, если это приведёт к альтернативному политическому решению или если, допустим, это поможет предотвратить ИГИЛ?
В.Путин: Наш модератор – настоящий американец. Я говорю: «Без вмешательства извне», – а он меня спрашивает: «Готовы призвать Президента Асада уйти в отставку?» Это может сделать только сирийский народ, ну как же такие элементарные вещи мы упускаем? Я уже об этом сказал: мы готовы вести диалог с Президентом Асадом в том направлении, чтобы он проводил совместно с представителями так называемой здоровой оппозиции политические реформы. Я считаю, что это вполне конструктивно и реализуемо.
Ч.Роуз: Господин Президент, давайте тогда вернёмся к экономике. У меня много вопросов. У нас здесь есть Ронни Чичунг Чан, председатель инвестиционной компании Hang Lung Properties, Махмуд Хашим Аль Кухеджи, генеральный директор Bahrain Mumtalakat Holding Company, кроме того, ещё есть президент YPF Аргентины Мигель Галуччио (с ним мы поговорим об энергетике). Но мы много уже слышали о Китае, сегодня мы с вами вместе слышали. Каковы, как вы думаете, возможности построения всё более выгодного сотрудничества с Китаем и Россией?
Р.Чан: Как сказал господин Президент [Владимир Путин], мне кажется, что экономика – это главный пункт сотрудничества между Китаем и Россией. Как бизнесмен я полагаю, что Россия и Китай – это брак, который заключён на небесах. У одной страны очень богатые природные ресурсы, а Китаю не хватает этих природных ресурсов, мы быстро развиваемся. Но у Китая есть капитал, чтобы купить эти ресурсы. С экономической точки зрения я не могу просто придумать более дополняющих друг друга стран.
Единственное, если позволите, что я хотел бы сказать. Я уверен, что у господина Президента есть стратегическое мышление относительно российских взаимоотношений с Китаем, но я не уверен насчёт вашего бизнеса, господин Президент, готовы ли ваши бизнесмены воспользоваться преимуществами китайского рынка. Просто посмотрите вокруг, сколько китайцев здесь у нас, в аудитории? Я очень одиноко себя чувствую здесь, сидящим на сцене. А сколько русских находится в Китае? Я даже не знаю. Поэтому за последние день-два, когда я здесь обсуждал вопросы с российскими друзьями, пришёл к выводу, что Азия до сих пор является чем–то, что неплохо было бы получить, но не особо народ готов экономически туда входить.
Господин Президент только что упомянул, что Китай является важным экономическим государством в мире, и я хотел бы, господин Президент, чтобы ваши бизнес-лидеры, которые находятся в аудитории, были бы более готовы практически работать с нами. Например, Вы упоминали финансирование, которое необходимо многим российским проектам. Многие компании сейчас зарегистрированы в Гонконге, потому что гонконгский рынок связан с шанхайским рынком и будет связан также и с Шэньчжэнем скоро. А Шанхайская биржа является пятой по размеру в мире, Гонконгская – шестая, а Шэньчжэньская – восьмая. Если все эти три биржи объединить, то это второй по величине рынок ценных бумаг в мире. Почему бы не зарегистрировать российские фирмы в Гонконге, чтобы помогать работать с Китаем? По–моему, это прекрасная возможность, господин Президент.
В.Путин: Я согласен с нашим коллегой по поводу того, что российско-китайские отношения в экономике нужно, безусловно, наполнять конкретным содержанием и работой – лучше если не только уровне самых крупных наших компаний, но и на уровне малого, среднего бизнеса, чтобы была такая естественная и живая ткань совместной работы во многих отраслях производства.
Между тем Китай и так является в страновом измерении нашим торговым партнёром номер один: у нас 85 миллиардов долларов торговый оборот. И мы вчера говорили с Первым заместителем Госсовета [Чжан Гаоли], и с Председателем Си Цзиньпином обсуждаем это постоянно – думаю, что в ближайшие годы мы вполне можем выйти на оборот в 200 миллиардов долларов.
То, что Вы сейчас сказали, безусловно, правильно. Естественно, мы должны действовать очень аккуратно, не спеша, создавать необходимые условия. Это касается и нас, это касается и наших китайских партнёров. Я уже говорил в своём выступлении о том, что мы вообще никак не ограничиваем движение капитала. Даже в самых сложных условиях кризиса 2008 и 2009 годов, и сейчас, и в прошлом году мы никак не ограничиваем вывоз капитала. Но мы ожидаем, что и наши партнёры в рамках своего регулирования будут действовать в таком же направлении. Юань становится всё более и более крепкой региональной резервной валютой, это совершенно очевидный факт. Но специалисты все понимают, что не хватает свободы движения капитала. Если это произойдёт, то тогда это будет ещё один серьёзный шаг к либерализации наших отношений.
Мы прекрасно понимаем, что наши китайские партнёры должны действовать аккуратно, и им виднее, когда какие меры вводить. Но весьма существенным шагом по углублению и расширению наших отношений является решение об оплате наших торговых операций в национальных валютах: в юанях и рублях. Совсем недавно прошли первые торги в паре юань–рубль. Мы уверены, что это будет развиваться и это создаст новые дополнительные возможности для работы в реальных секторах экономики.
В целом я с Вами согласен, нужно двигаться именно по этому направлению, а не ориентироваться только на договорённости на правительственном уровне, не ориентироваться только на решения, принимаемые суверенными фондами, и так далее, что тоже очень важно и создаёт платформу для работы в более широком формате. Мы работаем над этим и будем двигаться по этому направлению дальше.
Спасибо.
Ч.Роуз: Благодарю Вас. Дальше сидит господин Махмуд аль-Кухеджи, который является президентом компании «Мумталакат», Бахрейн. Какие возможности для инвестирования, Вы полагаете, в России существуют, какие вопросы есть у Вас?
М. аль-Кухеджи: Позвольте я начну и поблагодарю Вас, господин Президент, за то, что Вы подготовили этот форум, за то, что Вы меня на него пригласили, потому что это даёт нам возможность встретиться с нашими партнёрами в России.
«Мумталакат» – это суверенный фонд Бахрейна. Как другие суверенные фонды, мы наделены возможностью инвестирования по всему миру. Мы полагаем, что необходим устойчивый рост и должен быть потенциал для инвестиций, который даст нам долгосрочную стабильность и интерес.
У нас есть инвестиции в Европу, США и другие регионы. Мы сейчас смотрим, анализируем возможности инвестировать в России. Когда вы меня спрашиваете про российскую экономику, я думаю, что она очень перспективна и у неё очень твёрдая база. Почему я так думаю – поскольку российская экономика имеет высококвалифицированную рабочую силу, очень образованную рабочую силу в самой стране. Кроме того, есть необходимые ресурсы, об этом много говорили, которые поддерживают эту самую рабочую силу. Поэтому российская экономика является очень большим рынком, что делает для нас гораздо более простым поиск ниши в российской экономике. Вот эти три компонента позволяют нам чувствовать уверенность в том, что инвестиции в России будут хорошими рыночными инвестициями, и они будут долгосрочными.
Наш фонд старается найти партнёров, которые позволят нам работать свободно в экономике. Думаю, господин Президент, Ваша инициатива по организации Российского фонда прямых инвестиций – это очень удобная идея, и это большой шаг, поскольку, когда мы пришли на российский рынок, мы нашли институт, организацию, которая знает этот рынок и профессионально и прозрачно работает с ним. Это очень важно, когда мы выбираем наших партнёров. Любая инвестиция в российскую экономику позволяет нам найти необходимого партнёра. Это делает российскую экономику очень привлекательной для нас в долгосрочной перспективе.
Ч.Роуз: Благодарю.
Итак, справа от меня Мигель Галуччио из Аргентины. Как вы знаете, Аргентина и «Газпром» подписали договор о совместной разработке газового месторождения. Каковы возможности совместной работы двух государств в энергетической области?
М.Галуччио: Прежде всего спасибо большое, господин Президент за то, что Вы дали мне возможность участвовать в этом форуме.
Энергетика – это очень важное направление для всех стран Южной Америки, особенно для Аргентины. У нас есть большой опыт экономического роста, который наша экономика демонстрировала на протяжении последних 10 лет. Мы производим и нефть, и газ – в основном газ. У нас есть традиционные природные ресурсы, у нас есть также газ и традиционные энергетические ресурсы. И, кроме того, у нас есть также неконвенциональные источники энергии, которые мы сейчас начинаем разрабатывать.
Объём нашей продукции увеличился на 25 процентов за последнее время. И мы считаем, что неконвенциональные источники энергии также могут быть очень эффективными, их производство может приносить большую выгоду. С этой целью нам требуется делать большие инвестиции в этот сектор, нам нужны технологии, нам нужны ноу-хау других стран и компаний. Мы считаем, что в сфере энергетики открываются большие возможности.
Мы осуществляем стратегическое сотрудничество с российскими компаниями. Между Россией и Аргентиной сложились прекрасные отношения. Мы стремимся к тому, чтобы развивать потенциал наших отношений и работать в различных областях. Наша компания заключила соглашение с «Газпромом», которое даст нам возможность в дальнейшем эффективно сотрудничать. Мы подписали меморандум о взаимопонимании, который направлен на то, чтобы совместно разрабатывать ресурсную базу нашей страны.
Спасибо.
Ч.Роуз: Есть ли у Вас какие–нибудь комментарии по этому вопросу – в том, что касается возможностей, которые открываются для обеих стран? Как мне кажется, очень интересно выслушать точки зрения различных регионов.
Мы говорили уже сегодня о влиянии санкций. Вам кажется, что влияние санкций преувеличивается. Это отмечают многие. Как Вы видите возможности и необходимость дальнейшего продвижения российской экономики, какие для этого существуют пути – в том, что касается институциональной структуры, верховенства права и так далее?
В.Путин: По поводу того, что здесь было коллегами сейчас сказано. Мы, что касается Аргентины, обсуждали возможность сотрудничества в нефтегазовой сфере с Президентом Аргентины Кристиной Фернандес де Киршнер и в ходе её визита в Россию, и в ходе моего визита в Аргентину. Договаривались о том, что наши ведущие компании займутся совместной работой. Если откровенно говорить, я не знаю, что там дальше происходило, но меня сейчас очень порадовала информация о том, что есть конкретные договорённости о начале этой совместной работы. Действительно, у Аргентины очень большой потенциал, и, конечно, объединение усилий с одной из ведущих мировых компаний, которой является «Газпром», может дать очень хороший результат.
Что касается суверенных фондов, то, если я не ошибаюсь, Бахрейнский суверенный фонд не просто партнёр нашего Российского фонда прямых инвестиций, а есть договорённость о том, что, по–моему, ваш фонд участвует на 10 процентов во всех проектах Российского фонда прямых инвестиций, я не ошибаюсь? Вот обратите внимание, на что пошли наши партнёры. Автоматически, как только Российский фонд прямых инвестиций реализует какой–то проект, – автоматом Бахрейнский фонд присоединяется на 10 процентов. Это очень большое доверие не только к российской экономике, но и к профессионализму тех коллег, которые работают в Российском фонде прямых инвестиций. Хотел бы попросить всех приветствовать нашего партнёра и выразить ему слова благодарности за это доверие.
Не так всё плохо с точки зрения санкций: есть и плюсы, и минусы. Это время, когда у нас происходят структурные изменения и когда действительно можно предпринять шаги, которые могут иметь долгосрочные позитивные последствия.
Что касается санкций, о которых вы сказали, о том, как мы собираемся выходить из сегодняшней ситуации, – я охарактеризовал сегодняшнюю ситуацию: она не является для нас никакой катастрофой. Мы считаем, что мы должны достичь нескольких целей, они менее амбициозны, чем те, которые мы ставили несколько лет назад, но я очень надеюсь, что это будет другое качество – лучшее качество, чем было в прежние годы.
Чего мы хотим добиться: прежде всего мы хотим обеспечить рост нашей экономики в ближайшее время, в ближайшие годы на уровне среднемировых, это примерно 3,5 процента. Первое.
Второе, мы, безусловно, должны добиться роста производительности труда в пять процентов в годовом измерении.
И третье – очень важный показатель – мы, безусловно, должны снизить инфляцию до показателя 4 процента. Это то, к чему мы должны стремиться – безусловно, при скоординированной и сбалансированной макроэкономической и бюджетной политике.
Всё это, те тенденции, которые мы сейчас видим в нашей экономике, позволяют нам утверждать, что эти цели вполне достижимы, и мы это сделаем в ближайшее время. При этом нам бы, конечно, не хотелось отвечать на деструктивные действия, которые нам пытаются навязывать некоторые наши партнёры, причём навязать себе в убыток. Разные были подсчёты у европейских партнёров: кто–то говорил о потерях европейских производителей в 40–50 миллиардов; сейчас последние данные, которые я увидел и услышал из Европы, – считают, что до 100 миллиардов потери могут быть у европейских производителей.
У нас снизился товарооборот с Европой почти на четверть. Между тем с Вашей страной, с Соединёнными Штатами, рост составил 5,6 процента. У нас несколько сократились товарные потоки из стран Евросоюза в Российскую Федерацию, импорт сократился почти в два раза: был около 30 миллиардов долларов, если считать в долларах, 29 с чем–то, а сейчас – 15 миллиардов с небольшим.
Между тем в структуре товарооборота, при росте торгового оборота с Соединёнными Штатами, импорт из США увеличился примерно на 11 процентов. В целом можно сказать, это, конечно, не уравновешивает потери от сотрудничества с Европой, но я уверен, знаю точно, никто не хочет вообще никаких потерь, если иметь в виду, что у нас падение, а в еврозоне – там многие специалисты, не наши, европейские, говорят о стагнации практически.
Поэтому если мы хотим обеспечить безусловный рост мировой экономики и в Европе, и в России, и в целом, то мы, конечно, должны избавляться от всяких санкционных дел, а тем более незаконных, принятых вне рамок Организации Объединённых Наций, и совместно работать. А как мы собираемся этого достичь, я уже сказал. Мы будем расширять экономические свободы, это ключевая вещь, будем обеспечивать конкурентоспособную юрисдикцию, будем работать над кадрами и над улучшением системы управления.
Ч.Роуз: Справа от меня сидит председатель наблюдательного совета компании «Кнорр-Бремзе» Хайнц Херманн Тиле. Только что мы говорили о санкциях, об импортозамещении. Как Вам кажется, каковы здесь риски и возможности? Что Вы могли бы сказать в этой связи для России? Как Вы видите ситуацию с западной точки зрения?
Х.Тиле: Я вряд ли смогу представить здесь европейскую точку зрения, потому что, вы знаете, многие страны континента придерживаются различных взглядов. Но что я могу сказать – я могу говорить лишь от себя лично и могу представить вам своё видение ситуации.
Я всегда был против санкций, по–прежнему считаю, что это неправильно. Я не единственный человек в Германии, который придерживается этой точки зрения. Поддерживаю заявление Президента Путина: пора положить санкциям конец.
Я надеюсь, что сейчас все в Европе уже поняли, что от санкций Европа сама пострадала, и очень значительно. Если мы посмотрим на статистику за 2014–2015 годы, за два года, – на 50 процентов сократился экспорт из Германии в Россию. Я не считаю наши подразделения, которые работают в России, а у нас таких тоже немало, кстати, работают они очень успешно в промышленности, в транспорте; у нас отличный опыт сотрудничества с российскими партнёрами.
Возвращаясь к ситуации в других европейских странах – посмотрите на Италию: Италия потеряла всего 10 процентов экспорта по сравнению с показателями за прошлый год. Поэтому для них ситуация не так плоха. То есть последствия для разных европейских стран также разнятся. Интересы тоже неодинаковые. В этом смысле нельзя сказать, что у нас общие интересы. Решения на политическом уровне принимаются общие, но так или иначе, какая бы ни была мотивация, решения эти неправильные.
Мы должны понять, что Россия, реализуя политику поворота на Восток, совершает абсолютно логичный шаг, потому что Восток может предложить России очень и очень многое. Не надо забывать, что мы, европейцы, мы, немцы, – моя компания, у меня компания среднего размера, мы работаем на международной арене, у нас прекрасная связь, например, с китайцами. У нас отлично идёт совместный бизнес, нам очень нравится работать с ними. Почему Россия не должна делать то же самое?
В какой–то степени трагично то, что мы дали санкциями толчок к этому повороту. От санкций нужно уходить. Но все страны должны иметь возможность принимать самостоятельные решения, где лучше развивать партнёрство: на Западе, на Востоке – неважно. Мы выступаем за мировое развитие, добавлю – за мирное развитие. В настоящий момент, к сожалению, мы не можем сказать, что удовлетворены ситуацией ни в одном, ни в другом аспекте.
Ч.Роуз: Когда мы говорили о внешней политике, с учётом того, что сказал только что коллега, вот я хотел задать вопрос об отношениях с Германией: сильная экономическая держава, у Вас были отличные отношения с канцлером Меркель, – как Вы видите будущее российско-германских отношений?
В.Путин: Будущее отношений России с любой страной зависит не только от России. Это процесс взаимный и не может быть позитивно решён только односторонними действиями. Но мы стремимся к развитию отношений с Федеративной Республикой Германией.
Коллега только что говорил о большом количестве предприятий Федеративной Республики, которые работают на нашем рынке. Я могу уточнить, это 6 200 предприятий, и все они работают. Они, кстати, не ушли, там некоторые сократили – примерно сотня, полторы, может быть, – немножко сократили объёмы деятельности, но в целом все работают достаточно активно.
Более того, я говорил, что открываются новые предприятия, в том числе и сегодня, при активном участии немецких компаний, в том числе с которыми у нас традиционные связи. Мы не собираемся их расторгать или сокращать. Мы чувствуем, что этого не хочет и немецкий бизнес. У нас очень добрые отношения, надёжные и многолетние. И мы, конечно, будем делать всё для того, чтобы их сохранить и развивать в интересах России, в интересах Германии, в интересах Европейского континента и мировой экономики.
Мы говорили о том состоянии, в котором мировая экономика находится. Знаем, что в целом эксперты указывают на две проблемы: это низкие темпы роста, и говорят даже о стагнации, и эксперты так думают, что ещё года два как минимум это всё будет продолжаться; а вторая проблема – это непомерный рост долговой нагрузки, которая мешает развитию.
В страновом измерении, если говорить о Европе, ведь что там происходит: есть определённый небольшой рост у Федеративной Республики [Германия] – 1 процент в прошлом году; во Франции – 0,7 процента; в Италии, о которой сейчас коллега упоминал и говорил о том, что там всё хорошо, – нулевой рост в течение нескольких лет; в Японии, кстати сказать, – минус 1,4. В таких условиях мы все нуждаемся в каких–то дополнительных импульсах развития.
Господин Ципрас выступал, говорил, я даже записал: проблема Греции – это не греческая проблема, а общеевропейская. Правильно, если вы кому–то много должны, то это уже не ваша проблема, а проблема того, кому вы должны. Это абсолютно правильный подход.
(Смех.) Это правда, потому что ведь что произошло? Есть, конечно, плюсы от интеграционных процессов: и рынки открыты, и бонусы, и дешёвые кредиты. Но есть и минусы, которые заключаются в том, что невозможно регулировать национальную валюту, потому что её нет; привязка вся к жёсткой, твёрдой валюте, рассчитанной на экспортно-ориентированные экономики; невозможно использовать свои преимущества, скажем, в сельском хозяйстве, в туризме, в рыболовстве, там есть ограничения. Поэтому это всё должно быть сбалансировано. Но нас это интересует – интересует, что будет происходить в Европе: это наш крупнейший партнёр.
Да, у нас сократились объёмы торговли с Европой значительно. Но Европа остаётся совокупным нашим ведущим партнёром, а среди всех европейских стран первое место занимает Федеративная Республика [Германия]. Надеюсь, что проблемы уйдут, а мы будем развивать эти отношения дальше. Мы к этому готовы.
Ч.Роуз: Вы очень щедро уделили время нам сегодня в Санкт-Петербурге на форуме. Последний вопрос лично от меня: какую роль хочет играть Россия в мире в 2015 году? Я перечислю ряд непростых вопросов: границы, отношения с Прибалтикой, Украина, Ближний Восток, ИГИЛ, Сирия, отношения со Штатами. В то же время некоторые говорят, что Ваша власть ограничена меньше, чем у любого другого российского лидера, на протяжении многих лет. Как Вы планируете участвовать в решении этих важных проблем? В каких областях Вы будете проявлять инициативу, потому что под Вашим руководством Россия изменилась, Россия стала сильнее с военной точки зрения, Россия ведёт себя более агрессивно (я подозреваю, Вам не понравится, что я использую термин «агрессивно», тем не менее). Как сделать Россию активным участником поиска решения всех этих проблем – Россию, которая, несомненно, является великой державой?
В.Путин: Мне не понравилось, что Вы говорите об агрессивном характере нашего поведения, Вы правы. Мы не ведём себя агрессивно – мы более настойчиво и последовательно начали отстаивать свои интересы. Мы долгое время, можно сказать – десятилетия, спокойно молчали и предлагали всякие элементы сотрудничества, но постепенно нас всё отжимали, уже поджали к такой черте, за которую дальше мы не можем отступить. Это должно быть понятно.
Я уже говорил в самом начале нашей дискуссии: не нужно заниматься переустройством мира – нужно исходить из того, что есть, с уважением относиться друг к другу и совместно работать, искать общие решения общих проблем.
Россия не претендует на какую–то гегемонию, не претендует на какой–то эфемерный статус сверхдержавы, мы никому не навязываем своих стандартов и моделей поведения или развития. Мы хотим равноправных, равноценных отношений со всеми участниками международного сообщества. И с Соединёнными Штатами, и с нашими европейскими партнёрами, и в Азии мы будем строить отношения на равноправной, повторяю ещё раз, и взаимоуважительной основе. Будем исходить из этого.
На международной арене, прежде всего, мы намерены отстаивать принципы международного права, его фундаментальные основы на базе Устава Организации Объединённых Наций, а в экономике, у нас же всё–таки экономический форум, безусловно, будем стремиться к расширению свободы в сфере экономики, к тому, чтобы сделать её более эффективной, более диверсифицированной. Будем стремиться к тому, чтобы на базе того импортозамещения, на которое, кстати, мы планируем направить более 2,5 триллиона рублей в ближайшее время, возродить высокотехнологичные сферы нашего производства, где мы вполне можем и должны быть более конкурентоспособными, и не только для того, чтобы обеспечить, безусловно, свою обороноспособность, но и для того, чтобы сделать нашу экономику более совершенной, имеющей перспективы развития, а жизнь наших людей лучше, уровень благосостояния людей – выше.
Ч.Роуз: Мы живём в сложном мире.
Спасибо большое, что присоединились к нам, приняли участие в обсуждении всех этих вопросов в Вашем родном городе Санкт-Петербурге.
В.Путин: Спасибо, спасибо всем участникам нашей дискуссии, всем, кто приехал на Петербургский экономический форум. Большое спасибо Вам за очень доброжелательный тон, который Вы задали сегодняшней дискуссии. (Смех.) Что Вы смеётесь? Правда доброжелательный, в некоторых моментах нашей дискуссии острый, но всё–таки вполне доброжелательный.

Новое великое переселение
Андрей Коробков
Миграция в России и в мире: сравнительная перспектива
А.В. Коробков – профессор политологии Университета штата Теннесси.
Резюме Специфика российской ситуации связана с относительной новизной проблемы масштабной иммиграции, институциональной и психологической неготовностью государства и общества к притоку большого количества инокультурных мигрантов.
Миграция – поистине всемирное явление, а трудовая миграция – важнейший компонент глобального рынка рабочей силы. Согласно данным ООН, в мире насчитывается 231,5 млн международных мигрантов, из которых 135,6 млн находятся в развитых, а 95,9 млн – в развивающихся странах. Реальные цифры должны быть значительно выше, поскольку данная оценка не учитывает многих нерегулярных мигрантов – как международных, так и внутренних. И российские миграционные проблемы не слишком отличаются от тех, с которыми сталкиваются другие крупные принимающие страны.
Характерной чертой России стало стремительное изменение ее роли в мировой миграционной цепочке в последние десятилетия. Правда, международная практика демонстрирует интересные и поучительные параллели. Так, подобная динамика миграционной ситуации и множественность ролей в мировой миграционной сети в последние годы присущи, например, и другим государствам БРИКС. Будучи странами эмиграции, они начинают притягивать и значительные количества иммигрантов (в ЮАР процессы сегодня развиваются параллельно).
В течение столетий Россия отличалась закрытостью границ и жестким государственным контролем миграции, прежде всего внешней. Одновременно происходило интенсивное перемещение населения, прежде всего этнических русских, из центральных регионов на этническую периферию страны, причем важнейшую часть потока составляли профессиональные элиты. Эти процессы интенсифицировались в советский период, проходя под жестким государственным контролем.
К моменту развала Советского Союза значительная часть граждан – более 54 млн только среди тех, кто принадлежал к титульным нациям пятнадцати советских республик (из совокупного населения СССР, превышавшего в 1989 г. 289 млн человек) – оказалась за пределами своих титульных республик. За пределами России, в частности, жили более 25 млн русских и 9 млн представителей титульных наций российских регионов. Кровавые этнические конфликты, дискриминация в ряде новообразованных государств, стремление вернуться на историческую родину, а также боязнь утраты гражданства «своих» стран привели в первые постсоветские годы к формированию значительных потоков возвратной миграции, в том числе и российских граждан – в Российскую Федерацию.
Таким образом, ситуация на постсоветском пространстве в корне изменилась. С одной стороны, Россия стала центром второй по величине иммиграционной системы мира после США (12,3 млн жителей РФ рождены за ее пределами. В занимающих же первое место Соединенных Штатах проживает более 45 млн человек, родившихся в других странах). Впервые со времен Гражданской войны возникла и внушительная легальная эмиграция – с 1991 г. около 1,3 млн российских граждан получили разрешение для выезда на постоянное жительство за пределы бывшего Советского Союза. Этот процесс сопровождался масштабным выездом на Запад и трудовых, в том числе и высококвалифицированных, мигрантов. Снятие «железного занавеса» также привело к тому, что в Россию устремился поток лиц, стремящихся попасть на Запад. Таким образом, Россия стала играть в мировой миграционной цепочке сразу три принципиально различных роли, являясь и страной, принимающей иммигрантов, и страной эмиграции, преимущественно в страны «старого зарубежья», и точкой транзита.
Данный феномен потребовал быстрого создания законодательной базы и формирования заново структур миграционной службы. Ведь в советское время внешняя миграция имела ограниченный масштаб и жестко контролировалась государством, а иммигранты и беженцы были достаточно редкими явлениями. Статья 38 Советской Конституции 1977 г. декларировала, что «СССР предоставляет убежище иностранцам, преследуемым за защиту интересов трудящихся и дела мира, за участие в революционном и национально-освободительном движении, прогрессивную социально-политическую, научную и иную творческую деятельность». Таким образом, признавались только политические и идеологические мотивы иммиграции, которые могли, в частности, служить основанием для прошения о предоставлении убежища.
И хотя за последние десятилетия проведены значительные структурные и законодательные преобразования, включая создание в 1992 г. Федеральной миграционной службы, сохраняются и серьезные проблемы. Из-за сложности легально остаться в России и получить работу иммигранты редко эффективно используют свой потенциал. Между тем более 43% лиц, прибывших в 2009 г. из СНГ и Грузии, имели профессиональное образование, в том числе 18,3% – высшее и неоконченное высшее, а 24,8% – среднее профессиональное. Среди временных мигрантов, имеющих высшее образование, 36,3% готовы остаться на постоянное жительство, в то время как средний показатель – 27,1%. Многие мигранты имеют и квалификационный потенциал, и желание интегрироваться в российское общество. Ситуация, однако, осложняется тем, что значительную долю трудовых мигрантов составляют нелегальные (а точнее, нерегулярные) мигранты. Оценки их численности существенно различаются – от 2,1 до 3–5 млн человек. Экспертная консенсус-оценка – 2,4 млн, а общая численность трудовых мигрантов с учетом работающих легально варьируется от 3,8 до 6,7 млн человек.
Иммиграция и эмиграция вызывают противоречивую реакцию общества – и в этом Россия также отнюдь не исключение. Что касается иммиграции, то основное внимание уделяется обычно ее этническим аспектам, опасности «размывания» национальной культуры, притоку нелегалов, растущей нагрузке на рынок труда и механизмы социальной защиты, росту преступности и коррупции, а также угрозам национальной безопасности. В отношении же эмиграции наиболее сильные эмоции вызывает потеря интеллектуальных и профессиональных элит.
Миграция во всемирном масштабе
Тот факт, что современная ситуация относительно нова для России, делает весьма полезным изучение опыта зарубежных стран, имевших в последние десятилетия аналогичные проблемы в миграционной сфере. Эти государства могут быть объединены в шесть основных групп.
Во-первых, страны традиционной иммиграции, включающие, помимо Соединенных Штатов, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Израиль, а также ЮАР, которая сейчас сама столкнулась с массированным оттоком элитных мигрантов параллельно с масштабным притоком низкоквалифицированных нерегулярных мигрантов из соседних африканских стран. Особенно интересен для России опыт Израиля по привлечению и адаптации мигрантов, включая и принадлежащих к элитным категориям.
Во-вторых, страны, бывшие ранее центрами многонациональных имперских образований (например, Великобритания, Франция, Испания, Португалия, Нидерланды, Бельгия, а еще более – те, чьи империи были территориально едиными – Германия, Австрия и особенно Турция), принявшие после их распада значительные потоки двух основных типов: первоначально это были представители метрополии, возвращающиеся на этническую родину (британцы, французы, турки и т.п.), а затем – жители стран третьего мира, причем прежде всего – владеющие языками метрополий, знакомые с их культурой и имеющие возможность опереться на поддержку давно сформированных этнических диаспор граждан из бывших колоний.
В-третьих, это страны Центральной, Южной и Восточной Европы, также как и Россия, столкнувшиеся с быстрым изменением положения в мировой миграционной цепочке и необходимостью срочного формирования новых структур, принятия регулирующих миграцию законодательных актов и формулирования миграционной политики. Осложняющим фактором является то, что большинство из них, как и Россия, одновременно граничат как с гораздо более, так и с гораздо менее развитыми странами.
В-четвертых, государства, испытавшие в последние десятилетия широкомасштабную элитную эмиграцию и ведущие активную работу по привлечению представителей зарубежной диаспоры к возвращению в страну или иным формам сотрудничества с ней. Среди них – Китай, Южная Корея, Индия, Тайвань.
В-пятых, государства, столкнувшиеся в последние десятилетия с взрывоподобным экономическим ростом и вынужденные стимулировать крупномасштабную трудовую иммиграцию – как элитную, так и низкоквалифицированную. Типичными представителями являются государства Персидского залива (однако можно упомянуть и Сингапур, и ряд других стран Юго-Восточной Азии, и даже европейских государств), для многих из которых следствием подобной политики стало формирование глубоких разломов в обществе между местными гражданами и преимущественно бесправными (а зачастую и нелегальными) иммигрантами. Значительное количество иммигрантов, отличающихся от коренного населения языком, религией и культурой, не обеспеченных базовыми социально-экономическими и политическими правами, создают ситуацию, описываемую в классической политологии как mutually reinforcing cleavages – идущих параллельно друг другу глубоких взаимно усиливающих разломов в обществе, когда принадлежность к одной общественной группе (социальной, религиозной, культурной, языковой и т.п.) предполагает принадлежность и к ряду других, усугубляя напряженность и вероятность конфликта в обществе. События последних лет в Бахрейне (да и в ряде развитых европейских стран, включая Францию), показали опасность сегрегации мигрантов и отказа от их эффективного включения в принимающие общества.
В большинстве стран этой группы ситуация еще более осложняется авторитарным характером политических систем и крайней слабостью гражданского общества. Между тем во многих из них мигранты уже давно составляют большинство (в частности, в ОАЭ их доля в населении – 84%, в Катаре – 74%, в Кувейте – 60%, а в Бахрейне – 55%).
И наконец, в-шестых, немаловажно изучение опыта стран, которые, испытывая серьезные демографические проблемы, продолжают по политическим и иным причинам сдерживать иммиграционные потоки (например, Японии, а до недавнего времени – и Южной Кореи) – даже ценой серьезных демографических и социально-экономических потерь.
Европейские миграционные реалии
Таким образом, многие миграционные проблемы России отнюдь не уникальны. С окончанием холодной войны отношение к проблемам мигрантов в целом и беженцев стало быстро меняться, в частности на Западе. Свобода иммиграции из коммунистических стран была одним из главных западных лозунгов в условиях блокового противостояния, и как въехать на Запад, так и получить статус беженца было относительно легко. Когда же с распадом коммунистического блока, а затем и СССР этот вопрос потерял политическое значение, а двери для выезда открылись, Запад быстро утратил интерес к данной проблеме, да и к судьбе большинства мигрантов, и нередко стал рассматривать их как обузу. Таким образом, либерализация режима эмиграции из России сопровождалась «закручиванием гаек» на Западе, затруднившим въезд в наиболее привлекательные страны.
Помимо окончания блокового противостояния немалую роль сыграли и внутренние трудности в странах Евросоюза – как социально-экономические (замедление темпов экономического роста и усиливающееся восприятие мигрантов как конкурентов и на рынке труда, и в сфере социальных услуг), так и политические (нарастание межэтнической напряженности и конфликты в ряде принимающих стран, приведшие, в частности, к быстрому росту влияния правых националистических партий).
В результате иммиграция в Евросоюз сократилась более чем вдвое уже в 1990-е гг. – с 1,5 млн до 680 тысяч. С усугублением экономических трудностей и нарастанием этнической напряженности во многих европейских странах ужесточаются требования жесткого ограничения иммиграции и переориентации миграционной политики на преимущественный прием высококвалифицированных специалистов в ущерб всем остальным категориям мигрантов, включая и беженцев. Бывший президент Франции Николя Саркози, в частности, говорил о необходимости перехода от «выстраданной» к «избранной» иммиграции. Европейские эксперты различают также «желательную» (высококвалифицированную трудовую) и «нежелательную» миграцию. В рамках «нежелательной» группы выделяются «неизбежные» (по сути нелегальные, преимущественно низкоквалифицированные) и «принимаемые вынужденно» мигранты – как те, кто пользуется правом на воссоединение семей, так и те, кто просит убежища.
Сегодня доля приезжающих в Европу по линии воссоединения семей составляет от 40 до 60% совокупного потока легальной иммиграции, достигая 70% во Франции – таким образом, претворение в жизнь планов по резкому увеличению доли «желательных» мигрантов может привести к серьезным структурным изменениям в миграционных потоках, негативно влияя на положение низкоквалифицированных мигрантов и беженцев.
По сути дела, с началом формирования Шенгенской зоны в 1990 г., принятием в 1997 г. Амстердамского договора и провозглашением в Тампере в 1999 г. цели создания зоны «свободы, безопасности и справедливости» Евросоюз все более ориентируется на формирование двух жестко очерченных миграционных режимов – свобода передвижения и создание единого рынка труда (отметим, что Великобритания и Ирландия воздержались от участия в Шенгенском процессе) при одновременном возведении высоких заградительных стен, отсекающих мигрантов нежелательных категорий или по крайней мере усложняющих их въезд в ЕС. Данные режимы нередко описываются как ориентированные на гарантирование прав (внутриевропейский) и обеспечение безопасности (внешний, запретительный). Они также характеризуются как, соответственно, «Европа без границ» и «Европейская крепость». Среди вводимых ограничений – откладывание на годы присоединения к Шенгену новых членов объединения и предъявление им строгих требований в реформе миграционного законодательства, включая введение жесткого пограничного режима с соседними странами, не являющимися членами Евросоюза; подписание с соседями ЕС договоров о реадмиссии; ужесточение критериев предоставления статуса беженца (включая, в частности, требование, чтобы запрос на статус беженца был сделан в первой же стране, где потенциальный беженец может оказаться), сокращение предоставляемых льгот и т. п.
Для России эти изменения весьма болезненны, поскольку повышают вероятность того, что мигранты, которые оказываются на ее территории по пути на Запад, могут вынужденно осесть здесь. Между тем Российская Федерация не только имеет протяженные и нередко плохо охраняемые границы, но и заключила договоры о безвизовом обмене со странами как постсоветского пространства, так и за его пределами. А многие государства, с которыми подписаны такие договоры, сами имеют плохо охраняемые границы и аналогичные договоры с третьими странами, что только усиливает нагрузку на российскую миграционную систему.
Специфика североамериканской ситуации
Особенно актуален и интересен опыт Соединенных Штатов, поскольку они являются центром крупнейшей миграционной системы мира. Немаловажны и многовековая история американской иммиграции, и тот факт, что в иммиграционном потоке в США сегодня доминируют представители одной этнической и религиозной группы – испаноговорящие латиноамериканцы (т. н. hispanics), что усиливает опасения относительно размывания этнорелигиозной идентичности населения. (Между тем данное обстоятельство показывает, насколько американская миграционная ситуация благоприятнее, чем в России и большинстве других принимающих стран, поскольку культурная дистанция между местным населением и большинством иммигрантов – христиан, говорящих на одном из основных европейских языков, – в Соединенных Штатах оказывается наименьшей.)
Иммигранты сегодня составляют более 1/8 части населения страны. При этом свыше 25 млн вовлечены в экономически активную деятельность. Иммиграция – важнейший фактор не только количественного роста, но и качественных изменений американского населения. Сегодня оно превышает 318 млн человек и продолжает расти, причем весьма высокими темпами. Ожидается, что к 2050 г. оно достигнет 438 миллионов.
Иммиграция обеспечивает приблизительно треть совокупного прироста населения и рассматривается как стимулятор экономической активности, обеспечивая экономику как низкооплачиваемой рабочей силой, так и высококвалифицированными специалистами (что означает и значительную экономию средств на их подготовку). Интересно, однако, что американская миграционная политика долго не делала особого акцента на квалификацию мигрантов, уделяя первоочередное внимание их этническому происхождению и странам исхода, чтобы сохранить высокую долю выходцев из Западной Европы (прежде всего на основе дискриминационных региональных квот, сформированных в начале ХХ в.).
Лишь после 1965 г., с принятием революционного Акта об иммиграционной реформе, США пересмотрели иммиграционную политику, открыв границы для выходцев из стран третьего мира и квалифицированных специалистов. Сегодня американская иммиграционная политика направлена на достижение следующих целей:
обеспечение стабильной демографической подпитки населения;
поддержание его этнического разнообразия;
обеспечение экономики рабочей силой разнообразных категорий и качества;
прием беженцев по политическим, религиозным, этническим и прочим гуманитарным мотивам;
стимулирование притока высококвалифицированных специалистов, облегчающего нагрузку на образовательную систему страны, сокращающего затраты на подготовку профессиональных элит и приносящего значительные доходы американским университетам и национальному бюджету;
широкомасштабную подготовку иностранных студентов в американских вузах, позволяющую осуществить отбор лучших кадров для предоставления им работы и постоянного жительства в США и стимулировать формирование проамериканских групп – носителей новой политической культуры и идеологии из тех, кто впоследствии вернется домой. Сегодня студенты-иностранцы и сотрудники-иммигранты составляют в Соединенных Штатах около половины академического персонала в сфере естественных наук.
Таким образом, миграционная политика США, направленная на решение внутренних социально-экономических и политических задач, одновременно является и важнейшим внешнеполитическим механизмом «мягкой силы». В России же обычно забывают, что как наличие русскоговорящих диаспор, так и местных пророссийских элит в других странах – важный потенциал политического и интеллектуального влияния.
И тем не менее сегодня миграционная политика США подвергается жесткой критике. В центре дискуссий – вопрос о нелегальной иммиграции. Спектр предлагаемых решений – от полной амнистии 11 млн нелегалов до их масштабной депортации. В результате глубоких расхождений между сторонниками противоположных подходов глубоких структурных реформ в миграционной сфере не было с 1986 г. (когда принят Акт об иммиграционной реформе и контроле и было амнистировано приблизительно 2,7 млн из находившихся в стране 6 млн нелегалов), и все президенты после Рейгана «ломали зубы», пытаясь предложить Конгрессу свои концепции миграционной реформы. Сегодня же даже само выражение «иммиграционная амнистия» стало бранным в американском политическом лексиконе.
Глубокая структурная реформа миграционной политики была одним из важнейших предвыборных обещаний и Барака Обамы, обеспечившим ему внушительную поддержку испаноязычных граждан, которые составляют сегодня уже более 10% электората (в 2012 г. за Обаму отдал голоса 71% этой группы избирателей, а за республиканца Митта Ромни – лишь 27%). Эта ситуация вынуждает республиканскую верхушку лихорадочно искать компромиссные решения, чтобы, несмотря на ожесточенное сопротивление консерваторов, поддержать некоторые аспекты миграционной реформы и вернуть поддержку хотя бы части «испаноязычного» электората. Тем не менее тот факт, что Обама так и не смог договориться с Конгрессом, привел к резкому снижению активности испаноязычных избирателей на выборах 2014 г., став одной из важнейших причин серьезного проигрыша Демократической партии.
Иммиграционная концепция Обамы включает как либеральные, так и достаточно жесткие ограничительные элементы (в частности, в годы его президентства было депортировано более 1,5 млн нелегалов). С точки зрения целей как демографической политики, так и нужд рынка рабочей силы особое значение имеет так называемый «Акт мечты» («Развитие, помощь и образование для малолетних мигрантов» – The DREAM Act). Его принятие обеспечило бы облегченное и ускоренное получение постоянного иммиграционного статуса, а потенциально – и гражданства теми молодыми (до 31 года) нелегалами, которые привезены в США детьми, не имеют серьезных проблем с законом, учатся в университетах или служат в американской армии.
Нежелание республиканского большинства в Палате представителей пойти на компромисс с Белым домом вынудило президента в 2012 г. сделать достаточно радикальный шаг – принять в обход Конгресса исполнительную директиву об «Отложенном действии в отношении тех, кто был привезен детьми» (Deferred Action for Childhood Arrivals), в основу которой положен «Акт мечты». Она отложила на два года депортацию около 800 тыс. молодых нелегалов, привезенных в страну детьми и отвечающих другим вышеупомянутым требованиям.
Сокрушительное поражение демократов на ноябрьских выборах еще снизило шансы на принятие Конгрессом нового миграционного законодательства, что вынудило президента 20 ноября 2014 г. подписать еще более радикальную исполнительную директиву, потенциально еще более осложняющую его отношения с законодательной властью. Помимо облегчения въезда в страну для высококвалифицированных специалистов, данный документ продлевает до трех лет срок отложенной депортации для почти 600 тыс. молодых людей, подпадавших под действие директивы 2012 г., и распространяет ее действие приблизительно еще на 300 тыс. нелегалов и 3,7 млн родителей иммигрантов – граждан или постоянных жителей Соединенных Штатов (при условии, что они могут документально подтвердить свое пребывание в стране по крайней мере с 1 января 2010 г., не вовлечены в серьезные нарушения закона и обязуются пройти соответствующие проверки, предоставить биометрическую информацию, а также оплатить регистрационные пошлины, сборы и налоги на все доходы, полученные за время пребывания в США). При этом директива не только откладывает их депортацию с возможностью дальнейшего продления нового статуса, но и позволяет получить разрешение на работу и карточку системы социального обеспечения. Тем не менее новый статус не дает возможности быстрого получения постоянного иммиграционного статуса и тем более гражданства – лица, подпадающие под действие исполнительной директивы, для этого вынуждены будут «встать в конец очереди». Выступая по телевидению 20 ноября, Обама подчеркивал, что его директива не является амнистией, а направлена на «вывод из тени» нелегалов, что, по его словам, важно как для повышения эффективности сбора налогов, так и обеспечения законности и правопорядка.
Между тем оппоненты президентской директивы не только протестуют против ее принятия в обход Конгресса, но и указывают, что она создает стимулы для формирования новых волн нелегальных мигрантов, также стремящихся к рождению детей, которые автоматически станут американскими гражданами, а также говорят о несправедливости этой меры по отношению к тем (включая квалифицированных специалистов), кто приезжает в США легально, но нередко вынужден десятилетиями ждать получения постоянного статуса или гражданства. И тем не менее даже в случае победы республиканского кандидата в президенты на выборах 2016 г. отмена этой директивы или отказ от ее продления три года спустя будут весьма болезненны с политической точки зрения, учитывая силу гражданского общества и стремительно растущую долю испаноязычных как в населении, так и в рядах американского электората.
Тем не менее придание данной директиве формы закона по-прежнему требует принятия соответствующего акта Конгрессом, обещая длительную и острую политическую борьбу в предстоящие годы. В случае нахождения компромисса долгосрочная президентская концепция иммиграционной реформы также предусматривает либерализацию визового режима для высококвалифицированных работников и предпринимателей, готовых вкладывать средства в экономику. Между тем вопросы приоритетов миграционной политики вызывают серьезные противоречия даже среди сторонников либерального подхода. В частности, имеют место трения между теми, кто поддерживает общее снятие ограничений с иммиграции и массовую легализацию незаконных мигрантов, и теми, кто предлагает радикальное увеличение квоты квалифицированных специалистов при одновременном резком сокращении числа лиц, прибывающих по линии воссоединения семей. Выразителем этого подхода является, в частности, политический обозреватель CNN и журнала Time, ученик Сэмюэла Хантингтона Фарид Закария.
Сегодня многие критики призывают США перейти на канадскую систему очков как основной принцип формирования миграционного потока и оценки «качества» потенциальных иммигрантов. Введенная в 1967 г., она дает значительные преимущества людям моложе 35 лет и тем, кто имеет ученые степени или профессиональную квалификацию высокого уровня (аналогичная система используется и в Австралии): 62% разрешений на постоянное жительство выдаются на основе квалификации (в США же – лишь 13%). Между тем в Канаде и эта система подвергается критике – как из-за того, что часто игнорирует гуманитарные аспекты иммиграции, так и потому, что недостаточно эффективно учитывает потребности рынка труда. В частности, правительства ряда провинций подчеркивают, что наиболее дефицитны сейчас профессии средней категории сложности, включая, например, средний и младший медицинский персонал, в то время как система очков дает преимущество наиболее квалифицированным и дорогостоящим кадрам. Вероятно, оптимальное решение находится где-то на полпути между канадской и американской моделями.
В целом же опыт и США, и Канады говорит прежде всего о значительной пользе миграции и о способности государства и общества интегрировать массы мигрантов, не подвергая опасности основы демократической власти.
Уроки зарубежного опыта и Россия
Очевидно, что российская миграционная ситуация характеризуется наличием значительных параллелей с другими ведущими странами иммиграции, а потому изучение зарубежного опыта и использование его положительных аспектов было бы весьма полезно. Специфика российской ситуации связана прежде всего с относительной новизной проблемы масштабной иммиграции и институциональной и психологической неготовностью государства и общества к притоку большого количества инокультурных мигрантов.
Опыт ведущих стран иммиграции показывает значение мигрантов для экономического, демографического и социального развития. Несмотря на многочисленные проблемы, этот опыт говорит и о способности государства и общества принять и интегрировать значительные массы мигрантов, не подвергая опасности основы демократической власти. Опасность представляет, правда, политика сегрегации, формирования этнических анклавов мигрантов, не имеющих возможности интегрироваться в принимающие общества.
Между тем текущая ситуация в России осложняется не только наличием миллионов политически бесправных и этнически, религиозно и культурно отличных от большинства принимающего населения мигрантов, но и слабостью и низкой эффективностью структур, призванных решать эти проблемы. Немаловажно в этом смысле положение неправительственных организаций, которые во всем мире играют важнейшую роль в оказании помощи мигрантам и беженцам. Особое значение имеют ограничения на деятельность зарубежных и международных НПО, введенные в последние годы, и необходимость регистрации в качестве «иностранных агентов» для организаций, получающих иностранное финансирование. Невелика в этой сфере и роль российских церковных организаций – между тем в США, например, церкви играют важнейшую роль в помощи мигрантам и беженцам, видя в них, в частности, потенциальных прихожан.
Эти обстоятельства не только сокращают спектр предоставляемых мигрантам услуг, но и создают дополнительную нагрузку на бюджет и государственные структуры. При этом и государство, и население весьма скептически относятся к проблемам мигрантов в целом и беженцев в частности. Наряду со слабостью гражданского общества, широко распространенными ксенофобскими настроениями это препятствует должному пониманию важности и серьезности миграционной проблематики, затмевает как стратегическую, так и человеческую составляющие вопроса. Между тем эффективная миграционная политика могла бы служить как механизмом решения многих социально-экономических и демографических проблем, так и средством социально-экономической стабилизации и развития приграничных стран и важнейшим механизмом «мягкой силы» России.

«Большая семерка» и БРИКС в мире после Крыма
Оливер Стункель
Ожидать ли противостояния?
Оливер Стункель – профессор международных отношений в Фонде Жетулио Варгаса (FGV) в Сан-Паулу, Бразилия.
Резюме Отказ БРИКС присоединиться к Западу и обеспечить изоляцию России можно считать победой Кремля. Но в целом страны объединения будут поддерживать Москву постольку, поскольку это не затрагивает их отношений с Западом.
Статья представляет собой несколько сокращенную версию материала, написанного по заказу Валдайского клуба и опубликованного в серии «Валдайских записок» в апреле 2015 года. Полный текст по-русски и по-английски со справочным аппаратом – http://valdaiclub.com/publication.
События 2014 г. вывели на первый план проблему кардинального расхождения позиций России и Запада по вопросам европейской безопасности и в целом баланса сил вблизи российских границ. Политические последствия будут ощущаться еще многие годы и предопределят сближение Москвы с такими быстроразвивающимися странами, как Китай, Индия, а также Бразилия, входящими в объединение БРИКС.
От экономики к политике
Принимая в июне 2009 г. первый саммит БРИК, президент России Дмитрий Медведев назвал Екатеринбург, где проходило мероприятие, «эпицентром мировой политики». Необходимость новых форматов взаимодействия ведущих развивающихся стран «очевидна», сказал Медведев. Реакция западных СМИ тогда сводилась к пренебрежению и неприятию. Вот что писал по этому поводу The Economist: «Этот отчаянный квартет явно не смог составить конкуренцию “Большой восьмерке” как экономический форум… Что действительно поражает, так это то, что четыре страны из аббревиатуры, придуманной главным экономистом Goldman Sachs, вообще решили встретиться, и то, что встреча прошла на таком высоком уровне».
Другие стали доказывать, что от объединения можно «ждать проблем». Профессор Принстонского университета Гарольд Джеймс сделал следующий прогноз: «Страны БРИК будут пытаться использовать демонстрацию силы, военного и стратегического влияния и авторитета для решения внутренних проблем. 1990-е гг., когда в течение непродолжительного периода сразу после завершения холодной войны казалось, что мир будет вечным, а вопросы власти канули в Лету, остались далеко позади. Многие обозреватели были поражены тем, насколько быстро трения возобновились. Хотя многие обвиняют в этом США, на самом деле эти трения связаны с формированием в международной политике новой логики».
Однако анализ действий стран БРИКС явно свидетельствует о том, что они гораздо больше стремятся к сохранению статус-кво, чем можно было бы подумать по их заявлениям. К примеру, призывы реформировать избирательную систему в МВФ вовсе не нацелены на подрыв Бреттон-Вудской системы. Напротив, БРИКС сыграл ключевую роль в обеспечении ее жизнеспособности. Президент Бразилии Лула да Сильва постоянно представлял МВФ в черном свете, но он же вносил средства в Фонд, тем самым его укрепляя. Таким образом, быстроразвивающиеся страны стремились не столько добиться нового баланса сил несиловыми методами, сколько присоединиться к клубу высокоразвитых. Иными словами, не раскачивать лодку, а сделать ее чуть более просторной.
Как отметил Медведев на саммите БРИК в 2009 г., необходимо «сделать более справедливым порядок принятия решений по самым актуальным вопросам международной, экономической и внешнеполитической повестки дня, а также по вопросам безопасности», а «саммит БРИК должен создать условия для такого нового мироустройства». Особый акцент был сделан на том, что необходимо покончить с негласной договоренностью между Соединенными Штатами и Европой о назначении глав Всемирного банка и директора-распорядителя МВФ, соответственно. Претенденты должны отбираться на основе «открытого, прозрачного и основанного на заслугах кандидата отбора». Страны БРИК продолжали в один голос повторять эту мысль в последующие годы, находя отклик во всех быстроразвивающихся странах.
Во время саммита 2009 г. президент Лула заявил: «Наши страны объединились, поскольку в последние годы мы демонстрировали высокие темпы экономического роста. С 2003 г. товарооборот вырос на 500%. Это объясняет, почему на нас сейчас приходится 65% мирового роста. Именно с нами связаны надежды на быстрое восстановление после глобальной рецессии. Страны БРИК играют все более важную роль в международных делах и готовы брать на себя ответственность пропорционально их положению в современном мире».
Демонстрация уверенности и стабильности на фоне глобального экономического хаоса имела особое значение, поскольку члены БРИК осознали, что существует вакуум лидерства. Экономика этих стран росла в 2006–2008 гг. в среднем на 10,7%, значительно превышая показатели развитых стран. В итоге одной из основных тем саммита стал вопрос о создании нового миропорядка, который находился бы в меньшей зависимости от Запада.
Тогда даже наиболее благожелательные наблюдатели не могли подумать, что БРИКС станет одной из наиболее авторитетных политических структур не-Запада. В конце 2010 г. приглашение присоединиться к группе получила Южная Африка, что сделало объединение еще более заметным и легитимным представителем быстроразвивающихся стран. При этом расширение состава не стало препятствием для выработки общих позиций. Напротив, на состоявшемся в 2011 г. первом саммите с участием Южной Африки удалось достичь даже большего, чем в ходе двух предыдущих форумов в 2009 и 2010 годах. В 2014 г. БРИКС создал совместный валютный резерв (Contingency Reserve Arrangement) и Банк развития, который должен начать функционировать в 2016 году.
Не меньшее удивление у многих вызвал отказ представителей объединения исключить Россию из «Большой двадцатки» после крымского кризиса. В конце марта 2014 г. министры иностранных дел БРИКС провели встречу в Гааге, в ходе которой приняли совместное заявление, выразив «озабоченность» словами министра иностранных дел Австралии Джулии Бишоп о том, что Путин может быть не допущен на саммит в ноябре. «Ни один член G20 не имеет права в одностороннем порядке определять ее деятельность и функции. Это вправе делать все члены G20», – говорилось в заявлении. Аналогичным образом поступили Бразилия, Индия и Китай, воздержавшись в ходе голосования по резолюции Генеральной ассамблеи ООН по осуждению действий России в отношении Украины, что также подорвало эффективность попыток Запада изолировать президента Путина. Наконец, ни один руководитель БРИКС не осуждал Россию за вторжение в Крым, ограничившись призывами к разрешению ситуации мирным путем. По итогам заседания было сказано, что «распространение недружественной риторики, санкций, ответных санкций, а также применение силы не способствует сбалансированному и мирному решению кризиса, соответствующему международному праву, в том числе целям и принципам, закрепленным в Уставе ООН». Кроме того, Китай, Бразилия, Индия и Южная Африка, а также еще 54 страны воздержались при голосовании по резолюции Генеральной ассамблеи ООН по осуждению крымского референдума.
Как отметил Закари Кек, поддержка России странами БРИКС была «полностью предсказуема», несмотря на расхождения между участниками объединения, а также «отсутствие общей цели» у таких разных и географически отдаленных друг от друга государств. «Страны БРИКС нередко пытались преодолеть внутренние расхождения на основе объединяющей их антизападной или как минимум постзападной позиции. В том, что это объединение выступило против попыток Запада изолировать одну из стран БРИКС, нет ничего удивительного».
Пожалуй, наиболее пророссийское заявление кого-либо из высокопоставленных чиновников крупной державы сделал советник по национальной безопасности Индии Менон Шившанкар, который признал наличие у Москвы «легитимных интересов» в Крыму. Индия четко дала понять, что не поддержит какие-либо «односторонние меры» против России, своего крупнейшего поставщика вооружений, отметив, что Россия играет важную роль в урегулировании проблем, связанных с Афганистаном, Ираном и Сирией.
Такая позиция стала сюрпризом для многих западных обозревателей, некоторые даже заговорили о формировании миропорядка, в основе которого лежит противоречие между странами «Большой семерки» и БРИКС. Действительно, связи внутри БРИКС, скорее всего, будут только крепнуть. Попытки же улучшить отношения между Россией и Западом осложняет тот факт, что их состояние – результат не сиюминутных противоречий или расхождений по конкретному политическому вопросу, а кардинального несогласия по вопросам архитектуры европейской безопасности и в целом влияния на соседние с Россией страны. Шансы на перезагрузку в отношениях невелики, разве что опасения экономического краха заставят российского лидера отступить. Но и в этом случае сближение не гарантировано. Даже если украинские власти достигнут перемирия с ополченцами, глубокое недоверие сохранится многие годы. Это сделает страны БРИКС ключевыми союзниками Москвы, незаменимыми для поддержания экономических и дипломатических связей России с остальным миром.
Диалектика отношения к Западу
Однако в реальности наверняка все будет сложнее, ведь оба объединения гораздо менее однородны, чем многие считают. «Большая семерка» пока проявляла относительное единство в том, что касается реагирования на действия России. Но европейские страны по экономическим причинам могут не поддержать Соединенные Штаты в том, что касается сохранения санкций надолго. Между участниками «Большой семерки» наблюдаются расхождения и по другим важным вопросам, включая урегулирование палестино-израильского конфликта, реформу Совета Безопасности ООН или события в Ливии в 2011 году. Сейчас мир в большей степени можно считать многополярным, и «Большая семерка» играет гораздо меньшую роль, чем двадцать лет назад, когда она могла диктовать международную повестку дня. Сейчас Запад в одиночку уже не может эффективно решить ни одну глобальную проблему.
Несмотря на отказ стран БРИКС критиковать Россию из-за крымского кризиса, у них есть существенные расхождения, что не позволяет им занимать общую позицию по многим вопросам. Например, хотя советники по национальной безопасности проводят ежегодные встречи, в рамках БРИКС пока не наблюдается углубления военного сотрудничества или проведения совместных учений наподобие инициатив в рамках ИБСА (Индия, Бразилия, Южная Африка). Ни Россия, ни Китай не высказывали явной поддержки притязаниям Индии и Бразилии на получение статуса постоянных членов Совета Безопасности ООН, а в случае более прямой конфронтации между Россией и Западом ни одна из стран БРИКС не станет открыто поддерживать Москву.
Чтобы понять, почему страны БРИКС отказались критиковать Москву, необходимо учитывать общий геополитический контекст. Нежелание осуждать Россию или добиваться ее изоляции связано не столько с самой позицией по присоединению Крыма к России, сколько со скептическим отношением к идее Запада о санкциях как адекватном способе наказания тех, кто, по его мнению, неправильно ведет себя на международной арене. Все страны БРИКС всегда выступали против санкций. Они осуждали введенное Соединенными Штатами экономическое эмбарго против Кубы. Не поддержали предложение об ужесточении экономических санкций против Ирана. Сравнительно недавно, в 1980-х гг., Конгресс США ввел санкции против Бразилии за обогащение урана и переработку ядерного топлива. Индия также оказалась в международной изоляции после проведения ядерных испытаний, а против Китая нередко направлены исходящие из Вашингтона заявления, да и эмбарго на поставку оружия действует с 1989 года. С точки зрения стран БРИКС, такие способы давления редко оказываются конструктивными.
Кроме того, события на Украине навевают воспоминания о селективной поддержке Западом демонстраций и переворотов в других странах. Западные лидеры часто критикуют государства БРИКС за снисходительное отношение к диктаторам, называя их безответственными участниками международной жизни, не желающими реагировать на угрозы демократии и правам человека. Однако в Бразилии, России, Индии, Китае и Южной Африке не забыли, что Запад быстро признавал лидеров, пришедших к власти в результате переворотов, в том числе в Венесуэле (2002), Гондурасе (2009) и Египте (2013), а также активно поддерживал власти, применявшие силу против участников протестного движения, например в Бахрейне. В таком контексте критика России означала бы поддержку Запада и его возможного участия в киевских событиях.
Страны БРИКС критически настроены по отношению к очевидным противоречиям современного миропорядка. Почему, спрашивают они, в 2003 г. никто не предлагал исключить из «Большой восьмерки» США, которые вторглись в Ирак, отлично понимая, что тем самым нарушают международное право, и даже пытались ввести своих союзников в заблуждение недостоверными данными о наличии в Ираке оружия массового уничтожения? Почему Иран стал страной-изгоем, тогда как к наличию у Израиля ядерного оружия относятся снисходительно? Почему Соединенные Штаты признали ядерную программу Индии, хотя она так и не подписала Договор о нераспространении? Почему систематические нарушения прав человека и отсутствие демократического правопорядка в странах, поддерживающих США, допустимы, а в других нет? По мнению обозревателей в странах БРИКС, такие двойные стандарты гораздо более вредны для международного порядка, чем политика России. Так, в глазах наиболее критически настроенных по отношению к Соединенным Штатам экспертов озабоченность Запада проблемой Крыма доказывает, что господствующие державы считают свою трактовку международного права истиной в последней инстанции и не осознают своего лицемерия. На вопрос о том, какая страна представляет наибольшую угрозу для международной стабильности, большинство государственных деятелей и обозревателей из стран БРИКС, специализирующихся на внешней политике, укажут не на Россию, Иран и Северную Корею, а на США.
Во время присоединения Россией Крыма чувство антиамериканизма, охватившее весь мир из-за шпионских скандалов с Агентством национальной безопасности, еще не пошло на спад. В результате поддержка позиции Соединенных Штатов представлялась для многих невыгодной по внутриполитическим соображениям. Особенно это относится к Бразилии, где решение США установить слежку за президентом Дилмой Русеф и, что еще более важно, за компанией Petrobras стало подтверждением мнения, что американские политики, выступая за соблюдение международного права и норм, сами не желают соблюдать их.
Отчасти позиция БРИКС по украинскому кризису объясняется стремлением развивающихся стран предусмотреть различные варианты развития событий. Для этого они стремятся сохранить отношения с Вашингтоном, поскольку миропорядок становится более сложным и многополярным, и необходимо поддерживать конструктивные отношения со всеми полюсами власти. И хотя державы БРИКС готовы обеспечить России определенную защиту и поддержку, поддерживать Москву они будут постольку, поскольку это не затрагивает их отношений с Западом.
«Семерка» сплоченнее
Политические события прошлого года могут способствовать укреплению и сплочению «Большой семерки», а также сделать отношения между западными странами более гармоничными, а их позицию – более решительной. Символом изменений станет саммит-2015 «Большой семерки» в германском Эльмау. Второй раз подряд в его работе не будет принимать участие Россия. Ангела Меркель, которая стала ключевой фигурой в выработке позиции Запада по отношению к России, попытается активизировать координацию макроэкономической политики в рамках «Большой семерки», а также способствовать выработке единой позиции по таким проблемам, как борьба с глобальными эпидемиями и обеспечение энергетической безопасности. «Большая семерка» не в состоянии самостоятельно решать глобальные проблемы, но взаимодействие в таком формате продолжается, встречи в верхах не теряют своей важности, и по некоторым вопросам западные страны еще долго будут придерживаться единой позиции. Вопреки очевидным ограничениям, которые были указаны ранее, «Большая семерка» остается влиятельной силой при условии единства ее участников, даже с учетом неминуемого снижения ее доли в мировом ВВП.
Темпы экономического роста в странах БРИКС в 2015 г. будут гораздо ниже, чем в 2009 году. По этому показателю Соединенные Штаты уже опережают Бразилию, Россию и Южную Африку. В этом смысле у развивающихся держав меньше возможностей, чем несколько лет назад, когда ведущие страны и институты переживали острый кризис легитимности, а государства БРИКС спасали мировую экономику от окончательного краха. В то же время ослабления организации ожидать не стоит. Переизбрание Дилмы Русеф на пост президента Бразилии было воспринято, например, российскими и индийскими СМИ как залог продолжения неспешного процесса институционализации объединения. Неясно, насколько ее главный оппонент Эсио Невес был бы в случае своего избрания привержен таким инициативам, как создание Банка развития БРИКС, который некоторые считают конкурентом западных институтов.
Источник: Статистические данные Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD)
Принцип, согласно которому участие в БРИКС приносит ощутимую выгоду практически без затрат, остается в силе. Но VII саммит может стать серьезным испытанием. Россия занимает все более антизападные позиции и может вынести на обсуждение форума вопросы, которые вызовут жесткую критику Запада. Например, предложить вывести Международную корпорацию по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) из ведения США и переподчинить ее Международному союзу электросвязи, действующему в рамках ООН. Китай эту идею поддерживает, но вряд ли на это пойдет Бразилия, учитывая ее активную позицию по этому вопросу на состоявшейся в Сан-Паулу в 2014 г. конференции NetMundial.
Россия может попытаться политизировать встречу лидеров БРИКС и по ряду других вопросов, а также использовать саммит как антизападную площадку, особенно если санкции не будут отменены к следующему году. Эта стратегия вызовет сопротивление других участников, которые не заинтересованы в том, чтобы занимать враждебную позицию по отношению к США. Бразильские политики будут следить за тем, чтобы в итоговой декларации не было слишком категоричных утверждений, препятствующих реализации главной цели Бразилии на 2015 год: улучшить изрядно пошатнувшиеся отношения с Соединенными Штатами.
В ряде других областей повторения сценария холодной войны, когда крупнейшие страны четко заявляли о поддержке одного из двух лагерей, ожидать не стоит, даже если отдаление России от Запада окажется длительным. Анализ товарооборота между странами БРИКС показывает, что для России полная ориентация на страны БРИКС вряд ли когда-нибудь станет реальностью.
К такому же выводу можно прийти на основе анализа данных по товарообороту Бразилии:
В то время как для Бразилии основным торговым партнером с 2009 г. является Китай, вклад других стран БРИКС в экономику страны ничтожно мал. И Соединенные Штаты, и Европа продолжают оказывать огромное влияние на экономику Бразилии, как и других стран БРИКС, включая Россию. Поэтому ни один член БРИКС не поддержит предложения, способные привести к введению против них экономических санкций наподобие тех, что действуют против России. Показательно и то, что страны «Большой семерки» смогли достичь определенного единства в том, что касается санкций против России, тогда как в Москве хорошо понимают, что не смогут убедить другие страны БРИКС присоединиться к контрсанкциям.
Источник: Статистические данные Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD)
И тем не менее саммит БРИКС останется ключевым элементом системы глобального управления вопреки стремлению Соединенных Штатов и Европы выставить это объединение несуразным и маловлиятельным. Даже если не удастся убедить другие страны БРИКС принять решения по управлению интернетом, саммит все равно будет успешным для Владимира Путина. Всего за несколько дней российский президент примет не только лидеров стран БРИКС, но и глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В то же время в ходе VII саммита могут появиться новости о создании Банка развития БРИКС, который должен начать функционировать.

Денис Мантуров: дело не только в курсе доллара и рубля – мы еще и патриоты.
Российская промышленность должна не просто замещать импортные товары, а работать на опережение, создать продукты, которые встанут в один ряд с лидерами мирового рынка, говорит министр промышленности Денис Мантуров. О новых разработках, патриотизме российских сотрудников западных компаний и о том, как можно обойти санкции, он рассказал в интервью ТАСС на борту самолета Sukhoi Superjet в административно-деловой модификации, которую российская делегация продемонстрировала потенциальным клиентам в Индии и Бахрейне.
– Как вы оцениваете результаты усилий по импортозамещению, которые предпринимались в последние месяцы?
– Программы по импортозамещению реализуются не в последние месяцы, просто сейчас они попали в информационное поле в силу известных событий. Но если вы обратите внимание на продукты, образцы промышленной продукции, которые сейчас выводятся на рынок, что является элементом импортозамещения, то увидите, что это просто невозможно сделать за несколько месяцев. Государственные программы, которые реализуются в течение двух с половиной лет, нацелены в первую очередь на создание локального продукта, что также является импортозамещением.
Но мы занимаемся не просто замещением импорта, мы стараемся создавать продукт с элементами опережения, поскольку просто догонять – это не самоцель. А создавать продукты, которые были бы конкурентны по своим характеристикам, лучше по отношению к зарубежным коллегам. Вот тогда мы достигаем цели. Поскольку если мы сегодня будем создавать продукцию, которая станет прямым аналогом поставляемой сегодня по импорту в Россию, то это, конечно, хорошо, но это лишь промежуточное, временное решение. Наша цель не догонять и не только идти в ногу, но и продвигаться вперед.
– Можете назвать какие-то примеры продуктов, которые через какое-то время появятся на рынке и которые могли бы стать в одном ряду с лидерами рынка, например с Apple?
– Вы берете для примера такие сегменты, в которых даже в советское время у нас не было ни технологий, ни компетенций. Давайте посмотрим на те отрасли промышленности, где у нас были достаточно уверенные позиции, в первую очередь это сегменты, связанные с обеспечением добычи углеводородов. Очень традиционный и достаточно логичный для нас сектор промышленности, где мы просто обязаны иметь конкурентоспособную продукцию.
У нас есть собственное сырье, и как раз здесь мы видим возможности для российских компаний с учетом определенных ограничений от западных производителей в части запрета на поставку технологий. Здесь открываются возможности для нашего производителя. И у нас большое количество разработок, которые требуют скорейшей коммерциализации. Многие из них лежат на полке, и наша задача достать их с этой условной полки и успешно коммерциализировать.
– Чьи это разработки?
– Разработки разных компаний. В основном в области судостроения, а также технологии разработки углеводородов и, соответственно, переработки и доставки. Все это неразрывно связано с морской техникой, и здесь тоже могут быть корректировки с учетом того, что это оборудование может быть использовано как на шельфе, так и на суше. В этом случае мы получим мультипликативный эффект.
Предприятиям, которые традиционно работают на производство техники и оборудования для эксплуатации скважин, по транспортировке газа и нефти исключительно на земле, мы дадим второе дыхание за счет трансфера технологий для шельфовых проектов. В связи с этим мы хотим несколько скорректировать государственную программу «Развитие судостроения на 2013–2030 годы», предусмотрев дополнительные мероприятия в направлении создания техники для освоения шельфовых месторождений.
– А о каких компаниях идет речь? Кто бы мог принять участие в этой программе?
– На самом деле большое количество компаний, в первую очередь производители отрасли нефтегазового машиностроения. Буквально несколько месяцев назад мы были во Владимирской области, в Гусь-Хрустальном. Там есть завод «Гусар», который специализируется на выпуске трубопроводной арматуры для нефтегазовой промышленности, и его продукция успешно используется на трубопроводах, предназначенных для транспортировки нефти, нефтепродуктов, природного газа, а также различных агрессивных сред, воды и водяного пара.
У «Гусара» есть деловой партнер – компания «Конар», которая производит опоры трубопроводов, фланцы, задвижки и прокладки, которые до этого приобретались полностью по импорту. «Конар» организовал на базе старого обанкротившегося завода в Челябинске совместное российско-итальянское предприятие, взял по более или менее комфортным ставкам кредит в ВТБ, и сегодня там работает сталелитейное производство, позволяющее получать свои крупногабаритные отливки из высококачественных углеродистых и нержавеющих марок стали, а не закупать импортные.
И сегодня «Конар» стал участником соглашения в числе нескольких других компаний, в том числе иностранных, с «Транснефтью» по организации полного цикла производства насосного оборудования на территории России в Челябинске. И это лишь один из примеров. Несмотря на то что правительства западных стран ввели определенные ограничения, бизнес все равно находит пути для сотрудничества и развития.
Российская промышленность должна быть абсолютно конкурентоспособной независимо от экономической ситуации. И сегодня при низком курсе рубля особенно актуальной становится помощь в коммерциализации наших российских разработок, в том числе с использованием зарубежных технологий и с участием иностранных партнеров.
– То есть западные предприятия нефтегазового машиностроения…
– …будут приходить и локализовывать свое производство и продукцию в России.
– И это позволит обойти санкции?
– Конечно.
Санкции санкциями, а бизнес все равно идет туда, где есть спрос
– Есть западные производители, которые готовы это делать?
– Да, уже есть. И продолжая тему импортозамещения, то же самое происходит в станкостроении. Немецко-японская компания DMG Mori Seiki строит в Ульяновске огромный завод по производству станков. Это говорит о том, что санкции санкциями, а бизнес все равно идет туда, где есть спрос на продукцию. Они создают инжиниринговый центр с привлечением наших специалистов и заинтересованы в разработке интеллектуальной собственности и возможности поставлять разработанные и произведенные в России станки еще и в третьи страны.
– То есть в режиме санкций продавать нельзя, а локализовывать производство можно?
– Локализовывать производство, по мнению правительств западных стран, тоже, наверное, нельзя, но что делать бизнесу в такой ситуации? Кто им компенсирует их потери? Правительство не компенсировало даже те выпадающие доходы и прибыли сельхозтоваропроизводителям западных компаний, на которые мы наложили санкции. Поэтому люди все вовремя поняли, и сегодня они заинтересованы в сотрудничестве. Мы поддерживаем эти связи.
– Производство нефтегазового оборудования для вас является одним из приоритетов из-за того, что России нужно поддерживать объемы добычи нефти, а для этого мы должны идти в Арктику?
– Знаете, сколько в компании Shlumberger работает российских людей? 14 тысяч. У нас много людей работают на иностранные компании в России и за рубежом. Они заинтересованы вернуться в страну и работать на нашу российскую промышленность.
И в этом заметную роль играет элемент патриотизма. В западных странах пока не понимают до конца психологию русских. Дело ведь не только в курсе доллара и рубля – мы еще и патриоты своей страны. Речь не идет о безрассудном ура-патриотизме, который затмевает здравый смысл и рациональные подходы к делу. По-моему, быть патриотом своей Родины – это, помимо прочего, значит искать и находить верные пути для взаимовыгодной кооперации с партнерами, создавать для этого правильные условия, всегда учитывая моральные и социальные аспекты, а также выгоду, которую несет это сотрудничество.
– В производстве нефтегазового машиностроения должен появиться национальный чемпион, крупная корпорация?
– Мы как раз были противниками, чтобы это был кто-то один. Нужно дать возможность частным компаниям скооперироваться и объединиться в нефтегазосервисные компании. И такая возможность и тенденция уже складывается. Это будет минимум пять-шесть компаний.
– Потенциальные клиенты – крупные нефтегазовые компании, часто жалуются на отечественное качество. Каким образом будете гарантировать качество?
– У того же завода в Гусь-Хрустальном, который я упоминал, трехлетний контракт с «Транснефтью», и их полностью устраивает и качество, и цена, и сроки. То же самое касается любых других компаний. Это и предприятие «Волгограднефтемаш», входящее в группу компаний «Стройгазмонтаж», это компания «Римера», которая имеет в разных регионах страны производственные площадки. Это и УВЗ «Нефтегазсервис» – «дочка» Уралвагонзавода, которая специализируется как раз на производстве и в том числе адаптации западных образцов промышленной продукции. Дело в том, что, если не будет конкурентоспособной цены, не будет конкурентоспособного продукта, соответственно, мы сами себя загоним в тупик. Поэтому здесь должны быть и цены конкурентные, и качество, и сроки поставки, и объемы.
– Участие наших новых партнеров из стран Азии, Юго-Восточной Азии, Индии, Персидского залива в этом проекте возможно в какой-то форме?
– Конечно, возможно. Мы не ограничиваем участие каких-либо стран, даже американские компании могут принимать участие. Сегодня по Boeing имеем совместное предприятие в Титановой долине в Свердловске. На это никто не налагал никаких санкций. Кроме того, сотрудничество в этой части очень выгодно и американским коллегам: 80% российского титана используется в производстве практически каждого Boeing. Это касается и Airbus, и Embraer.
– И все-таки продуктов в каких отраслях, кроме нефтегазового машиностроения, еще стоит ждать?
– Кроме этого, станки, машиностроение и фармацевтика. Причем последний сегмент, наверное, самый быстрорастущий, поскольку мы заложили очень хороший фундамент для того, чтобы не только развивались российские компании, но и локализовались иностранные, создавались новые лекарственные препараты и замещали импортную продукцию.
Я уже приводил в пример препарат ритуксимаб, который до этого приобретался только в рамках импортных поставок. Если сравнивать контракт Минздрава прошлого года и этого, то в 2013 году это было 8,9 млрд руб., в этом году – 5,9 млрд руб. То есть экономия 3 млрд руб.
Препарат вывела на рынок компания «Биокад», которая четыре года назад получила первую государственную субсидию на разработку этого лекарственного средства, вложив собственные деньги в создание мощностей по производству биотехнологических субстанций.
Как в рамках государственной поддержки, так и компаниями самостоятельно на рынок в ближайшие несколько лет будут выведены отечественные аналоги большинства лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
К концу 2014 года мы планируем достичь доли отечественных лекарственных препаратов на рынке в денежном выражении в 27%. Хочу заметить, что в натуральном выражении российские лекарственные препараты занимают 65%.
– А вы на законодательном уровне планируете определить, что такое российский продукт?
– По каждому сектору промышленности есть определенные требования, но невозможно фармацевтику, например, впрямую сравнивать с автопромом. Везде есть свои специфика и особенности. Хотя в большинстве секторов промышленности все равно есть какая-то схожая тенденция, чтобы локализация производства была на уровне не менее 50%. Где-то это в объемах, где-то в деньгах. Если мы говорим о фармацевтике, то это в первую очередь касается субстанций. Если мы говорим об автопроме, то говорим о добавленной стоимости, двигателях, о том, что является наиболее дорогостоящей составляющей в производстве, – о трансмиссии.
– Обязательные объемы государственных закупок вы планируете включать в локализационные соглашения?
– Что касается фармацевтики и медицинской техники, это как раз один из примеров, где мы сейчас отрабатываем пилоты решения о многолетних контрактах, как это было сделано Министерством обороны несколько лет назад по закупке нашей промышленной продукции.
Это дает возможность предприятиям планировать свои мощности, свои закупки, где-то оптимизировать, где-то наращивать мощности, обновлять основные фонды.
То же самое, например, и по фармацевтике и медицинской технике. Мы можем трансформировать опыт Минобороны при закупках Минздрава и субъектов Российской Федерации, поскольку сегодня по большому числу номенклатуры наших фармацевтических препаратов и медицинских изделий закупки отданы на откуп нашим субъектам.
И мы проводим такой диалог с регионами, чтобы сначала на уровне федерации, а потом на уровне субъектов внедрять многолетние контракты. Это даст стимул предприятиям промышленности максимально локализовывать и, соответственно, быстрее наращивать объемы производства.
– Включение отечественной продукции в государственные программы закупок станет частью многолетних контрактов?
– Скорее, многолетние контракты будут их элементом, потому что по разным государственным закупкам мы формируем разные механизмы.
Это будет целый комплекс мер поддержки, где-то прямой запрет, где-то нравоучения и рекомендации.
– На каком горизонте вы этот комплекс мер хотите выстроить? Это будет касаться всех подведомственных министерству секторов или только фармацевтики и медицинской техники?
– Нет, это касается всех секторов экономики. Это один мощный инструмент развития нашей промышленности. Я думаю, что если мы сохраним такую тенденцию, такой инструментарий на протяжении ближайших трех лет и не поменяем правила игры со стороны государства, то мы увидим просто колоссальный эффект в масштабах промышленности нашей страны.
– Продукцию с Украины, которая шла в том числе и для военно-промышленного комплекса, и для гражданской индустрии, с момента начала событий удалось заместить?
– Во-первых, начиная с 2008 года мы системно занимались этим вопросом. Сегодня у нас есть четкое понимание, что мы за два с половиной – максимум три года полностью заместим закупки комплектующих с Украины.
И если брать, например, вертолетные двигатели, то начиная с прошлого года все вертолетные двигатели для поставки Министерству обороны производятся на заводе имени Климова в Санкт-Петербурге.
Но при этом у нас есть гражданские поставки, есть поставки на экспорт. Здесь у нас нет никаких ограничений, и те объемы, которые требуются для вертолетчиков, закрываются нашими, я считаю, друзьями и партнерами с Украины – это предприятие «Мотор Сич».
Они как поставляли, так и поставляют эту продукцию, и никаких ограничений на сегодняшний день не вводилось в этой части, поскольку, как я уже сказал, Министерство обороны на военных заказах мы обеспечиваем с помощью производства завода имени Климова, а для гражданских секторов, для заказов за рубеж мы используем сегодня пока еще украинские.
Чтобы их заместить, требуется время, и мы на самом деле не хотим обезвоживать производство компании «Мотор Сич», потому что они традиционно годами, десятилетиями с нами очень дисциплинированно сотрудничали. Мы будем продолжать сотрудничество по разным модификациям. У нас же не только Ми-17, есть и Ми-26 на современных вертолетах, есть и гражданские самолеты Бе-200, которые используют двигатели Д-436, ряд других модификаций, в том числе вспомогательные силовые установки, которые поставляются с Украины для разных типов авиационной техники.
Что касается николаевского завода «Зоря»–«Машпроект», здесь у Украины достаточно странная позиция. Они наложили запрет на поставки для Министерства обороны России. То есть они просто ограничили собственное предприятие, которому продукцию девать, кроме как на поставки в Россию, просто некуда. Логика как минимум странная.
Мы с 2008 года системно занимались разработкой на «Сатурне» аналогичной по мощности продукции, но с лучшими характеристиками, и мы ведь не занимались импортозамещением. То есть мы сначала разработали новую модификацию, аналогичную газотурбинным установкам, которые мы закупали раньше у «Зоря»–«Машпроекта». Мы получили опытный образец еще в прошлом году, еще до всей этой ситуации с Украиной. И мы бы это сделали в любом случае. Просто сейчас мы сдвигаем сроки внедрения в производство, и через 2,5 года у нас будет суперсовременная продукция собственного производства на заводе «Сатурн».
Программа импортозамещения во многих случаях подразумевает замещение ряда узлов и деталей, что позволяет перейти на новую элементную базу.
Например, по вертолету Ми-26 есть технический проект по замене двигателя Д-136 на ПД-12, который проектируется на базе газогенератора двигателя пятого поколения. Применение современных технологий позволит улучшить характеристики по тяговооруженности, снижению удельного веса, увеличению ресурса в 2-2,5 раза.
Мы закупаем у Украины еще с советских времен менее значимые комплектующие и материалы: насосы, арматуру, трубопроводы. Замена этого на осваиваемые сейчас отечественные аналоги позволит улучшить и такую давно производимую продукцию, как двигатели РД-33, АЛ-31 и другие. То есть это не только замещение, это качественный рост.
В этом году мы опережаем график импортозамещения, и уже из общего объема образцов комплектующих, которые нам требуются, по 14 образцам мы уже завершили импортозамещение. Идем с небольшим опережением.
– Какие качественные и количественные цели у программы по импортозамещению?
– По каждой отрасли промышленности у нас есть конкретные индикаторы, которые мы должны достичь к определенному сроку. Мы говорим о 2020 годе. У нас стоит задача выйти на уровень присутствия на рынке собственных производителей в промышленности не менее 40%. То же самое у нас есть по каждому сегменту промышленности: например, по фармацевтике выйти на уровень обеспеченности рынка отечественной фармацевтической продукцией к 2020 году на 50%. Но при этом по жизненно важным лекарственным препаратам (ЖНВЛП) – на 90%. И я совершенно убежден, что мы эти индикаторы исполним, потому что уже сегодня мы идем с опережением.
То же самое по всем остальным отраслям промышленности. Есть четкие индикаторы, которые отражены в программе импортозамещения, утвержденной правительством, и уже в первом квартале должны быть переутверждены отраслевые подпрограммы с учетом изменения позиций, согласованных объемов производства, внедрения и локализации.
– Когда говорится про развитие промышленности и импортозамещение, то обычно говорят и про инструменты государственной поддержки. Следующий год ожидается достаточно жестким для бюджета. Как вы планируете совместить цели по государственной поддержке с возможными сокращениями расходов?
– Мы должны выстроить приоритеты по тем отраслям промышленности, которые в первую очередь ориентированы на программу импортозамещения. И обеспечить механизмы стимулирования, которые бы компенсировали негативные тенденции, которые складываются в мировой и российской экономике. Особенно это касается высокой процентной ставки по кредитам.
Поэтому мы будем переориентировать какие-то инструменты поддержки, в том числе внося коррективы в госпрограммы, в федерально-целевые программы, внепрограммные инструменты так, чтобы обеспечить сохранение тенденций и динамику наращивания объемов производства, модернизацию существующих производств в разных секторах промышленности, чтобы не снизить темп.
В частности, в Фонде развития промышленности мы совершенно точно сохраним процентную ставку, которую мы озвучили, и мы не изменим эти условия на 2015 год – это 5% годовых. То есть это останется льготным займом. Фонд будет осуществлять добанковское финансирование, поэтому в этом отношении фонд не является конкурентом банков. Основной целью Фонда развития промышленности станет финансовое обеспечение проектов, направленных на создание, завершение разработки и внедрение в производство новой высокотехнологичной конкурентоспособной промышленной продукции, в том числе направленной на импортозамещение и на разработку финансово-экономического, технико-экономического, проектно-инженерного и других видов анализа, экспертиз и обоснований, необходимых для дальнейшей реализации производственно-технологических проектов с привлечением банковского кредитования и средств частных инвесторов.
Мы не хотим создавать конкуренцию для коммерческих банков, эти займы ориентированы на обеспечение завершения опытно-конструкторских работ, обеспечение проектно-изыскательских работ, подготовку проектно-сметной документации и модернизацию существующих предприятий в части основных фондов.
Так же по запуску новых производств. Но когда мы говорим о запуске новых производств, мы должны за счет льготных займов дойти до стадии, на которой коммерческие банки уже без риска будут предоставлять кредиты по более льготным кредитным ставкам, что в том числе вместе с нашими субсидиями даст возможность продолжить коммерческий проект.
– Когда вы ожидаете первые сделки в Фонде развития промышленности?
– Проекты уже сейчас рассматриваются.
– Что рассматриваете?
– Несколько проектов, в том числе, кстати, в нефтегазовом секторе. Первые проекты, первые заявки уже стали поступать, и мы рассчитываем на то, что с учетом того, что уже на этой неделе первый взнос в размере около 20 млрд руб. поступает в Фонд развития промышленности, в первом квартале 2015 года мы до конца года должны будем принять решение по финансированию этих проектов.
– В проблемных секторах, в металлургии, например, вы разрабатываете новые меры поддержки?
– Если говорить о металлургии, то этот сектор промышленности сегодня как раз более или менее восстановился в объемах. Он, конечно, еще не вернулся к ценам 2007 года, но надо все-таки сказать, что 2007 год был переоценен. Поэтому объемы и цена должны быть всегда соразмерны друг к другу. Я думаю, что та положительная тенденция, которая сегодня сложилась в секторе черной металлургии, в частности, будет продолжать развиваться, поскольку заказы есть.
Была крупная стройка для Олимпиады. Она прошла. Сейчас набирают объемы и темпы новые строительные проекты, такие как подготовка к чемпионату мира по футболу. Будут появляться новые стройки, которые будут стимулировать развитие промышленности, металлообработки и металлургии.
К тому же это экспортно ориентированная отрасль, она также чутко реагирует на рынок и меняет номенклатуру, которая сегодня востребована на рынках. За последние десять лет эта отрасль очень сильно обновилась, были сделаны самые масштабные инвестиции, поэтому наши металлургические компании очень конкурентны на зарубежных рынках и чувствуют себя достаточно уверенно.
– Если смотреть на структуру отраслей, которые вы регулируете, в них заметна концентрация крупных государственных игроков. Вас эта структура устраивает? Или вы бы хотели ее поменять в сторону большей децентрализации – например, с помощью приватизации?
– Во-первых, что касается приватизации, наверное, когда-то наступит такой момент, когда мы увидим сильных игроков, заинтересованных в том, чтобы приобретать активы и акции наших предприятий. Особенно оборонно-промышленного комплекса, который заинтересован в инвестициях.
Мы сегодня готовим разные программы, которые должны, конечно же, пройти рассмотрение и утверждение на уровне правительства и президента, для того чтобы принять окончательные форматы привлечения инвестиций в этот сектор.
Мы видим перспективу развития среднего и малого бизнеса в секторе промышленности, особенно с учетом таких механизмов, как индустриальные парки. Это одна из таких площадок, где, как в инкубаторе, должны создаваться новые предприятия. У нас есть инструменты по поддержке индустриальных парков. В рамках закона о промышленной политике закладываются новые инструменты налогового характера.
Если говорить о крупном бизнесе, то опять же, возвращаясь к Фонду развития промышленности, крупный бизнес будет обеспечиваться льготными займами, в первую очередь по внедрению наилучших доступных технологий. Это был, собственно, один из консенсусов, к которому пришли наше ведомство и Минприроды, когда принималось решение о внесении изменения в экологическое законодательство, согласно которому наши предприятия должны отвечать новым экологическим стандартам.
В общей сложности на эти цели потребуется в ближайшие пять лет не менее 1 трлн руб. инвестиций, чтобы эти предприятия, которые будут получать новые технологии, смогли бы адаптироваться к тем стандартам, которые к ним будут применяться.
Для того чтобы привлекать такие средства, мы должны обеспечить комфортный переход для предприятий за счет займов для тех же научно-исследовательских разработок, чтобы потом уже передать это коммерческим банкам, институтам развития, потому что фонд, конечно же, не рассчитан на финансирование крупных проектов.
– Что вы считаете основным источником капитала для промышленности?
– Абсолютно все инструменты. Это и кредиты, и облигационные займы. Я думаю, что нынешняя нестабильная ситуация в экономике продлится недолго. К этому времени наши компании как раз подготовят новые проекты и появятся финансовые инструменты для их реализации.
Для чего мы сегодня летаем за рубеж? Для того чтобы привлекать иностранных инвесторов. Нас всегда сопровождает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), поскольку практически во всех странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Азии РФПИ уже сформировал совместные фонды, и это один из источников, причем очень мощный дополнительный финансовый рычаг, который мы получаем за счет привлечения новых партнеров. В Бахрейне, например, коллеги договорились о том, что местный суверенный фонд будет софинансировать практически все проекты РФПИ на 5%. Это серьезная подпитка. И мы эти деньги получили не от Запада, мы эти средства получаем от наших друзей с Ближнего Востока.
– Ваше министерство регулирует сектор розничной торговли. Сейчас идут разговоры про неизбежное повышение цен. Что будете делать?
– Во-первых, Минсельхоз сейчас активно стимулирует создание новых производств для того, чтобы обеспечить потребность наших потребителей в продукции по доступным ценам. Такие инструменты заложены в госпрограммы Минсельхоза. Второе: мы системно работаем с торговыми сетями и другими форматами торговли, в том числе нестационарной торговли, которую мы поддерживаем и будем активно поддерживать дальше.
Это ярмарочная деятельность и нестационарные рынки. Могу сказать, что если мы создадим правильные условия для доступа на внутренний рынок нашим сельхозтоваропроизводителям, то мы таким образом обеспечим конкретные цены на поставки конкретной продукции.
Если и товаропроизводители, и товаропроводящие сети будут нарушать тот благотворный режим, который сегодня сформирован, мы располагаем достаточно сильными инструментами воздействия за счет тех законодательных мер по заморозке цен на продукцию, где наблюдается рост свыше 30% в конкретно взятом регионе страны.
Такие примеры уже были: мы рассказывали и предупреждали коллег, и как-то все выравнивалось. Но если предупреждения не сработают, то мы просто применим законодательные меры, потому что на это у нас есть полное право. Мы будем формировать систему стимулирования и сдерживания.
Начиная с 8 августа мы ведем еженедельный мониторинг цен по всем регионам, и картина по всем направлениям и форматам торговли у нас есть абсолютно ясная.
– С ценниками в условных единицах что будете делать, если увидите?
– Я пока не видел этого. Если увижу, то будут приняты соответствующие меры – сначала рекомендательного характера, с последующими выводами. Уверяю вас, мы найдем решения, которые исключат такого рода манипуляции в торговых сетях.

Директор Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Сергей Вершинин выразил сомнение, что продажа нефти по низким ценам на черном рынке с месторождений в Ираке и Сирии, захваченных боевиками группировки "Исламское государство", играет существенную роль в падении цен на нефть, которые формируются на основе многих факторов.
Россия считает необходимым "поставить заслон" на пути использования нефти террористическими организациями как источника их финансирования, заявил в субботу в интервью РИА Новости директор Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Сергей Вершинин.
Он принимает участие в 10-м международном дискуссионном форуме "Манамский диалог", который открылся в пятницу в столице Бахрейна.
Вершинин выразил сомнение, что продажа нефти по низким ценам на черном рынке с месторождений в Ираке и Сирии, захваченных боевиками группировки "Исламское государство", играет существенную роль в падении цен на нефть, которые формируются на основе многих факторов.
Однако, отметил российский дипломат, "источники нелегального финансирования позволяют террористическим организациям существовать и вести преступную деятельность, поэтому нужно предпринимать усилия для прекращения подпитки террористов".
По его словам, Россия придерживается глобального подхода в вопросе недопущения использования нефтяных ресурсов террористическими организациями и ведет речь, в том числе в ООН, не только о Сирии и Ираке, но и о ливийском прецеденте.
Вершинин сообщил, что Россия предложила ООН идеи по пресечению финансирования террористических групп и получила ее одобрение.
Он высказался в поддержку усилий Бахрейна в этом направлении, который осенью организовал экспертное совещание в Манаме по борьбе с финансированием терроризма. "Мы не располагаем информацией о подготовке аналогичной конференции на министерском уровне, но такие усилия должны быть поддержаны", — заключил представитель МИД РФ.
Юлия Троицкая

Секрет успеха
Санкции против Ирана: чем определяется и обеспечивается их эффективность
Резюме: Санкции остаются политическим инструментом в длительном противостоянии с Ираном в стиле холодной войны. Это средняя позиция между согласием с иранской ядерной программой и применением военной силы.
Статья написана до смены президента в Иране и начала переговорного процесса по ядерной проблеме; опубликована в журнале Survival, №5 за 2011 год.
Иран все ближе подходит к созданию ядерного оружия в соответствии с принятой им программой, и страны, обеспокоенные такой перспективой, обратились к санкциям, посчитав их оптимальным политическим инструментом. Критики называют такой подход неразумным, поскольку не видят реальных признаков эффективности санкций, кроме осложнения жизни простых иранцев. […] Однако санкции ограничивают возможности Ирана быстро наращивать ядерный арсенал. Кроме того, создаются условия для урегулирования проблемы путем переговоров, если на них пойдет довольно непоследовательный Иран. В то же время различные меры могут быть предприняты отдельными компаниями и странами, что позволит подкрепить режим санкций.
Иранский режим
Исламская Республика Иран сталкивалась с санкциями с 4 ноября 1979 г., когда было захвачено посольство США в Тегеране и арестованы американские дипломаты. Хотя американский запрет на любую торговлю с Ираном был снят после освобождения заложников, в 1983 г. причастность Ирана к взрывам американского посольства и казарм морской пехоты в Бейруте привела к возобновлению ограничительных мер. В 1990-е гг. опасения по поводу ядерных амбиций Тегерана повлекли за собой дополнительные санкции США. Одновременно на Россию, Китай, Аргентину и другие страны было оказано давление с целью прекратить сделки по предоставлению ядерных технологий двойного назначения. Американский запрет на передачу Ирану материалов, которые могут быть использованы в военных целях, был выведен на многосторонний уровень благодаря деятельности Группы ядерных поставщиков. Но только в конце 2006 г. запрет приобрел всеобщий характер. Первоначальные санкции ООН против Ирана, наложенные в соответствии с резолюцией Совета Безопасности № 1737 от 27 декабря 2005 г., не произвели особого эффекта, однако они реально обязывали соблюдать запрет на содействие Ирану по программе обогащения урана и другим ключевым аспектам ядерных разработок. Согласно резолюции ООН, принятой ранее в том же году, продолжение Ираном работ по обогащению урана было объявлено нарушением международного права.
Резолюция № 1737 и четыре последующих резолюции ООН о санкциях были направлены в первую очередь против тех аспектов иранской ядерной и ракетной программ, которые имели отношение к материалам двойного назначения и должны были, по мнению ООН, быть приостановлены. Благодаря санкциям заморожены активы физических лиц и компаний, связанных с незаконными операциями, а также запрещена их коммерческая деятельность. ООН также разрешила государствам ограничить ряд финансовых операций, связанных с программами, но эти ограничения не носили обязательного характера.
Санкции ООН обеспечивают базу, позволяя обеспокоенным странам вводить собственные, более жесткие меры. Меры, принятые Евросоюзом в июле 2010 г., к примеру, сделали обязательным ограничение финансовых операций, включая страхование, перестрахование и транспортировку. Резолюция Совбеза ООН № 1929, принятая 9 июня 2010 г., дает возможность странам принимать подобные меры, если у них «достаточно оснований считать», что эта деятельность как-либо содействует осуществлению ядерной или ракетной программы Ирана. Поскольку множество иранских компаний напрямую или опосредованно вовлечены в поддержку этих незаконных программ, хотя обычно речь идет о незначительной части их бизнеса, найти подобные «разумные основания» нетрудно. В преамбуле резолюции № 1929 отмечается «потенциальная связь между доходами, которые Иран получает от энергетического сектора, и финансированием деятельности, связанной с распространением ядерного оружия», а оборудование и материалы, необходимые для нефтехимической индустрии, сродни тем, что требуются для ядерных разработок. В результате Евросоюз запретил новые инвестиции и передачу технологий в нефтегазовом секторе. Австралия, Канада, Япония, Южная Корея и некоторые другие страны приняли собственные меры, подкрепляющие санкции ООН. Даже Россия вышла за рамки дословного прочтения санкций ООН и отменила контракт на продажу зенитных ракетных комплексов С-300 – этот шаг, возможно, был самым значительным для Ирана из всех мер, принятых отдельными государствами.
Разумеется, санкции США наиболее обширны. В основном они экстерриториальны и нацелены против тех секторов иранской экономики, которые хотя бы косвенно связаны с ядерной или ракетной программами. Закон о всеобъемлющих санкциях в отношении Ирана, привлечении к ответственности и отчуждении (CISADA) распространил действие санкций на продукты нефтепереработки и широкий спектр финансовых операций. Еще до подписания закона в июле 2010 г. некоторые крупные нефтеперерабатывающие компании без особой огласки прекратили сотрудничество с Ираном. Серьезным ударом стало включение в американский «черный список» иранской национальной судоходной компании – Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL) вследствие перевозок запрещенных товаров. Санкции привели к лишению IRISL страхового покрытия и последующему задержанию по меньшей мере семи судов компании в Сингапуре и других международных портах.
Летом 2011 г. несколько крупных транспортных фирм прекратили деловые контакты с Ираном, после того как США включили в «черный список» Tidewater Ports – компанию, контролируемую Корпусом стражей исламской революции (КСИР). На долю компании приходится почти 90% всего иранского импорта. Это решение повлекло за собой побочный эффект, поскольку правительство совмещает обычный импорт и ввоз запрещенных товаров. По данным американской администрации, введение санкций было обусловлено тем, что Иран использует Tidewater Ports для экспорта вооружений и сопутствующих материалов в нарушение резолюций Совбеза ООН. Однако надо отметить, что даже в санкциях США, как и в санкционных режимах ООН и ЕС, существуют гуманитарные исключения, разрешающие лицензированный импорт американских продуктов питания и лекарств в Иран.
Санкции против Ирана, в особенности введенные ООН и ЕС, должны быть оковами, а не штрафом. Они не нацелены против всей иранской экономики. Они направлены на ограничение возможностей Ирана приобретать у других стран и импортировать материалы, которые могут использоваться в ядерной или ракетной программах, так как ООН настаивает на их сворачивании. Физические лица и компании, участвующие в этих незаконных программах или содействующие им прямо или косвенно, обеспечивая транспортировку, страхование или финансирование, тоже попали под санкции. Целью отнюдь не является лишение иранского народа права торговать и путешествовать. Однако обеспокоенные государства посчитали, что меры, закрывающие Ирану доступ к международной финансовой системе, страхованию перевозок и торговли – наилучший способ помешать нелегальной торговле, к которой все чаще стал прибегать Иран теперь, когда ни одна иностранная компания сознательно не будет содействовать запрещенным иранским программам. Хотя некоторые запрещенные товары по-прежнему доступны для Ирана на черном рынке, за них нужно платить признанной в мире валютой, а потом ввозить в страну на кораблях и самолетах, которые прошли лицензирование и застрахованы.
Санкции – грубый инструмент; никто и не скрывает, что от санкций страдают не только те физические лица и компании, против которых они направлены. Меры, касающиеся финансовых, транспортных и страховых услуг, действительно наказывают Иран и влияют на жизнь его граждан. Те, кто вводит санкции, надеются, что Иран осознает: цена, которую он платит за обогащение урана, слишком высока. Как только прекратится нелегальная деятельность, исчезнут и основания для санкций. Это подтверждают и последние предложения Запада по двойному замораживанию – приостановка работ по обогащению урана в обмен на приостановку санкций.
Нелишне еще раз отметить, что деятельность Ирана по ядерным и ракетным разработкам противозаконна. Хотя работы по обогащению урана и созданию баллистических ракет не запрещены Договором о нераспространении ядерного оружия, шесть резолюций Совета Безопасности ООН установили новые международные правовые рамки. Резолюции ООН основаны на заявлении МАГАТЭ о том, что Иран нарушил свои обязательства и поэтому его утверждениям о мирной направленности ядерной программы нельзя доверять. Право Ирана на развитие атомной энергетики не ставится под сомнение. Никто не говорит, что России не следует помогать Ирану с вводом в эксплуатацию АЭС или что реактор в Бушере не должен использоваться для производства электричества. Подлежат запрету лишь те аспекты ядерной программы, которые могут способствовать производству ядерного топлива для оружия массового поражения.
Если цель заключалась в том, чтобы остановить обогащение урана и выполнение ракетной программы, то санкции, очевидно, неэффективны. И такой масштабный результат вряд ли когда-нибудь будет достигнут. Обогащение урана очень тесно связано с концепцией суверенитета и чувством национального достоинства, чтобы какое-либо иранское руководство от него отказалось. Поэтому даже смена режима не решит проблему. Но Тегерану нет необходимости отказываться от своей ядерной программы, чтобы санкции были признаны успешными. Санкции призваны лишь способствовать замедлению программы, препятствуя приближению Ирана вплотную к получению ядерного оружия и провоцированию превентивного удара или нового витка ядерного распространения. Поэтому есть основания считать, что принятые меры уже соответствуют этому заниженному определению успеха, так как удалось ограничить его возможности импортировать товары, которые помогли бы ему быстро расширить производство обогащенного урана.
Влияние санкций на Иран
Конечно, иранская программа по обогащению урана не замедлилась. Иран с каждым месяцем демонстративно производит больше обогащенного урана, чем в 2010 г., хотя в мирных целях этот материал не используется. В мае 2010 г. средний уровень производства 13,5-процентного низкообогащенного урана составлял 120 кг в месяц. В мае 2011 г. средний объем производства составил 156 кг в месяц. Иран также задействует для этих целей большее число центрифуг: почти 6 тыс. в 2011 г. по сравнению с 4 тыс. в 2010 году. Еще 2 тыс. центрифуг введены в эксплуатацию, но пока не используются для обогащения урана. В июле 2011 г. Иран объявил о наращивании количества более мощных центрифуг. До этого исследовательские работы Ирана с моделями второго поколения (IR-2M и IR-4) ограничивались двумя каскадами по 20 центрифуг каждый, теперь это два полноценных каскада из 164 установок.
[…] Санкции помогли ограничить возможности Ирана задействовать большее количество новых центрифуг. И хотя иранские официальные лица заявляют о способности обеспечивать ядерную и ракетную программы собственными силами, факты свидетельствуют об обратном. Группа экспертов ООН, учрежденная согласно резолюции № 1929 (далее «группа экспертов»), в своем докладе в мае 2011 г. пришла к выводу, что Иран испытывает трудности с производством некоторых ключевых узлов и деталей, необходимых для поддержания и усовершенствования работ по обогащению урана на центрифугах. Речь идет об инверторах, регулирующих подачу энергии на быстро вращающиеся установки. Основу иранской программы по обогащению урана на центрифугах составляют пакистанские модели первого поколения, похищенные Абдул Кадир Ханом в Нидерландах. Они не отличаются высоким качеством, и у Ирана, по некоторым сведениям, нет возможности дополнить количество новых центрифуг сверх имеющихся 8 тысяч. Много лет Иран пытался разработать более эффективные и надежные агрегаты на базе пакистанской модели второго поколения, которые вращаются быстрее, и их роторы соответственно их весу должны изготавливаться из высокопрочного металла. Но Иран не обладает достаточными запасами мартенситной стали, которую использует для этой цели Пакистан. Поэтому иранские специалисты разработали модели с применением углеволокна, однако их возможности производить углеволокно также ограниченны, и два каскада из 164 центрифуг второго поколения – это предел на сегодняшний день.
В докладе группы экспертов ООН отмечается, что «санкции ограничивают способность Ирана приобретать товары, связанные с запрещенными ядерными и ракетными разработками, что замедляет осуществление этих программ». Вероятно, именно снижение темпов работы, а также промышленный саботаж позволили американским и израильским экспертам в своих оценках отодвинуть сроки изготовления иранской ядерной бомбы. В 2010 г. даже тогдашний глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи признал, что санкции осложняют программу обогащения урана.
Оценить влияние санкций на ракетную программу Ирана труднее из-за отсутствия режима международных инспекций, который по ядерной программе обеспечивает МАГАТЭ. Иранская ракетная программа зависит от иностранных поставок ряда ключевых материалов, в том числе двойного назначения. В частности, речь идет об алюминиевой пудре для производства твердого ракетного топлива. В сентябре 2010 г. в Сингапуре был задержан 16-тонный груз алюминиевой пудры, отправленный из Китая в Иран. В последнее время китайские власти ужесточили контроль за подобными нелегальными перевозками. Целенаправленные санкции вынуждают Иран постоянно менять поставщиков, что, в свою очередь, осложняет работу инженеров-ракетчиков.
Стремление Тегерана обойти санкции свидетельствует о том, что они оказались эффективными в том, что касается издержек Ирана от упущенных возможностей. Тегерану приходится в этом деле прибегать к все более сложным и инновационным приемам.
Корпус стражей исламской революции, одна из прямых мишеней санкций, все чаще обращается к третьей, четвертой или пятой стороне и вынужден создавать новые подставные компании, как только существующие компании разоблачают и вносят в «черный список». Иранские власти также взывают к персидской диаспоре о помощи или совете. После того как в июне 2010 г. ОАЭ и другие страны Персидского залива ужесточили контроль за бизнесом с Ираном, Тегеран стал чаще использовать порты Турции и Юго-Восточной Азии для перевалки грузов. Участие в такой торговле не проходит без последствий. Так, Анкара получила предупреждение от Группы по противодействию легализации преступных доходов по поводу расширения деловых контактов с Ираном в связи с рисками распространения ядерного оружия.
Наибольшее воздействие оказывают санкции, ограничивающие способность Ирана использовать международную финансовую систему, чтобы осуществлять незаконную торговлю. После того как в мае 2011 г. Евросоюз принял решение внести в санкционный список базирующийся в Гамбурге Европейско-иранский торговый банк, парижское отделение банка «Теджарат» осталось единственным финансовым учреждением в Европе, которое может использовать Иран. Бытует мнение, что финансовые ограничения особенно осложняют жизнь иранского бизнес-сообщества. Более того, они мешают Ирану финансировать торговлю на черном рынке в Европе. Несмотря на доходы от роста цен на нефть, Иран лишен возможности вести бизнес в долларах или евро. Поэтому он вынужден действовать посредством бартера. По данным на август 2011 г., более 20 млрд долларов иранских средств были блокированы на депозитных счетах в Китае, 3,4 млрд долларов – в Индии и почти 4 млрд долларов – в Южной Корее.
Санкции не ограничивают иранскую торговлю в целом – это не является их целью. Но они способствуют росту безработицы и инфляции; по данным иранского правительства, оба показателя составляют около 15%, на самом деле они скорее всего значительно выше. Иностранные резервы сокращаются, в экономике наблюдается перекос, так как законная торговля переходит в теневой сектор. Лидер оппозиции Мехди Карруби и другие утверждают, что КСИР может получать прибыль от санкций, используя свои рычаги, чтобы контролировать неофициальную торговлю. Но даже для Корпуса издержки существенно растут.
Однако в основном экономические проблемы Ирана обусловлены структурными слабостями и ошибками режима в управлении страной. Экономика находится под контролем государства и зависит от экспорта нефти и газа. Экономическому развитию препятствует широко распространенная коррупция и кумовство. Сегодня Иран занимает 171-е место из 179 по индексу экономической свободы фонда Heritage.
Трудности реализации санкций
На региональном семинаре, организованном авторами этой статьи в Дубае в мае 2011 г. при участии нескольких членов группы экспертов ООН, обсуждались проблемы реализации санкций и оптимальные практические решения.
Для шести членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) реализация санкций – настоящая головоломка ввиду их близкого соседства и интенсивной торговли с Ираном. В 2009 г. на долю Ирана приходилось 45% общего объема торговли стран ССАГПЗ. В 2010 г. товарооборот между Ираном и ОАЭ составил 10,4 млрд долларов, между Ираном и Бахрейном – 5 млрд долларов. Катар и Оман особенно тесно вовлечены в сферу разработки нефтегазовых запасов региона.
Помимо торговли, которая фигурирует в официальной статистике, огромный объем сделок с Ираном проходит без регистрации и не отслеживается. В финансовом секторе участились случаи применения старой практики «хавала» – неофициальной системы денежных переводов через анонимных брокеров. Отсутствие данных и трудности мониторинга «хавалы» вызывают опасения в связи с тем, что этот способ используется для нелегальной торговли и отмывания денег. В некоторых странах может потребоваться регулирование брокерских бирж «хавалы». Многослойная система проведения финансовых операций в регионе облегчает действия Ирана, который стремится обойти санкции. Это заставило Вашингтон расширить односторонние санкции в июне 2010 г. и изобличать любую компанию, которая ведет бизнес с банком или подставной фирмой, связанными с иранскими институтами, попавшими под санкции.
В транспортном секторе запутанная система грузоперевозок затрудняет отслеживание подозрительных грузов и судов. То, что Иран прибегает к услугам ранее неизвестных компаний, не вызывает никаких вопросов в индустрии грузоперевозок, в отличие от финансового сектора, где подозрительные подставные фирмы быстро вычисляются. Эффективная система мониторинга основана на введении в практику уникальных серийных номеров грузовых контейнеров, банковского идентификационного кода (БИК), имеющихся во всех странах ССАГПЗ. Но Иран научился обходить эту систему, пользуясь номерами и окраской контейнеров других компаний. Если регуляторы проверяют только номера, не обращая внимания на их уникальность, запрещенные товары идут дальше.
На уровне отдельных компаний негативные последствия для торговли в случае потери такого крупного клиента, как Иран, не способствует тщательному выполнению санкций. Чиновники и бизнесмены в странах Персидского залива также указывают на отсутствие прозрачности и обмена информацией как на одну из проблем осуществления санкций. Непонимание технических аспектов этих мер, возможно, из-за отсутствия необходимой подготовки также ведет к проблемам в соблюдении режима санкций. Язык санкционных мер, особенно разработанных в ООН в результате дипломатических уступок, очень трудно понять. Например, резолюции ООН призывают государства «быть бдительными» в отношении операций с участием иранских банков, в то время как Евросоюз и Вашингтон требуют выполнения мер «надлежащей комплексной проверки». Бизнесмены задают вопросы о значении этих требований и различиях между ними. Ответ такой: бдительность – это установка, отражающая общее отношение государства, а надлежащая проверка – это необходимый процесс оценки рисков ведения бизнеса с той или иной компанией, до того как отношения были официально оформлены.
Преодоление трудностей
Ключ к эффективной реализации режима санкций – их универсальность. Поэтому акцент должен ставиться на резолюциях ООН, которые применимы повсюду. Но принятие наиболее жестких мер в связи с санкциями ООН – дело добровольное. Когда главы государств ЕС решили в июле 2010 г. сделать свои санкции обязательными для всех отраслей, чиновники в Лондоне и Париже испытали подлинную эйфорию. Они получили от Брюсселя все, что хотели. Основа успеха – понимание всеми европейскими странами сути иранской ядерной угрозы. Многие развивающиеся страны, напротив, склонны предоставлять Ирану незаслуженный кредит доверия.
Эффективный поток информации также важен для реализации санкций. Чтобы санкции работали, частный сектор и правительства должны обмениваться содержательными данными о мерах, которые нужно принять, их состоянии и трудностях с выполнением. Учитывая часто практикуемое Ираном привлечение подставных компаний, правительства обязаны снабжать бизнес необходимой информацией о клиентах его клиентов. Обмен данными от порта к порту, от одного государства к другому и одной региональной организации к другой позволит властям выявлять и отслеживать схемы обхода санкций. Частному сектору проще обнаружить случаи уклонения от санкций и предложить способы противодействия.
Наконец, ключевое значение имеет сотрудничество между правительствами и ведомствами. Это позволит усовершенствовать процедуру санкций путем обсуждения идей и мер, выявления попыток уклонения от санкций и обмена разведданными. По этой причине члены ССАГПЗ стремятся отладить механизмы сотрудничества на внутреннем и международном уровнях. Например, в Бахрейне при Министерстве иностранных дел создан специальный комитет, объединяющий такие ведомства, как Центральный банк, таможенная служба, МВД и национальная служба безопасности.
Реализацию санкций в регионе уже удалось улучшить благодаря усовершенствованию системы мониторинга в некоторых странах. При содействии США ОАЭ ужесточили контроль, затруднив попытки Ирана использовать подставные компании. Около 500 иранских компаний были вынуждены прекратить свою деятельность в ОАЭ, а одной местной компании грозит серьезное уголовное наказание за продажу товаров, попавших под санкции. Санкции сказались и на местных бизнесменах, как они утверждают, поскольку банки отказываются проводить операции с участием Ирана. Укрепление режима санкций происходит и в Катаре, где финансовые регуляторы накопили огромный объем данных о подозрительных операциях. Центробанк страны требует, чтобы финансовые учреждения привлекали регуляторов к контролю за выполнением санкций и противодействию отмыванию денег. В регионе уже созданы структуры, необходимые для реализации санкций и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Следующий шаг – укрепление этих структур и разработка механизмов координации и сотрудничества.
Для эффективного воплощения санкций нужна мотивация сотрудников и вознаграждение компаний за соблюдение принятых мер. Успеха добиваются те компании и правительственные ведомства, которые включают выполнение санкций в регулярную оценку деятельности. Поэтому необходимо развивать культуру соблюдения принятых требований как внутри правительственных ведомств, так и в частном секторе. Соответствующую информацию необходимо доводить до сведения рядовых сотрудников, у которых должен выработаться инстинкт находить подозрительные товары, грузоперевозки и финансовые операции. Программы обучения призваны способствовать тренировке этого инстинкта, вместо того чтобы загружать сотрудников тонкостями новых правил. В то же время затронутые отрасли должны быть осведомлены о неотвратимости наказания за несоблюдение санкций и соответствующих последствиях для бизнеса. В долгосрочной перспективе репутационные риски и затраты времени и средств на защиту от обвинений должны стать непропорционально высокими. Личная ответственность за действия компании также может стать стимулом соблюдать санкции.
Санкции остаются, пусть и несовершенным, политическим инструментом в длительном противостоянии с Ираном в стиле холодной войны. В определенном смысле санкции – это стандартный выбор, удобная средняя позиция между принятием иранской ядерной программы и применением военной силы, чтобы ее остановить. Теоретически санкции в перспективе будут способствовать урегулированию проблемы путем переговоров: у иранских лидеров появится стимул задуматься о возможности компромисса, а у партнеров Тегерана по переговорам появится предмет для торга. Они могут быть сняты в ходе будущих переговоров или после них.
[…] США скорее всего продолжат усиливать давление на Иран, используя санкции. Другие страны могут принять собственные меры, хотя бы дополнив «черные списки» лиц, которым запрещен въезд на их территорию, или компаний, чьи активы заморожены. В любом случае «черные списки» ООН, Европы и США предстоит гармонизировать. Но есть основания не ограничиваться только административными мерами, чтобы ужесточить режим санкций в отношении Ирана. Работы по обогащению урана, которые стали поводом для введения нынешних санкций, продолжают вызывать беспокойство, поскольку Иран все еще может получить материал для ядерного оружия. Но МАГАТЭ также удалось собрать значительный объем сведений о работе по созданию ядерного оружия, которая предположительно велась после 2004 года. Эта информация, а также отказ Ирана объяснить эту деятельность, вызывают еще больше опасений.
Марк Фитцпатрик – директор программы разоружения и нераспространения ядерного оружия Международного института стратегических исследований (IISS), редактор недавно опубликованного досье «Северная Корея: оценка вызовов для безопасности».
Дина Эсфандиари – аналитик-исследователь и координатор проекта в рамках программы разоружения и нераспространения ядерного оружия IISS.

Конкурентное преимущество Америки в энергетике
Геополитические последствия сланцевой революции
Резюме: Из всех правительств, которые почувствуют на себе удар, больше всего потеряет Москва. Приток североамериканского газа даст европейским потребителям рычаг, который они используют, чтобы договариваться с российскими производителями о лучших условиях.
Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 2, 2014 год.
Всего пять лет назад казалось, что предложение нефти в мире достигло максимума. Поскольку добыча газа традиционным методом в США снизилась, складывалось впечатление, что страна попадет в зависимость от импорта дорогого природного газа. Однако прогнозы не сбылись. После того как по всему миру – от прибрежных вод Австралии, Бразилии, Африки и Средиземноморья до нефтеносных песков канадской провинции Альберта – были открыты запасы нетрадиционного газа и нефти, добыча энергоресурсов начала сдвигаться от привычных поставщиков в Евразии и на Ближнем Востоке. Однако самая большая революция произошла в Соединенных Штатах, где производители воспользовались двумя новыми эффективными технологиями добычи углеводородов, которые раньше считались недоступными: горизонтальное бурение, обеспечивающее глубокое подземное проникновение в сланцевые слои, и гидроразрыв пласта, при котором в горные породы под большим давлением нагнетается жидкость для высвобождения нефти и газа.
Результатом стал резкий рост производства энергии. С 2007 по 2012 гг. добыча сланцевого газа в США ежегодно увеличивалась на 50%, и его доля в общем производстве подпрыгнула с 5% до 39%. Терминалы, когда-то построенные для поставок американским потребителям сжиженного природного газа (СПГ) из-за рубежа, теперь переоснащаются для экспорта американского СПГ за границу. С 2007 по 2012 гг. гидроразрыв пласта также позволил увеличить в 18 раз добычу так называемой легкой, труднодоступной и высококачественной нефти, залежи которой находятся в сланцевых и известняковых породах. Этот бум обратил вспять длительную тенденцию к снижению добычи сырой нефти. Она выросла на 50% с 2008 по 2013 годы. Благодаря этой динамике Соединенные Штаты могут стать энергетической супердержавой. В прошлом году они обошли Россию, став крупнейшим в мире производителем энергоресурсов, а в следующем году, по прогнозам Международного энергетического агентства, опередят Саудовскую Аравию в качестве главного производителя сырой нефти.
В последнее время много пишут об обнаружении месторождений нефти и газа по всему миру; однако другим странам будет нелегко повторить успех Америки. Революция в области гидроразрыва потребовала большего, чем просто благоприятные геологические условия. Были нужны финансисты, готовые пойти на риск, определенный режим прав на собственность, который позволял землевладельцам претендовать на подземные ресурсы, необходимая сеть поставщиков услуг и транспортная инфраструктура, диверсификация промышленности, в структуре которой действуют тысячи предпринимателей, а не одна-единственная национальная нефтяная компания. Хотя многие страны имеют подходящие горные породы, ни одна из них, за исключением Канады, не может похвастаться такой же благоприятной индустриальной структурой, как США.
Американская энергетическая революция имеет не только коммерческие, но и далеко идущие геополитические последствия. Мировые карты торговли энергоресурсами уже пересматриваются, поскольку американский импорт продолжает снижаться, а экспортеры находят новые рынки сбыта. Например, большая часть южноафриканской нефти сегодня поставляется не в Соединенные Штаты, а в Азию. Рост добычи в США оказывает понижающее давление на мировые цены, лишая некоторые энергетические державы того козыря, который они использовали на протяжении многих десятилетий.
Большинство государств – производителей энергии, не имеющих диверсифицированной экономики, такие как Россия и монархии Персидского залива, будут терпеть убытки, тогда как потребители энергоресурсов, наподобие Китая, Индии и других стран Азии, окажутся в выигрыше. Но самую большую выгоду получат Соединенные Штаты. Начиная с 1971 г., когда нефтедобыча в США достигла пика, энергетика считалась стратегически уязвимым местом, поскольку постоянно растущая потребность в ископаемом топливе по разумным ценам иногда вынуждала Вашингтон идти на нелепые союзы и принимать на себя сложные обязательства. Но эту логику удалось обратить вспять, вновь открытые запасы энергоресурсов неизбежно дадут импульс экономике, и у американцев появится рычаг, который можно использовать в разных регионах мира.
Правильная цена
Хотя предсказывать будущее энергетических рынков всегда трудно, главное последствие североамериканской энергетической революции уже сейчас очевидно: мировое предложение энергоресурсов продолжит расти и диверсифицироваться. Первыми это прочувствовали рынки газа. В прошлом цены на газ существенно различались на трех основных рынках: в Северной Америке, Европе и Азии. Например, в 2012 г. газ в США стоил 3 доллара за миллион британских тепловых единиц (бте) (107,4 доллара за тысячу кубометров), тогда как немцы платили 11 (393,8 доллара), а японцы – 17 долларов (608,6 доллара).
Но по мере того как Соединенные Штаты расширяют экспорт СПГ, рынки будут все более целостными и сбалансированными. Инвесторы уже запросили одобрения правительства США на открытие более 20 новых мощностей для экспорта СПГ. Когда большинство терминалов построят, предложение СПГ на мировом рынке существенно возрастет. Австралия уже скоро опередит Катар, став крупнейшим поставщиком сжиженного газа в мире, а к 2020 г. Соединенные Штаты и Канада вместе смогут экспортировать примерно столько же СПГ, сколько сегодня Катар. Хотя объединение газовых рынков Северной Америки, Европы и Азии потребует многолетних инвестиций в инфраструктуру, и даже после этого вряд ли удастся добиться такой же степени интеграции, как на рынке нефти, в течение следующего десятилетия рост ликвидности окажет понижающее давление на цены в Европе и Азии.
Наиболее драматичное из возможных геополитических последствий энергетического бума в Северной Америке состоит в том, что он может привести к снижению цен на нефть на 20 или более процентов. Сегодня цена на нефть определяется в основном ОПЕК, которая регулирует уровень добычи в странах – членах этой организации. Когда случается неожиданный сбой в производстве, страны ОПЕК (в основном Саудовская Аравия) пытаются стабилизировать цены, наращивая добычу, что снижает объем незадействованных производственных мощностей в мире. Когда добыча падает более чем на два миллиона баррелей в день, рынок реагирует нервно, цены быстро растут. Когда резервные производственные мощности увеличивают добычу более чем на шесть миллионов баррелей в сутки, цены начинают падать. В последние пять лет члены ОПЕК пытаются уравновесить потребность в наполнении государственной казны и необходимость обеспечивать достаточно большие поставки нефти, позволяющие функционировать мировой экономике, и им удается удерживать цены в диапазоне 90–110 долларов за баррель. Но когда на рынок хлынет нефть из Северной Америки, способность ОПЕК контролировать мировые цены существенно снизится.
Согласно прогнозам Управления энергетической информации США, с 2012 по 2020 гг. американцы ежедневно будут добывать более трех миллионов баррелей новой нефти и другого жидкого топлива – прежде всего легкой, трудноизвлекаемой нефти. Эти объемы плюс новые поставки из Ирака и других стран способны вызвать кризис перепроизводства и падение цен, особенно с учетом снижения потребности в нефти по мере повышения энергоэффективности или в связи с замедлением экономического роста. В этом случае ОПЕК трудно будет поддерживать дисциплину в своих рядах, поскольку немногие захотят снижать объем добычи перед лицом растущих социальных запросов и политической неопределенности. Длительное снижение цен на нефть приведет к дефициту госбюджета стран ОПЕК.Победители и проигравшие
Если цены на нефть рухнут и останутся на низком уровне долгое время, все правительства мира, полагающиеся на доходы от углеводородов, окажутся в стесненном положении. Особенно непросто придется такРоссия в Евразии, Колумбия, Мексика и Венесуэла в Латинской Америке, Ангола и Ним странам, как Индонезия и Вьетнам в Азии, Казахстан и игерия в Африке, Иран, Ирак и Саудовская Аравия на Ближнем Востоке. Их способность выдерживать такое падение будет зависеть от того, как долго продлится эра низких цен и насколько гибкой окажется экономика. Даже при более умеренном снижении рост объемов поставок и их диверсификация выгодны потребителям во всем мире. Влияние государств, любящих использовать энергоносители во внешнеполитических целях, которые обычно противоречат интересам США, ослабеет.
Из всех правительств, которые почувствуют на себе удар, больше всего потеряет Москва. Хотя Россия обладает значительными месторождениями сланцевой нефти, которые она рано или поздно начнет осваивать, в краткосрочной перспективе глобальный сдвиг поставок ослабит страну. Приток североамериканского газа на рынок не сможет полностью освободить Европу от влияния России, поскольку она останется самым крупным поставщиком энергоресурсов на континенте. Но новые предложения дадут европейским потребителям рычаг, который они смогут использовать, чтобы договариваться с российскими производителями о лучших условиях, чем было возможно в 2010 и 2011 годах. Европа еще больше выиграет от этих перемен, если продолжит интеграцию своего рынка природного газа и построит больше терминалов для импорта СПГ. Таким образом она избежит кризисов вроде тех, что случились в 2006 и 2009 гг., когда Россия перекрывала поставки газа на Украину. Еще больше поможет Европе освоение ее собственных значительных запасов сланцевого газа.
Устойчивое падение цен на нефть может дестабилизировать российскую политическую систему. Даже при нынешнем уровне 100 долларов за баррель Кремль снизил официальный прогноз ежегодного роста экономики на следующее десятилетие до 1,8% и начал сокращать бюджетные расходы. Если цены продолжат падать, стабилизационный фонд вскоре иссякнет, что вынудит Москву пойти на драконовский секвестр государственного бюджета. Влияние президента Владимира Путина может снизиться, что создаст возможности его политическим оппонентам внутри России и ослабит позиции страны в мире.
Западу не стоит с радостью потирать руки при мысли о том, что Россия окажется в таком напряжении, ее ослабление вовсе не обязательно означает уменьшение числа вызовов. Москва уже пытается компенсировать потери в Европе повышением активности в Азии и на мировом рынке СПГ, и она активно возражает против попыток европейцев осваивать собственные энергоресурсы. Российские государственные СМИ, монополист «Газпром» и даже сам Путин предупреждают о негативных последствиях гидроразрыва пластов. Как писала The Guardian, «это довольно странно слышать от страны, которая всегда отодвигала вопросы экологии на задний план». Чтобы отговорить Европу от инвестиций в инфраструктуру, необходимую для импорта СПГ, Россия может предложить европейским потребителям более выгодные условия газовых поставок, как она предложила Украине в конце 2013 года. Но события могут развиваться еще более драматично. Если низкие цены на энергоресурсы приведут к ослаблению позиций Путина и усилению националистических сил, Россия попытается укрепить влияние в регионе более грубыми методами, вплоть до проецирования военной силы.
Производители энергоресурсов на Ближнем Востоке также утратят былое влияние. Особого внимания заслуживает Саудовская Аравия как неизменный регулятор резервных мощностей ОПЕК и региональный лидер. Страна уже сталкивается с растущим дефицитом бюджета. Эр-Рияд отреагировал на «арабскую весну» повышением государственных расходов внутри страны, предложением экономической помощи и гарантий безопасности суннитским режимам. В итоге, по данным Международного валютного фонда, после 2008 г. цена на нефть, позволяющая Королевству сводить бюджетный баланс, подскочила более чем на 40 долларов за баррель – почти до 90 долларов в 2014 году.
В то же время правительство испытывает давление чрезвычайно молодого населения, которое требует улучшения системы образования, здравоохранения, инфраструктуры и увеличения числа рабочих мест. А поскольку огромные внутренние потребности в энергоресурсах продолжают расти, при сохранении нынешней траектории развития примерно к 2020 г. страна начнет потреблять больше энергоресурсов, чем экспортирует. Эр-Рияд уже пытается диверсифицировать экономику. Но длительное снижение цен на нефть поставит под вопрос способность режима оказывать государственные услуги, на которых держится его легитимность. Другие ближневосточные государства, включая Алжир, Бахрейн, Ирак, Ливию и Йемен, уже прошли точку безубыточности в бюджетных расходах и фактически транжирят свои резервы и запасы.
Иран, сгибающийся под грузом экономических санкций и долгих лет плохого управления экономикой, может столкнуться с еще более серьезными вызовами. Страна занимает четвертое место в мире по добыче нефти и газа и зависит от продажи энергоносителей для проецирования влияния в регионе. Из всех стран – членов ОПЕК у Ирана самый высокий порог фискальной безубыточности: более 150 долларов за баррель. Хотя падение нефтяных цен может еще больше снизить легитимность режима и тем самым проложить путь для прихода к власти более умеренных лидеров, судьба недавно произошедших на Ближнем Востоке революций, а также этнический, религиозный и другие расколы в Иране не позволяют предаваться подобному оптимизму.
Для Мексики последствия менее понятны. С учетом снижения добычи нефти и сильной зависимости бюджета от нефтяных доходов страна может пострадать при падении цен на нефть. Прилагаемые в последнее время усилия по реформированию энергетики могли бы позволить Мексике увеличить добычу до уровня, позволяющего нивелировать влияние более низких цен на мировом рынке. Однако для этого правительству придется продолжить работу над законом о реформе, принятом в декабре прошлого года. Необходимо подготовить законодательство, которое будет больше благоприятствовать частным инвестициям в энергетику, включая вложения в разработку собственных сланцевых резервов и ускоренное реформирование государственной нефтяной компании «Пемекс».
В отличие от производителей, потребители должны приветствовать революцию в энергетике. Растущая добыча в Северной Америке уже стала своеобразной подушкой безопасности, обеспечив дополнительную добычу во время недавнего срыва поставок из Ливии, Нигерии и Южного Судана. Особым благом низкие цены на энергоресурсы станут для Китая и Индии, которые уже являются крупнейшими импортерами и, по данным Международного энергетического агентства, будут испытывать растущие потребности в импорте нефти. С 2012 по 2035 гг. у Китая запросы вырастут на 40%, а у Индии – на 55%. Поскольку две страны импортируют большую часть энергоресурсов с Ближнего Востока и из Африки, их заинтересованность в этих регионах будет расти.
Китай получит и другое преимущество: его отношения с Россией могут резко улучшиться. В течение нескольких десятилетий история и идеология мешали Москве и Пекину найти общие интересы, несмотря на очевидные выгоды, на которые могут рассчитывать в случае более тесного сотрудничества крупнейший в мире производитель энергоресурсов и крупнейший в мире их потребитель. Тем более что у них имеется общая граница протяженностью более четырех тысяч километров. Но по мере наращивания энергетического потенциала Северной Америки потребность в энергии развитого мира остается на одном уровне, а на развивающихся рынках Азии спрос продолжает расти, и в этих условиях Россия будет все больше стремиться застолбить твердые позиции на восточных рынках.
Москва и Пекин могли бы оживить сотрудничество по давно буксующим энергетическим сделкам, строительству трубопроводов, а также по вопросам разработки энергоресурсов Центральной Азии. Соответствующие договоренности способны стать фундаментом для расширения геополитических отношений, в которых Китай будет тем не менее иметь преимущество.
Для Индии и других стран Азии выгоды также не ограничатся лишь экономикой. Рост объемов нефти и газа, перевозимого через Южно-Китайское море, обеспечит общность интересов государств, стремящихся противодействовать пиратству и другим угрозам беспрепятственного потока поставок энергоресурсов. Это даст Китаю больше стимулов сотрудничать по вопросам безопасности. В то же время союзники США в Восточной Азии, такие как Япония, Филиппины и Южная Корея, получат возможность наращивать импорт энергоресурсов напрямую из Соединенных Штатов и Канады. Уверенность в североамериканских партнерах, в поставках нефти и СПГ по более коротким и прямым морским путям должна также успокоить эти страны.Преимущество США
Крупнейшим бенефициаром североамериканского энергетического бума, конечно, являются Соединенные Штаты. Первым прямым следствием станет постоянное создание новых рабочих мест и процветание энергетического сектора. Кроме того, поскольку американский газ – ?один из самых дешевых в мире, конкурентные преимущества получат отрасли промышленности, зависящие от газа в качестве исходного сырья, такие как нефтехимическая и сталелитейная. Энергетический бум также будет подстегивать инвестиции в инфраструктуру, строительство и сферу услуг. По оценкам Всемирного института Маккинзи, к 2020 г. нетрадиционная добыча нефти и газа может способствовать ежегодному росту американского ВВП на 2–4% или примерно на 380–690 млн долларов, а также появлению до 1,7 млн постоянных рабочих мест. Кроме того, поскольку на импорт энергоресурсов приходится более половины торгового дефицита в размере 720 млрд долларов, снижение импорта энергоресурсов улучшит сальдо торгового баланса США.
Уменьшение доли импорта не следует путать с полной энергетической самодостаточностью. Но неожиданная прибыль от продажи энергоресурсов позволит покончить с мышлением прошлого, когда считалось, что добыча углеводородов в Соединенных Штатах неуклонно снижается. Более того, конец зависимости от поставок энергоресурсов из-за рубежа, а также от стран-производителей, с которыми у Вашингтона нередко обострялись отношения, даст американцам большую степень свободы в реализации генеральной линии. Связи с мировыми рынками энергоресурсов останутся прочными. Любые серьезные перебои с поставками нефти на мировом рынке, например, будут влиять на цену бензина на автозаправках США и тормозить рост экономики.
Следовательно, Вашингтон сохранит заинтересованность в стабильности мировых рынков, особенно на Ближнем Востоке, где у Соединенных Штатов остаются стратегические интересы – борьба с терроризмом, противодействие распространению ядерного оружия и укрепление региональной безопасности для защиты союзников, таких как Израиль, а также обеспечение потока энергоресурсов. США по-прежнему нужно будет охранять как общемировое достояние основные морские пути, по которым проходят потоки энергоносителей и других товаров.
Однако многие этого не понимают. Американским политикам нужно начать объяснять как внутренней, так и зарубежной аудитории, что, хотя энергетический ландшафт меняется, национальные интересы остаются прежними. Открытие новых способов добычи нефти и газа не заставит Вашингтон прекратить взаимодействие с мировым энергохозяйством. Вне всякого сомнения, Соединенные Штаты останутся почти по всем меркам самой могущественной державой на планете. Однако им никогда не удастся обезопасить себя от потрясений в международной экономике, поэтому они продолжат участвовать во всех политических и экономических процессах. Эту истину должны усвоить прежде всего государства Ближнего Востока с учетом ухода Вашингтона из Ирака и Афганистана и объявленном смещении внешнеполитических приоритетов в направлении Азии.
Американским политикам также нужно будет позаботиться о защите источников энергетического благополучия. Хотя мотором преобразований, которые вызвали бум в энергетике, является частный сектор, его успех был бы невозможен без благоприятного правового режима и регулирования рынка. Политикам на уровне отдельных штатов и федеральным чиновникам придется найти сбалансированный ответ на законную озабоченность по поводу экологии и других рисков, связанных с гидроразрывом пластов, с одной стороны, и экономическими выгодами применения новых технологий – с другой.
Лидерам американской энергетики следует работать в тесном взаимодействии с властями для соблюдения стандартов прозрачности, защиты окружающей среды и безопасности, чтобы не подрывать общественного доверия к своей деятельности и учитывать все риски при разработке сланцевых ресурсов. И стране в целом придется обновлять и расширять энергетическую инфраструктуру, чтобы в полной мере использовать возможности добычи нефти и газа нетрадиционными методами. Эти преобразования потребуют значительных инвестиций в строительство и модификацию трубопроводов, железных дорог, барж и экспортных терминалов.Нефтегазовая дипломатия
Энергетический бум не только укрепит американскую экономику, но и позволит отточить инструменты внешней политики. Когда дело доходит до применения экономических санкций, диверсифицированные поставки энергоресурсов дают явные преимущества. Например, ввести беспрецедентные ограничения на экспорт иранской нефти было бы почти невозможно, если бы не возросло предложение углеводородов на североамериканском рынке. В отличие от санкций против Ирана, Ирака, Ливии и Судана, объявленных в недавнем прошлом во время глобального перепроизводства нефти, нынешние антииранские санкции были одобрены в период превышения спроса над предложением и высоких цен на нефть.
Вашингтону пришлось приложить неимоверные усилия для того, чтобы убедить страны, не желавшие применять столь строгие меры против Тегерана, что вывод иранской нефти с мирового рынка не приведет к скачку цен. Санкции, одобренные Конгрессом в декабре 2011 г., потребовали от американской администрации все тщательно перепроверить и удостовериться, что на мировом рынке достаточно нефти и можно попросить другие государства ограничить импорт.
Хотя Конгресс разрешил Белому дому в случае крайней необходимости временно снять эмбарго на поставки иранской нефти, к этому прибегать не пришлось благодаря неуклонному росту добычи легкой и трудноизвлекаемой нефти в США, которая компенсировала ежедневное изъятие более одного миллиона баррелей иранской нефти в соответствии с санкциями. Новая американская нефть позволила Вашингтону успокоить другие правительства по поводу резкого роста цен и благодаря этому добиться поддержки мировым сообществом жестких санкций. Они нанесли серьезный ущерб иранской экономике и подтолкнули Тегеран к столу переговоров. Если бы не было новых поставок американской нефти, санкции, скорее всего, никогда не были бы одобрены.
Возрождение энергетики также дает Соединенным Штатам новый рычаг на торговых переговорах, поскольку другие страны конкурируют за доступ к американскому СПГ. Вашингтон ведет переговоры о двух крупных многосторонних сделках: Трансатлантическом партнерстве по торговле и инвестициям (с 28 странами ЕС) и Транс-Тихоокеанском партнерстве (с 11 странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Канадой).
Когда речь заходит об экспорте СПГ, США автоматически дают добро на использование терминалов, предназначенных для поставки газа, странам, подписавшим с Вашингтоном соглашения о свободной торговле. Другие же государства должны пройти процедуру тщательной проверки с целью определения, отвечает ли такая торговля национальным интересам Соединенных Штатов.
Для многих стран Азии и Европы, которые хотят пополнить свою энергетическую смесь американским природным газом, достижение особого торгового статуса приобретает дополнительную ценность. По сути, это подтолкнуло Японию к участию в переговорах о присоединении к Транс-Тихоокеанскому партнерству. После катастрофы на «Фукусиме» пришлось временно вывести из эксплуатации всю инфраструктуру атомной энергетики, и страна остро нуждалась в газе.
Сдвиг в мировой энергетике также дает Вашингтону новый способ укрепления союзов. Многие страны теперь надеются последовать примеру США и начать разрабатывать нетрадиционные залежи газа и нефти на своей территории, и американское правительство начало использовать собственный опыт на дипломатическом фронте. Два проекта государственного департамента – Программа технического взаимодействия по нетрадиционному газу и Инициатива в области управления энергетическими мощностями – позволяют различным американским министерствам и ведомствам помогать другим странам (до сих пор это были небольшие развивающиеся государства) создавать собственную нефтегазовую индустрию.
Правительству необходимо расширять усилия и связывать их с более широкой стратегией, поддерживая, например, Польшу и Украину в их стремлении использовать имеющиеся сланцевые резервы. Новые добывающие мощности не только снизят риск конфликта по поводу скудных запасов, но также помогут государствам добывать и потреблять больше энергоресурсов, избегая влияния на климат, и при этом не жертвовать экономическим ростом, который им жизненно необходим. Вашингтону следует разъяснять, какая именно политика привела к буму на американской земле, и, если другие страны попросят, посоветовать, как создать аналогичный правовой режим.
Соединенным Штатам также нужно начать использовать свои новые энергоресурсы, чтобы не допустить запугивания союзников менее дружественными поставщиками. Рассматривая заявки на импорт американского СПГ и оценивая их значение для национальной безопасности, Министерство энергетики должно принимать во внимание, поддержат ли предлагаемые проекты союзников США. В первую очередь необходимо давать добро на поставки в такие страны, которым это поможет сопротивляться давлению России или других поставщиков. Американское правительство и его партнеры также должны поддерживать регулярно проводимые форумы, на которых встречаются специалисты из частного сектора и инвесторы, чтобы помочь другим государствам освоить сланцевые месторождения. Хотя подобный расширенный диалог между частным и государственным сектором не приведет к немедленному увеличению объемов добычи (даже при самых благоприятных условиях на это уходят годы), подобные консультации тем не менее демонстрируют солидарность Америки с другими странами, заинтересованными в обеспечении энергетической безопасности.
Американскому правительству также следует использовать накопленные знания по нетрадиционной энергетике для прямого взаимодействия с иностранными правительствами, особенно с Пекином. У Соединенных Штатов много общих интересов с Китаем. Обе страны потребляют значительные объемы энергии. Обе желают видеть стабильную и растущую мировую экономику, которая зависит от надежного потока энергоресурсов по разумным ценам, хотят минимизировать последствия для климата и стремятся к диверсификации поставок.
Подобное совпадение интересов двух главных потребителей энергии в мире создает условия для сотрудничества. В декабре США и Китай вновь подтвердили взаимную заинтересованность в «надежных энергетических рынках с адекватным предложением» и обсудили перспективы совместного освоения энергетических ресурсов Китая, в том числе месторождений сланцевого газа. Китайские компании уже вкладывают миллиарды долларов в разработку сланцевых залежей у себя на родине и в Соединенных Штатах. Но Вашингтону и Пекину следует ускорить прогресс на этом фронте, расширив стратегический и экономический диалог и включив в него вопрос о легкой и трудноизвлекаемой нефти. Необходимо выделять реальные ресурсы на разработку методов ответственного экспорта сланцевого газа и нефти без ущерба для окружающей среды. Если отношения между США и КНР улучшатся, обе стороны могли бы скоординировано работать с другими потребителями для усиления энергетической безопасности в мире – ?например, путем расширения операций против пиратства в районе Африканского Рога.
Наконец, сланцевая революция может подкрепить лидерство Вашингтона в борьбе с изменением климата. Предприятия, работающие на природном газе, выбрасывают на 40% меньше углерода, чем работающие на угле, и Соединенные Штаты сегодня достигают своих целей не в силу смелых решений Вашингтона, а просто благодаря тому, что экономика газа оказывается значительно более благоприятной, чем экономика угля. Начавшаяся тенденция к снижению эмиссии углекислого газа в атмосферу с территории США позволяет Вашингтону рассчитывать на более высокий уровень доверия к его инициативам на переговорах по климату. Белому дому следует использовать этот кредит доверия для ужесточения давления на страны, отказывающиеся снижать выбросы углерода.
Распространение сланцевой технологии может стать хорошей новостью для защитников климата еще и в другом смысле. Некоторые экологисты опасаются, что повсеместная замена угля газом, хотя и приведет к снижению выбросов в краткосрочной перспективе, позволит политикам отмахнуться от требования более масштабных реформ. Действительно, переход с угля на газ не решит полностью проблему, но позволит выиграть время для разработки и утверждения следующего поколения технологий и стратегий, а эти нововведения приведут к еще более резкому снижению вредных выбросов.Энергетика и влияние
Североамериканская энергетическая революция уже случилась, важность ее будет лишь расти, пока США приближаются к тому, чтобы стать чистым экспортером энергоресурсов. Произойдет это примерно в 2020 году. Сдвиг в мировых поставках будет выгоден странам-потребителям и приведет к размыванию власти традиционных производителей. Может снизиться привычная роль ОПЕК в качестве регулировщика мировых цен на энергоносители, поскольку этой организации вряд ли удастся предотвратить падение цен.
В свою очередь, сдвиг, вероятно, почувствуют все страны, бюджет которых зависит от продажи углеводородов. Даже без такого резкого падения цен продолжится трансформация мировых потоков энергоресурсов, а вместе с ними – экономических и геополитических связей. Тем временем Соединенные Штаты окажутся в уникальном и выгодном положении и воспользуются возможностями, которые связаны с этим сдвигом в мировой энергетике.
Энергетический бум подстегнет экономическое возрождение страны, а снижение зависимости от импорта энергоресурсов даст ей больше свободы и влияния на дипломатическом фронте. Это не станет ответом на все вызовы, которые стоят перед американскими стратегами: Вашингтону придется справляться с последствиями более чем десятилетней войны в Афганистане и Ираке, финансовой расточительности, слишком явными политическими пристрастиями по обе стороны Потомака, снижением доверия многих союзников после обнародования сведений о шпионаже США и в связи с усилением Китая. И все же эти проблемы, колоссальный нефтегазовый бум в сочетании с другими источниками военной, экономической и культурной силы должны в будущем усилить глобальное лидерство Америки, но только если Вашингтон защитит источники этой вновь обретенной силы у себя на родине и воспользуется новыми возможностями, чтобы отстоять свои постоянные интересы за рубежом.
Роберт Блэкуилл – старший научный сотрудник в Совете по внешним связям, специалист по внешней политике и помощник Генри Киссинджера. С 2001 по 2003 гг. он служил послом США в Индии, а в 2003–2004 гг. был помощником Советника по национальной безопасности, отвечая за стратегическое планирование. Служил в Совете национальной безопасности в администрации Джорджа Буша-младшего.

Неуловимая пятая модель
Почему демократии недостаточно
Резюме: В VII веке достижение консенсуса означало учет мнений мусульман, прежде всего мужчин. Сегодня консенсус в арабском мире должен охватывать не только религиозных приверженцев ислама, но и светских мусульман, представителей других конфессий и обязательно женщин. В этом заключается главный вызов тем, кто ищет модель нового устройства государств после «арабской весны».
Признаков того, что «арабская весна» идет на спад, не видно, до эндшпиля далеко. Спустя два с лишним года после того, как Мохаммед Буазизи, сам того не ведая, повсеместно воспламенил народные протесты, арабский мир и международное сообщество остаются в неведении, чем завершится противостояние. Некоторые примелькавшиеся лица исчезли, доминировавшие группы стали маргинальными, бесконечные политические дебаты обогатились новыми идеями. Повеяло свежим ветром, в первую очередь для молодежи – крупнейшего сегмента населения в большинстве арабских стран. Впрочем, у нее так и не возникло иных героев, которые пришли бы на смену презренным «пожизненным» правителям и диктаторам.
Образец для подражания не появился. Ни одно из государств, включая те, что избавились от авторитарных правителей, не предложило альтернативу модели долгого автократического правления, преобладавшей в регионе с начала деколонизации в 1950-е гг., а заложенной еще после распада Османской империи. Не только демонстранты, но и их вожаки не определились с тем, что считать приемлемым минимумом, гарантирующим сохранение политической стабильности, с одной стороны, и удовлетворяющим требования масс – с другой. Даже кудесник не в состоянии удовлетворить запросы всех групп населения. Существует ли вообще модель, которая устроила бы большинство населения в арабском мире?
Можно обрисовать четыре гипотетические альтернативы однопартийному правлению или власти диктатора. Для удобства определим их как алжирскую, иранскую, ливанскую и турецкую. Все они противоречивы либо неприемлемы для арабских условий. Следовательно, арабским странам придется искать ускользающую от понимания пятую модель консенсуса в обществе. Вместо того чтобы сосредоточивать внимание на западной схеме выборной демократии, нужно искать пути национального примирения. Только так удастся преодолеть нынешнюю смуту и предотвратить возможный крах экспериментов по обновлению национальных государств.
ТУРЕЦКАЯ МОДЕЛЬ
Наиболее очевидным следствием «арабской весны» стал рост влияния исламистов на Ближнем Востоке. Это побудило многих, особенно в Турции, предположить, что курс Партии справедливости и развития (ПСР) являет собой жизнеспособную модель. Сумев объединить ислам с современностью и прийти к власти демократическим путем, она трижды подряд победила на парламентских выборах с ноября 2002 г., что рассматривается как доказательство одобрения ее постулатов избирателями. ПСР также нацелена на то, чтобы избавить понятие «исламист» от негативных стереотипов, которыми его награждают на Западе. Следуя этой логике, каждый вправе спросить: если в Турции умеренная исламистская партия избирается демократическим путем, почему это невозможно у арабов?
Программы арабских исламистов и ПСР внешне мало отличаются. В Турции ПСР пытается «разбавить», если не изменить, светский кемалистский режим, опираясь на имеющиеся политические институты. Хотя многие соотечественники обвиняют партию в выхолащивании секулярной сущности общества, нельзя не признать, что кемализм был изначально недемократичным и никогда не пользовался поддержкой всего общества, да и не считал ее необходимой. Любая эрозия светского режима, чего добивается ПСР, потребует одобрения народа, и поэтому процесс будет более демократичным и умеренным. Но тернистым, в чем Реджеп Тайип Эрдоган убедился во время недавних выступлений на площади Таксим в Стамбуле.
Модель интересна, но неуниверсальна. Арабы – не турки, в этническом отношении и по темпераменту они – совсем другой народ. Исторический водораздел, усугубленный длительным владычеством Османской империи, заставляет арабских исламистов усомниться в целесообразности принятия турецкой модели. Еще существеннее то, что ПСР добилась успеха не в вакууме, а в политической среде, создававшейся на протяжении десятилетий со времен Кемаля Ататюрка. Усилия последнего по созданию современной Турецкой республики были направлены на разрыв с памятью об исламской Османской империи. Его стремление вестернизировать государство сопровождалось отказом, в частности, от такого наследия, как арабская вязь. Мощным напором и железной рукой Кемаль осуществил преобразования, используя военных как инструмент государственной власти.
Политику Кемаля продолжили его последователи. Благодаря вовлеченности в политический процесс армия играла роль не только хранительницы кемалистского наследия, но и самопровозглашенной защитницы светской республики, в которой 98% населения – мусульмане. Проведение в жизнь заветов Ататюрка, в свою очередь, привело к возникновению среднего класса, кровно заинтересованного не только в сохранении статус-кво, но в плюрализме и сосуществовании различных сил, что стало предпосылкой многопартийности. В прошлом кризисы приводили к вмешательству военных, но с конца 1990-х гг. Турция стала свидетелем другого явления. Упадок привычных политических объединений привел к росту популярности партий с исламистскими притязаниями – сначала Партии благоденствия, а затем ПСР, Эрдоган играл видную роль в обеих.
Словом, успех ПСР объясняется не только провалом светских политических организаций, но и созданием других институтов, необходимых для нормального политического процесса, таких как эффективный парламент, многопартийная система, разделение властей и профессиональная армия, охраняющая интересы государства. Основы, заложенные ранее, позволили сделать это довольно быстро.
В большинстве арабских стран подобных общественно-политических институтов нет. Во-первых, до «весны» массы населения не были знакомы с по-настоящему многопартийной выборной системой. До начала президентства Мухаммеда Мурси в Египте в июне 2012 г. покойный палестинский глава Ясир Арафат был единственным арабским лидером, избранным всенародным голосованием. Периодические президентские кампании в Египте, Сирии и Тунисе, например, являлись не чем иным, как фарсом. В избирательных бюллетенях фигурировал единственный кандидат – действующий президент. В некоторых случаях он никогда не набирал менее 98% законно отданных голосов.
Во-вторых, как это было в Иране до исламской революции 1979 г., мечети оставались единственным местом, где граждане могли собираться, обсуждать политические вопросы и участвовать в общественной деятельности без непрошеного государственного вмешательства. Не то чтобы мечети были местом свободного обмена мнениями – в большинстве случаев проповедники находились на содержании властей, за ними внимательно следили, их проповеди и деятельность контролировались. Однако других публичных политических площадок просто не существовало.
В-третьих, исламисты относятся к категории тех, кто пришел на все готовенькое. Они не были в первых рядах протестующих, хотя являлись главной мишенью авторитарных режимов. Например, на площади Тахрир их стали замечать лишь тогда, когда стало ясно, что дни Мубарака сочтены. Такая тенденция характерна и для других стран. Однако организационные навыки и обширные сети социального обеспечения исламских организаций оказались действенными, когда они все же решили окунуться в политику. Прошло совсем немного времени, как исламист стал главной альтернативой статус-кво.
Правда, арабским исламистам повезло меньше, чем их турецким собратьям. Они не только пытаются предложить иной политический порядок, но вынуждены делать это в отсутствии жизнеспособных общественно-политических институтов и системы сдержек и противовесов. Как показал пример президента Мурси, демократия не устанавливается приказами и посредством монополизации полномочий.
Арабские режимы были не только авторитарными и отчужденными от широких масс, но и в большинстве случаев династическими. И монархии, и республики стремились к преемственности в рамках правящих семей. Главным приоритетом правящих кланов всегда являлось не создание общественно-политических институтов, а обеспечение плавной передачи власти. Приверженность арабских исламистов демократии также подвергается серьезным сомнениям как в регионе, так и за его пределами. Многие подозревают их в том, что они намерены «дополнить» известный демократический принцип: один человек – один голос, но –только один раз. Даже в частных беседах видные лидеры не стремятся рассеять опасения по поводу их готовности признать и принять поражение на свободных и справедливых выборах. Единственный прецедент – выборы в Палестине – не воодушевляет. С начала 1990-х гг. воинственное палестинское движение ХАМАС не желало признавать легитимность Ясира Арафата и возглавляемые им политические институты, такие как ФАТХ, ООП и ПНА. После январских выборов 2006 г. к тотальному отрицанию итогов выборов прибегла уже ФАТХ, не признавшая победу ХАМАС. Причина разобщенности кроется не во внешних факторах, а в нежелании согласиться с волеизъявлением избирателей.
Отсутствие в арабском мире политических институтов – реальность политической системы, и по этой причине арабские исламисты едва ли могут пойти путем турецких единомышленников из Партии справедливости и развития.
ИРАНСКАЯ МОДЕЛЬ
Дата падения режима Мубарака, 11 февраля 2011 г., совпала с годовщиной победы революции в Иране. Даже если правители арабских стран не готовы подражать иранской модели, представляет ли исламская революция привлекательную альтернативу для масс?
Нельзя игнорировать основополагающую религиозную структуру иранского общества и арабских стран со всеми вытекающими последствиями. Исторически суннитский ислам предпочитает хаосу статус-кво. Приверженность стабильности и порядку порой заставляла суннитских богословов терпимо относиться к авторитарным и несправедливым правителям, поскольку больше всего они опасались того, что общество низвергнется в бездну хаоса и анархии. Напротив, шиитский ислам преподносит себя как силу сопротивления, стоящую на страже справедливости и равенства; поэтому по своей природе шиитский ислам не желает мириться со сложившимся положением. Наглядным примером служит движение «Хезболла» в Ливане.
В контексте «арабской весны» особенно наглядно проявилось суннитское стремление к порядку в противовес шиитским призывам к насильственному ниспровержению. «Братья-мусульмане» в Египте и движение «Ан-Нахда» в Тунисе отдают предпочтение постепенному переходу вместо насильственной трансформации. То же можно было сказать о Ливии и Сирии до того, как они погрузились в пучину гражданских войн.
Успех иранской модели предполагает присутствие харизматического лидера, который пользовался бы всеобщим уважением и обладал религиозным авторитетом. Таким был аятолла Хомейни. Но «арабская весна» – не тот случай. Ни в одной из стран у демонстрантов не было узнаваемой идеологической платформы, не говоря уже о лидере. Рассредоточение сил не дало возможности какой-либо конкретной группе или классу демонстрантов доминировать над толпой, но в этом заключалась и ее слабость. Без сильного лидера с религиозным весом арабские исламисты не смогут подражать Ирану.
Хомейни завоевал репутацию своим долгим противостоянием шаху в 1960-х гг., в арабском мире таких вождей нет. Деятельность большинства исламских богословов и учреждений финансировалась режимами. Клир и правоведов в Египте и Саудовской Аравии критикуют за то, что они низведены до уровня придатка государственного аппарата, а потому не пользуются уважением рядовых граждан. Многие улемы не желают создавать даже видимость того, что дистанцируются от правящего клана.
Более того, арабские власти не являются светскими ни в западном, ни в кемалистском понимании. Они скорее криптоисламистские, чем светские. Изображая себя оплотом сопротивления религиозному экстремизму, арабские правители зачастую без колебаний соглашаются с требованиями религиозно настроенной части общественности. Чтобы отвести от себя стрелы критики и доказать собственную легитимность, многие арабские правители объявили шариат источником всех законов в своих странах. Даже революционные режимы, ничтоже сумняшеся, ставят на высшие посты исключительно верующих и набожных мусульман. Иногда государство доходит до того, что пытается дать официальное определение правоверному мусульманину.
В Иране богословы смогли использовать народное негодование, клеймя верхушку за низкопоклонство перед Западом и, как следствие, за отчуждение от народа. Шах намного опережал свою эпоху и стремился преобразовать страну по западным лекалам, хотя делал необдуманные шаги, которые маргинализировали могущественных землевладельцев и настроили их против него. Арабский мир более разношерстный и подвержен разным культурным и социальным воздействиям. Например, в Тунисе ощущаются арабское, исламское, африканское, берберское и европейское влияние. То же можно сказать о многих других странах, широко взаимодействующих с внешним миром. С практической точки зрения это означает, что арабское общество куда больше пропитано секуляризмом, чем Иран в 1970-е годы. Например, готовность «Братьев-мусульман» в Египте и «Ан-Нахды» в Тунисе позиционировать себя в качестве умеренных сил в сравнении с салафитами-экстремистами означает признание того факта, что широкая общественность в этих странах не приемлет религиозных крайностей.
Отсутствие харизматичного лидера, традиционные предпочтения суннитов, выбирающих спокойную жизнь, длительное влияние внешнего мира и светский характер общества означают, что иранская модель здесь не подходит.
АЛЖИРСКАЯ МОДЕЛЬ
Она подразумевает активное военное вмешательство для предотвращения захвата государства исламистами и сохранения или восстановления светского порядка. Подобная реакция имела место в Алжире в 1991 г., когда стало понятно, что на выборах неминуемо побеждает Исламский фронт спасения.
Однако, к несчастью для армии, в арабских странах она всегда служила оплотом дискредитировавших себя республиканских режимов. То есть военные обеспечивали легитимность и выживание ненавистных народу властителей. Алжирская модель предполагала бы возвращение генералов в качестве главного арбитра, но именно этому и стремились положить конец демонстранты. Даже профессиональные армии в арабском мире не могут подменять собой государственные учреждения хотя бы потому, что не представляют интересы всех слоев населения. Арабская военная верхушка, как правило, олицетворяет собой отсутствие согласия в обществе, навязывание ему определенных правил. Если в Тунисе армия слаба, то в Ливии и Йемене она расколота по этническому и племенному принципу. Этот внутренний раскол во многом способствовал гражданской войне и продолжающемуся насилию.
В Сирии ситуация несколько иная, но нельзя сказать, что принципиально отличная. Сирийские вооруженные силы отражают состав правящей элиты, и доминирующее положение занимает алавитское меньшинство. В каком-то смысле продолжающееся насилие в Сирии – это прежде всего попытка алавитской армии Асада сохранить статус-кво. Личное и коллективное выживание Асада и алавитов тесно связаны.
Поскольку демографическая ситуация в Бахрейне складывается в пользу шиитов, правительство давно привлекает в вооруженные силы мусульман-суннитов, предлагая им гражданство. Так, после «арабской весны» армия Бахрейна пополнилась немалым числом выходцев из Пакистана. Богатые нефтью монархии Персидского залива обладают самыми современными вооружениями и арсеналами, но способность использовать их ограниченна. В критический момент, как это видно на примере кризиса в Кувейте 1990–1991 гг., выживание режимов зависит от внешних держав. Точно так же Саудовская Аравия вынуждена была прибегнуть к помощи элитных французских войск, чтобы положить конец осаде Великой мечети Кааба в Мекке, организованной Джухайманом Аль Утайби в ноябре 1979 года.
К тому же военный переворот, например в Алжире, отнюдь не обошелся без массового кровопролития, и в конечном итоге генералам пришлось отказаться от власти в пользу более приемлемого политического устройства. Алжирская модель может быть лишь временным решением, поскольку не решит ни одной из проблем, воспламенивших протесты на арабской улице. Большинство армий не являются сильным государственным институтом, их способность осуществлять институциональные перемены наподобие тех, что произвели турецкие военные, также ограниченна. В лучшем случае они смогли бы управлять временно, что в арабском контексте означало бы продолжение прежней политики. Кроме всего прочего, возвращение генералов разожжет народный протест, и тогда к нему активно присоединятся исламисты, которые начинают ощущать вкус власти благодаря волеизъявлению граждан на избирательных участках.
ЛИВАНСКАЯ МОДЕЛЬ
Тот факт, что «арабская весна» вывела на передний план разнообразные и соперничающие политические силы, привлекает внимание к «квотируемой» модели демократии в Ливане (ее еще называют консоциальной, когда в правительстве обязательно представлены все политические силы и этнические меньшинства). Несмотря на преобладание арабов и мусульман, арабский мир неоднороден. В нем наличествуют доисламские и немусульманские общины, проживают неарабские этносы. Даже если исключить три страны – Иран, Израиль и Турцию, – арабское большинство на Ближнем Востоке вынуждено искать общий язык с бедуинами, берберами, друзами и курдами. На религиозном фронте арабам-мусульманам приходится считаться не только с христианами и иудеями, но и с другими несуннитскими мусульманскими направлениями, такими как шииты, бахаисты, исмаилиты и т.д. Учесть интересы всех и каждого невозможно, но ливанская модель обеспечит большинству религиозных групп представительство, а также нечто вроде коллективного договора. Но есть четыре препятствующих фактора.
Во-первых, действующая в Ливане модель признает лишь три доминирующие группы: христиан, мусульман-суннитов и мусульман-шиитов, тогда как друзы, бахаисты и др. вынуждены присоединяться к одной из них, чтобы участвовать в управлении страной и в распределении богатства. В таких странах, как Сирия, с ее многочисленными религиозно-этническими группировками подобное привело бы к расчленению государства.
Во-вторых, курды проживают в Иране, Ираке, Сирии и Турции, и любая уступка курдскому меньшинству в одной стране может иметь далеко идущие последствия и подорвать стабильность в других. Курдские ирредентисты стремятся к воссоединению разрозненных частей исторической родины и образованию великого Курдистана, что усугубит все проблемы.
В-третьих, ливанская модель возникла не в одночасье. Желая, чтобы у христиан-маронитов была своя родина, французы создали Ливан (Маронитское государство), заодно усилив свои позиции на Ближнем Востоке. Для сохранения арабской идентичности Ливана выработан компромисс, в соответствии с которым марониты получили больше власти, впоследствии его закрепили. Распределение полномочий власти между тремя основными религиозными группами произошло после продолжительной борьбы и 15-летней кровавой междоусобицы. Аналогичный эксперимент в Ираке еще продолжается; страна расколота по деноминационным линиям. Хотя Ирак может гордиться тем, что выбрал первого в истории неарабского главу государства, общество раздроблено по религиозному признаку, и не видно конца насилию. Если будет выбрана подобная модель, ситуация в других странах может развиваться по аналогичному сценарию.
В-четвертых, новое устройство будет нуждаться в крепком политическом ядре, а зачастую и внешней поддержке. Как видно на примере Турции, сильный национальный лидер способен добиться консолидации ценой пренебрежения правами меньшинств. Ататюрк объединил и укрепил Турцию, но пожертвовал правами курдов. Сколько-нибудь выдающиеся арабские лидеры в поле зрения пока не попадали. Поэтому ливанская модель на практике означала бы активное и продолжительное внешнее вмешательство во имя государственного строительства. Сменить режим гораздо легче, чем трансформировать его, и ни одна держава или коалиция не пожелает взвалить на себя такую геркулесову ношу. Но без этого консоциальная модель не пустит корней или все пойдет по иракскому пути, и страны погрузятся в пучину хаоса.
ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД?
Чтобы «арабская весна» закончилась коренными изменениями, нужен не только демократический, но и по-настоящему представительный политический порядок. Западная разновидность выборной демократии может быть привлекательна для исламистов, особенно когда они добиваются всенародной поддержки на выборах. Даже если они не получают абсолютного большинства, вне всякого сомнения, после 2011 г. это доминирующая политическая сила. Благодаря расширенным сетям социального обеспечения, организационным навыкам и политической приспособляемости они сумели не только преподнести себя как альтернативу презираемым и свергнутым авторитарным режимам, но и усвоить демократическую риторику. Хотя их реальные планы до конца не ясны, исламисты разных мастей говорят о либерализме, демократии, универсализме и равенстве.
Приверженность духу демократии и электоральная популярность сделали их политически приемлемыми для Запада и других крупных игроков. Таким образом, поддержка на родине обеспечила им легитимность на международной арене, и они пришли надолго. Однако долгосрочная политическая программа окажется под вопросом, если они сочтут, что перевес 51:49 дает карт-бланш на трансформацию арабских обществ в исламистские.
Новым правителям Египта и Туниса приходится платить высокую цену за то, чтобы понять, что подобный курс приводит к конфронтации. Миллионы демонстрантов, собравшихся на площади Тахрир и в других местах, не стремились к замене одного диктаторского режима на другой. Многие граждане не позволят исламистам монополизировать их веру во всем ее многообразии. Идеологический авторитаризм гораздо опаснее власти военных: армия лишь борется за выживание, тогда как «братья» стремятся навязать всем определенные доктрины и подчинить их своему пониманию религии. Мубарака в последние дни его пребывания у власти стали именовать фараоном. Это оскорбительное прозвище как бы отсылало его в доисламскую и неисламскую эпоху «аль-Джахилии». Аналогичное оскорбление кое-кто уже адресует и Мурси.
Отказ арабских исламистов безоговорочно объявить о готовности прислушаться к всенародному протесту и общественному мнению – предмет главной обеспокоенности светских кругов. Чем больше арабские исламисты говорят о демократии и принятии их широкими массами, тем меньше им верят.
Чтобы заслужить доверие избирателей и одновременно остаться носителями духа «весны», арабской элите, включая исламистов, придется вступить на долгий и мучительный путь поиска и достижения консенсуса в обществе. Этот метод создает условия для более представительного общества, чем выборная демократия, поскольку учитывает интересы всех слоев и групп. Что еще важнее, путь – мусульманский по своей сути, поэтому никто не обвинит их в слепом подражании Западу. В VII веке лишь благодаря согласию были избраны четыре непосредственных преемника Пророка Мохаммеда. Только Абу Бакр, первый халиф, умер своей смертью, трех остальных зверски убили. Однако при выборе учитывалось мнение всех групп населения, поэтому в основе его лежал всеобщий консенсус. Не все остались довольны, и это посеяло первые семена раздора, а именно – привело к возникновению шиитского ислама.
Многие жаждут появления современного Саладина, который освободит мусульман. Но если легендарный курд был снисходителен к своим пленникам, особенно немусульманам, современная эпоха до сих пор порождала лишь автократов, которые были социалистами в том смысле, что одинаково жестоко обращались со всеми гражданами. Поиск и достижение консенсуса в обществе – модель, наиболее доступная для «арабской весны», особенно для новых исламистских лидеров, пришедших к власти на ее волне. На примере Ливии и Ирака мы видим, что любой другой подход, будь то демократический или авторитарный, ведет к тяжкой смуте.
Однако есть одно «но». В VII веке достижение консенсуса означало учет мнения и взглядов верующих мусульман, прежде всего мужчин. В современном контексте узкой социальной базы недостаточно. Согласие в арабском мире должно охватывать не только набожных, но и светских мусульман, представителей других конфессий и обязательно женщин. В этом реальный вызов для любого политика, ищущего модель, способную умиротворить арабский мир.
П.Р. Кумарасвами – профессор Университета имени Джавахарлала Неру, почетный директор Института Ближнего Востока в Дели.

Неиспользованные возможности
Арабские революции: какие стратегические вызовы они бросают Франции
Резюме: Хотя Франция была одним из главных действующих лиц в ливийском и сирийском конфликте, она забыла, что подход должен базироваться на общей стратегии и четких принципах.
Арабские революции зимы-весны 2011 г. стали полной неожиданностью для подавляющего большинства западных стран, включая Францию. Открытое сотрудничество с авторитарными режимами арабского мира долгое время не сулило ничего, кроме выгод. С точки зрения правительств Европы и США только диктаторы могли эффективно бороться с исламизмом, выступая гарантами западных интересов и стабильности в регионе. Поэтому потеря двух ближайших союзников, Зин эль-Абидина Бен Али и Хосни Мубарака, не могла не внушить Западу опасения. Действительно, с трудом верилось, что свергнутых диктаторов могут сменить столь же энергичные альтернативные лидеры. Создавалось впечатление, что стабильность и безопасность в регионе внезапно оказались под угрозой.
Подобные опасения не совсем рассеялись до сих пор. «Арабская весна» стала серьезным вызовом для всех держав, имеющих влияние в регионе, в том числе и для Франции. Париж в состоянии принять брошенный вызов, если сумеет пересмотреть стратегию решения возникающих проблем. Необходимо прояснить позицию по отношению к арабскому миру, направление эволюции которого по-прежнему не до конца ясно.
ФРАНЦИЯ И «АРАБСКАЯ ВЕСНА»: ОТСУТСТВИЕ ЕДИНОЙ РЕАКЦИИ
Падение первых двух президентов, ставших жертвами «арабской весны», стало для Парижа тяжелым ударом. Франция традиционно делала ставку на эти образчики умеренной политики и стабильности. На подавление главой Туниса Бен Али политических свобод и прав граждан предпочитали закрывать глаза, а что касается египетского лидера Мубарака, то именно Париж содействовал его назначению сопредседателем Средиземноморского союза. Чтобы привыкнуть к новым реалиям, Франции потребуется много времени. Но последствия первого шока удалось преодолеть, когда Париж выступил в пользу военного вмешательства в дела Ливии. Несмотря на все знаки внимания, которые Николя Саркози оказывал в прошлом своему коллеге Муаммару Каддафи, тот не оправдал ожиданий Франции в плане французских инвестиций. Поэтому для Елисейского дворца его уход обещал гораздо больше выгод, чем неприятностей.
Западные государства, а также примкнувшие к ним страны, наподобие Катара и Объединенных Арабских Эмиратов, поспешили взять курс на свержение Каддафи. Франция поддержала это начинание, хотя во главе операции в результате оказалась НАТО. Но приходится признать, что, избавившись от Каддафи, державы, которые, вмешавшись, взяли на себя обязательства относительно Ливии, не нашли времени для решения подлинных проблем страны. Их внимание приковано теперь к другой горячей точке региона – Сирии.
Нет сомнений, что Николя Саркози решил воспользоваться возможностями, которые открылись в арабском регионе, и компенсировать выжидательную позицию, занятую перед революциями в Тунисе и Египте. При этом он подчеркивал огромные прибыли, которые-де после падения Каддафи можно будет извлечь из дешевой ливийской нефти. Но главным следствием уничтожения диктатора оказалось погружение региона в хаос: отсутствие традиций выборов в арабских странах делает их будущее крайне неустойчивым. Ситуация в Ливии показала, что безопасность в этой части мира подвержена многочисленным угрозам, что не соответствовало обязательством по содействию стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, которые взяла на себя Франция.
Можно найти немало причин, толкнувших Саркози к разрыву с Каддафи. Среди них и задетое самолюбие. Во время визита ливийского лидера в Париж в декабре 2007 г. французский президент устроил ему очень теплый прием, однако Каддафи, в сущности, проигнорировал его предложения о сотрудничестве. Он даже не побоялся раскритиковать продвигаемый Францией проект Средиземноморского союза и объявить ему бойкот. Поэтому Франция не видела причин не участвовать в операции, которая могла бы придать ей статус союзника ливийцев, протестовавших против режима. «Освобождение» Ливии должно было открыть Парижу доступ к нефтяным месторождениям и к участию в восстановлении страны, сулящему немалые доходы. Проявив инициативу, Саркози, как казалось, обошел даже самих американцев. Подобное положение дел не ново. После прихода к власти в 2007 г. французский президент также проявил бÓльшую жесткость относительно «ядерной программы» Ирана, чем администрация Джорджа Буша.
Однако в ливийском случае Соединенные Штаты решили вернуть себе пальму первенства. Они приняли участие в разработке стратегии борьбы с Каддафи, а затем передали эстафету НАТО. Франция отошла на второй план. Кстати, что касается широко обсуждавшейся роли французского интеллектуала Бернара-Анри Леви в решении Саркози разыграть военную карту, то она кажется сильно преувеличенной. В противном случае бывший французский президент прислушался бы к рекомендациям этого философа и по сирийскому вопросу.
Ливийская акция значительно осложнила ситуацию с безопасностью в регионе. Вскоре после свержения Каддафи возрос поток мигрантов в соседние страны (прежде всего в Египет и Тунис), равно как и обратное движение в сторону Ливии; люди, желающие покинуть зону нестабильности, пытались воспользоваться царящим вокруг хаосом, чтобы достичь Европы. Одновременно с этим на юге страны, где еще при Каддафи процветала нелегальная торговля и контрабанда, утвердились вооруженные исламисты, способные перемещаться и в другие страны-соседи. Эхо ливийских событий отзывается не только в Египте, но и в Республике Мали.
Как бы то ни было, «арабская весна» продемонстрировала стремление Франции занять ведущую позицию среди государств, имеющих интересы в этой части мира. Идея о вмешательстве в ливийские дела активно продвигалась Саркози, пока ему не пришлось согласиться на коллективную стратегию и признать главенство НАТО (то есть Соединенных Штатов). К тому же обстоятельства, сопровождавшие преобразования в Ливии, показали, что Франция отдает предпочтение связям и действиям, которые подчеркивают ее роль. Вовсе не стремясь отмежеваться от Европейского союза, Франция проводила собственную политику, и точно так же она поступала во время сирийских событий, когда постаралась направить в нужное ей русло деятельность Сирийского национального совета (СНС), оппозиционного режиму Башара Асада. Но такая стратегия не позволяет увидеть ясные перспективы в новой политике Франции в отношении Ближнего Востока.
Особая заинтересованность сирийским вопросом Франсуа Олланда и его министра иностранных дел свидетельствует об их преемственности курсу Николя Саркози и Алена Жюппе: поддержка оппозиции, осуждение репрессий Асада, стремление урегулировать ситуацию – одинаково приоритетные задачи для обоих президентов.
Тем не менее Олланд стремится подчеркнуть свое отличие от предшественника в сирийском вопросе. Вопреки официальным заявлениям, Париж стал одним из первых активных союзников вооруженной сирийской оппозиции. Больше того: первый председатель СНС Бурхан Гальюн и его официальная представительница Басма Кодмани не один десяток лет жили во Франции. Подчеркивая роль и значение СНС, выражая поддержку его действиям, Париж делал ставку на альтернативу Асаду в расчете на влияние, которое сможет оказывать на политику Сирии после его падения.
Но этим надеждам не суждено было сбыться. Совет запутался в противоречиях. Хуже того, он, в сущности, перестал представлять кого-либо, кроме самого себя. В Национальной коалиции Сирии, пришедшей ему на смену, Франция пользуется меньшим авторитетом. Однако это не заставит Париж отказаться от попыток подчеркнуть свой интерес: именно Коалиции позволено назначить сирийского посла. К этому можно добавить недавно принятое обязательство оказывать вооруженным отрядам оппозиции помощь в материально-техническом обеспечении. Франция явно склонна считать, что особые отношения, которые установились у нее с Ливаном, точнее с частью политического класса этого государства, в сочетании с влиянием на будущую Сирию позволят держать под контролем одну из «болевых точек» региона.
НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕСМОТРА «АРАБСКОЙ» ПОЛИТИКИ ФРАНЦИИ
Наблюдатели часто обращали внимание на тот факт, что линия Франции на Ближнем Востоке фактически является «проарабской». Отбросив идеологические аспекты, такие, например, как соблюдение прав человека, Париж до настоящего времени неизменно строил отношения в регионе на прагматизме и «реальной политике». Но это не мешало с большим недоверием относиться к исламистам, особенно с того момента, когда их популярность стала резко расти.
Одним из краеугольных камней восприятия арабского мира Париж всегда считал защиту собственных интересов. Положение не особенно изменилось с приходом к власти нового президента – социалиста Франсуа Олланда. Поэтому французам стоило бы пересмотреть некоторые аспекты отношения к данному региону. Во главу угла надо поставить несколько четких принципов. Например, декларируемая приверженность идее справедливости должна быть подтверждена конкретными делами.
Текущие события требуют от Франции ревизии взглядов касательно исламистов и их политики. Среди противоречий французской стратегии можно отметить, что Париж неизменно отказывается доверять исламистам, пришедшим к власти путем избрания, и, напротив, уже много лет находит общий язык с невыборными исламистскими властями (например, в Саудовской Аравии). Вот и рост влияния исламистов в Марокко, какую бы тревогу ни вызывало это событие, оправдано в глазах Франции «умеренной политикой» короля Мухаммеда VI. Но если крах исламистов в Алжире и низкие результаты, полученные ими на выборах в Ливии, кажутся Парижу обнадеживающими, не стоит забывать, что среди прочих сил, борющихся против Асада в Сирии, он поддерживает исламистов. Тот же курс Франция проводила и во время ливийских событий, оказывая содействие Национальному переходному совету. По нашему мнению, Парижу стоило бы из прагматических соображений отказаться от вечных страхов в отношении исламистских политиков в целом. Недавние преобразования в регионе продемонстрировали, что исламисты могут быть легальной и легитимной силой, если их власть санкционирована волей избирателей. Отсюда вытекает необходимость готовиться к повторению такого сценария без излишней настороженности.
Что касается экономики, она по-прежнему во многом связана с политикой, и именно в этой сфере Франция могла бы извлечь большую выгоду, четко определив принципы своего курса. Конечно, Париж заинтересован в создании сильной общеевропейской внешней политики. Но это нисколько не отменяет задачи декларировать бÓльшую ясность относительно того, что Франция ждет от своих партнеров из арабского мира. Как бы хорошо ни было замаскировано красивыми фразами направление французской дипломатии, создается стойкое впечатление, что никто не понимает, насколько важно сохранять последовательность в подходе к Ближнему Востоку, находящемуся в переходном периоде. То, что Франция официально приветствует (пусть иногда и с оговорками) политические перемены в Тунисе, Египте и Ливии, достойно, конечно, всяческих похвал, ибо это соответствует общественным настроениям упомянутых стран. Однако Парижу нужна более четкая (и более решительная) позиция по событиям в Бахрейне, в Иордании, а также в Йемене, в котором дела принимают серьезный оборот. С другой стороны, злоупотребления, имеющие место в Саудовской Аравии и ОАЭ, заслуживают более серьезного осуждения. Впрочем, то же можно сказать и в отношении Алжира и Марокко: Франция уже много лет воздерживается от критики в их адрес, чтобы не упускать возможностей в экономической и политической сферах, так же как и в области туризма.
Экономические интересы Франции в арабском мире следует рассмотреть более внимательно. Годовой оборот торговли с регионом составляет около 50 млрд евро, то есть примерно 15% от общего объема внешней торговли. Но ближайшими торговыми партнерами Французской республики являются страны Магриба (начиная с Алжира), а Ближний Восток и государства Персидского залива значительно отстают.
В июле 2012 г. Франция устами министра иностранных дел Лорана Фабиуса предложила строить отношения с другими государствами на основании т. н. «изменяемой геометрии». Подразумевается применение в каждом конкретном случае особой политики – в зависимости от страны, от ее условий и перспектив. Тем не менее Франции следует освободиться от слишком тесной связи с Магрибом. Не то чтобы их надо было оставить и забыть. Напротив, необходимо активно укреплять связи со странами – членами Союза арабского Магриба. Но та же тенденция должна прослеживаться и на уровне всего Ближнего Востока и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Особый характер отношений, которые Франция поддерживает со странами Магриба и с Ливаном, мешает раскрыться потенциалу, скрытому в других частях арабского мира.
Впрочем, не всегда ясно, к чьему мнению прислушивается Франсуа Олланд, определяя ближневосточную стратегию, особенно в сфере политики. Разумеется, на него влияет советник по Ближнему Востоку Эммануэль Бонн. А тот факт, что в июле 2012 г. Олланд опроверг заявления своего министра Лорана Фабиуса относительно проекта закона об отрицании геноцида в Османской империи, свидетельствует об отсутствии согласованности позиций. Но если верить окружению президента, он сам принимает окончательное решение в соответствии с собственной оценкой фактов. События, связанные с Сирией, подтвердили это. После вступления в должность Олланд получил массу предложений о необходимости ужесточения позиции Франции по сирийскому вопросу. Он не остановился ни на одном из них, полагая, что ситуация взрывоопасна. Но его действия становятся все более решительными. На это указывает принятое в ноябре 2012 г. решение позволить «сирийской оппозиции» назначить посла во Франции. Сначала, вероятно, политическое чутье, потом консультации с советниками и экспертами убедили французского президента в необходимости занять более уверенную позицию в отношении режима, который, по его мнению, «исчерпал себя».
НАВСТРЕЧУ «ВЕСНЕ» ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ДИПЛОМАТИИ?
Некоторые из противоречий, характерных для Ближнего Востока и Северной Африки, заметно обострились с наступлением «арабской весны». Хотя Франция, со своей стороны, выражает достойную похвалы поддержку желанию Палестины занять место государства-наблюдателя при Генеральной ассамблее ООН, палестино-израильский конфликт продолжает оставаться эпицентром нестабильности в регионе. Терроризм принимает более опасные формы, как свидетельствует наличие ячеек исламского джихада в Алжире, Ливане, Сирии, Ираке и Йемене. Отметим также угрозу этнического изоляционизма: Ирак эволюционирует в сторону федерализации, предела которой не видно, тогда как в Ливии возрастают племенные и клановые различия. В то же время в Ливане и Сирии сохраняются конфессиональные барьеры, а разрыв между суннитами и шиитами на Аравийском полуострове, похоже, достиг наивысшей точки.
Беспокойство вызывает Иран. Его радикализация и политические амбиции, связанные со стремлением стать ядерной державой, сочетаются с неким региональным курсом на Среднем Востоке, который многие считают крайне опасным. Таким образом, «арабская весна» является синонимом глубоких противоречий.
Данный контекст благоприятствует «французской весне» в ближневосточной дипломатии. Серьезное участие Парижа продолжает ощущаться в сирийских делах, равно как и в проблемах Мали. Особую активность проявляет министр иностранных дел Лоран Фабиус. Тем не менее в глобальном плане голос Франции звучит не столь громко, как при президенте Саркози. А между тем Париж должен сегодня не только решительнее отстаивать свои приоритеты в области внешней политики, но и подчинить более жестким критериям участие в международных альянсах.
Тенденции, проявившиеся в последние годы, продемонстрировали особый характер отношений между Францией и Катаром. Такой политики Николя Саркози придерживался с момента прихода к власти. Об этом свидетельствует, например, присутствие эмира Катара рядом с президентом во время парада 14 июля 2007 года. Благодарность Дохе за роль, которую она сыграла в освобождении болгарских медсестер, осужденных в Ливии, тесный диалог между Саркози и эмиром о позиции, которую следует занять относительно «арабской весны», приобретение Катаром бÓльшей части акций футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», объявление об инвестициях Катара в парижские пригороды – вот лишь некоторые подтверждения «особых отношений».
Суждено ли этой тенденции стать долгосрочной? Ничто не говорит об обратном. Но позволим себе усомниться в том, что Парижу удалось извлечь значительные дивиденды. Открыто афишируя близость к Катару, Франция сужает для себя поле политического маневра. Эмират все чаще критикуют за политическую неразборчивость. К тому же сакрализация исключительных отношений с Катаром не может не вызвать раздражения Саудовской Аравии, страны, которая терпеть не может, когда соседнее маленькое полуостровное государство выступает в качестве ее соперника. Разрыв франко-катарских связей, разумеется, крайне нежелателен. Но – идет ли речь обо всем арабском мире или только о странах Персидского залива – Париж должен строить отношения с партнерами на равных условиях. Без этого заметная всем исключительность связей с Катаром может обернуться против Франции.
У Парижа мало шансов отделить собственную стратегию от общеевропейского контекста. Активно продвигающая идею сильной европейской внешней политики Франция будет и дальше придерживаться этой линии. Но некоторые направления ее действий, вытекающие из понятия национального интереса, придется корректировать. Речь идет прежде всего об отношениях с арабскими странами Персидского залива, а также с Ираном. Переговоры с Тегераном по вопросам ядерной безопасности не принесли значительных результатов, не в последнюю очередь потому, что Париж начинал их с излишней настороженностью. Престижа Франции это тоже не прибавило. Такая позиция не позволила ей добиться популярности среди арабских монархий. Иначе говоря, Франция оказалась в тупике, но сближение с определенными государствами Персидского залива (в данном случае – с Саудовской Аравией и ОАЭ) позволило бы ей получить бÓльший доступ к остальной части арабского мира (Ливан, Сирия, Иордания, Египет, Тунис, Марокко, все государства Аравийского полуострова). Таким образом, Франция производит впечатление страны, которая плетется в хвосте у некоторых западных партнеров, включая США. Требуется изменить эту ситуацию.
Перед Францией также стоит задача переоценки отношений, связывающих ее с другими мировыми державами – как в целом, так и в том, что касается ближневосточных проблем. Во время событий в Сирии Франция сделала выбор в пользу вооруженных повстанцев, что сближает ее с Америкой, отдаляя от России и Китая. Теперь уже можно констатировать, что плоды такой политики оказались одновременно и опасными (невинные жертвы, отсутствие единства во взглядах оппозиционеров), и скудными в смысле конкретных результатов. Отбросив мысль, что у всех заинтересованных сторон должно наблюдаться единство взглядов, Франция могла бы перейти к более интенсивным переговорам, в частности с Россией, у которой есть преимущество в виде доступа к сирийскому президенту. Каким бы справедливым ни казался бойкот режима Асада, будущее Сирии требует смелых решений. Все чаще звучат слова о необходимости переговоров между Асадом и оппозицией, что продиктовано прагматическими соображениями. При условии, что подобный сценарий будет развиваться успешно, Франция (а через нее и весь Евросоюз), оказавшись на первых ролях, многое выиграет.
Что касается стремления Франсуа Олланда реанимировать проект средиземноморского сотрудничества, важно, чтобы оно воплотилось в жизнь. Для начала Франция должна выйти за рамки чисто технических вопросов и энергично взяться за решение политических проблем. Приоритет имеет арабо-израильский конфликт, хотя не стоит забывать и о ситуации в Западной Сахаре. Главный просчет Саркози состоял в том, что он верил в способность экономики разрешить политические разногласия. Однако его ставка оказалась неверной. Если Олланд совместит политический волюнтаризм с прагматизмом, он покажет, какую возможность дают последствия «арабской весны» Ближнему Востоку, Европейскому союзу, а также самой Франции.
* * *
Традиционно оставаясь незаменимым участником событий на Ближнем Востоке, Франция, несмотря на явный волюнтаристский подход, не до конца воспользовалась выгодами, которые можно было извлечь из «арабской весны». Хотя Франция была одним из главных действующих лиц в ливийском конфликте, а сейчас сосредоточила усилия на решении проблем Сирии, она как будто забыла, что ее подход должен базироваться на общей стратегии, основанной на четких принципах.
В арабском мире и сейчас не завершился переходный период, и будущее может таить немало сюрпризов. Но это должно служить для Парижа лишним стимулом к тому, чтобы проявлять последовательность в политике и быть готовым принять сегодняшние и будущие вызовы; иначе он может быстро потерять позиции в регионе. Благодаря своей истории и дипломатической активности Франция находится в центре пересечения интересов Ближнего Востока, Европы и всего мира. «Арабская весна» должна послужить стимулом к модернизации методов ее деятельности и пересмотру некоторых ключевых моментов в дипломатии и стратегии.
Барах Микаил – руководитель программы исследований Северной Африки и Ближнего Востока в Фонде международных отношений и внешнего диалога (FRIDE, Мадрид), автор книги «“Арабская весна”: необходимость повторного прочтения» (Editions du Cygne, 2012).

Неопределенные перспективы
«Арабская весна»: вызовы для России и Европы
Резюме: В силу разного понимания задач внешние игроки действуют в ходе «арабский весны» разрозненно, в режиме более или менее острой конкуренции.
В начале января 2011 г., вскоре после событий в Тунисе, искры от которых уже зажигали первые пожары в Египте, Йемене и на Бахрейне, один из европейских послов отловил меня на дипломатическом приеме, взял за пуговицу и спросил: «Почему Тунис?». При этом на лице его было написано искреннее недоумение коварной логикой истории, не делающей различий между «своими» и «не своими» диктаторами. Я, признаться, и сам до сих пор не понимаю, почему цунами, вскоре накрывшее половину арабского мира, началось с Туниса, страны вполне прозападной и сравнительно благополучной по своим базовым показателям.
И здесь мы подходим к банальному на первый взгляд, но на самом деле важному выводу. «Арабская весна», переименованная вскоре в «арабскую осень», а затем и «зиму» – явление по своей природе стихийное. Оно развивается по своим не всегда понятным законам. К приходу демократии на Ближний Восток, как к обильному снегопаду в этом году в Иерусалиме, мало кто оказался готов. Все вроде знали, что это может случиться, но что сугробы на время парализуют жизнедеятельность, заинтересованные лица и организации, включая метео- и дипломатические службы, надежно спрогнозировать оказались не в состоянии.
За два прошедших года «арабская весна» преподнесла миру немало сюрпризов. Главным, но не единственным из них стал уверенный выход на политическую арену исламистов. Вопреки всем прогнозам они удивительно легко отодвинули от власти в Египте военных и продавили на плебисците шариатскую конституцию. В случае их успеха на предстоящих парламентских выборах – а для этого есть серьезные предпосылки, – придется констатировать, что исламисты пришли в Каире, а следовательно, и в арабском мире в целом, всерьез и надолго.
Это совершенно новая ситуация, несущая в себе очевидные риски для регионального и мирового порядка, затрагивающая интересы широкого круга стран, и особенно – в силу географической близости – России и Европы. Становление политических свобод, как показало развитие событий в мире после 1991 г., неизбежно проходит через периоды хаоса, усиления центробежных тенденций, обострения национально-этнических и межконфессиональных противоречий. В какой мере новые, неоднородные по своему составу арабские элиты смогут справиться с этими и другими копившимися десятилетиями проблемами – основной вопрос, поставленный «арабской весной» перед международным сообществом.
Поиск ответа на него – сложная, многоуровневая задача. Учитывая масштаб и остроту проблемы, решать ее надо общими усилиями, имея в виду меняющиеся индивидуальные и групповые интересы и новые реалии. Нельзя забывать и об усложняющемся геополитическом контексте международной конкуренции на Ближнем Востоке, где сосредоточены значительные энергоресурсы, а следовательно, и серьезные политические и стратегические риски для глобальной стабильности.
РАЗБОР ПОЛЕТОВ
В России и на Западе «арабскую весну» восприняли по-разному. На Западе – как победу демократии, в России – как победу Запада. Что до определенной степени закономерно, поскольку в процессе переформатирования мира после окончания холодной войны за Западом и Россией закреплены разные роли. Грубо говоря, демократизатора и демократизируемого.
Это обстоятельство в значительной мере предопределило характер реагирования на непростые события «арабской весны». Для американцев поддержка массовых выступлений в арабских странах под демократическими лозунгами стала безальтернативной прежде всего по идейным (а затем уже по геополитическим и деловым) соображениям. У нас же практика «цветных революций» в ближнем зарубежье при скрытом или явном внешнем содействии еще задолго до начала «арабской весны» обострила собственные фобии, порой вполне обоснованные. В результате уже в марте 2011 г., после начала вооруженной интервенции НАТО в Ливии, Россия твердо выступила против курса на силовое продвижение демократии, увидев в нем не только проявление недобросовестной конкуренции на рынках Ближнего Востока, но и рецидив «двойных стандартов», компрометирующих демократический выбор в целом.
Исходя из этого, уже на раннем этапе «арабской весны» Россия выдвинула идею диалога как единственного приемлемого пути разрешения конфликтов. Более того, до эксцессов гражданской войны в Ливии в российском руководстве (и тем более в общественном мнении) преобладало стремление не конфликтовать с Западом по такому деликатному вопросу, как демократическая трансформация Ближнего Востока. Россия (вместе с Китаем, Индией, Бразилией и Германией) воздержалась при голосовании по резолюции 1973 СБ ООН относительно установления «бесполетной зоны» в Ливии. Но американцы вступали в предвыборный цикл, Бараку Обаме был нужен быстрый и несомненный успех на Ближнем Востоке. А у европейцев в силу логики вовлеченности в, прямо скажем, нравственно небезупречную ситуацию разыгрались колониальные рефлексы времен борьбы за нефть Киренаики. В результате Ливия получила полномасштабную гражданскую войну с иностранной интервенцией, а Россия была вынуждена жестко расставить акценты, заявив о категорическом неприятии смены режимов при вмешательстве извне.
Существенную роль сыграло и то, что к осени 2011 г. Россия также вступила в выборный цикл. Ставки в полемике с Западом и собственной «болотной» оппозицией возросли. В своей программной статье «Россия и меняющийся мир» Владимир Путин, напомнив, что симпатии граждан России с начала «арабской весны» были на стороне тех, кто добивался демократических реформ, резко критически оценил поддержку западной коалицией одной из сторон конфликта в Ливии. Осудив «даже не средневековую, а какую-то первобытную расправу с Каддафи», он жестко предупредил Запад о возможности «дальнейшей разбалансировки всей системы международной безопасности» в случае осуществления силового сценария в Сирии без санкции СБ ООН.
Реакция за рубежом и внутри страны – со стороны либерального сегмента российского креативного класса – на откровенное, в стиле «мюнхенской речи», изложение российской позиции была предсказуемо нервозной. Путинская Россия, мол, снова не желает идти в ногу с демократическим сообществом. Хотя было вполне очевидно, что «путинская Россия» не желала двигаться в фарватере решений, принимавшихся без ее участия, ибо так, не ровен час, можно строем промаршировать к тоталитарной демократии, прямиком в светлое прошлое Джорджа Оруэлла. Разумеется, было бы опасным упрощением, если не ханжеством, рассматривать эволюцию отношения Москвы к «арабской весне» только под углом реакции на «двойные стандарты» Запада. Россия, как и Запад, вполне прагматически шла за событиями, пытаясь удержаться на крутых поворотах быстро менявшихся событий. Важно, однако, что при этом ее позиция базировалась на достаточно четкой иерархии решаемых задач.
Применительно к «арабской весне» можно говорить о трех уровнях таких задач:
• глобальный уровень – ответственность за поддержание глобальной и региональной безопасности в силу постоянного членства в СБ ООН, участия в квартете международных посредников в ближневосточном урегулировании, переговорах «пять плюс один» с Ираном;
• региональный уровень – стремление защитить широкий круг исторически сложившихся интересов в регионе, сохранить развитые отношения с арабскими странами и Израилем в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной сферах;
• «третья корзина» – поддержка демократических реформ в арабском мире как части процесса глобальной демократической трансформации суверенных государств.
Можно без особой натяжки констатировать, что те же группы задач, только иначе интерпретированные и выстроенные в иной последовательности, определяли политику и других крупных внешних игроков – США, Евросоюза, Китая. Для американцев, к примеру, демократия и права человека («третья корзина»), как правило, имели приоритет не только над суверенитетом, но порой и над глобальной ответственностью. У европейцев (это особенно ярко проявилось в ливийском кризисе) нередко доминировали над соображениями глобальной ответственности двусторонние интересы, связанные с обеспечением доступа к близко расположенной и качественной нефти. Триада стратегических интересов Китая, напротив, на всех этапах «арабской весны» была близка или совпадала с российской.
Что касается России, то приоритетом ее политики на всех этапах «арабской весны» было именно осознание глобальной ответственности. Как ни парадоксально, именно этот, сформировавшийся еще в советские времена, императив геополитического мышления обусловил восприятие нашей позиции как едва ли не обструкционистской в отношении того, что делали западные державы. Надо думать, сыграло роль и то обстоятельство, что при очевидных внутренних проблемах, незавершенных реформах, резком сокращении военно-стратегического присутствия в мире Россия, казалось бы, должна была повести себя более сговорчиво. Но мы повели себя так, как повели, отказываясь от участия в действиях, результатом которых могла бы стать смена режимов. Москва призывала к безусловному уважению государственного суверенитета, невмешательству во внутренние дела, улаживанию конфликтов путем диалога. В этом другие игроки увидели сначала рецидив неоимперской логики, а затем – в Сирии – попытку любой ценой сохранить за собой рынки вооружений.
Между тем последовательность, с которой проводилась наша линия, особенно в сирийском вопросе, во многом способствовала удержанию ситуации в рациональной плоскости. Более того, рискнем предположить, что роль «конструктивных оппонентов», которую взяли на себя Россия и Китай, придала новое качество коллективному взаимодействию в региональных делах. Дискуссии в Совете Безопасности ООН, полемика с представителями различных фракций сирийской оппозиции стали реальными шагами в направлении большей демократизации международных отношений.
Далеко не утрачен, несмотря на пессимистические оценки части экспертного сообщества, и наработанный за десятилетия потенциал двустороннего и коллективного взаимодействия России как с арабским миром, так и с Израилем. Конечно, в ходе ливийского и сирийского кризиса мы порой значительно расходились в оценках с Лигой арабских государств. Но в политике регионалов – это приходится признать – соображения глобальной ответственности далеко не всегда играют доминирующую роль.
Сложнее обстояли – и обстоят – дела с отношением в России к ближневосточной «третьей корзине». С одной стороны, Москва никогда не защищала диктаторов ни в Египте, ни в Ливии, ни в Сирии. С другой – собственный непростой опыт прошедших двух десятилетий побуждал нас внимательнее и осторожнее подходить к таким аспектам «арабской весны», как роль социальных сетей, интернета, НПО с зарубежным финансированием в организации протестных выступлений. Этому способствовала и резко активизировавшаяся в России в предвыборный период деятельность как оппозиции прозападного, либерального толка, так и исламистских группировок на Северном Кавказе и в Поволжье.
В целом Россия достаточно уверенно прошла первые два года «арабской весны». Их главный итог заключается в том, что в стратегическом плане – и это показало быстрое окончание декабрьской операции Израиля в Газе – региональная ситуация остается под контролем. Не пора ли посмотреть, что мы могли бы сделать вместе для ее коренного оздоровления?
VIRIBUS UNITIS
В силу разного понимания задач, встававших на различных этапах «арабской весны», внешние игроки действовали – и действуют – разрозненно, как правило, в режиме более или менее острой конкуренции. Это не только существенно осложняет и затягивает урегулирование конфликтных ситуаций, но и формирует благоприятные предпосылки для активизации экстремистов всех мастей и оттенков – от джихадистов, отвергающих ценности «прогнившей западной цивилизации», до агентов «Аль-Каиды», выступающих под лозунгами всемирного исламского халифата.
Возьмем, к примеру, ситуацию в Сирии. Политически режиму Башара Асада противостоит «креативный класс», но военные действия ведет пестрый конгломерат оппозиционных сил, которыми руководят исламисты. В сложнейшей обстановке гражданской войны Асад выполнил, казалось бы, требования оппозиции по демократизации внутренней жизни, послал ясные сигналы о готовности к широкому диалогу на платформе Женевского коммюнике. Но вооруженная борьба приобрела в Сирии такую инерцию, интересы исламских экстремистов и соседних стран сплелись в столь тугой клубок, что урегулированию кризиса на основе приоритетов глобальной и региональной безопасности пока нет места.
Почему? Не потому ли, что в лукавой логике политизированных подходов к демократии и правам человека амплуа раскаявшегося грешника для Асада, как и для других символов постсоветского прошлого, не предусмотрено? Или все же дело обстоит проще – сирийская оппозиция, для значительной части которой демократические лозунги – не более чем конъюнктура, эффективно играет на нестыковках в позициях внешних игроков?
Вопросы эти, понятно, звучат вполне риторически, хотя цена ответов на них весьма высока. Забуксовав в Ливии, в Сирии «арабская весна» оказалась на развилке. Вполне очевидно, что дальнейшее развитие событий в значительной мере зависит от того, по какой модели будет урегулирована ситуация в этой ключевой арабской стране. По йеменской, открывающей возможности мягкой смены режима, или ливийской, оборачивающейся то сентябрьскими выступлениями, жертвой которых стал посол США в Триполи, то «ливийским следом» в теракте малийских исламистов в Алжире.
Ясно одно: свержение Асада (с прямым или косвенным внешним участием) существенно облегчило бы задачу экстремистов, делающих ставку на «талибанизацию» Ближнего Востока. И напротив – невмешательство в дела Сирии способствует сохранению ситуации в поле международного права и в принципе открывает возможность рационализировать переход региона от авторитаризма к демократии.
Но для того чтобы сделать правильный выбор, необходимо коренным образом переосмыслить подходы внешних игроков к событиям, происходящим в контексте «арабской весны». Необходима позитивная, ориентированная на решение стратегических задач программа коллективных действий. Прежде всего по нейтрализации двух главных угроз, способных уже в обозримой перспективе не просто дестабилизировать обстановку в районе Большого Ближнего Востока, а развернуть ее в сторону межцивилизационного конфликта.
Говоря коротко, речь идет о следующем.
Первое. Удержать Израиль от нанесения удара по Ирану. Вероятность силового сценария в отношении «режима аятолл» не просто сохраняется, она нарастает. Осенью прошлого года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что «точка невозврата» в ядерных планах Тегерана наступит весной 2013 г., и предупредил, что в случае отсутствия прогресса в сдерживании ядерных амбиций Ирана Израиль оставляет за собой право действовать в одиночку. Это не риторика, а ясное, ответственное предупреждение на высочайшем возможном уровне. Ослабление позиций правых в результате январских парламентских выборов в Израиле снижает, но не снимает опасность силового сценария в отношении Ирана.
Можно по-разному относиться к угрозам ядерного государства–не члена ДНЯО в адрес государства–члена ДНЯО, чьи ядерные объекты находятся под контролем МАГАТЭ. Но иррациональность ситуации не снижает ее опасности. Иранцы явно стремятся в своей ядерной программе выйти на положение «без пяти минут двенадцать», видя в этом единственную гарантию защиты своего суверенитета. Израиль не готов сосуществовать с ядерным Ираном, руководство которого неоднократно призывало к уничтожению еврейского государства. В результате израильско-иранское противостяние является сегодня тем самым слабым звеном, разрыв которого может спровоцировать цепную реакцию большого взрыва.
США и Евросоюз ввели против Тегерана беспрецедентные санкции, которые начали давать определенный эффект (экспорт иранской нефти снизился к концу 2012 г. на 40%). Но видимых политических дивидендов такая линия пока не дает. Санкционное давление в сочетании с угрозой удара по ядерным объектам консолидируют иранцев вокруг режима. Причем в начавшейся игре нервов иранцы порой переигрывают оппонентов, опираясь на широкую поддержку своего права на мирный атом в исламском мире и Движении неприсоединения, которое Тегеран возглавил с августа 2012 года.
Ситуация выглядит как патовая. В сфере нераспространения накопилось слишком много конструктивных и не очень конструктивных двусмысленностей, чтобы можно было рассчитывать на решение проблемы ИЯП в этом формате.
Приходится считаться и с наметившимися изменениями в балансе сил на Ближнем Востоке, которые в том числе связаны с ростом активности в региональных делах Саудовской Аравии и стран Персидского залива, где традиционно сильны антииранские, антишиитские настроения. Вокруг этого фактора ведутся опасные в своей недальновидности игры, в основе которых лежит расчет на то, что сунниты поддержат силовой сценарий в отношении Ирана. Это тревожная, но, к сожалению, очень характерная для преобладающего поверхностного понимания сложившейся вокруг Ирана ситуации иллюзия.
Сохранить положение под контролем можно лишь на базе двухтрекового подхода, в рамках которого параллельно с переговорами в формате «пять плюс один» (с возможным подключением Турции и представителя ЛАГ) должна быть выработана консолидированная позиция в пользу недопустимости силового решения проблемы. При этом и Израиль, и Иран должны получить международные гарантии, снимающие их озабоченности. Это может дать дополнительное время для кардинального решения вопросов нераспространения ядерного оружия на Ближнем Востоке в соответствии с требованиями ДНЯО.
Второе. Помочь палестинцам и Израилю перезапустить мирный процесс на основе двухгосударственного подхода. Это вторая по значимости региональная проблема, требующая срочных действий регионалов и мирового сообщества. «Арабская весна» со всей остротой поставила вопрос о том, будут ли новые исламистские элиты соблюдать мирные соглашения с Израилем, включая неформальные договоренности. Вопрос далеко не праздный потому, что для арабов в целом и для исламистских партий и группировок в особенности палестинская проблема является стержневым элементом национального самосознания. Ее решение воспринимается как общенациональная задача, способная при определенных условиях сплотить арабский мир – как суннитов, так и шиитов – на антиизраильской основе.
Это реальная опасность, возможно, не сегодняшнего, но завтрашнего дня и одновременно центральное направление, на котором будет решаться ключевой вопрос о том, сможет ли регион развиваться в русле глобальных трендов как содружество демократических наций.
Определенные предпосылки для позитивного сценария формируются, как ни парадоксально, процессами, запущенными «арабской весной». Среди них – сравнительно быстрое, без потери лица одной из сторон окончание операции «Облачный столп», эффективное посредничество в этом исламистского Египта, наметившаяся тенденция к смягчению блокады сектора Газа, включая первый визит туда лидера ХАМАС Халеда Машааля. И, наконец, достаточно взвешенная реакция Израиля на предоставление Палестине статуса государства-наблюдателя при ООН.
В целом есть ощущение, что какие-то пока скрытые от нескромных взоров механизмы приходят в движение. Обнадеживающие сигналы поступают из обновленной администрации Барака Обамы, французы намерены обнародовать после парламентских выборов в Израиле собственную ближневосточную инициативу. Да и в Израиле Эхуд Барак, Шауль Мофаз, а совсем недавно и Ципи Ливни призвали к срочному разблокированию мирного процесса.
Это, разумеется, не означает, что новый коалиционный кабинет, который, судя по всему, предстоит сформировать Биньямину Нетаньяху, окажется в состоянии изменить жесткие подходы прежнего правого правительства к проблеме строительства в поселениях, блокирующей возобновление израильско-палестинских переговоров. Но если взглянуть на ситуацию в историческом контексте, то становится очевидным, что прорывные идеи в БВУ (поездка Садата в Иерусалим, соглашения в Осло) возникали как бы на пустом месте, совершенно неожиданно, во всяком случае, для широкой публики. На самом деле они были результатом негласной, часто длительной работы экспертов и политиков, правильно уловивших тенденции времени.
Думается, сейчас сложилась именно такая ситуация. Изменившийся статус Палестины актуализирует вопрос о границах палестинского государства. Движение вперед становится политически безальтернативным, поскольку отсутствие прогресса в израильско-палестинском переговорном процессе может существенно радикализировать расстановку сил в обновленном регионе. Налицо и субъективные предпосылки: политическая ничья, которой завершилась операция «Облачный столп», в принципе напоминает ситуацию после войны 1973 г., с блеском использованную Киссинджером для выхода на Кемп-Дэвидские соглашения, а затем и на мирный договор между Израилем и Египтом.
В общем, шансы для дипломатии на Ближнем Востоке есть. При условии, что поиск развязок будет вестись сообща, на встречных курсах с региональными державами. Собственно, главная задача сегодня заключается в том, чтобы попытаться выяснить параметры возможного понимания. ЛАГ в принципе подтвердила готовность договариваться с еврейским государством на основе саудовской инициативы, которая не была с ходу отвергнута Израилем. Для палестинцев (включая ХАМАС) важно получить легитимные границы своего государства. В этих условиях нельзя исключать, что и новый израильский кабинет сочтет за благо попытаться договориться по границам в обмен на гарантии безопасности со стороны палестинцев и арабского мира в целом.
Основа для переговоров по формуле «мир в обмен на территории» есть. Это «дорожная карта» 2003 г., скорректированная в соответствии с меняющимися «фактами на местности» и, возможно, саудовской мирной инициативой. Имеется и переговорный формат, созданный в связи с «дорожной картой», – квартет международных посредников, который было бы логично дополнить региональными державами, допустим, Египтом, Саудовской Аравией и Турцией. В рамках расширенного квартета было бы логично попытаться договориться о порядке обсуждения других вопросов окончательного статуса – Иерусалим, право на возвращение, безопасность.
С одной только оговоркой. Для реализации столь оптимистичного сценария нужно в корне переломить мотивацию подходов региональных и внерегиональных игроков, ориентировав их на общие задачи, главной из которых является плавная, органическая инкорпорация Ближнего Востока в глобальное содружество демократических наций.
Должна же когда-нибудь и на Ближнем Востоке наступить эра здравого смысла. Когда все мы, наконец, поймем, что этот многострадальный регион может и должен превратиться из арены вражды и соперничества в площадку строительства нового, более справедливого и надежного мира. Ведь альтернатива этому – межцивилизационный конфликт. Вирус джихадизма уже ведет свою разрушительную работу. Остановить его можно только коллективными усилиями.Viribus unitis.
П.В. Стегний – доктор исторических наук, чрезвычайный и полномочный посол, член Российского совета по международным делам.

Голосуем списком
Из разряда заокеанской страшилки «список Магнитского» превратился в фактор российской политики, окончательно разделивший наше общество на западников и славянофилов. Возможно ли в России называться патриотом и при этом не быть яростным хулителем Запада? Или, к примеру, являться западником без топтания на «отеческих гробах»? Об этом на страницах «Итогов» спорят два маститых писателя — Александр Проханов и Дмитрий Быков.
C одной стороны
Александр Проханов: «Список Магнитского» — это оружие вторжения»
— Александр Андреевич, бытуют две конспирологические версии появления «списка Магнитского»: козни Вашингтона либо происки отечественных либералов. Вам какая ближе?
— Поводом к списку стало обращение сэра Уильяма Браудера, крупного американского дельца и афериста. Он и поднял вокруг смерти Магнитского шум, потребовал разбирательства, обвинив наши органы в противоправности. Вокруг этого стал наматываться эдакий клубок, куда и наши оппозиционеры стали наматываться.
Права человека в руках у западной, в данном случае американской цивилизации — это не моральный, не этический принцип. Тот же «список Магнитского» — это оружие организационного типа, способ вторжения во враждебный социум и его разрушение или трансформация без применения горячей силы. Это такие инструменты, с помощью которых американцы действуют всякий раз по-разному. Например, на чудовищные нарушения прав человека в Бахрейне они смотрят сквозь пальцы, потому что режим там проамериканский. В Ливии, Ираке и Сирии права человека они возводят в ранг абсолюта и ради защиты прав отдельно взятого человека сметают с земли народы и государства.
— Так или иначе, «список Магнитского» резко обострил мировоззренческий конфликт между западниками и славянофилами...
— Полемика, которая разрослась вокруг «списка Магнитского», не слишком-то объясняется полемикой западников и славянофилов. Скорее она объясняется схваткой двух очень мощных сил: либералов и государственников — главным образом тех, для кого само существование российского государства, пусть и несовершенного, лучше, чем его отсутствие. Тех, которые страшно боятся повторения ударов по государству, которые привели к его исчезновению в феврале 1917 года и в августе 1991-го.
На защиту этого государства встали люди достаточно сложных оттенков — не только формально с ним связанные, но и интеллектуалы, для которых трагедия потери государства очевидна. Здесь и люди советского мировоззрения, которые, конечно же, не готовы еще раз идти на трагическую утрату нынешнего, пускай худого, но государства.
Русская партия в основном поддерживает это государство, но не вся: русский фланг расколот. Значительная часть русских националистов была на Болотной площади и вместе с либералами выступала против этого государства и против Путина. Это очень интересный казус. Само государство, которое многие бросились защищать, тоже не целостно: там огромное число западных, проамериканских элементов. Там присутствуют группы, напрямую лоббирующие интересы США в российской действительности. Скажем, тот же финансовый блок.
Так что казус Магнитского разделил общество не по жесткой линии, а по волнистой, рваной линии. И современные западники и славянофилы в этой схватке тоже представлены очень сложно, очень рвано.
Огромная часть западников не просто исповедует западные символы веры, нормы развития и институты, которые, кстати, сильно изменились со времен Герцена. Нынешние либералы для достижения своих политических и моральных целей напрямую прибегают к помощи Запада. Они являются его лобби, его агентами в русской действительности. В годы перестройки они оседлали политический процесс и открыли врата врагу в российскую крепость. И сегодня их действия носят предательский характер: они по-прежнему готовы добиваться своих целей любой ценой, вплоть до, образно говоря, приглашения сюда морских пехотинцев США. Их схватка с государством — это не схватка мировоззрений, идей и идеологий, а военная схватка организационного оружия. И они сами являются частью этого оружия, направленного против российской государственности.
— Есть способ примирить противоборствующие стороны?
— Эта схватка тотальна. Она длится на протяжении XX—XXI веков, в ее недрах пролилось колоссальное количество крови, и там огромное число жертв как с одной, так и с другой стороны. Так что примирения здесь быть не может. Может быть лишь подавление — либо тотальное, либо частичное.
После 1991 года так называемые государственники, в том числе и советского розлива, были выключены из политического процесса, их сделали маргинальными. И только с приходом Путина этот политический процесс несколько изменился. Он начал меняться в еще большей степени после событий на Болотной, когда западники, вскормленные Путиным, восстали против него самого. Так ангел Люцифер, некогда бывший верным и любимым чадом Господа, восстал против него.
Это обозначило трагедию самого Путина, стоящего перед выбором: либо по-прежнему держать патриотические силы на маргинальной окраине, либо возвращать их в центр политики, потому что именно они несут на себе крест служения государству, даже этому несовершенному. И все, что было после Болотной площади, — это медленное, но неуклонное возвращение в центр общественно-политической жизни государственников. Не просто по мандату, но людей с представлениями о судьбах России, о векторе русского развития, о константах, заложенных в русскую историю и историческую мысль.
— Не окажемся ли все мы со всеми этими государственниками за железным занавесом?
— Железный занавес сегодня невозможен. Вся наша экономика — сырьевая, заточенная на сумасшедший экспорт нашего сырья за границу. Какой железный занавес, если вся наша экономическая элита живет за границей и мотается сюда, чтобы срубать большие деньги, прожигать их за рубежом и вкладывать в западную цивилизацию? Железный занавес должен быть не идеологическим, но перекрывающим экономическую помпу, которая выкачивает из России все ее ресурсы. Но возможно ли это для всех компрадоров в нашем правительстве и нашем истеблишменте?
— Чем сердце успокоится?
— Этот процесс должен установить баланс в обществе, когда и либералы будут потеснены и уступят свою часть в партере патриотам-государственникам. Их потеснят из культуры, в которой они сейчас доминируют, потому что их покровители в правительстве — западники и русофобы. Они уже потеснены в СМИ, они будут потеснены и в кадровом составе власти. Не истреблены, но потеснены. И это будет продолжаться, пока не установится естественный баланс.
Впрочем, насчет естественного баланса я очень сомневаюсь. Конфликт Запада с Востоком, с Россией и с Китаем, будет усиливаться. Он будет привноситься западниками внутрь России. Острие этого организационного оружия будет время от времени бить по Кремлевской стене, и этот конфликт извечен.
Валерия Сычева
С другой стороны
Дмитрий Быков: «Список Магнитского» — результат наших внутренних распрей»
— Дмитрий Львович, появление «списка Магнитского» — это происки «вашингтонского обкома» или все же результат внутрироссийского раздрая?
— Разумеется, это результат наших внутренних распрей. Тут и никаких сомнений быть не может.
— Не кажется ли вам, что список взорвал хрупкое перемирие между нашими западниками и славянофилами?
— Да сейчас все служит детонатором! «Список Магнитского», ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант», путешествие Гудкова в Америку... Все, без исключения, любые произведения и факты интерпретируются лишь с этой позиции. Абсолютно все обостряет противостояние между славянофилами и западниками. Это давно тлеющий конфликт, не находящий никакого разрешения и никакой третьей объединяющей всех идеи. И он, разумеется, будет и сегодня вызывать трения и углублять трещины в обществе.
Но русская трещина на самом деле проходит не только между западниками и славянофилами. Она, как совершенно правильно написал еще Дмитрий Мережковский в очерке «Свинья Матушка», пролегла между народом и интеллигенцией. Все, кто хочет плюнуть в интеллигенцию, на самом деле плюют в лучшую часть России. Это конфликт интеллигента, то есть лучшей, передовой части народа, с теми, кто считает себя или назначил себя арьергардом.
— Вы считаете, что наша интеллигенция идейно однородна и духовно монолитна?
— Наша интеллигенция, разумеется, неоднородна. Но в одном пункте она абсолютно солидарна: она ищет корни российских проблем внутри страны, а не снаружи. В сущности, западничество сегодня как раз на том и настаивает. Оно настаивает, чтобы, во-первых, идеи прогресса и просвещения сохранили свою силу и влияние и, во-вторых, повторю, чтобы проблемы отыскивались внутри, а не извне, чтобы мир не воспринимался как результат действия чужеродной и враждебной силы. А славянофильство — это проект почвенный, агрессивный, контркультурный и очень ксенофобский, направленный вовне. Мол, все наши беды вовне и корень зла — исключительно Америка и ее друзья.
— Если и дальше так пойдет, не обернется ли все Сенатской площадью или железным занавесом?
— Сенатской площадью — вряд ли. Попытками изоляционизма — да, конечно. Впрочем, с уверенностью предсказать какие-то внешнеполитические издержки для России я не берусь. Не знаю, возможна ли в сегодняшнем мире ее изоляция, но думаю, что к этому никто и не стремится. Не случайно сюда после «списка Магнитского» приехали американцы с 27 предложениями, а Путин во время поездки в Ганновер подтвердил ориентацию на демократию. По крайней мере, он продемонстрировал восприимчивость к чужому мнению. Самый мягкий вариант развития событий — если риторика российской власти останется воинственной, а действия хоть сколько-нибудь разумными. Более жесткий вариант — это попытки изоляционизма, но они просто ускорят кризис.
— Минусы от противостояния западников и славянофилов просматриваются. А есть ли плюсы?
— Плюс, наверное, лишь в том, что в полемике либеральная идея будет отковываться и совершенствоваться.
— А можно ли в России быть патриотом и не быть при этом сталинистом и яростным антизападником? И можно ли быть западником без небрежения к собственным вековым традициям? Почему у нас так непопулярна позиция золотой середины?
— Разумеется, все эти люди, которые сейчас причисляются к западникам-либералам, являются патриотами. Хотя бы потому, что они вмешиваются в ситуацию, а не сидят на диване. Следовательно, им небезразлична судьба страны. Ведь все мы прекрасно понимаем, что участники сегодняшнего протестного движения завтра никаких бонусов за это не получат. Ни в путинском государстве, ни в том, которое придет на смену путинскому. Совершенно очевидно, что участь всех этих людей в общем-то промежуточная в истории. Это люди, которые максимум могут что-то приблизить, но воспользоваться некими бонусами от этого — никогда. Бонусами будут пользоваться совершенно другие и, возможно, далеко не радужные силы.
— Каков ваш прогноз?
— На мой взгляд, развилка уже пройдена. Власть не хочет договариваться и совершенно очевидно делает ставку на контркультурный, антизападный и антигуманный проект.
Как все это может развиваться? Тут возможен 101-й сценарий. Как правильно сказал Ройзман, мы придумаем 100 вариантов, а осуществится 101-й. Очень не хотелось бы силового разрешения, потому что революциями мы наелись. Но поскольку договор вряд ли реален, то единственный возможный вариант — это переходное правительство. Вот на него и хотелось бы возлагать какие-то надежды.

Угрозы реальные и мнимые
Алексей Арбатов – академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Российской Академии наук, в прошлом участник переговоров по Договору СНВ-1 (1990 г.), заместитель председателя Комитета по обороне Государственной думы (1994–2003 гг.).
Резюме Значение ядерного сдерживания в обеспечении безопасности великих держав будет и далее снижаться, вопреки нынешним попыткам России придать ему более значительную роль и несмотря на тупиковую ситуацию в ядерном разоружении.
Данная статья развивает и дополняет тезисы автора, изложенные в его выступлении на международной конференции «Россия в мире силы XXI века», приуроченной к 20-летию СВОП и 10-летию журнала «Россия в глобальной политике». Генеральный спонсор конференции – Внешэкономбанк.
Сила оружия, иначе говоря – роль военной силы в политике и войне, более всего определяется характером прогнозируемых и реальных вооруженных конфликтов; военно-техническим прогрессом и доступными для нужд обороны экономическими ресурсами; амбициями и фобиями государственных руководителей и оборонно-промышленных комплексов и их подрядчиков в научных центрах и СМИ.
Предчувствие войны
Вопреки широко распространенным в российской военно-политической элите ощущениям, по объективным показателям угроза большой войны ныне меньше, чем когда-либо в новейшей истории. И дело вовсе не в наличии у ведущих держав ядерного оружия (ЯО). В годы холодной войны его было намного больше, но вероятность глобального вооруженного столкновения оставалась неизмеримо выше.
За последние два десятилетия число международных конфликтов и их масштабы значительно уменьшились по сравнению с любым из 20-летних периодов холодной войны (условно датируемой с конца 40-х до конца 80-х гг. прошедшего века). Достаточно напомнить о войне в Корее, двух войнах в Индокитае, четырех на Ближнем Востоке, войне в Афганистане, индо-пакистанской и ирано-иракской войнах, не говоря уже о многочисленных пограничных и гражданских конфликтах в Азии, Африке и Латинской Америке зачастую с внешним вмешательством. По разным подсчетам, в конфликтах времен холодной войны погибли не менее 20 млн человек. Только Соединенные Штаты потеряли в те годы около 120 тыс. человек – столько же, сколько в Первой мировой войне.
Великие державы прошли через череду кризисов, которые в биполярной системе отношений угрожали вылиться в глобальную войну. К счастью, катастрофы удалось избежать. Многие считают это демонстрацией эффективности ядерного сдерживания, другие (в том числе автор этой статьи) – просто везением, особенно когда речь идет о Карибском кризисе 1962 года.
С начала 1990-х гг. и по сей день по масштабам жертв и разрушений с теми событиями можно сопоставить только две войны США и их союзников с Ираком, гражданские войны с внешним вмешательством в Югославии, Таджикистане, Афганистане и Ливии. При этом в последние два десятилетия великие державы не вступали даже в скрытой форме в вооруженные конфликты друг с другом (как было в Корее, Индокитае, на Ближнем Востоке) и не оказывали помощь государствам и негосударственным боевым формированиям, против которых воевали другие великие державы.
После 1991 г. не было ни одного кризиса, который поставил бы великие державы на грань вооруженного столкновения. Теперь даже при несогласии с действиями друг друга никому не приходит в голову замышлять глобальную войну или грозить ядерным оружием из-за военной акции Вашингтона в Ираке, стран НАТО в Ливии, России в Грузии и даже в случае удара Израиля или Соединенных Штатов по Ирану. Многие государства проводят модернизацию вооруженных сил и военные реформы, но нет ничего даже отдаленно сопоставимого с гонкой ядерных и обычных вооружений в годы холодной войны.
Распространенное ощущение опасности объясняется более всего контрастом между прошлыми надеждами и нынешними реалиями. После окончания холодной войны и устранения угрозы глобальной ядерной катастрофы во многих странах, которые десятилетиями стояли на передовой линии конфронтации, появились наивные ожидания всеобщей гармонии. Международное сообщество попросту забыло, насколько опасным и насыщенным кровавыми столкновениями был мир до холодной войны – даже если не считать две мировые войны XX века.
Не многие задумывались о том, сколь трудным и полным коварных ловушек окажется переход от биполярности к полицентричному миру. Отсутствовали новые механизмы глобального управления. Сохраняются накопленные арсеналы ядерного оружия, материалов, технологий и знаний. Изменились финансово-экономические и социально-политические условия. Происходит информационная революция, быстрый технический прогресс способствует развитию массовых коммуникаций.
В годы холодной войны над человечеством постоянно тяготела угроза ядерной катастрофы в результате вооруженного столкновения Востока и Запада. На этом фоне региональные и локальные конфликты воспринимались как неизбежные и периферийные проявления соперничества сверхдержав. Они считались «наименьшим злом», поскольку удавалось избегать масштабного столкновения СССР и США, к которому интенсивно готовились оба лагеря.
После окончания холодной войны главная угроза отошла на второй план, но всеобщей гармонии и мира не наступило. После эйфории конца 1980-х и начала 1990-х гг. на авансцену международной безопасности вышли новые многоплановые угрозы и вызовы: этнические и религиозные конфликты, распространение оружия массового уничтожения (ОМУ) и его носителей, международный терроризм и др. Вместо идеологического противостояния капитализма и коммунизма во всех их вариациях пришло столкновение национализмов и религий.
Ощущение опасности особенно сильно в России, поскольку переход от биполярного к полицентричному миру совпал с распадом Советского Союза и всеми его последствиями. Россия более не занимает одной из лидирующих позиций по большинству критериев национальной мощи (кроме количества ядерного оружия, площади территории и запасов природного сырья).
Глобальная расстановка сил
После прекращения борьбы двух коалиций за мировое господство значительно уменьшились и желание, и возможности великих держав выделять большие ресурсы ради контроля событий на региональном уровне. В 1990-е и начале 2000-х гг. эту роль попытались взять на себя Соединенные Штаты и Североатлантический альянс, но кампании в Ираке и Афганистане обошлись им слишком дорого по сравнению с достигнутыми результатами. В условиях начавшегося в 2008 г. экономического кризиса они отошли от этой утопической идеи.
В 1990-е гг. имел место небывалый всплеск миротворческой деятельности ООН. В течение десятилетия предприняты 36 таких операций. Ныне ООН осуществляет 17 миротворческих миссий с участием более 100 тыс. военнослужащих, полицейских и гражданских лиц. Такие операции оказались намного результативнее и дешевле, чем односторонние действия США и НАТО, несмотря на превосходящий военно-технический уровень последних. На основе этого опыта мог сложиться новый механизм взаимодействия великих держав и региональных государств по предотвращению и урегулированию конфликтов. Но он не появился.
Силовой произвол стран Запада во время операций, проводившихся с санкции Совбеза ООН в Югославии в 1999 г. и в Ливии в 2011 г., привел к разочарованию. В 2012 г. проблемы Сирии и Ирана вновь раскололи и парализовали Совет Безопасности. Причем в последнем случае это произошло после нескольких лет взаимодействия, которое выразилось в шести единогласных резолюциях и санкциях против военных аспектов иранской ядерной программы. Новая многосторонняя система миротворчества и предотвращения ядерного распространения оказалась заморожена из-за растущих противоречий членов Совбеза.
После выборов 2011–2012 гг. в России и Соединенных Штатах великие державы вновь вступили в период отчуждения, что пагубно отразится на перспективах их сотрудничества по всему диапазону проблем международной безопасности. При администрации Барака Обамы США и их союзники более не желают брать на себя бремя поддержания международной безопасности. Вашингтон стремится действовать через Совет Безопасности, но не готов поставить военную мощь НАТО, способную выполнять функцию миротворчества, под эгиду ООН, ее норм и институтов. Военные ресурсы Москвы ограничены и направлены на другие задачи. Логика российских внутриполитических процессов не соответствует идеям сотрудничества с Западом. Китай на мировой арене действует весьма сдержанно и исключительно исходя из своих прагматических, прежде всего экономических, интересов.
В отличие от «Концерта наций» XIX века нынешние центры силы не равноудалены, среди них нет согласия о разделе «сфер влияния». Более того, сами прежние «сферы влияния» активно «возмущают» региональную и глобальную политику, огромную роль играют экономические и внутриполитические факторы.
В полицентричном мире вновь наметились линии размежевания. Одна проходит между Россией и НАТО по поводу расширения альянса на восток, соперничества за постсоветское пространство, вокруг применения силы без санкций СБ ООН, по программе ЕвроПРО и использованию жестких санкций против Сирии и Ирана. Другая линия обозначилась между Китаем, с одной стороны, и Соединенными Штатами и их азиатскими союзниками – с другой. Это подталкивает Москву и Пекин к более тесному союзу, подспудно стимулирует ОДКБ/ШОС/БРИКС на создание экономического и политического противовеса Западу (США/НАТО/Израиль/Япония).
Подъем исламского радикализма по идее должен был бы объединить Запад, Россию и Китай. Однако в отличие от конца прошлого и начала нового столетия, ознаменованного терактами в Америке и Европе, а также коалиционной антитеррористической операцией в Афганистане, обострение противоборства суннитов и шиитов в мире ислама внесло дополнительное напряжение в отношения России и Китая с Западом. Первые по политическим и экономическим причинам тяготеют к шиитам, а Запад – к суннитам.
Впрочем, эти тенденции едва ли выльются в новую биполярность. Экономические связи основных членов ШОС/БРИКС с Западом и их потребность в получении инвестиций и новейших западных технологий намного шире, чем взаимосвязь, существующая у них между собой. Внутри ОДКБ/ШОС/БРИКС есть более острые противоречия, чем между государствами этих сообществ и Западом (Индия и Китай, Индия и Пакистан, Казахстан и Узбекистан, Узбекистан и Таджикистан).
Россия: синдром отката
Россия занимает в этой системе отношений уникальное положение. В отличие от всех других государств определение превалирующей внешней ориентации для Москвы – далеко не решенный вопрос, во многом связанный с внутренней борьбой вокруг политической и экономической модернизации. Термин «откат» стал универсальным в определении raison d’etre государственной политики и экономики России. В последнее время это понятие распространилось в определенном смысле и на внешнеполитическую сферу. Начался откат от идеи европейской идентичности России к «евразийству» с сильным националистическим и авторитарно-православным духом в качестве идеологической доктрины.
Концепция партнерства (с Западом) «ради модернизации» заменяется лозунгом опоры на собственные силы – «реиндустриализации», где локомотивом выступала бы «оборонка», а идейным багажом – «положительный опыт» СССР 1930-х годов. (Не уточняется, правда, какой именно опыт: пятилеток, коллективизации, массовых репрессий?) Во внешней политике и экономике заложен крутой поворот от Европы к Азиатско-Тихоокеанскому региону (видимо, забыли, что помимо Китая ведущие страны АТР – Соединенные Штаты, Япония, Южная Корея – тот же Запад).
Скорее всего, это диктуется преимущественно внутренними мотивами: стремлением постсоветской номенклатуры оградить сложившуюся экономическую и политическую систему от давления зарождающегося гражданского общества, ориентированного на пример и содействие Запада в контексте «европейского выбора» России. Однако наметившийся курс ведет к обособлению от передового демократического сообщества, превращению в сырьевой придаток новых индустриальных государств (Китай, Индия, страны АСЕАН), влечет за собой растущую экономико-технологическую и социально-политическую отсталость от динамично развивающегося мира.
Тем не менее диалектика этой темы такова, что под влиянием внутренних и внешних факторов в России довольно скоро может произойти перелом тенденции отката на «круги своя», поскольку такая колея абсолютно противоположна интересам развития страны и магистральному пути современной цивилизации. Осознание подобного императива есть и на самом верху. Так, президент Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию от 2012 года: «Для России нет и не может быть другого политического выбора, кроме демократии. При этом хочу сказать и даже подчеркнуть: мы разделяем именно универсальные демократические принципы, принятые во всем мире… Демократия – это возможность не только выбирать власть, но и постоянно эту власть контролировать…» Что касается экономического развития, президент и тут вполне недвусмысленно декларировал: «Убежден, в центре новой модели роста должна быть экономическая свобода, частная собственность и конкуренция, современная рыночная экономика, а не государственный капитализм».
Остается претворить прекрасные, хотя и совсем не новые концепции развития в жизнь. Это будет нелегко, учитывая, что сегодня Россия очень далека от провозглашенных принципов. И в то же время совершенно ясно, что откат «на круги своя» уведет страну еще дальше от заявленных идеалов. Оговорки относительно особого национального пути России к демократии сколь бесспорны, столь и тривиальны, поскольку любая другая демократическая страна шла к нынешнему положению своим путем – будь то Испания, Швеция или Япония. Декларации президента – не дань моде, а отражение единственно перспективного пути развития великой державы. А значит – скорее раньше, чем позже линия отката будет пересмотрена нынешним или будущим российским руководством.
Военное соперничество
Вероятность вооруженных конфликтов и войн между великими державами сейчас мала, как никогда ранее. Углубляющаяся в процессе глобализации экономическая и социально-информационная взаимозависимость ведущих субъектов мировой политики сделает ущерб в таком конфликте несоизмеримым с любыми политическими и иными выигрышами. Вместе с тем между ними продолжается соперничество с использованием косвенных средств и локальных конфликтов за экономическое, политическое и военное влияние на постсоветском пространстве, в ряде регионов (особенно богатых сырьем) Азии, Африки и Латинской Америки. Также имеют место попытки получения военных и военно-технических преимуществ в целях оказания политико-психологического давления на другие государства (ПРО, высокоточное обычное оружие, включая суборбитальное и гиперзвуковое).
Военная сила используется, чтобы заблаговременно «застолбить» контроль над важными географическими районами и линиями коммуникаций (Восточное Средиземноморье и Черноморье, Ормузский, Малаккский и Тайваньский проливы, Южно-Китайское море, морские трассы Индийского океана, продолжение шельфа и коммуникации Арктики и др.). Интенсивное соперничество с использованием политических рычагов и с политическими же последствиями идет на рынках поставок вооружений и военной техники (в первую очередь в странах Ближнего и Среднего Востока, Азии, Латинской Америки и Северной Африки).
Среди конфликтов великих держав наибольшую опасность представляет столкновение КНР и США из-за Тайваня. Есть вероятность обострения кризиса вокруг островов Южно-Китайского моря, в котором Соединенные Штаты поддержат страны ЮВА против Китая. В целом соперничество Вашингтона и Пекина за доминирование в АТР становится эпицентром глобального военно-политического противостояния и соревнования.
Срыв сотрудничества великих держав и альянсов в борьбе с общими угрозами безопасности (терроризм, распространение ОМУ и его носителей) вполне вообразим, и результат этого – неспособность противостоять новым вызовам и угрозам, нарастающему хаосу в мировой экономике и политике.
Относительно более вероятны конфликты между крупными региональными державами: Индией и Пакистаном, Израилем (вместе с Соединенными Штатами или без них) и Ираном, Северной и Южной Кореей. Опасность всех трех конфликтов усугубляется возможностью их эскалации вплоть до применения ядерного оружия. В этом плане наибольшую угрозу представляет военно-политическое противостояние в Южной Азии.
Локальные конфликты и миротворчество
За последнее десятилетие (2000–2012 гг.) только три из 30 крупных вооруженных конфликтов были межгосударственными (между Индией и Пакистаном, Эфиопией и Эритреей и вооруженная интервенция США в Ираке в 2003 году). Все остальные носили смешанный характер с прямым или косвенным вмешательством извне. Главная угроза международной стабильности будет и впредь проистекать из подобных всплесков насилия. Речь идет о внутренних конфликтах этнической, религиозной или политической природы в нестабильных странах, в которые будут втягиваться другие государства и блоки. При этом целью вмешательства будет как поддержка повстанцев против центрального правительства (Ливия, Сирия), так и помощь центральному правительству в подавлении вооруженной оппозиции (Ирак, Афганистан, Бахрейн). Нередко за спиной локальных конфликтующих сторон стоят крупные державы и корпорации, соперничающие за экономическое и политическое влияние, получающие доход от поставок наемников, вооружений и боевой техники.
На протяжении 1990-х гг. российские военные действовали в 15 миссиях ООН. Однако после 2000 г. участие России в международной миротворческой деятельности стало существенно сокращаться. По численности персонала в миротворческих операциях ООН Россия занимает сегодня 48-е место в мире (в 1990 г. СССР был на 18-м месте, Россия в 1995 г. – на четвертом, а в 2000 г. – на 20-м). В известной степени это стало ответом на проявления неконструктивного курса Соединенных Штатов и их союзников (военные акции против Югославии и Ирака, поддержка «бархатных революций» в Грузии, Украине и Киргизии). Кроме того, снижение миротворческой активности России объясняется тем, что в ее военной политике все больший акцент делается на противостояние и соперничество с США и НАТО. Это пока не вызвало масштабной реакции с их стороны – наоборот, на Западе всячески подчеркивается, что перспективные военные программы (ПРО, высокоточное обычное оружие) не направлены против России. Однако подспудно вызревают концепции и технические проекты, которые могут быть обращены и на противостояние с Москвой.
Несоответствие статуса и международной роли, на которые претендует Россия, и степени ее участия в миротворчестве ООН существенно ослабляет позиции державы как мирового центра силы и субъекта управления процессами международной безопасности. Заметно снижается престиж и влияние страны на мировой арене и в отношениях с другими ведущими державами и союзами, несмотря на запланированное наращивание российской военной мощи.
Военная сила нового типа
Военная сила останется инструментом политики, но в условиях глобализации, растущей экономической и гуманитарно-информационной взаимозависимости стран ее роль относительно уменьшилась по сравнению с другими («мягкими») факторами силы и национальной безопасности. К последним относятся финансово-экономический потенциал и диверсифицированные внешнеэкономические связи, инновационная динамика индустрии и прогресс информационных технологий, инвестиционная активность за рубежом, вес в международных экономических, финансовых и политических организациях и институтах.
Правда, в последние годы военная сила опять стала играть более заметную роль в качестве инструмента прямого или косвенного (через политическое давление) воздействия. Тем не менее «жесткая» военная мощь, оставаясь политическим инструментом, не способна восполнить дефицит «мягкой» силы в качестве фактора международного престижа и влияния. Даже ядерное сдерживание, гарантируя государство от угрозы прямой масштабной агрессии, имеет убывающую ценность в качестве актива, обеспечивающего престиж, статус, способность воздействия на международную безопасность.
К тому же эффективный военный потенциал – это не традиционные армии и флоты, а сила иного качества – прежде всего информационно-сетецентрического типа. Ее определяют финансово-экономические возможности государств, инновационная динамика их индустрии и прогресс информационных технологий, качество международных союзов и стран-союзников.
В применении силы будет и дальше возрастать доля быстротечных локальных военных операций и точных неядерных ударов большой дальности («бесконтактных войн»), а также действий мобильных воинских соединений и частей высокого качества подготовки и оснащенности для специальных операций. К ним относятся: оказание политического давления на то или иное государство, лишение его важных экономических или военных активов (включая атомную промышленность или ядерное оружие), применение санкций, нарушение коммуникаций и блокада.
Операции по принуждению к миру, предотвращению гуманитарных катастроф предстоят и в дальнейшем. С прогнозируемым ростом международного терроризма и трансграничной преступности соответственно будут расширяться вооруженные силы и операции по борьбе с ними. Отдельным направлением станет применение силы для предотвращения распространения ядерного оружия и пресечения доступа к нему террористов.
Реальные угрозы
Десять с лишним лет мирной передышки, которую получила Россия после второй чеченской кампании (прерванной на пять дней конфликтом с Грузией в августе 2008 г.), заканчиваются, безопасность страны может снова оказаться под угрозой, причем вполне реальной. Уход миротворческих сил ООН и контингента НАТО из Афганистана после 2014 г., скорее всего, повлечет реванш движения «Талибан» и захват им власти с последующим наступлением на Центральную Азию на севере и Пакистан на юге. Узбекистан, Таджикистан и Киргизия, а затем и Казахстан окажутся под ударом исламистов, и России придется вступить в новую продолжительную борьбу против воинственного мусульманского фундаментализма. Такая война, наряду с дестабилизацией Пакистана и последующим вовлечением Индии, превратит Центральную и Южную Азию в «черную дыру» насилия и терроризма. Эта зона расширится, если сомкнется с войной внутри и вокруг Ирака и конфронтацией Израиля с Ираном. Не исключен новый конфликт на Южном Кавказе, который перекинется на Северный Кавказ.
В ближне- и среднесрочной перспективе дестабилизация Южной и Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока и Кавказа – это самая большая реальная угроза России, в отличие от мифов, порожденных политическими, ведомственными и корпоративными интересами.
Конечно, желательно, чтобы в борьбе с этой угрозой Россия опиралась на сотрудничество с США, другими странами НАТО, Индией и Китаем. Однако в свете последних трений между великими державами это не выглядит очень вероятным. России нужно готовиться к опоре на собственные силы, и потому оптимальное распределение ресурсов становится вопросом национального выживания. Похоже, однако, что к названной угрозе Россия, как бывало нередко в ее истории, не готова ни в военном, ни в политическом отношениях, отдавая приоритет подготовке к войне с Америкой и Североатлантическим альянсом на суше, на море и в воздушно-комическом пространстве.
В развитии военной силы и систем оружия качественно нового типа Россия все более отстает от Соединенных Штатов, их союзников, а в последнее время – даже от Китая. Нет уверенности в том, что реальные (в отличие от декларативных) плоды военной реформы 2008–2012 гг. и грандиозная государственная программа перевооружения (ГПВ-2020) способны переломить эту тенденцию. Запрограммированный вал производства бронетанковой техники, боевой авиации, кораблей и подводных лодок, ракет и антиракет вовсе не обязательно выведет российские Вооруженные силы на качественно новый уровень.
Нынешняя критика этой реформы, звучащие предложения о ее коррекции в ряде случаев могут усугубить проблемы: нивелировать положительные элементы новой военной политики и возродить негативные стороны прежней системы. К последним относится увеличение срока службы по призыву, отход от контракта, призыв в армию женщин, ослабление роли объединенных стратегических командований в пользу командований видов ВС, возврат к дивизионной структуре и пр.
Делая растущий упор на ядерном сдерживании США (в т.ч. начав программу разработки новой тяжелой МБР), Россия все больше отстает в развитии информационно-управляющих систем, необходимых для боевых операций будущего, координации действий разных видов и родов войск, применения высокоточных оборонительных и наступательных неядерных вооружений. Развертывая малоэффективную воздушно-космическую оборону против НАТО, Россия не обретет надежной защиты от ракетных и авиационных ударов безответственных режимов и террористов с южных азимутов.
Наращивание атомного подводного флота и прожекты строительства атомных авианосцев могут подорвать возможность ВМФ в борьбе с браконьерством, пиратством, контрабандой (наркотиков, оружия, материалов ОМУ), поддержания контроля над морскими коммуникациями и экономическими зонами. Российские ВВС будут обновляться многочисленными типами боевых самолетов, для которых нет дальнобойных высокоточных средств ударов извне зон ПВО противника. Новая бронетехника сухопутных войск не имеет эффективной противоминной защиты, а ракетно-артиллерийские системы не обладают достаточной дальностью и точностью стрельбы.
Поддерживая большую по численности (1 млн человек) и паркам оружия армию, Россия катастрофически проигрывает в стратегической мобильности, которая необходима ввиду размера ее собственной территории и прилегающих зон ответственности в СНГ/ОДКБ. Готовясь к масштабным региональным войнам в Европе, страна демонстрирует низкую эффективность в неожиданных быстротечных локальных конфликтах (как в августе 2008 года). Внедрению новых сложных систем оружия и боевой техники, методам ведения интенсивных операций не соответствует план сохранения более 30% личного состава на базе призывников с 12-месячным сроком службы.
Все это может подорвать возможности России по эффективному применению силы в вероятных конфликтах на южных и восточных рубежах страны, в дальнем зарубежье для миротворческих задач и борьбы с угрозами нового типа. Россия в очередной раз рискует потратить огромные ресурсы, готовясь к прошлым войнам, и окажется неприспособленной к реальным вооруженным конфликтам будущего.
Реформа и техническое перевооружение армии и флота в огромной мере диктуются ведомственными и корпоративными интересами, мотивами символического характера (тяжелая МБР уязвимого шахтного базирования, новый дальний бомбардировщик, истребитель пятого поколения, авианосцы и пр.). Объявляются заведомо нереальные планы технического переоснащения, невыполнение которых в очередной раз повредит национальному престижу. Но есть опасность, что даже реализованная модернизация Вооруженных сил повлечет огромные затраты и накопление гор ненужных вооружений и военной техники, но, вопреки надеждам Сергея Караганова, не обеспечит «парирование вызовов безопасности и подкрепление международно-политического статуса России…», не возвратит ей «роль ключевого гаранта международной безопасности и мира».
Ядерное оружие
За прошедшие два десятилетия после окончания холодной войны запасы этого оружия в количественном отношении сократилось практически на порядок – как в рамках договоров между Россией и США, так и за счет их (а также Британии и Франции) односторонних мер. Однако число стран – обладательниц ЯО увеличилось с семи до девяти (в дополнение к «ядерной пятерке» и Израилю ядерное оружие создали Индия, Пакистан и КНДР, а ЮАР отказалась от него).
Отметим, что за сорок лет холодной войны вдобавок к Соединенным Штатам возникло шесть ядерных государств (семь, если считать атомное испытание Индии в 1974 году). А за 20 лет после холодной войны образовалось еще три ядерных государства (два, если не считать Индию). Добровольно или насильно ядерного оружия либо военных ядерных программ лишились девять стран: Ирак, Ливия, Сирия, ЮАР, Украина, Казахстан, Белоруссия, Бразилия, Аргентина. Более 40 государств присоединилось к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая две ядерные державы (Франция и КНР). В 1995 г. ДНЯО стал бессрочным и самым универсальным международным документом помимо Устава ООН – за его рамками остаются всего четыре страны мира. Таким образом, вопреки общепринятому заблуждению, темпы распространения ЯО после холодной войны снизились. Но они могут резко ускориться в будущем в зависимости от решения проблемы Ирана.
В период холодной войны главным дипломатическим способом предотвращения ядерной катастрофы было ядерное разоружение (СССР и США), а нераспространение играло подчиненную роль. Теперь основным направлением становится ядерное и ракетное нераспространение, а разоружение все больше выполняет функцию вспомогательного стимула и условия сотрудничества великих держав.
Практически все государства признают, что распространение ядерного оружия, критических материалов и технологий превратилось в серьезнейшие новые угрозы международной безопасности XXI века. Однако приоритетность их в восприятии разных держав не одинакова. Так, Соединенные Штаты ставят их на первое место, а Россия отдает приоритет опасности глобализации операций и расширения военной инфраструктуры и контингентов НАТО вблизи российских границ, созданию систем стратегической противоракетной обороны, милитаризации космического пространства, развертыванию стратегических неядерных систем высокоточного оружия. А распространение ядерного оружия и терроризм, с точки зрения Москвы, расположены намного ниже в списке военных опасностей. Указанная асимметрия в восприятии безопасности во многом проистекает из исторической специфики условий и последствий окончания холодной войны. Но она ощутимо затрудняет сотрудничество в борьбе с новыми угрозами.
В обозримый период прогнозируется значительный абсолютный рост атомной энергетики, который имеет самое непосредственное отношение к вероятности распространения ЯО. Всего в мире (по данным на апрель 2011 г.) эксплуатируется 440 энергетических реакторов, строится – 61, запланировано – 158, предложены проекты – 326. К новым угрозам, сопряженным с атомной энергетикой, относится стирание грани между «военным» и «мирным атомом», прежде всего через технологии ядерного топливного цикла. Расширение круга государств – обладателей атомных технологий двойного назначения и запасов ядерных материалов создает в обозримой перспективе новый тип «виртуального распространения» по иранской модели. А именно: формально оставаясь в ДНЯО и под контролем МАГАТЭ, страны могут подойти к «ядерному порогу», т.е. иметь и материалы, и технологии для быстрого (несколько месяцев) перехода к обладанию ядерным оружием.
Таким образом, при глубоком общем сокращении мировых ядерных арсеналов происходит процесс перераспределения военного и мирного «ядерного фактора» с центрального и глобального на региональный уровень отношений третьих стран между собой и с великими державами. Еще большая угроза связана с приобретением ядерных материалов террористическими организациями (например, «Аль-Каидой»), которые могут использовать их в актах «катастрофического терроризма».
Роль ядерного сдерживания в обеспечении безопасности великих держав будет и далее снижаться, вопреки нынешним попыткам России придать ему более значительную роль и несмотря на тупиковую ситуацию в ядерном разоружении. Во-первых, это снижение обусловлено уменьшением вероятности большой войны, тогда как в противодействии другим угрозам роль ЯО весьма сомнительна. Во-вторых, не очевидна эффективность сдерживания против возможных новых стран – обладателей ЯО в силу их политико-психологических и военно-технических особенностей. Тем более ядерное сдерживание не может пресечь действия ядерных террористов. В-третьих, ядерное оружие утрачивает свой статусный характер, все более становясь «оружием бедных» против превосходящих обычных сил противников.
Среди всех крупнейших держав Россия из-за своего геополитического положения, новых границ и внутренней ситуации подвергается наибольшей угрозе ядерного удара в случае распространения ЯО в странах Евразии, как и наибольшей опасности атомного терроризма. Поэтому Москва, по идее, должна была бы стать лидером в ужесточении режимов ядерного и ракетного нераспространения, сделать эти задачи приоритетом своей стратегии безопасности. Однако на практике такая тема стоит отнюдь не на первом месте.
Вопреки расхожим доводам о том, что ядерное разоружение не влияет на нераспространение, которые приводятся вот уже много десятилетий, опыт 1990-х гг. лучше всяких теорий демонстрирует такую взаимосвязь. Самые крупные прорывы в разоружении и мерах укрепления нераспространения имели место в 1987–1998 годах. Негативный опыт 1998–2008 гг. по-своему тоже подтвердил такую взаимосвязь доказательством «от обратного».
Новый Договор по СНВ между Россией и Соединенными Штатами, подписанный в апреле 2010 г. в Праге, возобновил прерванный на десятилетие процесс договорно-правового взаимодействия двух ядерных сверхдержав в сокращении и ограничении вооружений. Благодаря этому относительно успешно в том же году прошла Обзорная конференция по рассмотрению ДНЯО. Объективно Москва и Вашингтон должны быть заинтересованы в дальнейшем взаимном понижении потолков СНВ. Этого требуют как необходимость укрепления режима ядерного нераспространения, так и возможность экономии средств России и США на обновление стратегических арсеналов в 2020–2040 годах. Из всех третьих ядерных держав препятствием этому может стать только Китай ввиду полной неопределенности относительно его нынешних и будущих ядерных сил и огромного экономико-технического потенциала их быстрого наращивания.
Однако в государственных структурах и политических элитах двух держав эти идеи пока не обрели широкой опоры. После 2010 г. камнем преткновения стал вопрос сотрудничества России и Соединенных Штатов (НАТО) в создании ПРО в Европе для защиты от ракетной угрозы третьих стран (прежде всего Ирана).
Новейшие высокоточные вооружения
Окончание холодной войны, процессы распространения ракет и ядерного оружия, технический прогресс повлекли переоценку роли противоракетной обороны в военной политике и военном строительстве США. Их программы переориентировались на неядерный, контактно-ударный перехват (один из успешных проектов СОИ) для защиты от ракетных ударов третьих стран и, возможно, по умолчанию – от ракетно-ядерных сил Китая. Россия восприняла это как угрозу своему потенциалу сдерживания в контексте двустороннего стратегического баланса. С задержкой на несколько лет она последовала данному военно-техническому примеру со своей программой Воздушно-космической обороны (ВКО), но открыто с целью защиты не от третьих стран, а от средств воздушно-космического нападения Соединенных Штатов.
Современный этап характеризуется тем, что, потерпев неудачу в согласовании совместной программы ПРО, стороны приступили к разработке и развертыванию собственных систем обороны национальной территории (и союзников). В обозримый период (10–15 лет) американская программа с ее глобальными, европейскими и тихоокеанскими сегментами предоставит возможность перехвата единичных или малочисленных групповых ракетных пусков третьих стран (и, вероятно, при определенном сценарии – Китая). Но она не создаст сколько-нибудь серьезной проблемы для российского потенциала ядерного сдерживания. Точно так же российская программа ВКО, которая по ряду официально заявленных параметров превосходит программу США/НАТО, не поставит под сомнение ядерное сдерживание со стороны Соединенных Штатов. Этот вывод справедлив как для стратегического баланса держав в рамках нового Договора СНВ от 2010 г., так и для гипотетической вероятности снижения его потолков примерно до тысячи боезарядов при условии поддержания достаточной живучести стратегических сил обеих сторон.
Парадокс нынешней ситуации состоит в том, что Россия гораздо более уязвима для ракетной угрозы третьих стран, чем США, но при этом всецело ориентирована на двусторонний стратегический баланс, возможные опасности его дестабилизации и получения Соединенными Штатами военно-политического превосходства. Кроме того, нельзя не признать, что непомерное преувеличение вероятного влияния американской ПРО на российский потенциал сдерживания имеет внутриполитические причины. Вместе с тем нужно подчеркнуть, что в диалоге с Россией в 2006–2008 гг. и 2010–2011 гг. Вашингтон не проявлял достаточной гибкости и понимания того, что единство с Россией по проблемам нераспространения намного важнее тех или иных технико-географических параметров программы ПРО.
Несмотря на неудачу в налаживании сотрудничества России и НАТО в области противоракетной обороны, в обозримый период будут возрастать как императивы, так и объективные возможности такого взаимодействия. Продолжается развитие ракетных технологий Ирана, КНДР, Пакистана и других государств, отличающихся внутренней нестабильностью и вовлеченностью во внешние конфликты. Одновременно ускоряется распространение технологий и систем ПРО, которые до недавнего времени имелись только у СССР/России и США. Национальные и международные программы ПРО разрабатываются в рамках НАТО, в Израиле, Индии, Японии, Южной Корее, Китае. Эта тенденция, несомненно, является крупнейшим долгосрочным направлением мирового военно-технического развития.
Важнейшей тенденцией (где лидером тоже выступают Соединенные Штаты) является подготовка высокоточных ударных ракетных средств большой дальности в неядерном оснащении, опирающихся на новейшие системы управления и информационного обеспечения, в том числе космического базирования. В обозримой перспективе вероятно создание частично-орбитальных, ракетно-планирующих высокоточных ударных систем.
Ядерное сдерживание в обозримом будущем, скорее всего, останется важным элементом стратегических отношений великих держав и гарантий безопасности их союзников. Но его относительное значение станет уменьшаться по мере появления неядерных высокоточных оборонительных и наступательных систем оружия. В том числе возрастет роль этих новых систем в отношениях взаимного сдерживания и стратегической стабильности между ведущими державами.
Поскольку сдерживание предполагает нацеливание на комплекс объектов другой стороны, постольку обычные системы будут впредь способны частично замещать ядерные вооружения. Важно, однако, чтобы это не создавало иллюзии возможности «экологически чистого» разоружающего удара. Во взаимных интересах устранить такую вероятность как посредством ПРО/ПВО и повышения живучести ядерных сил, так и путем соглашений по ограничению вооружений (прецедент создан новым Договором СНВ, по которому баллистические ракеты с обычными боеголовками засчитываются наравне с ядерными ракетами).
Силы общего назначения
Процесс сокращения ядерного оружия, особенно оперативно-тактического назначения, неизбежно упирается в проблему ограничения и сокращения обычных вооруженных сил и вооружений. Некоторые ядерные и «пороговые» государства (Россия, Пакистан, Израиль, КНДР, Иран) могут рассматривать ядерное оружие как «универсальный уравнитель» превосходства вероятных противников по обычным вооружениям и вооруженным силам общего назначения (СОН).
В настоящее время есть два больших договора по СОН. Это Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ от 1990 г. и Адаптированный ДОВСЕ – АДОВСЕ от 1999 г.) и Договор об ограничении вооруженных сил и вооружений в зоне советско-китайской границы (от 1990 года). Еще есть Договор открытого неба (1992 г.) для Евроатлантического пространства, позволяющий контролировать с воздуха деятельность вооруженных сил стран-участниц, а также Венский документ (2011 г.) по обмену военной формацией в зоне ОБСЕ. Они воплотили идею стратегической стабильности применительно к силам общего назначения, ограничив на паритетной основе количество наступательных тяжелых вооружений и военной техники и уменьшив их концентрацию в зоне соприкосновения союзных вооруженных сил. В рамках этих договоров масштабное нападение сторон друг на друга стало невозможно не только в политическом, но и в военном плане.
Поскольку страны НАТО необоснованно затянули ратификацию АДОВСЕ, Россия в 2007 г. объявила мораторий на его соблюдение. Тупик был закреплен кавказским конфликтом 2008 года. В 2011 г. Договор формально перестали соблюдать страны НАТО. Никаких политических дивидендов ни одна из сторон не получила – только проигрыши. Данный пример (как и выход США из Договора по ПРО в 2002 г.) должен послужить уроком всем, кто склонен лихо и безответственно обращаться с документами об ограничении вооружений.
Удовлетворяющего все стороны решения проблемы в ближайшее время не просматривается именно в силу политических, а не военных факторов: проблем статуса Южной Осетии и Абхазии (независимость которых признали только Россия, Венесуэла и Никарагуа). Но в перспективе всеобщая ратификация Адаптированного ДОВСЕ с рядом существенных поправок стала бы огромным прорывом в укреплении европейской безопасности.
Периодические кампании об «угрозе» Запада или России, подстегиваемые крупными военными учениями, показали, что большие военные группировки не могут просто мирно соседствовать и «заниматься своими делами», если стороны не являются союзниками и не развивают военное сотрудничество. Политические процессы и события, военно-технический прогресс регулярно дают поводы для обострения напряженности.
В частности, если Россия всерьез обеспокоена военными последствиями расширения НАТО, то АДОВСЕ эффективно решает эту проблему с некоторыми поправками. Важнейшим стимулом достижения соглашения может стать начало диалога по ограничению нестратегического ядерного оружия, в котором заинтересованы страны НАТО – но на условиях, реализуемых на практике и приемлемых для Российской Федерации.
* * *
Исходя из вышеизложенного, общую схему стратегии укрепления российской безопасности на обозримый период можно представить следующим образом:
Первое: разумная и экономически посильная военная реформа и техническое переоснащение Вооруженных сил России для сдерживания и парирования реальных, а не надуманных военных угроз и не для того, чтобы, по словам Сергея Караганова, «компенсировать относительную слабость в других факторах силы – экономических, технологических, идейно-психологических». Во-первых, такой компенсации не получится, скорее указанная слабость будет усугублена. Во-вторых, без наращивания других факторов силы не удастся создать современную и эффективную оборону, отвечающую военным вызовам и тем самым укрепляющую престиж и статус России в мире, ее позиции по обеспечению международной безопасности, ограничению и сокращению вооружений.
Второе: сотрудничество великих держав и всех ответственных государств в предотвращении и урегулировании локальных и региональных конфликтов, в борьбе с международным терроризмом, религиозным и этническим экстремизмом, наркобизнесом и другими видами трансграничной преступности. Прекращение произвола больших держав в применении силы, и в то же время существенное повышение эффективности легитимных международных норм и институтов для проведения таких операций, когда они действительно необходимы.
Третье: взаимодействие в пресечении распространения ядерного оружия и других видов ОМУ и его носителей, опасных технологий и материалов. Укрепление норм и институтов ДНЯО, режимов экспортного контроля, ужесточение санкций к их нарушителям.
Четвертое: интенсификация переговоров по ограничению и сокращению ядерных вооружений, стратегических средств в неядерном оснащении, включая частично-орбитальные системы, придание этому процессу многостороннего формата, сотрудничество великих держав в создании систем ПРО.

Угрозы реальные и мнимые
Военная сила в мировой политике начала XXI века
Алексей Арбатов – академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Российской Академии наук, в прошлом участник переговоров по Договору СНВ-1 (1990 г.), заместитель председателя Комитета по обороне Государственной думы (1994–2003 гг.).
Резюме: Значение ядерного сдерживания в обеспечении безопасности великих держав будет и далее снижаться, вопреки нынешним попыткам России придать ему более значительную роль и несмотря на тупиковую ситуацию в ядерном разоружении.
Данная статья развивает и дополняет тезисы автора, изложенные в его выступлении на международной конференции «Россия в мире силы XXI века», приуроченной к 20-летию СВОП и 10-летию журнала «Россия в глобальной политике». Генеральный спонсор конференции – Внешэкономбанк.
Сила оружия, иначе говоря – роль военной силы в политике и войне, более всего определяется характером прогнозируемых и реальных вооруженных конфликтов; военно-техническим прогрессом и доступными для нужд обороны экономическими ресурсами; амбициями и фобиями государственных руководителей и оборонно-промышленных комплексов и их подрядчиков в научных центрах и СМИ.
Предчувствие войны
Вопреки широко распространенным в российской военно-политической элите ощущениям, по объективным показателям угроза большой войны ныне меньше, чем когда-либо в новейшей истории. И дело вовсе не в наличии у ведущих держав ядерного оружия (ЯО). В годы холодной войны его было намного больше, но вероятность глобального вооруженного столкновения оставалась неизмеримо выше.
За последние два десятилетия число международных конфликтов и их масштабы значительно уменьшились по сравнению с любым из 20-летних периодов холодной войны (условно датируемой с конца 40-х до конца 80-х гг. прошедшего века). Достаточно напомнить о войне в Корее, двух войнах в Индокитае, четырех на Ближнем Востоке, войне в Афганистане, индо-пакистанской и ирано-иракской войнах, не говоря уже о многочисленных пограничных и гражданских конфликтах в Азии, Африке и Латинской Америке зачастую с внешним вмешательством. По разным подсчетам, в конфликтах времен холодной войны погибли не менее 20 млн человек. Только Соединенные Штаты потеряли в те годы около 120 тыс. человек – столько же, сколько в Первой мировой войне.
Великие державы прошли через череду кризисов, которые в биполярной системе отношений угрожали вылиться в глобальную войну. К счастью, катастрофы удалось избежать. Многие считают это демонстрацией эффективности ядерного сдерживания, другие (в том числе автор этой статьи) – просто везением, особенно когда речь идет о Карибском кризисе 1962 года.
С начала 1990-х гг. и по сей день по масштабам жертв и разрушений с теми событиями можно сопоставить только две войны США и их союзников с Ираком, гражданские войны с внешним вмешательством в Югославии, Таджикистане, Афганистане и Ливии. При этом в последние два десятилетия великие державы не вступали даже в скрытой форме в вооруженные конфликты друг с другом (как было в Корее, Индокитае, на Ближнем Востоке) и не оказывали помощь государствам и негосударственным боевым формированиям, против которых воевали другие великие державы.
После 1991 г. не было ни одного кризиса, который поставил бы великие державы на грань вооруженного столкновения. Теперь даже при несогласии с действиями друг друга никому не приходит в голову замышлять глобальную войну или грозить ядерным оружием из-за военной акции Вашингтона в Ираке, стран НАТО в Ливии, России в Грузии и даже в случае удара Израиля или Соединенных Штатов по Ирану. Многие государства проводят модернизацию вооруженных сил и военные реформы, но нет ничего даже отдаленно сопоставимого с гонкой ядерных и обычных вооружений в годы холодной войны.
Распространенное ощущение опасности объясняется более всего контрастом между прошлыми надеждами и нынешними реалиями. После окончания холодной войны и устранения угрозы глобальной ядерной катастрофы во многих странах, которые десятилетиями стояли на передовой линии конфронтации, появились наивные ожидания всеобщей гармонии. Международное сообщество попросту забыло, насколько опасным и насыщенным кровавыми столкновениями был мир до холодной войны – даже если не считать две мировые войны XX века.
Не многие задумывались о том, сколь трудным и полным коварных ловушек окажется переход от биполярности к полицентричному миру. Отсутствовали новые механизмы глобального управления. Сохраняются накопленные арсеналы ядерного оружия, материалов, технологий и знаний. Изменились финансово-экономические и социально-политические условия. Происходит информационная революция, быстрый технический прогресс способствует развитию массовых коммуникаций.
В годы холодной войны над человечеством постоянно тяготела угроза ядерной катастрофы в результате вооруженного столкновения Востока и Запада. На этом фоне региональные и локальные конфликты воспринимались как неизбежные и периферийные проявления соперничества сверхдержав. Они считались «наименьшим злом», поскольку удавалось избегать масштабного столкновения СССР и США, к которому интенсивно готовились оба лагеря.
После окончания холодной войны главная угроза отошла на второй план, но всеобщей гармонии и мира не наступило. После эйфории конца 1980-х и начала 1990-х гг. на авансцену международной безопасности вышли новые многоплановые угрозы и вызовы: этнические и религиозные конфликты, распространение оружия массового уничтожения (ОМУ) и его носителей, международный терроризм и др. Вместо идеологического противостояния капитализма и коммунизма во всех их вариациях пришло столкновение национализмов и религий.
Ощущение опасности особенно сильно в России, поскольку переход от биполярного к полицентричному миру совпал с распадом Советского Союза и всеми его последствиями. Россия более не занимает одной из лидирующих позиций по большинству критериев национальной мощи (кроме количества ядерного оружия, площади территории и запасов природного сырья).
Глобальная расстановка сил
После прекращения борьбы двух коалиций за мировое господство значительно уменьшились и желание, и возможности великих держав выделять большие ресурсы ради контроля событий на региональном уровне. В 1990-е и начале 2000-х гг. эту роль попытались взять на себя Соединенные Штаты и Североатлантический альянс, но кампании в Ираке и Афганистане обошлись им слишком дорого по сравнению с достигнутыми результатами. В условиях начавшегося в 2008 г. экономического кризиса они отошли от этой утопической идеи.
В 1990-е гг. имел место небывалый всплеск миротворческой деятельности ООН. В течение десятилетия предприняты 36 таких операций. Ныне ООН осуществляет 17 миротворческих миссий с участием более 100 тыс. военнослужащих, полицейских и гражданских лиц. Такие операции оказались намного результативнее и дешевле, чем односторонние действия США и НАТО, несмотря на превосходящий военно-технический уровень последних. На основе этого опыта мог сложиться новый механизм взаимодействия великих держав и региональных государств по предотвращению и урегулированию конфликтов. Но он не появился.
Силовой произвол стран Запада во время операций, проводившихся с санкции Совбеза ООН в Югославии в 1999 г. и в Ливии в 2011 г., привел к разочарованию. В 2012 г. проблемы Сирии и Ирана вновь раскололи и парализовали Совет Безопасности. Причем в последнем случае это произошло после нескольких лет взаимодействия, которое выразилось в шести единогласных резолюциях и санкциях против военных аспектов иранской ядерной программы. Новая многосторонняя система миротворчества и предотвращения ядерного распространения оказалась заморожена из-за растущих противоречий членов Совбеза.
После выборов 2011–2012 гг. в России и Соединенных Штатах великие державы вновь вступили в период отчуждения, что пагубно отразится на перспективах их сотрудничества по всему диапазону проблем международной безопасности. При администрации Барака Обамы США и их союзники более не желают брать на себя бремя поддержания международной безопасности. Вашингтон стремится действовать через Совет Безопасности, но не готов поставить военную мощь НАТО, способную выполнять функцию миротворчества, под эгиду ООН, ее норм и институтов. Военные ресурсы Москвы ограничены и направлены на другие задачи. Логика российских внутриполитических процессов не соответствует идеям сотрудничества с Западом. Китай на мировой арене действует весьма сдержанно и исключительно исходя из своих прагматических, прежде всего экономических, интересов.
В отличие от «Концерта наций» XIX века нынешние центры силы не равноудалены, среди них нет согласия о разделе «сфер влияния». Более того, сами прежние «сферы влияния» активно «возмущают» региональную и глобальную политику, огромную роль играют экономические и внутриполитические факторы.
В полицентричном мире вновь наметились линии размежевания. Одна проходит между Россией и НАТО по поводу расширения альянса на восток, соперничества за постсоветское пространство, вокруг применения силы без санкций СБ ООН, по программе ЕвроПРО и использованию жестких санкций против Сирии и Ирана. Другая линия обозначилась между Китаем, с одной стороны, и Соединенными Штатами и их азиатскими союзниками – с другой. Это подталкивает Москву и Пекин к более тесному союзу, подспудно стимулирует ОДКБ/ШОС/БРИКС на создание экономического и политического противовеса Западу (США/НАТО/Израиль/Япония).
Подъем исламского радикализма по идее должен был бы объединить Запад, Россию и Китай. Однако в отличие от конца прошлого и начала нового столетия, ознаменованного терактами в Америке и Европе, а также коалиционной антитеррористической операцией в Афганистане, обострение противоборства суннитов и шиитов в мире ислама внесло дополнительное напряжение в отношения России и Китая с Западом. Первые по политическим и экономическим причинам тяготеют к шиитам, а Запад – к суннитам.
Впрочем, эти тенденции едва ли выльются в новую биполярность. Экономические связи основных членов ШОС/БРИКС с Западом и их потребность в получении инвестиций и новейших западных технологий намного шире, чем взаимосвязь, существующая у них между собой. Внутри ОДКБ/ШОС/БРИКС есть более острые противоречия, чем между государствами этих сообществ и Западом (Индия и Китай, Индия и Пакистан, Казахстан и Узбекистан, Узбекистан и Таджикистан).
Россия: синдром отката
Россия занимает в этой системе отношений уникальное положение. В отличие от всех других государств определение превалирующей внешней ориентации для Москвы – далеко не решенный вопрос, во многом связанный с внутренней борьбой вокруг политической и экономической модернизации. Термин «откат» стал универсальным в определении raison d’etre государственной политики и экономики России. В последнее время это понятие распространилось в определенном смысле и на внешнеполитическую сферу. Начался откат от идеи европейской идентичности России к «евразийству» с сильным националистическим и авторитарно-православным духом в качестве идеологической доктрины.
Концепция партнерства (с Западом) «ради модернизации» заменяется лозунгом опоры на собственные силы – «реиндустриализации», где локомотивом выступала бы «оборонка», а идейным багажом – «положительный опыт» СССР 1930-х годов. (Не уточняется, правда, какой именно опыт: пятилеток, коллективизации, массовых репрессий?) Во внешней политике и экономике заложен крутой поворот от Европы к Азиатско-Тихоокеанскому региону (видимо, забыли, что помимо Китая ведущие страны АТР – Соединенные Штаты, Япония, Южная Корея – тот же Запад).
Скорее всего, это диктуется преимущественно внутренними мотивами: стремлением постсоветской номенклатуры оградить сложившуюся экономическую и политическую систему от давления зарождающегося гражданского общества, ориентированного на пример и содействие Запада в контексте «европейского выбора» России. Однако наметившийся курс ведет к обособлению от передового демократического сообщества, превращению в сырьевой придаток новых индустриальных государств (Китай, Индия, страны АСЕАН), влечет за собой растущую экономико-технологическую и социально-политическую отсталость от динамично развивающегося мира.
Тем не менее диалектика этой темы такова, что под влиянием внутренних и внешних факторов в России довольно скоро может произойти перелом тенденции отката на «круги своя», поскольку такая колея абсолютно противоположна интересам развития страны и магистральному пути современной цивилизации. Осознание подобного императива есть и на самом верху. Так, президент Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию от 2012 года: «Для России нет и не может быть другого политического выбора, кроме демократии. При этом хочу сказать и даже подчеркнуть: мы разделяем именно универсальные демократические принципы, принятые во всем мире… Демократия – это возможность не только выбирать власть, но и постоянно эту власть контролировать…» Что касается экономического развития, президент и тут вполне недвусмысленно декларировал: «Убежден, в центре новой модели роста должна быть экономическая свобода, частная собственность и конкуренция, современная рыночная экономика, а не государственный капитализм».
Остается претворить прекрасные, хотя и совсем не новые концепции развития в жизнь. Это будет нелегко, учитывая, что сегодня Россия очень далека от провозглашенных принципов. И в то же время совершенно ясно, что откат «на круги своя» уведет страну еще дальше от заявленных идеалов. Оговорки относительно особого национального пути России к демократии сколь бесспорны, столь и тривиальны, поскольку любая другая демократическая страна шла к нынешнему положению своим путем – будь то Испания, Швеция или Япония. Декларации президента – не дань моде, а отражение единственно перспективного пути развития великой державы. А значит – скорее раньше, чем позже линия отката будет пересмотрена нынешним или будущим российским руководством.
Военное соперничество
Вероятность вооруженных конфликтов и войн между великими державами сейчас мала, как никогда ранее. Углубляющаяся в процессе глобализации экономическая и социально-информационная взаимозависимость ведущих субъектов мировой политики сделает ущерб в таком конфликте несоизмеримым с любыми политическими и иными выигрышами. Вместе с тем между ними продолжается соперничество с использованием косвенных средств и локальных конфликтов за экономическое, политическое и военное влияние на постсоветском пространстве, в ряде регионов (особенно богатых сырьем) Азии, Африки и Латинской Америки. Также имеют место попытки получения военных и военно-технических преимуществ в целях оказания политико-психологического давления на другие государства (ПРО, высокоточное обычное оружие, включая суборбитальное и гиперзвуковое).
Военная сила используется, чтобы заблаговременно «застолбить» контроль над важными географическими районами и линиями коммуникаций (Восточное Средиземноморье и Черноморье, Ормузский, Малаккский и Тайваньский проливы, Южно-Китайское море, морские трассы Индийского океана, продолжение шельфа и коммуникации Арктики и др.). Интенсивное соперничество с использованием политических рычагов и с политическими же последствиями идет на рынках поставок вооружений и военной техники (в первую очередь в странах Ближнего и Среднего Востока, Азии, Латинской Америки и Северной Африки).
Среди конфликтов великих держав наибольшую опасность представляет столкновение КНР и США из-за Тайваня. Есть вероятность обострения кризиса вокруг островов Южно-Китайского моря, в котором Соединенные Штаты поддержат страны ЮВА против Китая. В целом соперничество Вашингтона и Пекина за доминирование в АТР становится эпицентром глобального военно-политического противостояния и соревнования.
Срыв сотрудничества великих держав и альянсов в борьбе с общими угрозами безопасности (терроризм, распространение ОМУ и его носителей) вполне вообразим, и результат этого – неспособность противостоять новым вызовам и угрозам, нарастающему хаосу в мировой экономике и политике.
Относительно более вероятны конфликты между крупными региональными державами: Индией и Пакистаном, Израилем (вместе с Соединенными Штатами или без них) и Ираном, Северной и Южной Кореей. Опасность всех трех конфликтов усугубляется возможностью их эскалации вплоть до применения ядерного оружия. В этом плане наибольшую угрозу представляет военно-политическое противостояние в Южной Азии.
Локальные конфликты и миротворчество
За последнее десятилетие (2000–2012 гг.) только три из 30 крупных вооруженных конфликтов были межгосударственными (между Индией и Пакистаном, Эфиопией и Эритреей и вооруженная интервенция США в Ираке в 2003 году). Все остальные носили смешанный характер с прямым или косвенным вмешательством извне. Главная угроза международной стабильности будет и впредь проистекать из подобных всплесков насилия. Речь идет о внутренних конфликтах этнической, религиозной или политической природы в нестабильных странах, в которые будут втягиваться другие государства и блоки. При этом целью вмешательства будет как поддержка повстанцев против центрального правительства (Ливия, Сирия), так и помощь центральному правительству в подавлении вооруженной оппозиции (Ирак, Афганистан, Бахрейн). Нередко за спиной локальных конфликтующих сторон стоят крупные державы и корпорации, соперничающие за экономическое и политическое влияние, получающие доход от поставок наемников, вооружений и боевой техники.
На протяжении 1990-х гг. российские военные действовали в 15 миссиях ООН. Однако после 2000 г. участие России в международной миротворческой деятельности стало существенно сокращаться. По численности персонала в миротворческих операциях ООН Россия занимает сегодня 48-е место в мире (в 1990 г. СССР был на 18-м месте, Россия в 1995 г. – на четвертом, а в 2000 г. – на 20-м). В известной степени это стало ответом на проявления неконструктивного курса Соединенных Штатов и их союзников (военные акции против Югославии и Ирака, поддержка «бархатных революций» в Грузии, Украине и Киргизии). Кроме того, снижение миротворческой активности России объясняется тем, что в ее военной политике все больший акцент делается на противостояние и соперничество с США и НАТО. Это пока не вызвало масштабной реакции с их стороны – наоборот, на Западе всячески подчеркивается, что перспективные военные программы (ПРО, высокоточное обычное оружие) не направлены против России. Однако подспудно вызревают концепции и технические проекты, которые могут быть обращены и на противостояние с Москвой.
Несоответствие статуса и международной роли, на которые претендует Россия, и степени ее участия в миротворчестве ООН существенно ослабляет позиции державы как мирового центра силы и субъекта управления процессами международной безопасности. Заметно снижается престиж и влияние страны на мировой арене и в отношениях с другими ведущими державами и союзами, несмотря на запланированное наращивание российской военной мощи.
Военная сила нового типа
Военная сила останется инструментом политики, но в условиях глобализации, растущей экономической и гуманитарно-информационной взаимозависимости стран ее роль относительно уменьшилась по сравнению с другими («мягкими») факторами силы и национальной безопасности. К последним относятся финансово-экономический потенциал и диверсифицированные внешнеэкономические связи, инновационная динамика индустрии и прогресс информационных технологий, инвестиционная активность за рубежом, вес в международных экономических, финансовых и политических организациях и институтах.
Правда, в последние годы военная сила опять стала играть более заметную роль в качестве инструмента прямого или косвенного (через политическое давление) воздействия. Тем не менее «жесткая» военная мощь, оставаясь политическим инструментом, не способна восполнить дефицит «мягкой» силы в качестве фактора международного престижа и влияния. Даже ядерное сдерживание, гарантируя государство от угрозы прямой масштабной агрессии, имеет убывающую ценность в качестве актива, обеспечивающего престиж, статус, способность воздействия на международную безопасность.
К тому же эффективный военный потенциал – это не традиционные армии и флоты, а сила иного качества – прежде всего информационно-сетецентрического типа. Ее определяют финансово-экономические возможности государств, инновационная динамика их индустрии и прогресс информационных технологий, качество международных союзов и стран-союзников.
В применении силы будет и дальше возрастать доля быстротечных локальных военных операций и точных неядерных ударов большой дальности («бесконтактных войн»), а также действий мобильных воинских соединений и частей высокого качества подготовки и оснащенности для специальных операций. К ним относятся: оказание политического давления на то или иное государство, лишение его важных экономических или военных активов (включая атомную промышленность или ядерное оружие), применение санкций, нарушение коммуникаций и блокада.
Операции по принуждению к миру, предотвращению гуманитарных катастроф предстоят и в дальнейшем. С прогнозируемым ростом международного терроризма и трансграничной преступности соответственно будут расширяться вооруженные силы и операции по борьбе с ними. Отдельным направлением станет применение силы для предотвращения распространения ядерного оружия и пресечения доступа к нему террористов.
Реальные угрозы
Десять с лишним лет мирной передышки, которую получила Россия после второй чеченской кампании (прерванной на пять дней конфликтом с Грузией в августе 2008 г.), заканчиваются, безопасность страны может снова оказаться под угрозой, причем вполне реальной. Уход миротворческих сил ООН и контингента НАТО из Афганистана после 2014 г., скорее всего, повлечет реванш движения «Талибан» и захват им власти с последующим наступлением на Центральную Азию на севере и Пакистан на юге. Узбекистан, Таджикистан и Киргизия, а затем и Казахстан окажутся под ударом исламистов, и России придется вступить в новую продолжительную борьбу против воинственного мусульманского фундаментализма. Такая война, наряду с дестабилизацией Пакистана и последующим вовлечением Индии, превратит Центральную и Южную Азию в «черную дыру» насилия и терроризма. Эта зона расширится, если сомкнется с войной внутри и вокруг Ирака и конфронтацией Израиля с Ираном. Не исключен новый конфликт на Южном Кавказе, который перекинется на Северный Кавказ.
В ближне- и среднесрочной перспективе дестабилизация Южной и Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока и Кавказа – это самая большая реальная угроза России, в отличие от мифов, порожденных политическими, ведомственными и корпоративными интересами.
Конечно, желательно, чтобы в борьбе с этой угрозой Россия опиралась на сотрудничество с США, другими странами НАТО, Индией и Китаем. Однако в свете последних трений между великими державами это не выглядит очень вероятным. России нужно готовиться к опоре на собственные силы, и потому оптимальное распределение ресурсов становится вопросом национального выживания. Похоже, однако, что к названной угрозе Россия, как бывало нередко в ее истории, не готова ни в военном, ни в политическом отношениях, отдавая приоритет подготовке к войне с Америкой и Североатлантическим альянсом на суше, на море и в воздушно-комическом пространстве.
В развитии военной силы и систем оружия качественно нового типа Россия все более отстает от Соединенных Штатов, их союзников, а в последнее время – даже от Китая. Нет уверенности в том, что реальные (в отличие от декларативных) плоды военной реформы 2008–2012 гг. и грандиозная государственная программа перевооружения (ГПВ-2020) способны переломить эту тенденцию. Запрограммированный вал производства бронетанковой техники, боевой авиации, кораблей и подводных лодок, ракет и антиракет вовсе не обязательно выведет российские Вооруженные силы на качественно новый уровень.
Нынешняя критика этой реформы, звучащие предложения о ее коррекции в ряде случаев могут усугубить проблемы: нивелировать положительные элементы новой военной политики и возродить негативные стороны прежней системы. К последним относится увеличение срока службы по призыву, отход от контракта, призыв в армию женщин, ослабление роли объединенных стратегических командований в пользу командований видов ВС, возврат к дивизионной структуре и пр.
Делая растущий упор на ядерном сдерживании США (в т.ч. начав программу разработки новой тяжелой МБР), Россия все больше отстает в развитии информационно-управляющих систем, необходимых для боевых операций будущего, координации действий разных видов и родов войск, применения высокоточных оборонительных и наступательных неядерных вооружений. Развертывая малоэффективную воздушно-космическую оборону против НАТО, Россия не обретет надежной защиты от ракетных и авиационных ударов безответственных режимов и террористов с южных азимутов.
Наращивание атомного подводного флота и прожекты строительства атомных авианосцев могут подорвать возможность ВМФ в борьбе с браконьерством, пиратством, контрабандой (наркотиков, оружия, материалов ОМУ), поддержания контроля над морскими коммуникациями и экономическими зонами. Российские ВВС будут обновляться многочисленными типами боевых самолетов, для которых нет дальнобойных высокоточных средств ударов извне зон ПВО противника. Новая бронетехника сухопутных войск не имеет эффективной противоминной защиты, а ракетно-артиллерийские системы не обладают достаточной дальностью и точностью стрельбы.
Поддерживая большую по численности (1 млн человек) и паркам оружия армию, Россия катастрофически проигрывает в стратегической мобильности, которая необходима ввиду размера ее собственной территории и прилегающих зон ответственности в СНГ/ОДКБ. Готовясь к масштабным региональным войнам в Европе, страна демонстрирует низкую эффективность в неожиданных быстротечных локальных конфликтах (как в августе 2008 года). Внедрению новых сложных систем оружия и боевой техники, методам ведения интенсивных операций не соответствует план сохранения более 30% личного состава на базе призывников с 12-месячным сроком службы.
Все это может подорвать возможности России по эффективному применению силы в вероятных конфликтах на южных и восточных рубежах страны, в дальнем зарубежье для миротворческих задач и борьбы с угрозами нового типа. Россия в очередной раз рискует потратить огромные ресурсы, готовясь к прошлым войнам, и окажется неприспособленной к реальным вооруженным конфликтам будущего.
Реформа и техническое перевооружение армии и флота в огромной мере диктуются ведомственными и корпоративными интересами, мотивами символического характера (тяжелая МБР уязвимого шахтного базирования, новый дальний бомбардировщик, истребитель пятого поколения, авианосцы и пр.). Объявляются заведомо нереальные планы технического переоснащения, невыполнение которых в очередной раз повредит национальному престижу. Но есть опасность, что даже реализованная модернизация Вооруженных сил повлечет огромные затраты и накопление гор ненужных вооружений и военной техники, но, вопреки надеждам Сергея Караганова, не обеспечит «парирование вызовов безопасности и подкрепление международно-политического статуса России…», не возвратит ей «роль ключевого гаранта международной безопасности и мира».
Ядерное оружие
За прошедшие два десятилетия после окончания холодной войны запасы этого оружия в количественном отношении сократилось практически на порядок – как в рамках договоров между Россией и США, так и за счет их (а также Британии и Франции) односторонних мер. Однако число стран – обладательниц ЯО увеличилось с семи до девяти (в дополнение к «ядерной пятерке» и Израилю ядерное оружие создали Индия, Пакистан и КНДР, а ЮАР отказалась от него).
Отметим, что за сорок лет холодной войны вдобавок к Соединенным Штатам возникло шесть ядерных государств (семь, если считать атомное испытание Индии в 1974 году). А за 20 лет после холодной войны образовалось еще три ядерных государства (два, если не считать Индию). Добровольно или насильно ядерного оружия либо военных ядерных программ лишились девять стран: Ирак, Ливия, Сирия, ЮАР, Украина, Казахстан, Белоруссия, Бразилия, Аргентина. Более 40 государств присоединилось к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая две ядерные державы (Франция и КНР). В 1995 г. ДНЯО стал бессрочным и самым универсальным международным документом помимо Устава ООН – за его рамками остаются всего четыре страны мира. Таким образом, вопреки общепринятому заблуждению, темпы распространения ЯО после холодной войны снизились. Но они могут резко ускориться в будущем в зависимости от решения проблемы Ирана.
В период холодной войны главным дипломатическим способом предотвращения ядерной катастрофы было ядерное разоружение (СССР и США), а нераспространение играло подчиненную роль. Теперь основным направлением становится ядерное и ракетное нераспространение, а разоружение все больше выполняет функцию вспомогательного стимула и условия сотрудничества великих держав.
Практически все государства признают, что распространение ядерного оружия, критических материалов и технологий превратилось в серьезнейшие новые угрозы международной безопасности XXI века. Однако приоритетность их в восприятии разных держав не одинакова. Так, Соединенные Штаты ставят их на первое место, а Россия отдает приоритет опасности глобализации операций и расширения военной инфраструктуры и контингентов НАТО вблизи российских границ, созданию систем стратегической противоракетной обороны, милитаризации космического пространства, развертыванию стратегических неядерных систем высокоточного оружия. А распространение ядерного оружия и терроризм, с точки зрения Москвы, расположены намного ниже в списке военных опасностей. Указанная асимметрия в восприятии безопасности во многом проистекает из исторической специфики условий и последствий окончания холодной войны. Но она ощутимо затрудняет сотрудничество в борьбе с новыми угрозами.
В обозримый период прогнозируется значительный абсолютный рост атомной энергетики, который имеет самое непосредственное отношение к вероятности распространения ЯО. Всего в мире (по данным на апрель 2011 г.) эксплуатируется 440 энергетических реакторов, строится – 61, запланировано – 158, предложены проекты – 326. К новым угрозам, сопряженным с атомной энергетикой, относится стирание грани между «военным» и «мирным атомом», прежде всего через технологии ядерного топливного цикла. Расширение круга государств – обладателей атомных технологий двойного назначения и запасов ядерных материалов создает в обозримой перспективе новый тип «виртуального распространения» по иранской модели. А именно: формально оставаясь в ДНЯО и под контролем МАГАТЭ, страны могут подойти к «ядерному порогу», т.е. иметь и материалы, и технологии для быстрого (несколько месяцев) перехода к обладанию ядерным оружием.
Таким образом, при глубоком общем сокращении мировых ядерных арсеналов происходит процесс перераспределения военного и мирного «ядерного фактора» с центрального и глобального на региональный уровень отношений третьих стран между собой и с великими державами. Еще большая угроза связана с приобретением ядерных материалов террористическими организациями (например, «Аль-Каидой»), которые могут использовать их в актах «катастрофического терроризма».
Роль ядерного сдерживания в обеспечении безопасности великих держав будет и далее снижаться, вопреки нынешним попыткам России придать ему более значительную роль и несмотря на тупиковую ситуацию в ядерном разоружении. Во-первых, это снижение обусловлено уменьшением вероятности большой войны, тогда как в противодействии другим угрозам роль ЯО весьма сомнительна. Во-вторых, не очевидна эффективность сдерживания против возможных новых стран – обладателей ЯО в силу их политико-психологических и военно-технических особенностей. Тем более ядерное сдерживание не может пресечь действия ядерных террористов. В-третьих, ядерное оружие утрачивает свой статусный характер, все более становясь «оружием бедных» против превосходящих обычных сил противников.
Среди всех крупнейших держав Россия из-за своего геополитического положения, новых границ и внутренней ситуации подвергается наибольшей угрозе ядерного удара в случае распространения ЯО в странах Евразии, как и наибольшей опасности атомного терроризма. Поэтому Москва, по идее, должна была бы стать лидером в ужесточении режимов ядерного и ракетного нераспространения, сделать эти задачи приоритетом своей стратегии безопасности. Однако на практике такая тема стоит отнюдь не на первом месте.
Вопреки расхожим доводам о том, что ядерное разоружение не влияет на нераспространение, которые приводятся вот уже много десятилетий, опыт 1990-х гг. лучше всяких теорий демонстрирует такую взаимосвязь. Самые крупные прорывы в разоружении и мерах укрепления нераспространения имели место в 1987–1998 годах. Негативный опыт 1998–2008 гг. по-своему тоже подтвердил такую взаимосвязь доказательством «от обратного».
Новый Договор по СНВ между Россией и Соединенными Штатами, подписанный в апреле 2010 г. в Праге, возобновил прерванный на десятилетие процесс договорно-правового взаимодействия двух ядерных сверхдержав в сокращении и ограничении вооружений. Благодаря этому относительно успешно в том же году прошла Обзорная конференция по рассмотрению ДНЯО. Объективно Москва и Вашингтон должны быть заинтересованы в дальнейшем взаимном понижении потолков СНВ. Этого требуют как необходимость укрепления режима ядерного нераспространения, так и возможность экономии средств России и США на обновление стратегических арсеналов в 2020–2040 годах. Из всех третьих ядерных держав препятствием этому может стать только Китай ввиду полной неопределенности относительно его нынешних и будущих ядерных сил и огромного экономико-технического потенциала их быстрого наращивания.
Однако в государственных структурах и политических элитах двух держав эти идеи пока не обрели широкой опоры. После 2010 г. камнем преткновения стал вопрос сотрудничества России и Соединенных Штатов (НАТО) в создании ПРО в Европе для защиты от ракетной угрозы третьих стран (прежде всего Ирана).
Новейшие высокоточные вооружения
Окончание холодной войны, процессы распространения ракет и ядерного оружия, технический прогресс повлекли переоценку роли противоракетной обороны в военной политике и военном строительстве США. Их программы переориентировались на неядерный, контактно-ударный перехват (один из успешных проектов СОИ) для защиты от ракетных ударов третьих стран и, возможно, по умолчанию – от ракетно-ядерных сил Китая. Россия восприняла это как угрозу своему потенциалу сдерживания в контексте двустороннего стратегического баланса. С задержкой на несколько лет она последовала данному военно-техническому примеру со своей программой Воздушно-космической обороны (ВКО), но открыто с целью защиты не от третьих стран, а от средств воздушно-космического нападения Соединенных Штатов.
Современный этап характеризуется тем, что, потерпев неудачу в согласовании совместной программы ПРО, стороны приступили к разработке и развертыванию собственных систем обороны национальной территории (и союзников). В обозримый период (10–15 лет) американская программа с ее глобальными, европейскими и тихоокеанскими сегментами предоставит возможность перехвата единичных или малочисленных групповых ракетных пусков третьих стран (и, вероятно, при определенном сценарии – Китая). Но она не создаст сколько-нибудь серьезной проблемы для российского потенциала ядерного сдерживания. Точно так же российская программа ВКО, которая по ряду официально заявленных параметров превосходит программу США/НАТО, не поставит под сомнение ядерное сдерживание со стороны Соединенных Штатов. Этот вывод справедлив как для стратегического баланса держав в рамках нового Договора СНВ от 2010 г., так и для гипотетической вероятности снижения его потолков примерно до тысячи боезарядов при условии поддержания достаточной живучести стратегических сил обеих сторон.
Парадокс нынешней ситуации состоит в том, что Россия гораздо более уязвима для ракетной угрозы третьих стран, чем США, но при этом всецело ориентирована на двусторонний стратегический баланс, возможные опасности его дестабилизации и получения Соединенными Штатами военно-политического превосходства. Кроме того, нельзя не признать, что непомерное преувеличение вероятного влияния американской ПРО на российский потенциал сдерживания имеет внутриполитические причины. Вместе с тем нужно подчеркнуть, что в диалоге с Россией в 2006–2008 гг. и 2010–2011 гг. Вашингтон не проявлял достаточной гибкости и понимания того, что единство с Россией по проблемам нераспространения намного важнее тех или иных технико-географических параметров программы ПРО.
Несмотря на неудачу в налаживании сотрудничества России и НАТО в области противоракетной обороны, в обозримый период будут возрастать как императивы, так и объективные возможности такого взаимодействия. Продолжается развитие ракетных технологий Ирана, КНДР, Пакистана и других государств, отличающихся внутренней нестабильностью и вовлеченностью во внешние конфликты. Одновременно ускоряется распространение технологий и систем ПРО, которые до недавнего времени имелись только у СССР/России и США. Национальные и международные программы ПРО разрабатываются в рамках НАТО, в Израиле, Индии, Японии, Южной Корее, Китае. Эта тенденция, несомненно, является крупнейшим долгосрочным направлением мирового военно-технического развития.
Важнейшей тенденцией (где лидером тоже выступают Соединенные Штаты) является подготовка высокоточных ударных ракетных средств большой дальности в неядерном оснащении, опирающихся на новейшие системы управления и информационного обеспечения, в том числе космического базирования. В обозримой перспективе вероятно создание частично-орбитальных, ракетно-планирующих высокоточных ударных систем.
Ядерное сдерживание в обозримом будущем, скорее всего, останется важным элементом стратегических отношений великих держав и гарантий безопасности их союзников. Но его относительное значение станет уменьшаться по мере появления неядерных высокоточных оборонительных и наступательных систем оружия. В том числе возрастет роль этих новых систем в отношениях взаимного сдерживания и стратегической стабильности между ведущими державами.
Поскольку сдерживание предполагает нацеливание на комплекс объектов другой стороны, постольку обычные системы будут впредь способны частично замещать ядерные вооружения. Важно, однако, чтобы это не создавало иллюзии возможности «экологически чистого» разоружающего удара. Во взаимных интересах устранить такую вероятность как посредством ПРО/ПВО и повышения живучести ядерных сил, так и путем соглашений по ограничению вооружений (прецедент создан новым Договором СНВ, по которому баллистические ракеты с обычными боеголовками засчитываются наравне с ядерными ракетами).
Силы общего назначения
Процесс сокращения ядерного оружия, особенно оперативно-тактического назначения, неизбежно упирается в проблему ограничения и сокращения обычных вооруженных сил и вооружений. Некоторые ядерные и «пороговые» государства (Россия, Пакистан, Израиль, КНДР, Иран) могут рассматривать ядерное оружие как «универсальный уравнитель» превосходства вероятных противников по обычным вооружениям и вооруженным силам общего назначения (СОН).
В настоящее время есть два больших договора по СОН. Это Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ от 1990 г. и Адаптированный ДОВСЕ – АДОВСЕ от 1999 г.) и Договор об ограничении вооруженных сил и вооружений в зоне советско-китайской границы (от 1990 года). Еще есть Договор открытого неба (1992 г.) для Евроатлантического пространства, позволяющий контролировать с воздуха деятельность вооруженных сил стран-участниц, а также Венский документ (2011 г.) по обмену военной формацией в зоне ОБСЕ. Они воплотили идею стратегической стабильности применительно к силам общего назначения, ограничив на паритетной основе количество наступательных тяжелых вооружений и военной техники и уменьшив их концентрацию в зоне соприкосновения союзных вооруженных сил. В рамках этих договоров масштабное нападение сторон друг на друга стало невозможно не только в политическом, но и в военном плане.
Поскольку страны НАТО необоснованно затянули ратификацию АДОВСЕ, Россия в 2007 г. объявила мораторий на его соблюдение. Тупик был закреплен кавказским конфликтом 2008 года. В 2011 г. Договор формально перестали соблюдать страны НАТО. Никаких политических дивидендов ни одна из сторон не получила – только проигрыши. Данный пример (как и выход США из Договора по ПРО в 2002 г.) должен послужить уроком всем, кто склонен лихо и безответственно обращаться с документами об ограничении вооружений.
Удовлетворяющего все стороны решения проблемы в ближайшее время не просматривается именно в силу политических, а не военных факторов: проблем статуса Южной Осетии и Абхазии (независимость которых признали только Россия, Венесуэла и Никарагуа). Но в перспективе всеобщая ратификация Адаптированного ДОВСЕ с рядом существенных поправок стала бы огромным прорывом в укреплении европейской безопасности.
Периодические кампании об «угрозе» Запада или России, подстегиваемые крупными военными учениями, показали, что большие военные группировки не могут просто мирно соседствовать и «заниматься своими делами», если стороны не являются союзниками и не развивают военное сотрудничество. Политические процессы и события, военно-технический прогресс регулярно дают поводы для обострения напряженности.
В частности, если Россия всерьез обеспокоена военными последствиями расширения НАТО, то АДОВСЕ эффективно решает эту проблему с некоторыми поправками. Важнейшим стимулом достижения соглашения может стать начало диалога по ограничению нестратегического ядерного оружия, в котором заинтересованы страны НАТО – но на условиях, реализуемых на практике и приемлемых для Российской Федерации.
* * *
Исходя из вышеизложенного, общую схему стратегии укрепления российской безопасности на обозримый период можно представить следующим образом:
Первое: разумная и экономически посильная военная реформа и техническое переоснащение Вооруженных сил России для сдерживания и парирования реальных, а не надуманных военных угроз и не для того, чтобы, по словам Сергея Караганова, «компенсировать относительную слабость в других факторах силы – экономических, технологических, идейно-психологических». Во-первых, такой компенсации не получится, скорее указанная слабость будет усугублена. Во-вторых, без наращивания других факторов силы не удастся создать современную и эффективную оборону, отвечающую военным вызовам и тем самым укрепляющую престиж и статус России в мире, ее позиции по обеспечению международной безопасности, ограничению и сокращению вооружений.
Второе: сотрудничество великих держав и всех ответственных государств в предотвращении и урегулировании локальных и региональных конфликтов, в борьбе с международным терроризмом, религиозным и этническим экстремизмом, наркобизнесом и другими видами трансграничной преступности. Прекращение произвола больших держав в применении силы, и в то же время существенное повышение эффективности легитимных международных норм и институтов для проведения таких операций, когда они действительно необходимы.
Третье: взаимодействие в пресечении распространения ядерного оружия и других видов ОМУ и его носителей, опасных технологий и материалов. Укрепление норм и институтов ДНЯО, режимов экспортного контроля, ужесточение санкций к их нарушителям.
Четвертое: интенсификация переговоров по ограничению и сокращению ядерных вооружений, стратегических средств в неядерном оснащении, включая частично-орбитальные системы, придание этому процессу многостороннего формата, сотрудничество великих держав в создании систем ПРО.

Сергей Лавров: Россия открыта для сотрудничества с новой администрацией США
Глава российского МИД о том, как Москва планирует выстраивать диалог с руководством США и Китая
Аркадий Дубнов Федор Лукьянов
В минувший вторник президент США Барак Обама был переизбран на второй срок, а в скором времени съезд Компартии Китая выберет новое поколение партийных руководителей. О том, как Москва планирует выстраивать диалог с руководством двух крупнейших экономик мира, а также об усилиях России в сирийском урегулировании, о военной помощи странам Центральной Азии и сотрудничестве с оппозицией в странах СНГ в интервью газете "Московские новости" рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
— Как нам относиться к победе Обамы?
— Как к выбору американского народа и воле избирателей.
Я читал про разные несоответствия и нарушения прав избирателей. Но никто не собирается подвергать сомнению объявленные результаты американских выборов. Естественно, мы будем продолжать работать с администрацией, которая, скорее всего, обновится. В частности Хиллари Клинтон заявила, что она едва ли останется на посту госсекретаря США. Во время встречи во Владивостоке «на полях» саммита АТЭС она мне это также подтвердила.
Мы готовы работать с США на основе равноправия, взаимной выгоды и взаимного уважения. У наших стран есть немало совпадающих интересов. В то же время имеются и расхождения по некоторым вопросам — без этого никогда не обходится. Будем готовы идти настолько далеко в углублении сотрудничества, насколько будет готова к этому американская администрация.
— Иногда создается впечатление, что вне зависимости от личностей президента и госсекретаря США мы застряли в одном круге вопросов, которые обсуждаются уже много лет. Однако в настоящее время уже новая, совсем другая повестка дня, которая не связана с наследием прошлого. Возникают новые проблемы в Азии и Арктике. Готовы ли мы предложить новую повестку и готовы ли американцы ее обсуждать?
— По большому счету мы ее уже обсуждаем. Давно российско-американские отношения не ограничиваются только взаимным подсчетом боеголовок. Хотя Договор СНВ-3, безусловно, важный документ и нас вполне удовлетворяет то, как он реализуется сейчас на практике, и, как я понимаю, американцев тоже, но отношения России и США гораздо богаче. На встрече президентов Путина и Обамы в Лос-Кабосе в июне 2012 г. особый акцент был сделан на необходимости укреплять экономическую «подушку» отношений. Стыдно иметь такой объем взаимной торговли и взаимных инвестиций. Российский президент предложил подумать о создании механизма, который позволял бы отслеживать проблемы с инвестиционным климатом, с которыми сталкиваются российские компании в США и американские — в России. По понятным причинам предвыборного периода эта идея пока не была облечена во что-то конкретное, но она остается на повестке дня, и как только администрация в Вашингтоне перегруппируется и будет готова к работе, мы к задумке вернемся.
В российско-американских отношениях наблюдается неплохое продвижение на направлении, которое практически отсутствовало долгое время, – это контакты между людьми. Мы подписали договоренности об облегчении визового режима для бизнесменов и туристов, которые существенно облегчают этим категориям граждан условия поездок. Здесь я также упомянул бы вступившее в силу неделю назад Соглашение о сотрудничестве в сфере международного усыновления/удочерения. Эта тема создавала и продолжает создавать большие раздражители в общественном мнении. Надеюсь, осуществление Соглашения позволит снимать шероховатости и избегать ненужных полемических эмоциональных всплесков. Главное — навести порядок в том, как приемные дети чувствуют себя в новых приемных семьях и как к ним относятся.
Безусловно, системообразующим фактором в двусторонних отношениях является российско-американская Президентская комиссия. Сейчас в ней 21 рабочая группа, которые занимаются различными вопросами — от сельского хозяйства до космоса, от борьбы с терроризмом до продвижения инноваций. Это достаточно полезный инструмент. После завершения в США всех выборных баталий, когда займемся спокойной работой, мы хотим его активизировать, потому что в последнее время он стал работать пассивно. Механизм действительно очень полезный, у нас такого никогда не было. Функционировала комиссия Гор – Черномырдин, но она занималась только экономикой. А здесь — практически все мыслимые сферы двустороннего взаимодействия, включая международную тематику.
Считаю, что все это в совокупности создает неплохой задел для углубления отношений на всех направлениях, не ограничиваясь только проблематикой международной безопасности и стратегической стабильности. Безусловно, Азиатско-Тихоокеанский регион привлекает к себе все большее внимание. Президент Обама объявил его чуть ли ни главным географическим и геополитическим направлением американских внешнеполитических усилий. Мы также подчеркнули его значимость проведением саммита АТЭС во Владивостоке в нынешнем году и доказали, что хотим активно интегрировать Дальний Восток и Восточную Сибирь Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанский регион, использовать его потенциал для решения внутренних задач по подъему этих территорий России, одновременно вносить свой вклад в интеграционные процессы в данном регионе и подключаться к быстро набирающему обороты интеграционному взаимодействию в самых разных форматах. Эти вопросы обсуждаем с американскими коллегами по двусторонней линии и на многосторонних форумах. Говорили об этом с госсекретарем США Хиллари Клинтон во время встречи во Владивостоке «на полях» саммита АТЭС.
У наших стран есть общий интерес в развитии сравнительно нового механизма сотрудничества – Восточноазиатские саммиты (ВАС), которые были инициированы странами-членами АСЕАН и их ключевыми партнерами. Россия и США стали участниками ВАС два года назад. Повестка дня предлагает достаточно широкий набор тем, где мы можем плодотворно сотрудничать. Проблематика включает нераспространение ядерного оружия, борьбу с терроризмом и наркотрафиком, пиратство, которое в Азиатско-Тихоокеанском регионе является серьезной проблемой, сотрудничество в различных сферах социально-экономического взаимодействия государств.
Мы также являемся участниками ежегодных мероприятий в рамках Регионального форума АСЕАН по безопасности. Одним из его инструментов является Совет министров обороны стран АСЕАН плюс партнеры, в котором участвуют Россия и США.
Накопление форматов, где наши пути пересекаются, где мы участвуем вместе с американцами, создают неплохую политическую массу для того, чтобы мы старались наращивать позитивные совместные действия, при сохранении расхождений по ряду вопросов развития региона. Безусловно, мы не предрешаем за страны региона, какой они хотели бы видеть свою часть мира, но вносим свой вклад в выработку коллективных подходов.
Например, нам кажется, что пришла пора всерьез заняться рассмотрением перспектив построения архитектуры коллективной безопасности в Азиатском-Тихоокеанском регионе, а в АТР ее сейчас нет. Даже в Европе существует пусть «рыхлая» и проблематичная ОБСЕ, которая включает все страны Евроатлантики. А в Азиатском-Тихоокеанском регионе такой «зонтичной» структуры не существует. Там развиваются асеановские процессы с опорой на необходимость совместной выработки принципов взаимодействия. Мы их поддерживаем. Параллельно функционируют военно-политические блоки с участием США и их ближайших союзников – Японии, Республики Корея, Австралии. Наш интерес в том, чтобы блоковые обязательства не наносили ущерба безопасности региона в целом. Это проявляется, в частности, в том, что в Азии, как и в Европе, разворачиваются компоненты глобальной американской ПРО, которые, конечно, будут создавать риски для других стран региона. Обо всем этом нужно откровенно говорить.
То же относится и к Арктике, где ситуация не так сложна с точки зрения военных блоков, которых там нет (хотя некоторые наши партнеры пытаются зазвать туда НАТО). Мы возражаем против этого. Считаем, что такой шаг станет очень плохим сигналом к милитаризации Арктики, если даже НАТО захочет туда просто зайти и освоится. Милитаризации Арктики нужно избегать всеми возможными способами.
В целом, у нас налажено неплохое сотрудничество с США по арктическим делам в рамках Арктического совета, куда входят 8 государств. Интерес к этой структуре сейчас повышается, т.к. она доказывает, что вполне способна эффективно решать имеющиеся здесь вопросы. Полтора года назад (14 мая 2011 г. в Нууке) впервые было принято межгосударственное юридически обязывающее Cоглашение о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасании на море в Арктике. Сейчас для принятия на очередной министерской встрече членов Арктического совета, которая пройдет весной 2013 г., подготовлено многостороннее межправительственное соглашение о предотвращении разливов нефти на море с жесткими требованиями в отношении тех, кто занимается там нефтеразведкой и нефтедобычей. Параллельно с этим идут важные дискуссии, вырабатываются договоренности по другим аспектам защиты окружающей среды, сохранению уклада жизни коренных народов Севера и т.п.
У Арктического совета, безусловно, большие перспективы. Его участники стараются решать сохраняющиеся проблемы по разделу континентального шельфа в полном соответствии с международным правом, прежде всего с Конвенцией по морскому праву 1982 г. Об этом говорится в декларациях, принятых министрами иностранных дел Арктического совета, и этот принцип мы свято оберегаем. Здесь никаких расхождений у нас нет.
Так что в российско-американской повестке дня есть достаточно новые пункты. Думаю, их будет больше.
— Сергей Викторович, Вы только что вернулись с Ближнего Востока, были в Египте, Иордании, где сделали несколько резких и серьезных заявлений, в частности, оценивая готовящуюся резолюцию Совбеза ООН по Сирии. Что было первопричиной столь жестких заявлений?
— Во-первых, на данный момент никакой резолюции не подготовлено. Но нам постоянно бросают упрек в том, что Россия блокирует принятие резолюции в Совбезе ООН. Какой резолюции? Ответ очевиден — резолюции с угрозой применения санкций против тех, кто не прекратит боевые действия и вооруженную активность. При этом наши партнеры, высказывающие нам эти упреки, говорят, что без всяких вариантов и при всех обстоятельствах Башар Асад должен уйти, а оппозиция должна продолжать ему сопротивляться. При этом публично заявляется, что оппозиция будет продолжать получать финансовую, материальную и военную помощь в виде поставок оружия.
Мы хотим понять, как призывы к принятию резолюции, которая будет обращена ко всем воюющим сторонам в Сирии с требованием прекратить это делать и остановить кровопролитие, сочетаются с безоговорочно заявляемой позицией о том, что Асад должен уйти, а оппозиция должна получать всемерную поддержку пока не добьется этой цели. Ответа на этот вопрос нет. В этой ситуации мы вынуждены делать вывод сами, что нас пытаются заманить в дискуссию в Совбезе ООН, в результате которой Совет Безопасности поддержал бы одну сторону конфликта. Мы это уже проходили и знаем, как ловко некоторые наши партнеры умеют интерпретировать резолюции Совбеза ООН и как они делают то, что в этих резолюциях абсолютно не разрешено. Поэтому нынешняя ситуация для нас совершенно ясна.
Я говорил об этом в Египте и Иордании, потому что сирийский кризис был одной из центральных тем моих бесед в Каире с президентом Египта Мурси, министром иностранных дел Амром, генеральным секретарем Лиги арабских государств(ЛАГ), со специальным представителем ООН и ЛАГ по Сирии Лахдаром Брахими; в Иордании – с королем Абдаллой II, министром иностранных дел Джодой, а также с бывшем премьер-министром Сирии, а ныне сирийским оппозиционером Риатом Хаджипом, который сейчас находится в Аммане. С ним я провел встречу, как мы встречаемся за границей и в Москве практически со всеми оппозиционными политиками, побуждая их к выполнению договоренностей, достигнутых в Женеве 30 июня с.г. постоянными членами Совбеза ООН, ЛАГ, Турцией, Евросоюзом, бывшим специальным посланником ООН/ЛАГ по Сирии Кофи Аннаном. Цель усилий – заставить всех – и правительство, и оппозицию прекратить насилие, сесть за стол переговоров, предварительно назначив переговорщиков, и согласовывать параметры и другие аспекты т.н. «переходного управляющего органа» и его состав на основе обоюдного согласия. Это записано в Женевском коммюнике.
Мы ровно этим и занимаемся в наших контактах с правительством и оппозицией, требуя от тех и других одного и того же. К сожалению, некоторые другие участники женевской встречи не хотят разговаривать с правительством. Оппозиции же они говорят: «Ваше дело правое, действуйте до победного конца».
Я уже не раз высказывался на эту тему. Если главный приоритет – прекратить насилие, то без всяких резолюций нужно сделать то, о чем договорились в Женеве. Каждый внешний игрок должен «навалиться» на ту сирийскую сторону, на которую он имеет влияние. Необходимо, чтобы все мы сделали это синхронно с одинаковой искренностью и напором, заставив их перестать стрелять. Убежден, что это в наших коллективных силах. Но это возможно, если настоящий приоритет — спасение жизней сирийцев.
Если же приоритет, фигурально говоря, — «голова Башара Асада», его уход или свержение — то сторонники такого подхода должны понимать, что они будут за это платить, но не своими жизнями, а жизнями сирийцев. Потому что Асад никуда не уходит и никуда не уйдет, кто бы ему ни говорил. Его нельзя уговорить на подобный шаг. Он слышит, как его характеризуют западные лидеры, некоторые арабские страны, соседние государства, которые грозят всем, чем можно. Он, так же как и оппозиция хочет воевать до победного конца. Оппозицию настраивает на это Запад, а Асад сам настроен на то, чтобы в этой ситуации биться до победы — хотя победы там быть не может. Буквально вчера Совет Безопасности заслушивал информацию Секретариата ООН о ситуации в Сирии. Представляя свои оценки и оценки, к которым пришел на данном этапе Лахдар Брахими, Секретариат констатировал, что обе стороны вознамерились продолжать военное противостояние в расчете на достижение победы.
Одновременно Брахими делает вывод, что победы там быть не может. Значит, будет идти война на истощение, на уничтожение людей, культурных ценностей, древнейших памятников архитектуры, таких как Алеппо, который, по печальной иронии, находится под охраной ЮНЕСКО. Вот и все, что можно сказать на эту тему.
Надо всем быть честными в выполнении того, о чем договариваемся. Резолюция – это уже «от лукавого». Если нет желания заставить одновременно всех, кто воюет, прекратить это делать, и подобное подменяется призывом принять резолюцию, то мы понимаем, о какой резолюции пойдет речь или как эту резолюцию ее сторонники собираются использовать. Об этом мы честно говорим нашим партнерам.
Не считаю, что это, как Вы выразились, какая-то резкость. Это — честная и откровенная позиция. Мы не хотим недомолвок и прямо заявляем о ней. Наши партнеры немного маскируют свой подход, говоря, что Россия не хочет принимать резолюцию. Звучит, вроде, серьезно: мол, есть желание принять резолюцию, и в этом нет ничего плохого, а вот Россия не хочет. В действительности дело обстоит так, как я рассказываю.
— Складывается ощущение, что в последние две недели на Западе начинает довольно заметно меняться отношение к сирийской оппозиции. С одной стороны, звучит разочарование, что ее невозможно объединить, с другой — растут опасения, что в рядах противников режима начинают доминировать совсем не те силы, на которых вначале делалась ставка. Может ли это как-то изменить позицию Запада?
Во время поездки Вы выступили в поддержку идеи региональной «четверки» в составе соседей Сирии и наиболее вовлеченных стран. Считаете ли Вы реальным объединить Саудовскую Аравию и Иран в одном формате?
— Безусловно, мы полагаем, что оппозицию нужно объединять на платформе готовности выполнять призыв женевской «Группы действий». Пока ее сплачивают на платформе борьбы с Б.Асадом до победного конца. Это неправильно.
Действительно, меняются подходы западных и региональных спонсоров к оппозиции, а также к формам, которые может принять это желаемое объединение. Американцы, как известно, уже сказали, что не считают, что во главе этого процесса должен стоять сирийский национальный совет, который поддерживается некоторыми странами региона – Турцией, Катаром.
В эти дни проходит встреча в Дохе, где присутствуют сирийский национальный совет и другие группы, но не все. Например, крупнейшие внутренние оппозиционные структуры, например, находящийся в Сирии Национальный координационный комитет (НКК), в последний момент отказались ехать в Доху.
Думаю, что усилия зарубежных спонсоров оппозиции по ее объединению будут продолжены, и они займут еще какое-то время. Мы стараемся повлиять на этот процесс. Не присутствуем на этих мероприятиях, но встречаемся индивидуально со всеми их участниками и в России (к нам скоро с очередным визитом должны приехать руководители НКК), и за границей (моя вчерашняя встреча в Аммане с бывшим премьер-министром Сирии Хиджапом), настраивая их на диалог с правительством. Необходимо объединяться именно на такой основе. Пока у большинства из оппозиционеров звучит мантра, что с Асадом никаких переговоров быть не может. Если это так, то мы опять возвращаемся к логике, о которой я уже говорил.
Считаем, что инициативу должны проявлять страны региона, где проживают братские по отношению к сирийцам народы. ЛАГ, которая достаточно активно пыталась заниматься сирийским кризисом, хотя не совсем непредвзято, сейчас не слышна и не видна. Я поинтересовался у Генерального секретаря Лиги арабских государств Набиля Эль-Араби причинами такой пассивности. Он сказал, что, по мнению ЛАГ, египетская инициатива должна какое-то время сейчас поработать. Мы с этим согласны. Египет и лично президент Мурси предложил разумную идею, чтобы Египет, Саудовская Аравия, Турция и Иран сформировали подобную группу, которая бы разрабатывала инициативу по преодолению сирийского кризиса.
Полагаю, что предложенный состав весьма удачен. По крайней мере, это предложение исправляет ошибку, допущенную в ходе подготовки женевской встречи, куда из-за позиции США не пригласили Иран и Саудовскую Аравию, на чем настаивала Россия. Египетская инициатива восполняет данное упущение.
На встрече с президентом Мурси в Каире я высказал российскую позицию в поддержку этого предложения. Он подтвердил, что считает его актуальным, оно остается в силе, и что эта группа из четырех региональных стран является «ядром», которое способно прирастать другими участниками. Он отметил, что был бы заинтересован и в подключении России к инициативе. Об этом можно подумать.
Естественно, если подключаться, то не в одиночку, а с кем-то из стран Запада и, конечно, с Китаем. В идеале – пять постоянных членов Совета Безопасности ООН могли бы работать вместе с этой региональной «четверкой». Но пока «четверка» не может регулярно собираться в полном составе. Как Вы упомянули, у Саудовской Аравии есть противопоказания на предмет контактов с иранцами. Считаю, что здесь надо избавляться от идеологических шор. Трудно решить сирийскую проблему без Ирана, как и без Саудовской Аравии, Турции, Египта, без соседей Сирии и многих других стран. Поэтому важен достигнутый в Женеве консенсус, который, несмотря на отсутствие Ирана и Саудовской Аравии, ими поддерживается, поскольку собрал всех, кто влияет на ситуацию извне. Если мы сможем задействовать этот богатый потенциал, чтобы выправить ситуацию, заставить стороны начать политический диалог, перевести ситуацию в переговорное русло, мы сделаем очень полезный первый шаг.
Нет гарантии, что конфликтующие стороны договорятся. Противники такого подхода говорят, что сначала Башар Асад должен уйти, утверждают, что это все бесперспективно, потому что, если Асад останется и кто-то от его правительства будет вести переговоры с оппозицией, то они будут иметь право вето. Да, они будут иметь право вето, потому что в Женевском коммюнике записано, что итогом, «продуктом» таких переговоров должно быть общее согласие. Но и оппозиция будет иметь право вето. И пока мы их не усадим за стол переговоров, не поймем, есть или нет возможности реализовать этот шанс.
— Сергей Викторович, грядет 2014 год. Приближается срок, когда международный контингент должен вывести большую часть своих войск из Афганистана. В связи с этим контрапункт всех угроз перемещается в регион Центральной Азии, являющийся для нас жизненно важным. Как Вы оцениваете серьезное закрепление России в этом регионе после визитов президента Путина в Таджикистан и Киргизию, зафиксировавшее там российское военное присутствие. Существует расхожее мнение среди элит Центральной Азии, что данный шаг якобы представляет угрозу для региона, т.к. в российском руководстве возрождаются некие имперские тенденции, — Москва силой возвращается в Азию. Как бы Вы ответили на этот вопрос, учитывая, что по сообщениям прессы, Россия готова вложиться не финансами, а вооружениями и подготовкой кадров больше чем на миллиард долларов для переоснащения киргизских вооруженных сил?
— Желающих «мутить воду» хватает не только в этих странах. Россия не утвердила там свое военное присутствие, оно там было утверждено много лет назад по просьбе упомянутых государств. Мы договорились об условиях продления пребывания наших военных баз на территории Таджикистана и Киргизии. Эти базы обеспечивают интересы безопасности, прежде всего Киргизии и Таджикистана, а также других стран, находящихся на южных рубежах Организации Договора о коллективной безопасности. И, конечно же, они, по понятным причинам, отвечают интересам обеспечения безопасности России — угрозы терроризма и наркотрафика перетекают из Афганистана через Центральную Азию к нам и далее в Европу. В известной степени мы еще и работаем на снижение угроз безопасности Европы.
Не вижу причин, по которым какая-то часть региональных элит усматривала бы в наших договоренностях некий скрытый смысл. Потому что, помимо продления пребывания российских военных баз на территории этих двух государств, мы в Киргизии одобрили целый ряд соглашений, касающихся сотрудничества в гидроэнергетической, электроэнергетической, кредитно-финансовой сферах.
Пусть скептики или те, кто высказывают опасения по поводу неких «скрытых замыслов» в этих договоренностях, объяснят, каким образом соглашения по развитию экономики Киргизии, решению кредитно-финансовых проблем поддерживают ту или иную часть элит? По-моему, всем должно быть очевидно, что это в интересах всего киргизского народа и государства. То же относится и к отношениям России с Таджикистаном. Наши страны — союзники, у нас имеются взаимные союзнические обязательства.
Да, не за горами 2014 год, когда Международные силы содействия безопасности (МССБ), выполнив свою миссии — что еще нужно доказать (по-моему, это недоказуемая вещь) – уйдут из Афганистана. Там останется американское военное присутствие в виде, кажется, шести достаточно мощных военных баз, общей численностью порядка 25-30 тыс. военнослужащих. Это немалый контингент.
Мы хотим понять, если миссия по устранению проистекающих из Афганистана угроз считается выполненной, и контингенты выводятся, то об этом, во-первых, необходимо доложить Совету Безопасности ООН, выдавшему мандат на присутствие там МССБ. Во-вторых, с какой целью там остаются мощно оснащенные американские базы? Пока американские коллеги, видимо, были заняты предвыборными хлопотами, мы ответа не получили. Но его нужно иметь, ведь речь идет о регионе, где переплетаются многочисленные интересы.
Нас, прежде всего, волнуют интересы Российской Федерации, наших союзников, которые живут в данном регионе. Эти базы и военно-техническая помощь, которая будет и далее оказываться и Киргизии, и Таджикистану, т.к. она предоставлялась на протяжении всех этих лет, — все это будет нацелено на выполнение наших взаимных обязательств, записанных в статье четвертой Договора о коллективной безопасности. Она гласит, что мы все обязуемся защищать суверенитет, независимость и территориальную целостность государств-членов ДКБ. Поэтому спекуляции о том, что готовится замена западных контингентов в Афганистане на силы ОДКБ, несерьезны для тех, кто мало-мальски понимают в политике и разбираются в ситуации в регионе.
— Есть вопросы, связанные с Евразийским экономическим союзом в составе России, Белоруссии и Казахстана. В некоторых столицах высказывается серьезное сомнение в том, что тенденция к созданию наднациональных органов, к чему склоняются в Москве, угрожает самостоятельности либо суверенитету этих стран. Как бы Вы ответили на подобные опасения, учитывая, что это довольно существенная часть общественного дискурса в этих странах?
— Начнем с того, что главным инициатором евразийской интеграции был президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев, который многие годы, даже возможно, с легким упреком высказывался о пассивности других членов СНГ в том, что касается углубленного и ускоренного развития интеграционных процессов.
Во-вторых, наднациональные полномочия уже делегированы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), созданной для руководства процессами в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства по вопросам, находящимся в ее компетенции. Это не все вопросы. Но в круг полномочий ЕЭК входит ряд торговых и инвестиционных вопросов. Это признается и нашими партнерами по ВТО и в Европейском союзе, поскольку участие России во Всемирной торговой организации и наши переговоры с ЕС надо выстраивать с учетом этого нового обстоятельства.
Решение о делегировании ЕЭК таких полномочий было принято президентами России, Белоруссии и Казахстана. Это все, что мы сейчас можем сказать на эту тему. Если мы углубляем интеграцию и к 2015 году выходим на создание Евразийского экономического союза — как об этом записано в Договоре о евразийской экономической интеграции — подписанном президентами трех стран в ноябре 2011 г., то количество делегированных этой новой структуре вопросов возрастет в сравнении с тем объемом, который входит в компетенцию ЕЭК. Это будет суверенное решение трех президентов.
Речь не идет о какой-либо насильственной интеграции. Повторю, это была идея Казахстана, и ее активно поддержали Россия и Белоруссия. Я слышал сомнения в необходимости «загонять» всех в единый парламент из опасения, что парламентарии начинают там что-то свое создавать, и входящие в эту «тройку» государства лишаются законодательной суверенности.
В мае с.г. по инициативе парламентов трех наших стран была образована рабочая группа по парламентскому измерению Евразийской экономической интеграции. Это логично, поскольку в рамках создания Таможенного союза было уже подписано большое количество договоров и соглашений. Единое экономическое пространство потребовало и еще потребует значительного объема межгосударственных договоренностей, подлежащих ратификации. Если мы всерьез говорим о Евразийском экономическом союзе, то число договорных документов только возрастет. Поэтому состыковка процедур, применяемых парламентариями, выработка общих подходов, в том числе и к срокам ратификации того, что делается и подписывается на уровне исполнительной власти, — очевидная необходимость. Не нужно видеть в этом попытку искусственно продвигать парламентское измерение Евразийской экономической интеграции.
Уже стали поговаривать о намерении сделать Евразийский парламент по образцу Европарламента, который избирался бы напрямую во всех трех государствах. Я о таких планах не слышал. Наверное, есть смысл в согласовании вопросов, которые появляются в связи с необходимостью ратификационного сопровождения и интеграционных процессов, а также использования имеющегося опыта создания парламентских ассамблей, куда парламенты делегируют своих представителей. Подобные ассамблеи не имеют никакой законодательной роли, но служат площадкой для обмена идеями, информацией и сопоставления подходов. Такая парламентская ассамблея есть у ОДКБ, ЕврАзЭС, СНГ.
— Недавно на одной из встреч с афганскими парламентариями они неожиданно начали горячо критиковать российскую позицию по Сирии. Не возникает ли ситуация, когда наша позиция по сирийскому конфликту, очень четкая, логичная и много раз изложенная Вами, не понимается и не разделяется большинством мусульманских стран? Не теряем ли мы традиционно хорошие отношения с исламским миром, учитывая происходящие сложные процессы внутри России? Есть ли у нас четкое представление о стратегических целях в отношениях России с мусульманским миром?
— Я не ощущаю охлаждения в отношениях России с исламским миром в связи с событиями в Сирии. Наших контактов с мусульманскими странами не становится меньше. Нам высказывают понимание российской позиции и наших действий. Сирийский вопрос в мировом дискурсе просто беспрецедентно политизирован и идеологизирован. Идут подспудные процессы, о которых мало кто хочет говорить, прежде всего, потому что они касаются ситуации внутри исламского мира. Я не хочу вдаваться в детали, но процессы нас волнуют, т.к. чреваты расколом мусульман.
Попытки одного течения в исламе доминировать над всеми или поощряя последних заниматься тем же, ни к чему хорошему не приведут. Об этом доверительно и с большой тревогой говорят все наши собеседники, в том числе из стран ближневосточного региона, а также из других мусульманских государств.
Думаю, сейчас была бы очень востребована Амманская декларация, одобренная королем Иордании, который собрал в 2005 г. под своим председательством всех основных исламских богословов. Документ провозглашал всех мусульман братьями и содержал важные политические констатации необходимости избегать любых попыток подковерной борьбы внутри одной из великих мировых религий. Есть люди, которые на практике исповедуют другие принципы, и это очень печально.
Возвращаясь к основному вопросу, хочу сказать, что у нас не прекращаются контакты с коллегами из мусульманских стран. Они приезжают к нам с той же регулярностью, как и раньше. Только в этом году я, например, принимал своих коллег из Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирака. Премьер-министр Ирака был с визитом и провел переговоры с президентом Путиным. На «на полях» саммита ШОС Путин встречался с президентом Афганистана Карзаем. Аналогичные контакты запланированы и на следующий год.
Даже в ходе бесед с представителями сирийской оппозиции они начинают разъяснение своих взглядов с выражения убежденности, что Россия должна оставаться на Ближнем Востоке, и это является уравновешивающим фактором в регионе, помогает обеспечивать стабильность и ощущение комфортности для расположенных здесь государств. И я думаю, это правда. По крайней мере, мы ведь никого не учим, никому уроки не преподаем. И они ценят, что мы ведем разговор взаимоуважительно и на равных, как, собственно, мы стараемся работать со всеми.
— Недавно Вы были с визитом в Пакистане. Наверное, в ходе переговоров шла речь, в том числе, об усилении в регионе роли России и Пакистана. Можно ли рассчитывать, что у Москвы и Исламабада сложатся достаточно доверительные отношения, в том числе по афганскому вопросу, но не потому, что у американцев плохие отношения с Пакистаном, а независимо от этого?
— Мы уже давно выстраиваем с Пакистаном довольно устойчивые отношения. Начали делать это задолго до того, как Пакистан разругался с американцами. Считаю, что использование беспилотников без согласия суверенного государства для ударов по целям на его территории нарушает международное право.
Отношения с Пакистаном мы развиваем не против кого-то, не против Соединенных Штатов, а в интересах собственно возобновления нашего сотрудничества, которое было достаточно разветвленным. Прежде всего, хотим его восстанавливать в торгово-экономической сфере. Есть большой интерес пакистанцев к тому, чтобы российские компании помогли модернизировать Карачинский металлургический комбинат, который создавался еще при техническом содействии Советского Союза.
Безусловно, Пакистан — один из ключевых государств, без которого решать вопросы внешних усилий по содействию стабилизации Афганистане невозможно. Мы всячески поощряем афгано-пакистанский диалог, который с разной степенью интенсивности и результативности все-таки не прерывается. Поощряем диалог между Индией и Пакистаном, нормализацию отношений между этими двумя крупными государствами Южной Азии. И в афганских делах сейчас вырисовывается ситуация, когда все региональные державы, которые мало-мальски могут влиять на процессы в Афганистане, так или иначе, участвуют в Шанхайской организации сотрудничества (либо в качестве членов, либо наблюдателей). И этот факт нужно использовать. В рамках ШОС есть контактная группа по Афганистану, созданная в период, когда Президент Афганистана участвовал в саммитах ШОС в качестве специального приглашенного. С 2012 г. Афганистан получил статус наблюдателя в ШОС вместе с Индией, Пакистаном, Ираном и Монголией.
Это открывает дополнительные возможности, поскольку с ШОС связаны страны Центральной Азии, Россия и практически все соседи Афганистана. А если взять еще и Турцию, которая стала партнером по диалогу, то получается довольно интересная комбинация. Есть общее понимание, что «площадку» ШОС нужно активнее использовать для продвижения коллективных региональных подходов, которые были бы приемлемы афганцам, но которые также важны для внешнего сопровождения происходящих в Афганистане процессов.
— В Китае открывается съезд КПК. Понятно, что там другие система и процедуры, и сюрпризы, скорее всего, невозможны. Тем не менее, налицо очень важные процессы прихода к власти пятого поколения лидеров. По Вашему мнению, можно ли ожидать от нового поколения китайского руководства каких-то нюансов или у нас отношения с Китаем настолько линейные, что все понятно на долгое время вперед?
— Прилагательное «линейные» принято употреблять для обозначения каких-то упрощенных подходов. В данном случае это не так. У нас очень разветвленные, богатые отношения с Китаем, которые имеют характер стратегического партнерства и взаимодействия, как записано в законополагающих российских документах. Эти отношения будут углубляться. В этом заинтересованы и мы, и китайцы. Причем мы хотим повышать высокотехнологичную составляющую нашего сотрудничества, — это крайне важная задача.
Что касается новых китайских лидеров, которые придут буквально в самые ближайшие дни, как я понимаю, по итогам очередного съезда Компартии Китая, то наш диалог с Пекином традиционно выстраивается практически на всех уровнях. Помимо высшего эшелона развиваются контакты, по сути, со всеми членами Политбюро ЦК КПК, из числа которых и формируется резерв для представления кандидатур на съезд. Так что мы не ожидаем сюрпризов. Убеждены, что китайская сторона продолжит углублять партнерство с Россией, обеспечивать преемственность. Мы к этому готовы и в этом заинтересованы.
— В отечественных традициях отношения с партнерами складываются так, что мы предпочитаем иметь дело только с официальной властью. Но сирийский прецедент показывает, что у нас было бы больше возможностей влиять на ситуацию, если бы до этого поддерживали отношения с сирийской оппозицией. Можем ли мы рассчитывать, что в Москве начнут с большим вниманием относиться к политической оппозиции среди наших партнеров, в том числе в странах СНГ? Либо это наш принципиальный подход, и мы имеем дело только с теми, кого мы знаем?
— Мы не работаем против действующих властей где бы то ни было. Это — принцип межгосударственных отношений, и мы его придерживаемся. В то же время мы развиваем контакты с видными политическими деятелями, не входящими в правящие круги, в большинстве стран, включая СНГ — будь то Украина или государства Центральной Азии. И это нормально, если политики работают в конституционном поле своей страны, будучи или оппозиционными, или просто готовящими себя к вхождению во власть. Могут быть самые разные варианты. Нет никаких запретов, наоборот, мы всячески поощряем наших послов и сотрудников посольств и генеральных консульств к такого рода контактам. Заинтересованы, чтобы в странах СНГ мы действительно укрепляли общение между людьми, создавали максимально комфортные условия для этого. Здесь важно вовлекать в диалог всех, кто представляют различные слои населения.
Когда в Сирии, как говорится, «прорвалось», когда начались беспорядки, столкновения, применение далеко не всегда пропорционального насилия (а сила порождает силу), когда спираль закрутилась на политической арене, появились оппозиционеры, тогда оказалось, что мы практически со всеми были знакомы. Нам не составило никакого труда тут же с ними установить контакты. Многие из них были из «спящих ячеек» — никаких политических заявлений не делали, жили в Европе, Америке, где-то еще. Мы работали и с находившимися в Сирии оппозиционерами. Нынешний вице-премьер Джамиль – представитель такой системной оппозиции, сейчас он работает в составе правительства. Мы его знаем десятки лет. То же самое можно сказать и о руководителях Национального координационного комитета: Хасан Абдельазым живет в Сирии, а Хейсам Манаа — в основном в Париже.
Задача наших послов – развивать всевозможные контакты, но мы не используем их, чтобы подзуживать кого-то. Просто получаем информацию и поддерживаем отношения. Я считаю, что это полезно.

В преддверии саммита АТЭС Владимир Путин дал интервью телеканалу Russia Today.
Запись интервью состоялась 3 сентября в загородной резиденции Ново-Огарёво.
К.ОУЭН:Здравствуйте! Имею удовольствие сообщить, что сегодня мы берём интервью у Президента Российской Федерации Владимира Путина. Для нас это особая честь, так как именно нашему каналу российский лидер решил дать своё первое после инаугурации интервью.Большое спасибо, что согласились уделить нам время.
И первый мой вопрос будет касаться уже начавшегося саммита АТЭС. Уже скоро вы отправитесь во Владивосток. Россия впервые организует это важнейшее мероприятие. Но всегда возникает вопрос: каковы практические результаты подобных мероприятий, таких как АТЭС, «большая восьмёрка», «большая двадцатка»?
С одной стороны, АТЭС – организация по большей части экономическая, политика в ней тоже в значительной степени присутствует. Многие ключевые участники, в том числе Вы, в том числе США, не могут договориться по ряду важнейших вопросов. Я имею в виду конфликт в Сирии, систему ПРО, иранскую проблему. Нет ли опасности, что политика начнёт подавлять экономику, блокировать крупные экономические сделки, которые эти же самые ключевые участники надеются во время саммита заключить или хотя бы обсудить?
В.ПУТИН: Это правда. Но дело в том, что (Вы сами сейчас об этом сказали) АТЭС изначально задумывался как форум для обсуждения экономических проблем. И именно на этом мы как страна-хозяйка, принимающая сторона, намерены тоже сосредоточить своё внимание – именно на проблемах экономического, социально-экономического характера.
Изначально, когда АТЭС создавался, во главу угла была поставлена цель либерализации мировой экономики. И мы намерены этот вопрос сделать ключевым в ходе обсуждения во Владивостоке.
Когда я приглашал наших коллег собраться именно в России, в Российской Федерации (это было лет 5 тому назад), я как раз исходил из того, что для России это направление нашей деятельности является крайне важным, имея в виду, что две трети российской территории находится в Азии, а основные объёмы товарооборота, более 50 процентов, приходятся на Западную Европу, и только 24 процента нашего торгового оборота приходятся на Азию. А это, между тем, быстро, интенсивно развивающийся регион. Мы с вами это хорошо знаем, и для всех это хорошо известно. Поэтому мы намерены сосредоточиться прежде всего на проблемах экономики, как я сказал, либерализации мировой экономики, на транспорте, на продовольственной безопасности человечества. Хорошо известно, что за последний год количество голодающих людей в мире резко возросло – на 200 миллионов человек. Это уже миллиард человек в мире, которые испытывают проблемы с продовольствием, люди голодают. Я думаю, что эти, так же как и ряд других проблем, крайне важных, чувствительных для миллионов людей на планете, и будут в центре нашего внимания.
Что касается Сирии, других «горячих» точек, вопросов, которые на слуху, разумеется, в ходе дискуссии, в ходе двусторонних встреч так или иначе мы будем эти проблемы обсуждать, без этого не обойдётся.
К.ОУЭН: Может быть, всё-таки нужен практический результат? Может быть, на саммитах вроде АТЭС много тратят времени на бесполезные разговоры?
В.ПУТИН: Вы знаете, совсем недавно я принимал участие в Мексике в заседании «двадцатки». Как правило, такие мероприятия готовятся нашими помощниками, министрами, экспертами высокого уровня, но всё-таки ряд проблем так или иначе оказывается в центре внимания руководителей делегаций, лидеров государств, которые принимают участие. Так было, кстати говоря, и в Мексике. Я с любопытством и интересом наблюдал за столкновением мнений, принимал участие в этих дискуссиях. Думаю, что и здесь [во Владивостоке] будет не меньше дискуссий. Но Вы понимаете, дело в том, что только в результате кропотливой, если не ежедневной, то ежегодной, ежеквартальной, если позволите сказать таким бюрократическим языком, работы можно в конце концов выйти на приемлемые решения в таких чувствительных сферах, как, скажем, та же самая либерализация торговли. Ведь она касается тоже миллионов и миллионов людей.Вы знаете дискуссии, которые идут на площадке Всемирной торговой организации. Для нас этот саммит АТЭС является крайне важным и в связи с тем, что Россия стала полноправным членом Всемирной торговой организации. Мы создали на постсоветском пространстве Таможенный союз вместе с Беларусью и Казахстаном и Единое экономическое пространство, и для нас очень важен диалог, чтобы наши партнёры поняли, мы могли бы им объяснить, могли бы показать преимущества такого объединения на постсоветском пространстве, которое бы помогало нам в сотрудничестве. Тем более что эти объединения, о которых я сказал, они созданы на принципах ВТО.
К.ОУЭН: Спасибо за пояснения. Мы, если возможно, ещё вернёмся к АТЭС чуть позже. Вы затронули ещё один очень важный вопрос, который сейчас находится в центре внимания СМИ, – это ужасающие события, происходящие в Сирии в последние полтора года. За это время позиция России не изменилась. Вы высказывались против иностранного вмешательства, за то, чтобы своё будущее сирийский народ определял сам путём переговоров. Сама по себе идея прекрасна, но каждый день с обеих сторон гибнут люди. Не пора ли перейти от слов к делам? Возможно, России следует уже пересмотреть свою позицию?
В.ПУТИН: А почему только Россия должна переоценивать свою позицию? Может быть, и наши партнёры по переговорному процессу должны переоценить свою позицию? Ведь когда я вспоминаю то, что происходило в последние годы, и я хочу Вас вернуть к событиям последних лет, то далеко не все инициативы наших партнёров заканчивались так, как это им самим бы хотелось.
Возьмите примеры многих стран, в которых развиваются конфликты. Соединённые Штаты (позднее с союзниками) зашли в Афганистан. Сейчас все думают о том, как унести оттуда ноги. Если мы и разговариваем о чём-то, это о том, чтобы помочь в транзите выхода людей и техники из Афганистана.
Вы уверены, что там стабилизируется ситуация на десятилетия вперёд? Пока такой уверенности нет ни у кого.
А что происходит в арабских странах? Да, произошли известные события, скажем, в Египте, в Ливии, в Тунисе, в Йемене. Там что, наступил порядок и полное благополучие? А в Ираке что происходит?
В Ливии вообще до сих пор практически идёт вооружённая борьба между различными племенами. Я сейчас не буду говорить о том, как происходила смена власти. Это отдельная страница. Но нас что беспокоит? Я хочу это ещё раз сказать. Нас беспокоит, конечно, то, что сейчас происходит насилие в Сирии, но и не меньше беспокоит, что может быть после принятия соответствующих решений.
На наш взгляд, самым важным является сегодня прекратить насилие, заставить все стороны конфликта (и правительственную часть, и так называемых повстанцев, вооружённую оппозицию) сесть за стол переговоров, определить будущее, обеспечивающее безопасность всех участников внутриполитического процесса, и только после этого переходить к каким-то практическим шагам по поводу внутреннего устройства самой страны. Мы прекрасно понимаем, что там нужны перемены, но это совсем не значит, что перемены должны быть кровавыми.
К.ОУЭН: Хорошо, учитывая нынешнее положение дел в Сирии, которое Вам известно, каков должен быть следующий шаг? Каков Ваш реалистический прогноз развития ситуации?
В.ПУТИН:Мы в Женеве предложили собраться нашим партнёрам по переговорному процессу. Все действительно собрались и выработали там дорожную карту того, что и как надо было бы делать для того, чтобы в Сирии наступило спокойствие и ситуация вышла бы на конструктивный путь развития. Практически все с нами согласились, мы ознакомили с этими результатами и сирийское правительство, но потом повстанцы, по сути, не захотели признавать этих решений, и многие наши партнёры по переговорному процессу также по-тихому съехали с этой позиции.Мне думается, первое, что нужно сделать, – это нужно прекратить поставлять оружие в зону конфликта, а ведь это же продолжается. Повторю ещё раз, не принимать решений, которые навязывают одной из сторон, не приемлемые для развития событий. Вот что нужно сделать. Ничего там особо сложного нет. У нас очень добрые отношения, слава богу, вообще с арабским миром, но нам не хочется погружаться во внутриисламские конфликты, принимать участие в выяснении отношений между суннитами и шиитами, алавитами и так далее. Мы с равным уважением относимся ко всем. У нас очень добрые отношения и с Саудовской Аравией, у меня личные добрые отношения всегда были с Хранителем двух исламских святынь, с другими странами. Но наша позиция продиктована только одним – желанием создать благоприятную обстановку для позитивного развития ситуации на многие годы вперёд.
К.ОУЭН: Что вы скажете об ООН, в частности, как ООН реагировала на ситуацию в Сирии? Многие критикуют её за то, что она не смогла обеспечить выступление единым фронтом, превратившись в фиктивную организацию. Вы согласны с такой точкой зрения?
В.ПУТИН: Я думаю, как раз наоборот. Моё мнение полностью противоположно тому, которое Вы сейчас изложили. Если бы Организация Объединённых Наций, Совет Безопасности превратились в контору, которая бы штамповала решения одной из заинтересованных сторон, вот в этом случае она прекратила бы своё существование, как когда-то это сделала Лига Наций. А Совет Безопасности ООН и ООН в целом – это организация для поиска компромиссов. Это сложный процесс, но только в результате этой кропотливой работы нас может ждать успех.
К.ОУЭН: Понимаю. Ещё один вопрос, господин Президент. Отдельные западные и арабские государства всё это время тайно оказывали поддержку Свободной сирийской армии, а сейчас некоторые из них начали делать это в открытую. Но подвох тут в том, что есть подозрения, что в рядах Свободной сирийской армии служат боевики «Аль-Каиды», и история поворачивается таким образом, что многие страны, сами пострадавшие от ужасов терроризма, фактически поддерживают терроризм в Сирии. Вы согласны с такой оценкой?
В.ПУТИН: Вы знаете, всегда, когда кто-то хочет добиться результата, который, по его мнению, считается оптимальным, как правило, не брезгует средствами. Стараются использовать все возможности для достижения нужного результата. Что будет потом, как правило, об этом в ходе работы, по достижении результата не думают. Так было во время афганских событий, когда Советский Союз вошёл своими Вооружёнными Силами в Афганистан, когда наши сегодняшние партнёры поддерживали там повстанческое движение и, по сути, создали «Аль-Каиду», которая затем нанесла удар по самим Соединённым Штатам.
Сегодня кто-то хочет использовать бойцов «Аль-Каиды» либо людей из других организаций, но с такими же крайними взглядами для достижения своих целей в Сирии. Это очень опасная и недальновидная политика. Но тогда нужно взять сейчас и открыть ворота Гуантанамо и оттуда всех узников Гуантанамо запустить в Сирию, пускай повоюют. Ведь на самом деле это то же самое. Просто не нужно забывать, что потом эти граждане нанесут удар своим благодетелям. А этим гражданам нельзя забывать, что для них будет создана другая тюрьма наподобие той, которая сейчас создана рядом с Кубой. Это, ещё раз хочу подчеркнуть, политика недальновидная. И, как правило, вот такой подход ведёт к очень тяжёлым последствиям.
К.ОУЭН: Давайте теперь посмотрим на ситуацию шире, не только в контексте Сирии, которую вы упомянули. В Сирии бушует гражданская война, конфликты не стихают в Бахрейне и в Саудовской Аравии. Да, в Египте, Ливии и Тунисе поспокойнее, как Вы только что отметили. Но, давая общую оценку тем перипетиям, той смуте, что мы наблюдали на Ближнем Востоке, – несёт это добро или зло? И куда это заведёт весь регион?
В.ПУТИН: Знаете, по этому вопросу можно дискутировать до утра, и может быть, времени будет недостаточно. Для меня совершенно очевидно, что эти события подготовлены самим ходом истории, развития этих государств. Руководители этих стран явно просмотрели необходимость перемен, не почувствовали тех тенденций, которые происходят в их собственных странах и в мире, и не произвели своевременно необходимых реформ. Это результат прежде всего такого состояния дел. Благо это или это приведёт к большим проблемам, пока трудно сказать.
То, что это происходило именно в такой малоцивилизованной форме, с таким уровнем насилия и не привело пока, во всяком случае, к созданию таких устойчивых политических структур, которые могли бы решить экономические и социальные проблемы в обществах тех стран, в которых эти события прошли, вот эти обстоятельства всё-таки вызывают большие опасения и большую тревогу по поводу того, как будут развиваться события. Потому что всё-таки, в конце концов, люди в этих странах, которые устали от прежних режимов, ожидают от новых правительств эффективного решения, прежде всего их социальных и экономических проблем. Но если не будет политической стабильности, то эти проблемы решены быть не могут.
К.ОУЭН: Давайте обратимся к США, к предстоящим президентским выборам, которых все мы с волнением ожидаем. Безусловно, кнопка перезагрузки отношений с Россией была решительно нажата Бараком Обамой, и за последние четыре года в этом процессе были свои взлёты и падения, но по-прежнему остаётся проблема ПРО в Восточной Европе, вызывающая обеспокоенность России. Если Обама будет переизбран, что будет определять новую главу в истории российско-американских отношений, и будет ли эта глава приемлема для вас?
В.ПУТИН: Мне представляется, что за последние годы, за последние четыре года Президенту Обаме и Президенту Медведеву удалось многое сделать в укреплении российско-американских отношений. Подписан новый Договор СНВ, Россия при поддержке Соединённых Штатов стала полноправным членом Всемирной торговой организации, были и другие позитивные элементы в наших двусторонних отношениях, имея в виду укрепление нашего сотрудничества по борьбе с терроризмом, с организованной преступностью, по сдерживанию распространения оружия массового уничтожения, то есть позитива накоплено немало. Но проблема, которую Вы упомянули, проблема ПРО, противоракетная оборона Соединённых Штатов, она, конечно, является сегодня одной из ключевых, потому что затрагивает жизненно важные интересы Российской Федерации. На экспертном уровне для всех понятно, что решение этой проблемы в одностороннем порядке международную стабильность не улучшает. Это, по сути, стремление нарушить стратегический баланс. А это очень опасная вещь, потому что любая другая сторона будет стремиться к обеспечению своей обороноспособности, что может просто привести к гонке вооружений. Возможно ли эту проблему решить, если Президентом Соединённых Штатов на второй срок будет избран действующий Президент Обама? Принципиально – да. Но дело не только в самом Президенте Обаме. Мне думается, что он искренне хочет эту проблему решить.
У нас недавно с ним была встреча на полях саммита «двадцатки» в Лос-Кабосе в Мексике, мы имели возможность поговорить. Правда, больше говорили о Сирии, но всё равно я же чувствую настрой своего партнёра, собеседника. Мне кажется, что он искренний человек и реально хочет многое поменять к лучшему. Но сможет ли он это сделать, дадут ли ему? Ведь есть и военное лобби, есть Госдеп с его достаточно консервативной машиной. Кстати, он мало чем отличается от нашего Министерства иностранных дел. Там сложились такие профессиональные кланы в течение десятилетий. Ведь для того чтобы решить проблему ПРО, надо согласиться и внутренне принять, что мы друг для друга являемся надёжными партнёрами и союзниками. Потому что решить проблему ПРО – что это значит? Это значит вместе решать вопросы, связанные с ракетными угрозами, и согласиться с тем, что обе стороны имеют равноценный доступ к управлению этой системой. Это чрезвычайно чувствительная сфера деятельности в оборонной сфере. Я не знаю, готовы ли наши партнёры к такому сотрудничеству.
К.ОУЭН: Может ли Россия сделать какие-то шаги в направлении оптимального решения для обеих сторон, для компромисса?
В.ПУТИН: Мы уже всё сделали. Мы предложили вот эту работу. Наши партнёры пока отказываются. Что мы ещё можем сделать? Можем продолжать дальше вести диалог. Мы и будем это делать, но, разумеется, по мере того, как наши американские друзья развивают свою собственную систему противоракетной обороны, мы будем думать о том, как защитить себя и сохранить этот стратегический баланс.
Кстати говоря, что касается и европейских партнёров Соединённых Штатов, и наших европейских партнёров, чтобы было понятно, что европейцы не имеют к этому никакого отношения. Я думаю, что Вам как европейцу это должно быть ясно. Это чисто американская система противоракетной обороны, причём стратегическая, и в европейской части вынесенная на периферию. Европейцы ведь тоже не имеют никакого доступа ни к определению угроз, ни к управлению, так же как и Россия. Но мы предлагали в своё время, чтобы мы делали это как минимум втроём, но пока наши партнёры с этим не соглашаются.
К.ОУЭН: Иными словами, будем считать, что Вы сможете работать с Бараком Обамой, если его переизберут. А если выберут Митта Ромни? У меня здесь подборка его цитат за последние один-два месяца. Человек, который может оказаться в Белом Доме, говорит: «Россия – наш безусловный геополитический противник номер один, всегда отстаивающая худшее, что есть в мире». Затем он отмечает: «На мировой арене Россия ведёт себя недружелюбно».Сможете ли Вы работать с этим человеком?
В.ПУТИН: Сможем. Кого американский народ изберёт, с тем и будем работать, но будем работать настолько эффективно, как этого захотят наши партнёры.
Что же касается позиции господина Ромни, мы понимаем, что она отчасти носит предвыборный характер, это предвыборная риторика, но думаю, что она, конечно, безусловно, ошибочна. Потому что вести себя так на международной арене – это всё равно что использовать инструменты национализма и сегрегации во внутренней политике своей собственной страны. На международной арене – то же самое, когда политический деятель либо человек, претендующий на то, чтобы быть главой государства, тем более такой великой страны, как Соединённые Штаты, уже априори кого-то объявляет своим врагом. Кстати говоря, это наводит нас на другую мысль.
Вот мы говорим о системе противоракетной обороны. И нам наши американские партнёры говорят: «Это не против вас». А что, если Президентом Соединённых Штатов будет господин Ромни, который считает нас врагом №1? Значит, это тогда уж точно будет против нас, потому что технологически там всё выстроено именно таким образом.
А если иметь в виду, что ПРО рассчитана не на один год и даже не на одно десятилетие, и возможность прихода к власти человека со взглядами господина Ромни очень высока. Как мы должны себя вести, чтобы обеспечить свою безопасность?
К.ОУЭН: Я также хотел бы поговорить о том, как разворачиваются события по делу Магнитского. США и в последнее время Великобритания составляют список российских чиновников, которых они подозревают в причастности к гибели Магнитского. Хочу напомнить нашим зрителям, что этот крупный финансовый консультант скончался в российской тюрьме. За рубежом многие по-прежнему думают, что здесь, в России, следствие было необъективно, что виновные не понесли должного наказания. Откуда взялось такое мнение?
В.ПУТИН: Просто есть такие люди, которые этого хотят. Им нужен враг, им нужен образ врага, они должны с кем-то бороться. Вы знаете, что в тюрьмах тех стран, которые обвиняют Россию, сколько там гибнет людей, в тюрьмах? Очень большое количество! Вот Соединённые Штаты инициировали «список Магнитского». Вы знаете, что в России нет смертной казни? Вам это известно? А в США есть. И там казнят женщин в том числе. Всему цивилизованному обществу известно, что при применении смертной казни нередко происходят и судебные ошибки, даже в том случае, когда человек полностью признаёт свою вину, а потом задним числом выясняется, что на самом деле он этого преступления не совершал. Я уж не говорю о том, что отнять жизнь у человека позволено только Господу Богу. Но это отдельная дискуссия, большая, философская. Мы могли бы, наверное, объявить не один список, имея в виду тех, кто применяет смертную казнь в других странах. Но мы этого не делаем.
Что касается Магнитского, это, конечно, трагедия, когда человек умер в тюрьме. И, разумеется, должно быть проведено тщательное расследование. Если кто-то виноват, значит, этот кто-то должен быть наказан. Но я хочу что подчеркнуть? Здесь нет никакой, просто ровно никакой политической подоплёки. Если есть трагедия, то она носит чисто уголовно-правовой и формальный характер. Ничего за этим больше нет. Но кому-то хочется испортить отношения с Россией. Кто-то объявил невъездными в свои страны каких-то наших чиновников, которые якобы имеют отношение к гибели господина Магнитского, о чём я, безусловно, очень сожалею и приношу соболезнования его семье. Но что в таких случаях должна сделать Россия? Принять адекватные меры, объявить список чиновников другой стороны, которая приняла в отношении России такие меры. Так и делать.
К.ОУЭН: То есть это дело однозначно не будет пересматриваться в России?
В.ПУТИН: Какое дело? Мы что там должны пересматривать? Мы должны определить только, виноват ли кто-то в гибели этого человека или нет. Если кто-то виноват, на нём лежит какая-то ответственность, то он должен быть привлечён сам к ответственности. Вот и всё. И здесь нет никакой подоплёки политического характера, хочу это подчеркнуть. Но в этом нужно просто профессионально разобраться.
И конечно, российские власти намерены это сделать. Прокуратура этим занимается.
К.ОУЭН: Спасибо. А сейчас о суде над панк-группой «Пусси Райот» и приговоре. Очень многие говорили, что вынесенный им приговор слишком суров, что это дело раздули на пустом месте, что в результате это придало действиям девушек ещё большую огласку и принесло поддержку общественности. Конечно, что сделано, того не вернёшь – и всё-таки, по Вашему мнению, могло ли быть иное решение?
В.ПУТИН: А Вы могли бы перевести название группы на русский язык? Вы ведь уже не один год живёте в России.
К.ОУЭН: Не могу сказать, как «Пусси Райот» переводится на русский, может быть, Вы подскажете?
В.ПУТИН: А Вы можете перевести само слово на русский язык или нет? Или Вам неудобно это сделать по этическим соображениям? Думаю, что это неудобно сделать по этическим соображениям. Даже в английском языке это звучит неприлично.
К.ОУЭН: Я бы перевёл это слово как «кошка», но может быть, я чего-то не понимаю. Считаете ли Вы, что можно было что-то сделать иначе? Можно ли из происшедшего извлечь какие-то уроки?
В.ПУТИН: Всё Вы понимаете, Вы всё прекрасно понимаете, не нужно делать вид, что Вы чего-то не понимаете. Просто граждане эти навязали общественному мнению своё название и заставили всех вас произносить его вслух. Ведь это неприлично, но бог с ними.
Хотел бы сказать вот о чём, что я считал и считаю, что наказание должно быть адекватно содеянному. Я сейчас не готов и не хочу комментировать решение российского суда, но хотел бы обратить Ваше внимание просто на моральную сторону дела. Она в чём заключается?
Во-первых, не знаю, известно Вам или нет, но пару лет назад в одном из больших супермаркетов Москвы они повесили три чучела, одна из участниц этой группы сегодняшней повесила три чучела в публичном месте с надписью, что нужно освободить Москву от евреев, от гомосексуалистов и от гастарбайтеров – иностранных рабочих. Мне кажется, что уже тогда власти должны были бы обратить на это внимание. После этого они устроили сеанс группового секса в публичном месте. Это, как говорится, их дело, люди вправе заниматься всем, чем хотят, если это не нарушает закон, но в публичном месте, мне кажется, что уже тогда следовало бы обратить на это внимание властей. Потом ещё выложили [запись] в интернет. Некоторые из любителей говорят, что групповой секс лучше, чем индивидуальный, потому что здесь, так же как в любой коллективной работе, сачкануть можно. Но повторяю, это дело каждого конкретного человека, но выкладывать в интернет – это, на мой взгляд, вопрос спорный и мог бы подлежать тоже какой-то правовой оценке.
То, что они сделали в храме: они сначала в Елоховскую церковь пришли и там устроили шабаш, потом перебрались в другой храм и там устроили ещё один шабаш. Вы знаете, у нас в стране есть очень тяжёлые воспоминания начального периода советского времени, когда пострадало огромное количество священников, причём не только православных священников, но и мусульман, и представителей других религий. Просто советская власть, особенно в первый период своего существования, очень жестоко расправлялась с представителями религиозных конфессий. Было уничтожено много церквей, все наши традиционные конфессии понесли огромный ущерб. И в целом государство обязано защищать чувства верующих.
Является ли оправданным приговор, является ли он обоснованным и является ли он адекватным содеянному, я сейчас не буду комментировать. Я думаю, что у этих девушек есть адвокаты, и они должны заниматься представлением их интересов в суде. Могут оспорить приговор в вышестоящей инстанции и добиваться его пересмотра. Но это их дело, это чисто юридический вопрос.
К.ОУЭН: Как Вы думаете, реалистично рассчитывать на досрочное освобождение?
В.ПУТИН: Я даже не знаю, их адвокаты обращались в вышестоящую инстанцию или нет. Просто я не слежу за этим. Но если вышестоящая инстанция будет рассматривать, она вправе принять любое решение. Понимаете, я просто стараюсь не касаться этого дела вообще. Я знаю о том, что там происходит, но я туда совершенно не влезаю.
К.ОУЭН: В России и за её пределами многие считают, что с тех пор как Вы вернулись на пост Президента, началось «закручивание гаек» в отношении оппозиции. Был принят более жёсткий закон о клевете, где увеличены штрафы за распространение ложных сведений, закон о цензуре в интернете для защиты детей. И всё это при Вашей поддержке. Как, на Ваш взгляд, найти оптимальный баланс между здоровой оппозицией и поддержанием правопорядка? Каково Ваше мнение?
В.ПУТИН: Я хотел поинтересоваться, а разве в других странах нет законов, запрещающих детскую порнографию, в том числе и в интернете?
К.ОУЭН: Конечно, есть.
В.ПУТИН: Есть? А у нас не было до сих пор. Если мы начали защищать своё общество, своих детей от этих посягательств…
К.ОУЭН: Возможно, так был выбран момент? Как раз тогда Вы вновь заняли президентское кресло, и это выглядело как довольно жёсткий шаг с Вашей стороны….
В.ПУТИН: Вы знаете, я стараюсь об этом просто не думать, я стараюсь делать то, что считаю правильным и нужным для нашей страны, для наших граждан, для наших людей. И буду так поступать в будущем. Конечно, я смотрю, что происходит по сторонам, как реагируют в мире. Но эта реакция не может быть основным мотивом моего поведения. Основным мотивом может быть только интерес российского народа, а наши дети нуждаются в такой защите. Никто не собирается использовать это как инструмент борьбы с интернетом, ограничение свобод в интернете, но мы вправе защитить наших детей.Что же касается в целом «закручивания гаек», то это надо понять, о чём мы говорим. Что такое «закручивание гаек»? Если под этим понимать требование ко всем, в том числе и к представителям оппозиции, исполнять закон, то да, это требование будет последовательно реализовываться.
Скажите, полтора или два года назад в Великобритании мы были свидетелями массовых беспорядков на улице, в результате которых пострадали люди, нанесён был большой ущерб имуществу. Разве лучше доводить до такого состояния, а потом в течение года всех отлавливать и сажать в тюрьму? Может быть, лучше не допускать таких проявлений? Это первая часть.
Теперь вторая часть, по сути и по существу. Я, как Вы знаете, самым активным образом поддержал переход к новой системе приведения к власти руководителей российских регионов путём прямого тайного голосования населения. Но я не только это поддержал год назад, я сделал следующий шаг. Я, уже будучи избранным Президентом на следующий срок, внёс в парламент страны новый законопроект о выборах верхней палаты российского парламента. Вот это реальные шаги по пути демократизации нашего общества и государства.
Были инициированы и другие предложения, в частности, в законодательном процессе. Государственная Дума – сейчас мы в предварительном плане с депутатами Госдумы рассматриваем возможность использования интернет-голосования по ключевым вопросам нашего развития, и если 100 тысяч какой-то проект набирает в интернете, он должен быть потом рассмотрен в Государственной Думе. Вот сейчас мы как раз обсуждаем этот вопрос, как реализовать это предложение. Есть и другие предложения фундаментального характера. Мы ставим перед собой цель развития нашего общества, дальнейшей его демократизации и по этому пути будем двигаться дальше, не собираемся с него сворачивать.
К.ОУЭН: Мы начали разговор с предстоящего саммита АТЭС, куда Вы вскоре вылетаете. Там Вы встретитесь с председателем КНР Ху Дзиньтао, однако с Бараком Обамой не увидитесь – он не приедет, вместо него прибудет Хилари Клинтон. Конечно, мы знаем, что у него плотный график, но, возможно, это говорит о его отношении к АТЭС? Может быть, это свидетельство того, что Китай становится всё более важным геополитическим и торговым партнёром для России?
В.ПУТИН: Китай действительно становится серьёзным центром мировой экономики и мировой политики. Вообще в мире происходит определённый сдвиг в центрах экономического и политического влияния. Это очевидный факт, это всем понятно, вопрос только в темпах этого движения. Китай становится таким центром не только для нас, а для всех своих партнёров в мире, мы здесь никакое не исключение. Разница только в том, что Китай – наш сосед, а мы – соседи Китая. У нас выработались тысячелетиями особые отношения между собой. У нас были и очень позитивные годы сотрудничества, очень эффективные для обеих стран. Были и тяжёлые времена, когда мы конфликтовали. Сейчас уровень российско-китайских отношений беспрецедентно высокий, очень доверительный и в политической сфере, и в области экономики. Мы в ближайшие годы, безусловно, достигнем планки оборота в 100 миллиардов долларов. У нас с Европой 51 процент, 200 с лишним миллиардов, с Китаем будет 100. Это уже такое серьёзное движение вперёд.
То, что на этом саммите не будет Президента Обамы, нам американские партнёры об этом сказали давно. Связано это с внутриполитическими событиями, с предвыборной кампанией в США, здесь нет ничего необычного. Соединённые Штаты будут представлены на высоком уровне. Мы об этом знаем, повторяю, уже несколько месяцев, относимся с пониманием. Там у нас будет представительство очень высокое – 20 стран, все представлены первыми лицами и главами правительств и государств.
То, что на этот раз Президенту США не удалось приехать, что же поделать, жаль. Я думаю, что если бы такая возможность была, он воспользовался, имея в виду, что и для самих Соединённых Штатов это же хорошая площадка, чтобы пообщаться с коллегами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Не только с нами, но и с другими коллегами. А мы совсем недавно с Президентом встречались, я уже об этом говорил, в Мексике, имели возможность поговорить подробно по проблемам двусторонних отношений, по основным ключевым мировым событиям, так что у нас диалог продолжается.
К.ОУЭН: Возвращаясь к внутренней политике, давайте поговорим о коррупции. В России это слово у всех на устах. Вы тоже поднимали этот вопрос, но приоритетным его сделал Ваш предшественник. Однако, покидая свой пост, Дмитрий Медведев назвал свои достижения в этой области скромными. Насколько серьёзной Вы считаете проблему коррупции в России сегодня, в 2012 году, и как намерены с ней бороться?В.ПУТИН: Коррупция – это проблема для любой страны. Кстати говоря, она в любой стране присутствует: и в европейских странах, и в Соединённых Штатах. Там многие вещи легализованы. Лоббирование интересов частных компаний – это что, коррупция или нет? Но вроде как в рамках закона и вроде всё нормально. Но как посмотреть. Поэтому эта проблема существует, повторяю, во многих странах.
Важен, конечно, объём и степень, уровень. Он у нас очень высокий. Это характерно практически для всех стран с переходной экономикой. Связано это с тем, что новые экономические модели нарождаются, не всё отрегулировано, государство не всё контролирует. С моралью связано. Особенно, знаете, переход от плановой экономики и социалистической морали к морали, основанной на вечных ценностях. Это довольно сложный процесс, особенно если этот процесс в рыночной экономике связан с быстрым обогащением отдельной группы или конкретных физических лиц. Это обществом воспринимается очень болезненно и негативно. Простой человек думает про себя: но если этим можно миллиарды заработать за пару лет, почему мне нельзя сделать то-то и то-то, даже если это не очень согласуется с проблемами морали и закона?
Вот это всё как бы размывает фундаментальную базу борьбы с коррупцией. Это нелёгкий процесс. Но, безусловно, это важное направление нашей работы, и оно будет продолжено.
К.ОУЭН: Вы перечислили немало причин. Но с чего начинать? И когда можно ждать существенных результатов?
В.ПУТИН: Начинать нужно с того, чтобы добиться неприятия всем обществом этого явления. Ведь коррупция имеет как минимум двух участников – это взяткодатели и взяткополучатели, и часто так называемый взяткодатель ведёт себя активнее, чем взяткополучатель. Поэтому это и воспитательная работа, это улучшение деятельности правоохранительных органов, это создание такой нормативно-правовой базы, которая бы минимизировала возможность коррупционных проявлений. Это многоплановая работа, очень чувствительная и непростая. Мы по всем этим направлениям и будем действовать.
К.ОУЭН: Возможно, один из практических способов решения этой проблемы – новый законопроект, запрещающий государственным служащим открывать счета и покупать собственность за границей. Но разве он помешает делать это через подставных лиц? Как воспрепятствовать этому?
В.ПУТИН: Можно, конечно. Этот закон ещё не принят, он внесён в Государственную Думу. Это, конечно, определённые ограничения для граждан, которые занимаются государственной деятельностью, потому что сегодня в соответствии с нашим законодательством любой гражданин Российской Федерации имеет право иметь счёт в иностранном банке, иметь недвижимость. Но для чиновников, особенно чиновников высокого ранга, могут быть введены ограничения. Я здесь не вижу ничего необычного, особенно для наших реалий и нашей действительности. Но депутаты Государственной Думы должны будут сначала обосновать свою позицию, разработать этот закон в деталях.
В целом я считаю, что он возможен и в какой-то части, конечно, будет способствовать и борьбе с коррупцией. Потому что, если человек хочет посвятить себя действительно служению своей стране, своему народу, тогда он должен согласиться с тем, что хочет иметь счёт – пускай имеет счёт здесь, в России, в том числе в иностранном банке. Почему нет? У нас же много филиалов иностранных банков работает. Открывай счёт здесь. Зачем обязательно ехать в Австрию или в Соединённые Штаты и там открывать счёт? Если ты связываешь свою судьбу с этой страной, пожалуйста, будь любезен тогда, здесь изъявляй все свои интересы, в том числе и материального характера, и не прячь их куда-нибудь под сукно.
К.ОУЭН: Хочу воспользоваться этой возможностью и задать Вам вопрос о деле Джулиана Ассанжа и его судебных разбирательствах с Великобританией и рядом других государств. Ассанж, как вам известно, наконец-то получил политическое убежище в Эквадоре, которым он пока не может воспользоваться, поскольку фактически заперт на территории эквадорского посольства. Как Вы прокомментируете позицию Великобритании? Ведь в какой-то момент речь шла о том, чтобы отозвать дипломатический иммунитет посольства, ворваться внутрь и захватить Ассанжа. Довольно странно: ведь Россия тоже хотела бы пообщаться с отдельными подозреваемыми, которые живут в Великобритании, где они получили надёжное убежище…В.ПУТИН: Это такой раздражающий момент, конечно, в наших отношениях с Великобританией, это факт. Я говорил не с действующими руководителями Правительства, но с прежними моими партнёрами и друзьями, как раз указывал им на то, что в Великобритании скрываются люди, у которых руки по локоть в крови, которые реально воевали здесь, на нашей территории, с оружием в руках, людей убивали. Знаете, какой ответ получил? Да, и я сказал: «Представь себе, что мы бы прятали здесь каких-то боевиков, скажем, Ирландской республиканской армии, но не тех, которые сегодня договариваются с властями и ищут компромиссы, идут на эти компромиссы, – дай бог им здоровья, абсолютно правильные люди, здравые, но были и люди других убеждений, вот я говорю, – представь себе, что мы прятали бы таких людей у себя». Знаете, какой ответ получил? «Но ведь было же такое, когда Советский Союз таким людям помогал».
Во-первых, я сам бывший сотрудник разведки Советского Союза. Я не знаю, помогал или нет. Я просто никогда этим не занимался, даже если предположить, что такое было, но это было в условиях «холодной войны». Ситуация изменилась кардинально, и Советского Союза уже нет, есть новая Россия. Разве можно жить в плену старых фобий, в плену прежних представлений о характере международных отношений и отношений между нашими странами? Бог с ним, в конце концов. Нам всё время говорят о независимости судебной системы в Великобритании. Вот она принимает такое решение, и никто не может с этим ничего поделать.
Что касается Ассанжа, его решили выдать. Что это такое? Конечно, это двойной стандарт, ясно. Я не берусь утверждать наверняка. Но, насколько мне известно, Эквадор обратился к властям Швеции за гарантиями того, что Ассанж не будет выдан из Швеции в США. Никаких гарантий до сих пор не получили. Это, конечно, наводит на мысль (как минимум наводит на мысль) о том, что это политическое дело.
К.ОУЭН: Мы будем следить за ситуацией.
Мы обсуждали с Вами отдельные проблемы современной России, и одна из таких давних проблем связана с наркоторговлей, поставками наркотиков из Афганистана. С тех пор как НАТО более десяти лет назад вторглось в Афганистан, объём нелегальной торговли возрос многократно, а что же будет, когда к 2014 году контингент будет выведен? Можно ли надеяться, что Вы решите проблему афганского наркотрафика в Россию?
В.ПУТИН: Пока не решается. Действительно, мы постоянно ведём диалог с нашими партнёрами, в том числе и с теми странами, военные контингенты которых присутствуют сейчас на территории Афганистана. Ситуация не улучшается, а, наоборот, деградирует. За прошлый год количество наркотиков, произведённых в Афганистане, увеличилось на 60 процентов.
Кстати говоря, я уже не помню, боюсь ошибиться в абсолютных цифрах, но процентов 90, наверное, героина на рынке Великобритании афганского происхождения. Это наша общая беда и общая угроза. Для России это очень серьёзная угроза нашей национальной безопасности, без всякого преувеличения. У нас из всего афганского наркотрафика где-то свыше 20 процентов остаётся на территории России. 70 тонн героина в прошлом году и примерно 56 тонн опия – это огромные цифры, безусловно, составляющие угрозу нашей национальной безопасности.
К.ОУЭН: Уточните, пожалуйста, для наших телезрителей: почему эта проблема усугубилась после вступления войск НАТО в Афганистан? Есть тут какая-то связь? Почему так случилось?
В.ПУТИН: Связь простая. Сейчас я не хочу говорить ни о каких криминальных проявлениях, но ни одна из стран, которые присутствуют военными контингентами на территории Афганистана, не хочет усугублять своего положения борьбой с наркотиками, потому что наркотики кормят Афганистан – 9 процентов ВВП страны складываются из торговли наркотиками. Для того чтобы 9 процентов заместить, надо заплатить, а платить никто не хочет. А просто говорить о том, что мы сейчас заместим доходы, получаемые от продажи наркотиков, другими доходами, разговоров недостаточно. Нужна реальная экономическая политика и финансовая поддержка. К этому, похоже, никто не готов. И никто не хочет усугублять своего положения в этой связи борьбой с наркотиками, потому что оставить людей голодать без всяких этих наркотических продаж – это значит нажить себе на территории страны дополнительное количество врагов, людей, которые будут бороться с теми, кто борется с наркотиками. Вот и всё.Конечно, наркотики связаны очень тесно с терроризмом, с организованной преступностью, но это практически ведь все знают, знают, что часть доходов от наркотиков идёт на поддержание террористической деятельности. Но даже понимание этого обстоятельства и того, что наркотики, производимые в Афганистане, захлёстывают Европу, всё-таки не побуждает наших партнёров к активной работе по этому направлению. Прискорбно это очень.
К.ОУЭН: И последний момент, господин Президент. На саммите АТЭС Вы будете обсуждать финансовые и денежные вопросы, рассматривать ситуацию в мировой экономике в целом. Как Вы полагаете, ждёт ли нас вторая волна мирового кризиса? А если да, справится ли Россия в этот раз, как и в прошлый, достаточно ли вы хорошо подготовлены?
В.ПУТИН: Я думаю, что сейчас мы ещё лучше подготовлены, потому что мы прошли предыдущую волну кризиса и у нас есть уже понимание, что и как нужно делать, есть инструменты борьбы с кризисом.
Более того, ещё в прошлом году я дал поручение Правительству, ещё прошлому составу Правительства, эти инструменты, имеющиеся у нас и испробованные, совершенствовать, подготовить проекты законодательных актов, поправить нормативную базу. Мы попросили у парламента, и парламент согласился, выделил определённую сумму денег, 200 миллиардов в резервный фонд для Правительства. Так что в целом у нас инструменты есть.
У нас, как вы знаете, и рост экономики приличный был, самый высокий в мире среди крупных экономик после Китая и Индии – 4,2 процента. Средний рост экономики в Европе, в еврозоне был 3,9 процента, у нас был 4,2. Кстати говоря, в еврозоне прогнозируется и Международным валютным фондом, и Всемирным банком отрицательный рост, минус 0,3 процента в следующем году. В этом году мы всё-таки планируем плюс, причём плюс от 4 до 5 процентов. Вот это самое главное условие, которое говорит нам о том, что в целом Россия если и столкнётся с проблемами, то у неё будет достаточно инструментов для борьбы с этими вызовами и угрозами.
Растут наши золотовалютные резервы, они практически восстановились до докризисного уровня. Мы третья в мире страна по объёму золотовалютных резервов после Китая и Японии, у нас 500 с лишним миллиардов долларов золотовалютных резервов. Одновременно восстанавливаются и резервы Правительства. У нас два резервных фонда Правительства: Фонд национального благосостояния, где 80 миллиардов долларов, в пересчёте на доллары, и где-то 60 миллиардов долларов – Резервный фонд, из которого мы финансируем дефицит бюджета, если он возникает. Но дефицита у нас нет. У нас с профицитом, с небольшим, но с профицитом, свёрстан бюджет прошлого года. У нас минимальный уровень безработицы. Если в еврозоне в среднем 11,2 процента, а в таких странах, как Испания, – 25–26, среди молодёжи – уже под 70 процентов, у нас ниже докризисного уровня – 5,1 процента уровень безработицы.
Но это всё нас совершенно не расслабляет, мы прекрасно понимаем, что самое каверзное во всех этих процессах в мировой экономике в том, что она непредсказуемо развивается, и где появятся основные сложности и основные угрозы, предсказать почти невозможно. Поэтому мы смотрим внимательно за тем, что происходит в соседних странах, в наших странах-партнёрах.
Мы желаем успеха, мы стараемся помочь искренне, по-партнёрски. Потому что любой сбой в экономике, скажем, еврозоны больно, болезненно отражается на нашей экономике. Это основные рынки сбыта наших товаров. Если они сокращаются, у нас сразу производство сокращается, падает. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы зона евро сохранилась, чтобы экономика наших основных партнёров заработала, задышала, чтобы локомотивы европейской экономики (Федеративная Республика Германия, Франция, Великобритания) были в хорошем состоянии. Это всегда находится в поле нашего зрения и внимания. Вот этому будет посвящена, разумеется, в первую очередь дискуссия на саммите АТЭС во Владивостоке.
К.ОУЭН: Желаю Вам всего самого наилучшего. С нами был Президент России Владимир Путин. Спасибо Вам большое.
В.ПУТИН: Спасибо Вам большое.

Что ждет Дом Саудов?
«Арабская весна» и Эр-Рияд
Резюме: «Арабская весна» не достигла саудовской улицы. Но если Эр-Рияд и Джидда не так уязвимы для массовых восстаний, как Тунис, Каир или Сана, это еще не гарантирует долгосрочной стабильности и благополучия саудовской правящей системы.
На фоне «арабской весны», которая распространилась как минимум на шесть арабских стран, вызвав революции, восстания и даже полномасштабную гражданскую войну, не заметно ни малейших признаков того, что протестный дух перекинется на Королевство Саудовская Аравия (КСА). Академические и правительственные круги на Западе и вовсе отрицают такой вариант развития событий, ссылаясь на особенности политической культуры королевства и незыблемость Дома Саудов. Однако очевидно, что даже у столь устойчивого режима нет иммунитета от внутренней нестабильности.
Саудия накануне «весны»
В 2000-е гг. к исламскому Востоку, несмотря на его консерватизм и периферийность по отношению к современным социально-политическим процессам, подступила реформаторская волна. В Кувейте женщинам разрешают голосовать, в Катаре принята масштабная программа преобразований, в Бахрейне терпимо относятся к массовым демонстрациям, а в Объединенных Арабских Эмиратах появилось подобие свободной прессы.
На этом фоне изменения, происходящие в Саудовской Аравии, оплоте исламского консерватизма, не столь масштабны. Эта монархия по-прежнему с глубокой подозрительностью относится к любым новшествам. Правящий дом Саудов настолько боится поколебать статус-кво, что даже запрещает использование во внутренней политике и публичных обсуждениях самого слова «реформа» («ислях»), поскольку оно предполагает, что существующая политическая и общественная системы несовершенны. Предпочтение отдается термину «развитие» («татаввур»).
Однако, несмотря на противодействие и даже преследование, реформаторское движение набирает обороты. Под давлением западных патронов и внутренних процессов саудовская элита все же решается на некоторые корректировки политической системы, как, например, проведение первых муниципальных выборов. При этом власти по-прежнему не допускают никакого влияния независимого общественного мнения на перспективы развития и реформирования политической системы.
Саудовское общество далеко не однородно. Его основной составляющей являются верующие, то есть большая часть населения глубоко ориентирована на ислам, но политически пассивна. Следующий важный элемент – корпорация улемов (исламских ученых), проповедников, имамов и судей. Особо стоит выделить так называемых «придворных улемов», прежде всего членов Совета высших улемов, назначаемых королем. Этот орган служит опорой правящего режима, а верховный муфтий издает фетвы, как правило, в поддержку политического курса королевского двора.
Особую группу в общественной и даже политической системе Саудовской Аравии составляют оппозиционно настроенные религиозные деятели. Оппозиционность неравномерна и колеблется от несогласия с некоторыми мерами правительства до его полного неприятия. Две основные категории оппозиционных религиозных деятелей, с которыми сегодня сталкивается правящий режим, – это консервативные исламисты («аль-ислямийюн»), и либеральные реформаторы. Наиболее решительная часть либералов сформировала одно из самых активных ответвлений оппозиции, которое находится за пределами страны, в частности, в Великобритании. Здесь сформировались достаточно активные и эффективные структуры, выступающие за исламскую реформу.
Третью и наиболее решительную часть оппозиции составляет религиозное антиправительственное подполье, относящееся враждебно к режиму и Соединенным Штатам и практикующее крайние формы борьбы, в том числе терроризм. Ее активность может расти по мере обострения обстановки в других странах, как, например, это происходило во время войны в Афганистане, боевых действий в зоне Персидского залива, Чечне, Ираке.
От изоляции и невежества к просвещению
Долгое время саудовское общество было изолировано не только от Запада, но и от остального исламского мира. Внутренняя Аравия не имела представления о событиях в мусульманских странах, о крупных реформаторских движениях и культурно-историческом потенциале других государств. Традиционное религиозное образование оставалось примитивным и ограниченным, сужало потенциал самого Ислама, подвергая забвению всесторонний и универсальный характер и широкие возможности шариата с его способностью давать положительные ответы на события современного общества.
Король Абд аль-Азиз, основатель государства, не был заинтересован в расширении системы образования, опасался появления политической оппозиции и возможности восстания против власти. Его сыновья, управляющие страной до сих пор, унаследовали эту стратегию и любую критику воспринимали как угрозу единству и безопасности королевства.
Неуклонный рост уровня образования населения, укрепление связей с Западом являются наиболее значимыми факторами, влияющими на формирование и развитие саудовской оппозиции. В 1980-е и 1990-е гг. многие воспользовались возможностями получить высшее образование в университетах королевства или в престижных учебных заведениях США и Западной Европы. В основном это было академическое образование с глубоким изучением религии. Появилось новое поколение молодых улемов, которые осваивали традиционные программы обучения наряду с получением университетского образования. В этом они в известной степени следовали примеру зарубежных богословов из числа «Братьев-мусульман» в Египте и различных деятелей движения исламского возрождения конца XX века. Кроме того, многие улемы делали вполне светские карьеры. Они не только глубоко понимали фундаментальные религиозные дисциплины, но и были способны анализировать современные события, осознавать характер вызовов, стоящих перед исламским сообществом. Серьезных оснований для проявления инакомыслия или ереси между мусульманскими учеными нового и традиционного толка не было. Это обстоятельство защищало молодых ученых от преследования государством.
Большой интерес представляет форма оппозиционного противодействия, избранная молодыми религиозными реформаторами. Речь идет о посланиях. В прежние времена богословы обращались к правителям со своеобразными наставлениями и увещеваниями. Конечно, в условиях современной Саудовской Аравии эти послания несколько по-иному составлялись, а главное – совершенно неадекватно были восприняты властями. В начале 1990-х гг. было обнародовано несколько обращений к королю. Наибольший резонанс получил так называемый «Меморандум о наставлении» («Музаккарат ан-Насиха»), представленный королю Фахду в мае 1991 г. и распространенный по всей стране.
Меморандум и реакция
Меморандум поддерживал идею создания Консультативного совета и открытия его филиалов на местах. Говорилось о необходимости более независимых и открытых средств информации, гарантирования личных и общественных свобод, начала открытого и свободного диалога в мусульманском обществе. Важной темой стало открытое и справедливое функционирование судебно-правовой системы, основанной на шариате, обеспечение равенства и гарантий каждому его прав, чтобы «наше общество было благородным отражением современного исламского государства». В королевстве «отсутствует серьезность» в соблюдении норм шариата, при выработке стратегических решений улемы рассматриваются как второстепенные люди, их независимость ограничивается. Авторы считали необходимым ввести независимую экспертизу финансовой и экономической деятельности, не соответствующей требованиям шариата, повысить эффективность работы правительственных служб. Подписавшие документ лица требовали создания истинно независимых религиозных организаций с негосударственными источниками дохода и с правом лишать силы любой закон или соглашение, нарушающие установления шариата.
В меморандуме содержался ряд критических замечаний относительно ситуации после войны в Персидском заливе – вторжение в Ирак сил международной коалиции во главе с США зимой 1991 года. Например, подчеркивалась необходимость искоренить практику предоставления займов «неисламским» режимам типа «баасистской Сирии и светского Египта», указывалось на недопустимое финансирование Ирака в ходе его войны с Ираном. Характерно, что правительство осуждалось не за поддержку исламских движений за пределами страны, а за помощь государствам, которые воюют против таких движений, например, Алжиру. Власти критиковались и за тесные отношения с западными режимами, «которые ведут борьбу против ислама», в особенности за контакты с Соединенными Штатами «в процессе разрядки с иудеями».
Авторы требовали извлечь уроки из войны в Заливе, увеличить армию до 500 тыс. человек (то есть по меньшей мере на 400%), ввести обязательное военное обучение, диверсифицировать источники закупок вооружений и принять меры для создания собственной военной промышленности. По свидетельствам очевидцев, получив меморандум, король испытал, вероятно, наиболее сильный удар в жизни. Шок вызвало не столько содержание документа, сколько количество подписантов, представлявших далеко находящиеся друг от друга области королевства. Невозможно было вообразить, как столь масштабное и организованное действие могло произойти при полном отсутствии информации от спецслужб. Власти сразу же назначили встречу с несколькими авторами – докторами Ахмадом ат-Тувейджри, Тауфиком аль-Кассером, шейхами Абд уль-Мухсином аль-Убайканом и Сайидом Зуайром. Однако она не состоялась, поскольку стало известно, что послание уже распространено по всей стране.
Публичный характер документа стал вторым серьезным ударом по правящему клану. Король издал указ, запрещающий всем поддержавшим меморандум выезд из страны. Так власти пытались предотвратить утечку копий письма за пределы королевства. Это решение свидетельствовало о непонимании правящей элитой характера современного мира, сравнимого с «глобальной деревней», где невозможно ограничить распространение информации. Текст послания оказался за границей еще до его массового распространения в Саудовской Аравии. Зато запрет на выезд лишний раз показал характер правящего режима, ориентированного на ограничения и репрессивные меры.
Совет высших улемов обнародовал заявление с резкой критикой меморандума, который «противоречит шариатским нормам уведомления».
Полиция и силы безопасности проводили аресты, ограничивали передвижения активистов оппозиции, ужесточали над ними контроль, запрещали собрания и встречи, задерживали распространителей меморандума. В сентябре 1994 г. были арестованы два главных лидера оппозиции Сальман аль-Ауда и Сафар аль-Хавали, а вместе с ними, по неофициальным данным, около 1300 человек. Кроме того, власти предпринимали активные попытки объявить деятельность оппонентов нелегитимной, характеризуя их действия как запрещенное новшество (бид’а). Тем не менее, само широкое обсуждение в прессе письма реформаторов даже в форме нападок сделало наличие оппозиции публично подтвержденным фактом.
Король Фахд дал понять, что власти больше не будут воспринимать критику и предложения. Однако меморандум и предшествовавшие ему инициативы достигли социальной, политической и культурной цели. Многие в королевстве осознали, что активность улемов и исламских интеллектуалов мотивировалась защитой их законных прав. Список людей, подписавших меморандум, свидетельствовал о широком согласии интеллигенции с выдвинутыми требованиями. Вместе с тем проявилась и готовность масс к восприятию давно назревших реформ. И режим не мог игнорировать изменения ситуации.
К примеру, отвечая на вызов необходимости увеличения открытости политической системы, король Фахд в 1993 г. создал Консультативный совет («Маджлис аш-Шура»), предоставил различным слоям населения больше гражданских прав, а правительственные назначения стали осуществляться в зависимости от конкретных заслуг кандидатов.
В феврале 2000 г. в Мекке саудовские власти провели Международный симпозиум по правам человека в исламе. Почти 200 делегатов из 43 стран попытались в историческом контексте выявить особенности соблюдения прав человека в исламе и предложить уточнения в действующее в этой области международное законодательство. Кроме того, Эр-Рияд пошел на организацию и проведение первых в стране муниципальных выборов.
Последствия давления оппозиции на саудовский режим еще будут сказываться, противостояние реформаторов и клана Саудидов, вероятно, продолжится и обострится. В прежние годы саудовские монархи просто уничтожали своих противников, сегодня это практически невозможно. В современных условиях, когда существуют организации по защите прав человека, независимые средства информации, рычаги внешнего давления, например, через зарубежных исламистов, проведение такой политики не только сомнительно, но и опасно.
Основные оппозиционные группы
Движение, известное как «Ас-Сахва аль-Исламийя» («Исламское возрождение»), является, пожалуй, самым передовым и в то же время самым влиятельным модернизационным движением в Королевстве. «Ас-Сахва» зародилась в 1970-е гг. в университетах и других элитных институтах, но ее корни уходят еще глубже, как минимум в 1960-е годы. Тогда Саудовская Аравия испытывала влияние из-за рубежа – в особенности через идеи египетских «Братьев-мусульман», которые начали прибывать в КСА в 1950-е и 1960-е гг., спасаясь от преследований в своей стране. Эксперты характеризуют идеологическую силу, стоящую за движением, как сплав традиционного саудовского мышления и философии «Ихван аль-Муслимин» (т.е. «Братьев-мусульман»).
«Ас-Сахва» раздроблена на несколько конкурирующих течений, не поддающихся структуризации. Ее можно охарактеризовать как неоднородное социорелигиозное (а начиная с 1990-х гг. и политическое) движение, состоящее из т.н. «ваххабитского» религиозно-культурного ядра и сильных модернизационных течений «салафитского» типа, выборочно придерживающееся методов «Братьев-мусульман». Последняя черта обрела первостепенную важность, когда активисты движения вышли на политическую арену и начали устанавливать и поддерживать отношения с партнерами за пределами королевства.
В то же время способность «Ас-Сахвы» к сплоченным действиям остается под вопросом. По мнению экспертов, это движение оказалось в тисках «ваххабитской» теологии и завязло в решении «частных вопросов» вместо призывов к «реальным политическим изменениям».
Еще одна заметная категория оппозиционеров, возникшая после первой войны в Персидском заливе 1991 г., – организованные исламисты. Это явление связано с именами Саада аль-Факиха и Мохаммада аль-Массари, находящихся в эмиграции. Оба сыграли важную роль в подготовке меморандума. В 1993 г. Факих и Массари сформировали Комитет защиты легитимных прав – пожалуй, первую организованную оппозиционную группу исламской ориентации в Саудовской Аравии. После высылки в Соединенное Королевство в середине 1990-х гг. Факих и Массари ненадолго возродили Комитет, но вскоре повздорили и пошли каждый своей дорогой.
Факих, чья политико-религиозная философия представляет собой смесь идеологии «Братьев-мусульман» и ключевых идей «салафитов», является одним из самых убежденных и несгибаемых оппонентов Дома Саудов, придерживающихся ненасильственной тактики. В 1996 г. он создал «Движение за исламские реформы в Аравии», открыто противопоставившее себя саудовским властям. В одном из интервью Факих заявил, что стремится к свержению режима Саудов и установлению исламской республики.
Массари стал одним из ключевых лидеров «Хизб ут-Тахрир» на Аравийском полуострове. «Хизб ут-Тахрир», с самого начала имевшая «неместное» происхождение, представляет собой еще одну организованную оппозиционную группировку. Согласно некоторым данным, «Хизб ут-Тахрир» тесно сотрудничала с активистами «Ас-Сахвы» в 1960–1980-е гг., а во время первой войны в Персидском заливе всецело использовала открывшиеся политические возможности. Группировка пустила корни в университетах Эр-Рияда, Дахрана и Джидды. С точки зрения саудовских властей, «Хизб ут-Тахрир» является опасной подрывной организацией. Любые акции, предпринятые ею, вызывают жесткие ответные действия. Последний раз они имели место в 1995 г., когда саудовская разведка арестовала шесть активистов группировки во главе с доктором Мохаммадом Саифом ат-Турки. За этим последовала серия арестов, на этот раз направленная против сети в Университете Короля Сауда в Эр-Рияде. Саудовцы опасаются «Хизб ут-Тахрир» не столько из-за ее организационного потенциала, сколько за ее способность толкать к радикальности более умеренные течения.
Значение приобретает и такое маргинальное явление, как «либерализм» (при этом, конечно, следует понимать, что его саудовское понимание далеко не всегда совпадает с западной трактовкой). Это течение возникло в 1990-е гг., когда в стране появилась открытая оппозиция. Многие активисты, которых западные ученые и журналисты называют «либеральными», начинали свою карьеру в движении «Ас-Сахва», а многие, как ни странно, придерживались радикально салафитских взглядов. Одними из ключевых деятелей этого течения являются Абдулла аль-Хамед (70-летний профессор арабского языка, отбывающий тюремное заключение), ученый Хассан аль-Малики и Мансур аль-Нукайдан, который в юности за особую радикальность получил прозвище «хариджит» (т.е. человек, отвергнутый всем исламским сообществом за крайние религиозные взгляды).
«Либералы» стремятся не только к реформам общества, но и к реформированию самого ислама в Саудовской Аравии. Некоторые, подобно Абдул Азизу аль-Касиму (ранее «оппозиционер-салафит», теперь по саудовским меркам считающийся «либералом»), хотят придать т.н. ваххабизму более либеральное звучание, настаивая на «внутреннем многоголосии ваххабитской традиции». Многие из этих мыслителей и активистов просто придерживаются гибкой позиции по религиозным и политическим вопросам.
В глазах закоренелых оппозиционеров «либералы» не заслуживают доверия – отчасти из-за их неорганизованности и идеологического разброда, но главным образом из-за подхода к реформам, который совпадает с риторикой режима. «Либералы» выступают за преобразования, не заходя за политическую черту, определенную властями. Это неизбежно ограничивает их влияние на политическую жизнь, какими бы оригинальными и инновационными ни были идеи. Тем не менее в долгосрочной перспективе «либералы» могут стать катализатором социокультурных изменений и, сами того не ведая, подготовить почву для более бескомпромиссных оппозиционеров.
Шииты в Саудовской Аравии, по большей части сконцентрированные в Восточной провинции, часто становятся объектами внимания из-за жесткой дискриминации со стороны властей и общества. В последние месяцы шииты Восточной провинции вышли на улицы, бросая вызов силам безопасности и выражая солидарность с духом восстания, охватившего арабский мир. Аравийские шииты черпают особое вдохновение в потерпевшей крах мини-революции в соседнем Бахрейне, конец которой положила военная интервенция возглавляемого саудовцами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Шиитская оппозиция тесно связана с именем шейха Хассана ас-Сафара, лидера «Исламского движения за реформы». В 1993 г. он заключил с саудовским режимом сделку, позволившую ему и его окружению вернуться в Восточную провинцию. Однако ни одно из условий сделки не было выполнено, вместо этого власти попытались внести раздор в ряды шиитских активистов, усилив группировку Сафара в ущерб другим организациям. В 2008 г. образована новая оппозиционная структура под названием «Халас» («Избавление»), многие ее участники раньше входили в группу Сафара.
Саудовский режим не только искусно расколол шиитскую оппозицию, но и, что более важно, продолжает использовать шиитскую проблему для подавления других оппозиционных движений, лишая их массовой общественной поддержки. Апеллируя к страхам суннитского большинства, опасающегося усиления шиитов на Аравийском полуострове, саудовцы дискредитируют и лишают легитимности призывы к серьезным реформам.
Саудия в международном контексте
Роль КСА в современной системе глобальных и региональных отношений в исламском мире необычайно велика. Историческое положение и наличие главных мусульманских святынь сделали Саудовскую Аравию центром ислама, что во многом определяет ее внешнеполитический курс и претензии на лидерство в мусульманском мире. КСА является по существу главным полицейским в регионе. Его способность использовать принудительную власть, пожалуй, не имеет аналогов в этой части мира.
В водовороте революций одной из важных задач стало устранение режимов, ориентированных на Иран (Башар Асад в Сирии), подрыв секуляристских режимов (Хосни Мубарак и его возможные последователи в Египте) и отстранение от власти непредсказуемых самодуров (Муаммар Каддафи в Ливии). Как пишет Геворг Мирзаян, у КСА, а также у некоторых малых стран Персидского залива был и более прагматичный интерес в поддержке смены светских арабских правителей. Долгое время светские националистические режимы (прежде всего Египет, Ливия и Сирия) не только оспаривали у той же Саудовской Аравии главенство в арабском мире, но и пытались организовать «социалистические революции» в ней и других монархиях Залива. После свержения Мубарака, Каддафи и Асад оставались единственными преградами на пути к практически безграничной власти теократий Залива на всем пространстве от Марокко до Иордании.
С другой стороны, революции в арабском мире вызывают опасения у руководства Саудовской Аравии: усугубление внутриполитической ситуации в соседнем Бахрейне привело к вспышке антиправительственных настроений среди шиитов, которые жестким образом были подавлены введенными туда саудовскими войсками. Призрак политической власти шиитов, замаячивший в Бахрейне, потребовал срочного превентивного вмешательства.
Благодаря обширным нефтяным запасам, центральной роли в исламском мире и большому геополитическому весу в регионе КСА сохраняет первостепенную важность для процветания Запада и поддержания западного, особенно американского, политического влияния на Ближнем Востоке. Именно ввиду этой значимости для западных политических и экономических интересов за событиями в Саудовской Аравии следит обширный круг западноевропейских и североамериканских экспертов, а также публика в целом. Опасения по поводу долгосрочной стабильности КСА и ее роли инкубатора для антизападных боевиков получили особенно драматическую окраску на фоне событий 11 сентября 2001 года. Кроме того, международные правозащитные организации высказывают опасения по поводу самой природы саудовского общества.
Отчасти в качестве реакции на растущее давление извне саудовские правители начали осторожные преобразования и поддержали призывы к расширению дебатов и диалога. Процесс реформ тесно связан с именем короля Абдуллы, который наследовал престол в августе 2005 года. Однако, несмотря на широкомасштабные дискуссии обо всех аспектах национальной и публичной жизни и некоторые изменения, в стране отсутствуют политические партии и профсоюзы, религиозные меньшинства (особенно шииты) продолжают испытывать дискриминацию, а на социокультурном уровне жесткие ограничения наложены в самых разных сферах, в частности, женщинам по-прежнему запрещено водить автомобиль.
«Арабская весна» не достигла саудовской улицы, несмотря на активные усилия самых убежденных противников Дома Саудов. Но если Эр-Рияд и Джидда не так уязвимы для массовых восстаний, как Тунис, Каир или Сана, это еще не гарантирует долгосрочной стабильности и благополучия саудовской правящей системы. Саудовский режим стоит лицом к лицу с рядом религиозных оппозиционных движений, группировок и отдельных активистов. В стране усиливаются разногласия по поводу всех аспектов жизни. На этой стадии непонятно, сможет ли официальный реформистский настрой властей преодолеть их.
Дом Саудов нельзя недооценивать. Эр-Рияд занимает особое место и в планах Вашингтона по «переформатированию» Ближнего Востока: после падения Ирака Саудовская Аравия как наиболее последовательный союзник американцев в регионе стала единственным противовесом Ирану. Как считает политолог Андрей Манойло, этим КСА дает пример и сигнал «братским» государствам Персидского залива и всему исламскому миру (или по крайней мере суннитской его части). Нужно следовать параллельным курсом с политикой Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, поскольку в целом это отвечает задачам мусульман-суннитов по расширению влияния.
Имея обширные нефтяные запасы и тесный стратегический альянс с Соединенными Штатами, монархия не раз искусно справлялась с оппозиционными настроениями и массовым недовольством. Посредством изощренной комбинации принуждения, подавления, взяток, приспособленчества и перевербовки режим сумел уничтожить или вытеснить на обочину политической жизни самых опасных оппонентов, одновременно создавая отдушины для выражения «безопасных» протестных настроений. Хотя религиозная оппозиция значительно окрепла за последние два десятилетия, четкий водораздел между лояльными и нелояльными режиму течениями так и не оформился. Большинство оппозиционеров можно по-прежнему считать «лояльными», поскольку они не выступают с публичными заявлениями о нелегитимности правящего дома. На данном этапе падение Дома Саудов сложно себе представить ввиду полного доминирования королевской семьи во всех аспектах жизни.
Стоит ли вообще желать такого исхода? Ведь коренные сдвиги, смещения и перераспределение власти и ресурсов неизбежно повлекут за собой непредсказуемые сценарии, вплоть до гражданской войны. Центробежные силы, бурлящие на Аравийском полуострове, могут привести и к распаду страны.
Более вероятный сценарий предполагает медленное расширение политического пространства и постепенную потерю Саудами способности контролировать общественную полемику. Таким образом, долгосрочной задачей оппозиции фактически становится не свержение или обезвреживание Дома Саудов, а адаптация повестки дня и программы к растущим социокультурным и политическим амбициям аравийской общественности. Тем более что смена поколений во власти – вопрос уже недалекого будущего в силу естественных причин, ведь королевством до сих пор управляют сыновья его основателя.
Как пишет Игорь Алексеев, саудовский ваххабизм, о котором сейчас столько говорят, будет неотвратимо сдвигаться в более либеральную сторону под влиянием реформ, которые медленно, но неуклонно проводит правящая династия. В этой связи неизбежным кажется обострение конфликта между властями королевства и радикальными салафитами.
Р.В. Курбанов – кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

Нет у революции конца
Демократизация Ближнего Востока и новые вызовы
А.Г. Аксенёнок – кандидат юридических наук, Чрезвычайный и Полномочный Посол, опытный дипломат, арабист, долго работавший во многих арабских странах, в том числе в качестве посла России в Алжире, а также спецпредставителем на Балканах и послом Российской Федерации в Словакии.
Резюме оссия вынужденно пошла на риск обострения отношений с Западом и с нефтяными монархиями Персидского залива. Соображения внешнеполитического позиционирования как государства, с которым нельзя не считаться, совпали с экспертными оценками региональных последствий.
Пошел второй год с тех пор, как началась череда массовых народных выступлений, которая смела целый ряд несменяемых арабских правителей (Тунис, Египет, Ливия, Йемен). Другим странам (Марокко, Иордания, Сирия) пришлось пойти на частичные политические реформы, промедление с которыми в Сирии было одной из причин разгоревшегося внутреннего конфликта. Третьи восприняли «арабскую весну» как сигнал серьезной опасности, с которой нужно бороться финансовым «пряником» и «мечом» одновременно (нефтяные монархии Аравии). Вновь, как и в начале прошлого века, когда первое «пробуждение арабов» было поставлено под англо-французский протекторат, или во время подъема освободительного движения 1950–1960-х гг. под руководством националистически настроенного офицерства, этот регион, жизненно важный для всего человечества, вошел в полосу затяжных потрясений. Эволюционный путь развития в последние два-три десятилетия вылился в авторитарную стабильность, и теперь вступили в силу законы революционного хаоса. Мощная энергия массовых протестов, выплеснувшаяся на поверхность, создает атмосферу неопределенности, повышенных конфронтационных рисков.
Новое поколение арабов потрясло мир страстным призывом к отстаиванию человеческого достоинства, социальной справедливости, права на свободное национальное развитие. Вместе с тем нельзя не видеть и другой стороны этой медали. Завязался тугой клубок острых противоречий и сталкивающихся интересов. Естественная тяга к давно назревшим переменам и открытость перед внешним миром переплетаются с живучестью исторических и религиозных традиций, завышенные ожидания – с отсутствием реальных возможностей для их быстрой реализации, интервенционизм Запада – с непомерными амбициями ближневосточных игроков, не затронутых «арабской весной». В результате теряется или затушевывается видение конечных целей, а справедливые демократические лозунги, провозглашаемые протестными движениями, поиски национальной идентичности превращаются в банальное средство борьбы за власть и перехват революционной волны на регилнальном уровне. По мере снижения государственной управляемости международные террористические группировки укрепляют свои опорные базы в Северной Африке, Йемене, Ираке и последнее время Сирии, что вносит в переходные процессы дополнительные элементы непредсказуемости.
Революционные всплески на всем пространстве арабского мира от Марокко до Бахрейна высветлили три слоя напряженности, воспроизводя все новые очаги конфликтогенности на страновом, региональном и глобальном уровнях.
И после распада биполярного мира, когда «игра с нулевой суммой», казалось бы, закончилась, международное сообщество демонстрирует неспособность согласованно реагировать на политический форс-мажор. Эксперты-ближневосточники и ранее прогнозировали смену правящих элит, но скорость обвала прежних режимов и формы, в которые это вылилось, захватили врасплох практически всех. Политические решения принимались в условиях острого дефицита времени, причем скорее интуитивно, чем продуманно. Спустя год пора не только трезво осмыслить происходящее, но и попытаться найти общие подходы, которые за истекший период так и не наметились.
В чем, собственно, заключаются расхождения? Действительно ли Россия и ее западные партнеры заняли места по разные «стороны истории»? Или проблема здесь в том, что сама история, в том числе арабская, не закончилась, имеет свое пока неясное продолжение, а в мире, как справедливо заметил Фрэнсис Фукуяма, происходит что-то странное. Важно проследить последовательность международной реакции на системные сдвиги в регионе, определиться с процессом адаптации к их побочным негативным последствиям.
«Свой – чужой»
С самого начала «арабская весна» выглядела как демократический вызов авторитаризму и воспринималась на Западе как некое универсальное явление. Нередко проводились даже аналогии с разрушением Берлинской стены и демократическими революциями в странах Восточной и Центральной Европы на рубеже 1980-х и 1990-х годов. Одним словом, инерционно возобладала тенденция к идеологизации сложных и далеко неоднозначных событий в мусульманском мире. Настолько велик был соблазн подкрепить «пробуждением арабов» тезис о победном шествии демократии по всему миру. В условиях, когда сама либеральная модель мирового капитализма переживает кризисные времена, такие упрощенные трактовки представлялись особенно своевременными.
Сегодня очевидно, что арабские революции не были и не могут быть «бархатными». В каждой из трансформация власти проходила своим путем, а в Ливии и Сирии эти процессы приняли характер вооруженного противостояния. В Египте взрыв народного протеста, во многом стихийный, вынудил армию, которая не применила жесткую силу, взять на себя управление страной в переходный период.
В тех особых условиях логика действий свелась к необходимости принести в жертву крупную фигуру, чтобы спастись от сползания в анархию. Режим Каддафи в Ливии был свергнут повстанческим движением племен, вылившимся в многомесячную гражданскую войну, однако решающую роль сыграло вооруженное вмешательство НАТО. Социально-политические причины, вызвавшие взрыв в Египте и Тунисе, налицо и в Сирии. Особое ожесточение конфликту между баасистским режимом и оппозицией придал конфессиональный фактор: алавитское меньшинство, сконцентрировавшее в своих руках власть и финансово-экономические ресурсы, против суннитского большинства. Нарастающее напряжение в Бахрейне также развивается по линии межконфессионального разлома с той разницей, что там все зеркально – правящее суннитское меньшинство противостоит требованиям раздела власти со стороны шиитского большинства. В Йемене затянувшееся отречение Али Абдаллы Салеха от власти, хотя и имело под собой политически договорную основу и одобрение Совета Безопасности ООН, проходило в обстановке внутреннего конфликта, немалых человеческих жертв и по сути латентной гражданской войны.
В отличие, например, от США и Франции, которые по идеологическим причинам быстро начали идеализировать «арабские революции», Россия сразу сделала акцент на недопустимости иностранного вмешательства и необходимости решать проблемы внутреннего развития – такие, как характер и темпы реформ – через политический диалог. Возможно, с российской стороны декларации солидарности с демократическими устремлениями арабских народов звучали и не столь громко. Исчерпавшая в минувшем столетии лимит на революции и войны и имевшая свой, не во всем успешный опыт на Ближнем Востоке, Россия не пошла по пути продвижения демократии на риторическом уровне. Тем более что российское экспертное сообщество в отличие от западных политиков не рассматривало происходящее в черно-белых тонах. В общем и целом падение режимов в Тунисе и Египте не повлекло за собой заметных противоречий в позициях России и Запада. И это нужно отметить особо.
В международную повестку дня арабская тема вошла только на волне ливийских и сирийских событий. И дело здесь не в том, что одни альтруистически встали на сторону «демократии», а другие своекорыстно выступили в поддержку «диктатур», как об этом в пылу полемики всерьез заявляли солидные официальные лица Соединенных Штатов, Франции и Англии. Предмет спора видится гораздо шире, и дело вовсе не в спасении старых режимов, боровшихся или борющихся за выживание. По большому счету речь идет о том, будут ли и дальше действовать такие фундаментальные нормы международного права, как государственный суверенитет и невмешательство во внутренние дела, или правила поведения государств меняются де-факто в зависимости от политической, экономической или иной целесообразности. После военного удара НАТО по Сербии и американской оккупации Ирака именно эти уставные принципы вновь подверглись серьезному испытанию в Ливии и Сирии. Объявление правящих там режимов априори нелегитимными и поспешная поддержка оппозиционных внутренних сил вплоть до прямого или косвенного, как в Сирии, вооруженного вмешательства. Привлечение Организации Объединенных Наций, имеющей немалый опыт миротворчества, к легитимации операций совсем иного рода – «по принуждению к демократии». Все это не могло не вызвать в России подозрений, не используется ли «арабская весна» для перекраивания геополитического ландшафта.
Мышление категориями «свой – чужой» превалировало в период холодной войны и блокового противостояния, особенно в регионах, где переплетались интересы двух сверхдержав. В новых постконфронтационных условиях многополярного мира глобальная управляемость утрачивается, и региональные процессы стали развиваться зачастую бесконтрольно, подчиняясь собственной внутренней логике.
В период 1990–2000 гг. Ближний Восток не числился среди приоритетов России, переживавшей трудности собственной трансформации в условиях распада государства и внутренних конфликтов. Соединенным Штатам, в свою очередь, не удалось воспользоваться моментом для укрепления позиций в регионе. Политика США попала в заложницы двух трудносовместимых противоречий – приверженности союзническим отношениям с Израилем на базе общих ценностей и осознанию того, что продолжение ближневосточного конфликта наносит ущерб коренным интересам Америки в мусульманском мире. Это противоречие особенно обострилось после того, как администрация Джорджа Буша инициировала две войны – в Афганистане и в Ираке.
Возвращение России
Возвращение России на Ближний Восток в последнее десятилетие происходило уже в иных условиях. Отношения с арабскими государствами более или менее выровнялись, развиваясь по широкому спектру. Во главе угла стояли соображения прагматического свойства, в первую очередь экономика и региональная безопасность. На этой основе строились, и довольно успешно, отношения с традиционно дружескими арабскими режимами (Алжир, Египет, Сирия, Ирак), начали выходить на стратегический уровень взаимовыгодные связи с новыми партнерами в регионе Персидского залива. Наметилось совпадение подходов России и США к решению практических вопросов палестино-израильского урегулирования, что позволило наладить конструктивное взаимодействие в рамках «ближневосточного квартета» при признании за Вашингтоном ведущей роли международного посредника. Словом, Россия, поставившая своей целью обеспечение национальных интересов на более ограниченном поле, отошла от системного противоборства.
В этом духе российская дипломатия действовала и в ходе ливийского кризиса. И даже два вето на проекты резолюций Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии Москва не рассматривает как повод для возвращения к давно минувшим баталиям. Российские мотивировки заслуживают того, чтобы быть услышанными.
С самого начала реакция России на конфликт в Ливии, как и ранее в Тунисе и Египте, отражала международную озабоченность судьбой мирного гражданского населения и призывала к общим усилиям по предотвращению насилия. Особенно после того, как против повстанцев была задействована тяжелая артиллерия и даже авиация. Россия поддержала резолюцию 1970 Совета Безопасности ООН, которой вводилось эмбарго на поставку в Ливию вооружений с целью обеспечить условия для начала политического диалога. Когда это не помогло, и считанные часы отделяли войска Каддафи от взятия Бенгази, было принято решение не блокировать резолюцию 1973 Совета Безопасности о введении бесполетной зоны. Москва показала, что помимо стремления избежать человесческих жертв для нее имеют значение соображения глобальной политики, сохранения авторитета ООН и действенной роли Совета Безопасности.
Дальнейшие действия западных партнеров, вольно трактовавших резолюцию ООН для легализации военной операции по смене режима (Каддафи или кого-то другого – не имело значения), были расценены не только как намеренный выход за пределы мандата совершенно в иных целях, но и как удар по международному престижу самой России. Этим, в частности, объяснялась позиция при рассмотрении в Совете Безопасности ООН сирийского кризиса. Россия вынужденно пошла на риск обострения отношений с Западом и с нефтяными монархиями Персидского залива. Для совершения такого серьезного и даже драматического шага в большой политике требуются, как правило, весомые основания. В данном случае соображения внешнеполитического позиционирования как государства, с которым нельзя не считаться, совпали с экспертными оценками региональных последствий от неконтролируемого развития событий. Свою роль сыграло и крайне негативное восприятие натовских ударов российским общественным мнением, что не могло не учитываться в непростой предвыборной обстановке.
Силовая смена режима в Ливии, и сегодня это очевидно всем, повлекла за собой тяжелые гуманитарные и политические последствия, прежде всего для самих ливийцев, вновь вернула страну в состояние полураспада, дестабилизировала обстановку южнее Сахары (события в государстве Мали, которое фактически развалилась, тому свидетельство), подстегнуло нелегальную иммиграцию в Европу. Сирия в отличие от «отдаленной» Ливии находится в сердце ближневосточного региона. Нарушение хрупких конфессиональных и этнических балансов в случае продолжительной гражданской войны чреват риском ее перетекания в соседние страны. Возрастет вероятность новых вспышек палестино-израильского противостояния. Наихудший из возможных сценариев: международному сообществу придется иметь дело с внутримусульманским конфликтом по линии шиитско-суннитского разлома.
Ставка таких крупных региональных игроков, как оформившийся союз арабских государств Персидского залива, на победу сирийской оппозиции, где ощутимо влияние воинствующих исламистов, судя по всему связана не столько с поддержкой демократии, сколько с осуществлением антииранской стратегии. В сирийской головоломке присутствует и цивилизационный аспект с учетом международной озабоченности судьбой христианского населения, численность которого на Святой земле неуклонно сокращается. Для России с ее двадцатимиллионным мусульманским населением и исторической ролью покровителя ближневосточного православия перенос внутренних конфликтов в плоскость религиозно-конфессиональных крайне чувствителен. В этой связи особую опасность для выстраивания эффективных международных подходов представляет разыгрывание конфессиональных карт в борьбе за сферы регионального влияния.
Экспертные оценки негативных последствий гражданской войны в Сирии в основном совпадают. Суть же разногласий на официальном уровне сводится к тому, как добиться прекращения кровопролитного внутреннего конфликта – через вооружение оппозиции и насильственные действия по свержению режима или путем внутрисирийского диалога о политических реформах, нацеленных на достижение соглашения о разделе власти. По российским оценкам, поощрение оппозиции к движению по первому пути чревато неоправданными региональными рисками, оно перегружает международные отношения конфронтационными элементами. К пониманию этого постепенно пришел и Генеральный секретарь ООН, который, вопреки своему статусу высшего международного чиновника, поначалу занял несбалансированную позицию. Теперь и он признает: «Вооруженный конфликт в Сирии может серьезно сказаться на ситуации во всем ближневосточном регионе… привести к непредсказуемым глобальным последствиям».
В многосторонних контактах по сирийскому кризису Россия пытается снизить конфронтационный тон, заданный западными и некоторыми арабскими партнерами. Ее дипломатические усилия направлены по сути дела на то, чтобы наладить скоординированную параллельную работу влиятельных внешних игроков с сирийским режимом и оппозицией, побуждая обе стороны к политической гибкости. Не остаются без внимания и просчеты, допущенные сирийскими властями. Дамаск с трудом расстается с иллюзиями о том, что в быстро меняющемся мире можно сохранить монопольную власть одной партии.
Международная адаптация к политическим катаклизмам, сотрясающим арабский мир, проходит столь же болезненно, сколь и сами трансформационные процессы. Государствостроительство началось практически с нулевого цикла. В первую очередь это касается Ливии, где единоличный режим Каддафи, прикрывавшийся фасадом народовластия, оставил после себя политический вакуум. Египет также находился в шаге от послереволюционного хаоса, если бы армия не взяла на себя роль стабилизатора. Другой сколько-нибудь монолитной силы к тому времени не было, но даже военным вынужденным в ходе перехода к гражданскому правлению маневрировать между различными политическими силами, с большим трудом удается контролировать ситуацию. Если напор улицы выйдет за рамки законности, реакция Высшего военного совета может быть жесткой. Призывы ко «второй революции» раздаются и в Йемене уже после ухода Салеха и проведения президентских выборов. Если смена нынешней власти партии БААС в Сирии произойдет обвальным, а не реформистским путем, эту страну, как и соседний Ирак, ожидает долгая полоса нестабильности с более трагическими последствиями.
Легализация исламистов
Революционные потрясения в арабском мире с новой силой поставили перед мировым сообществом такие вопросы, как роль и перспективы политического ислама. Причем уже не столько в академическом аспекте, сколько в плане практической внешней политики и дипломатии. Исламские движения и партии, находившиеся многие годы в подполье, получили легальный статус. Не будучи главными движущими силами массовых выступлений, они сумели оседлать революционную волну и одержать победу на парламентских выборах в Египте и Тунисе, закрепиться в рядах ливийских повстанцев и разрозненной сирийской оппозиции, сформировать правительство в Марокко и получить более трети мест в парламенте Кувейта.
Побед с таким широким региональным охватом не одерживало ни одно политическое движение со времени подъема националистической волны на Ближнем Востоке в 50–60-е гг. прошлого столетия. Тогда перемены в регионе происходили в результате военных переворотов, теперь же исламистские партии пришли во власть через всеобщие выборы, получив международную легитимность.
Особое внимание этот феномен привлекает к себе в Египте. От того, какая модель развития там возобладает, зависит, как можно полагать, и ход трансформаций в других частях арабского мира. Если успех умеренных «братьев-мусульман» в целом прогнозировался, то поистине ошеломляющего результата добились кандидаты от спешно образованной крайне консервативной исламистской партии «Ан-Нур» (Свет), представляющей так называемых салафитов – около четверти голосов египетских избирателей. В итоге исламистское движение в Египте получило более двух третей парламентских мест.
Неожиданный приход во власть салафитов вносит существенные коррективы в расстановку политических сил. Поле борьбы за влияние на принятие политических решений пролегает теперь не только в треугольнике между военными, исламистами и светской частью общества. Следует ожидать усиления борьбы внутри самого исламистского движения.
Программы «братьев-мусульман» и салафитов во многом расходятся. Лидеры салафитских группировок в своих проповедях вообще отвергали демократию представительного типа. Приняв участие в выборах, они несколько смягчили эти акценты. Суть требований осталась, однако, прежней: добиваться принятия такой конституции, которая гарантировала бы исламский характер египетского государства и распространение жестких норм шариата, пусть и постепенное, на все стороны общественной жизни, гражданские и личные свободы. Египетский салафизм берет за основу саудовскую ваххабитскую модель государства. По данным египетской печати, благотворительные фонды этого толка в прошлом году получили от доноров из арабских государств Персидского залива более 65 млн долларов. Для Египта с его светскими устоями и традициями веротерпимости такая исламизация неминуемо сопряжена с новыми всплесками массовых выступлений уже против тех, кто «украл революцию». Реакция египетского гражданского общества на монополизацию исламистами конституционного процесса показывает, насколько революция далека от завершения.
Помимо умеренного и жестко исламского крыла в составе салафитского течения легализацию получили и так называемые джихадисты, то есть активисты находившихся ранее в подполье многочисленных террористических организаций. Такой пестрый расклад сил еще более обостряет внутриполитическую борьбу в Египте вокруг президентских выборов и принятия новой конституции.
Руководство «братьев-мусульман», заявляющих о готовности играть по современным демократическим правилам, опасается соперничества со стороны радикальных исламистов, которые могут потеснить их именно на религиозном фронте. В этом случае они окажутся перед дилеммой – либо рисковать сужением своей социальной базы, либо поставить под угрозу отношения с Западом, в финансовой помощи которого Египет остро нуждается. Придерживаясь принципов социально ориентированной рыночной экономики, умеренные исламисты видят в жесткой исламизации серьезные преграды на пути иностранных инвестиций и угрозу для туристического сектора, одного из главных источников валютных поступлений.
Разногласия в исламистской среде имеют также серьезный внешнеполитический аспект. Теперь, когда исламисты стали доминирующей силой в египетской политике, возникают вопросы о судьбе мирного договора с Израилем, об отношениях Египта с палестинцами, о корректировках планов сдерживания исламского экстремизма и великодержавных амбиций Ирана. Конечно, быстрое возвращение Египта в глобальную политику вряд ли возможно. Слишком тяжел груз внутренних проблем. Вместе с тем появляются признаки того, что на региональном направлении новый Египет будет пытаться проводить более самостоятельный и нюансированный курс. Хотя истоки египетской революции находятся внутри страны, свою роль сыграли и такие общественные настроения, как недовольство слишком большой зависимостью от США и Израиля, а также принижением ведущей роли Египта на Ближнем Востоке.
Победу политического ислама на международной арене оценивают противоречиво. Существуют две крайние точки зрения. Согласно одной из них, умеренные исламисты представляют собой некий аналог христианско-демократических партий Европы. Соответственно, со временем, после прихода к власти, они будут вынуждены демонстрировать прагматизм и развиваться по пути секуляризации. Сторонники противоположных оценок утверждают, что исламистские партии в силу самой природы ислама склонны к догматизму, испытывают комплексы антизападничества и не способны адаптироваться к мировым реалиям.
Реакция на американскую инициативу «Большой Ближний Восток» показала, что к идее ускоренной демократизации по западным рецептам исламский мир отнесся скептически. На фоне революционного подъема, когда эти вопросы стали неотъемлемой частью повестки дня, вновь разворачиваются дискуссии вокруг того, до какой степени современная демократия соотносится с нормами шариата, не является ли демократизация синонимом вестернизации, очередной попыткой Запада навязать свои ценности. По мере того как проходит эйфория в лексиконе арабских политологов все чаще фигурирует такое понятие, как «хассыя арабия», то есть «арабская особость». И в этом есть свой резон. Демократические ценности в их либеральном понимании не во всем ложатся на арабо-мусульманскую почву. Регион имеет специфический менталитет, свои глубоко укоренившиеся традиции правления и бытовой жизни, отличные от западных. Реформирование Ирака даже в условиях иностранной оккупации показало, что парламентаризм в многоконфессиональной и многоэтнической арабской стране прививается с трудом. Египет также трудно представить парламентской республикой европейского образца. Эффективную, зачастую харизматическую власть арабское сознание не рассматривает как автократию, скорее как способ национально-государственного существования. От семьи до государственных институтов в арабском мире укоренены такие негласные нормы, как патернализм и консенсусное принятие решений по принципу «ни победителей, ни побежденных», что не укладывается в русло строго регламентированных демократических процедур.
Как бы ни сужались возможности внешнего воздействия на стихийные процессы в регионе, их интернационализация уже произошла. Причем в немалой степени по инициативе самих арабских государств. Какие-то уроки из ливийского, йеменского, бахрейнского и особенно сирийского кризисов уже можно извлечь. В первую очередь это касается характера вмешательства извне. Силовой способ решения деликатных внутренних проблем значительно осложняет проведение реформ на переходном этапе. Внешнее воздействие, пусть и по просьбе самих государств региона, имеющих свои особые интересы, должно быть направлено на поиск разумных компромиссов, на достижение общенационального примирения. Без этого накопившуюся протестную энергию арабов трудно направить в русло конструктивных программных действий по реализации их справедливых чаяний.

Поворот в ближневосточной геополитике
Арабские восстания и меняющаяся реальность
Резюме: Арабские восстания и последовавшие за ними военно-политические события поставили под сомнение представление о том, что «международное сообщество» способно разрешить любую региональную проблему. Внешнее вмешательство снизило уровень безопасности, спровоцировало кризис или усугубило раскол.
Арабские восстания стали поворотным пунктом в развитии геополитической ситуации на Ближнем Востоке. В свое время подобным же образом на положении в регионе сказались исламская революция в Иране (1979 г.), распад Советского Союза и теракты 11 сентября 2001 года. Эти события, создавшие вакуум власти, немедленно привели к геополитическим изменениям и идеологическому соперничеству региональных и трансрегиональных игроков.
Проявлением борьбы за влияние после революции в Иране стала ирано-иракская война (1980–1988 годы). Исчезновение СССР обусловило геополитическое и идеологическое соперничество таких держав, как Россия, Иран, Турция и Соединенные Штаты в Центральной Азии и на Кавказе. Региональные кризисы в Афганистане и Ираке после терактов 11 сентября 2001 г. спровоцировали конкуренцию между Ираном, США и Саудовской Аравией, имевшую идеологический подтекст вплоть до «священной войны» против радикального исламизма и вооруженных группировок. Наконец, арабские восстания породили новую форму противостояния, в котором задача поддержания баланса сил переплетается со столкновением региональных идеологических моделей. В игру вовлечены, с одной стороны, региональные акторы – Иран, Турция, Саудовская Аравия и Израиль, а с другой – международные силы и великие державы, включая Соединенные Штаты, Россию, Китай и Евросоюз. Соперничество наиболее ярко проявилось в сирийском кризисе.
Изменения, вызанные с «арабской весной», продемонстрировали, что Ближний Восток – очень динамичная часть мира, а проблемы, затрагивающие ценности и идеологии, неотделимы от вопросов геополитики, баланса сил и роли различных держав. Арабские восстания позволили расширить традиционную концепцию геополитики, включив в нее тему подвижности границ, политической безопасности и роли этнических факторов в вопросах идеологии и ценностей. Все это приобретает особое значение в регионе, где великие державы имеют жизненные интересы. Хотя США выводят войска из Ирака и Афганистана, стремясь изменить форму своего присутствия и масштабы влияния, их заинтересованность в Ближнем Востоке (как и других крупных государств) в значительной степени сохранится.
Идеологические расхождения
Существуют две доминирующих идеологических тенденции, определяющие развитие Ближнего Востока.
Первая – «западный либерализм», в рамках которого Запад стремится управлять развитием арабских стран, исходя из собственных интересов, и вести их к тому, чтобы они взяли на вооружение западную идеологию и ценности. Это предусматривает проведение быстрых политических реформ, свободную рыночную экономику, приоритет гражданской и личной свободы и др. Преобладание в мире западных ценностей имеет длинную историю, начавшуюся еще в конце XIX века. Тогда Запад попытался институционализировать свою политическую философию и образ мышления, сосредоточившись на среднем классе, буржуазии, вопросах глобализации и гармонизации мира. Хотя этот курс вызвал сопротивление в разных странах, особенно когда дело касалось культуры и традиций, он продолжает осуществляться.
Можно говорить о двух волнах влияния западного либерализма на арабский мир. Первая, связанная с процессом деколонизации, началась в 1920–1930-х гг. и продолжалась до 1960–1970-х годов. Она способствовала формированию в арабском сообществе национальных государств. Постепенно они сблизились с Западом или стали зависимыми от него в вопросах приобретения технологий, знаний и благосостояния.
Вторая волна связана как раз с «арабской весной». В 2000-е гг. стратегия Соединенных Штатов в рамках концепции «Большой Ближний Восток» была нацелена на то, чтобы способствовать подобному развитию событий. Однако эта инициатива провалилась из-за обострения ситуации в Ираке и Афганистане и необходимости поддерживать стабильность в регионе. Политику США и Европы в нынешних арабских событиях можно считать продолжением духа «Большого Ближнего Востока» с точки зрения продвижения идеи прав человека, социальных и экономических трансформаций, которые Запад воспринимает как свое фундаментальное право и ответственность.
Другая важная составляющая происходящих событий, которая выступает альтернативой либерализму, – «исламская идеология», основанная на исламских идеях и ценностях и обеспечивающая иные формы влияния. Как мы видим, после арабских революций общественные движения склоняются к исламу. Об этом свидетельствуют и результаты всеобщих выборов, в частности в Тунисе и Египте, и укрепление влияния исламистов. Две дискуссии – западная об «арабской весне» и региональная об «исламском пробуждении» (термин, в основном используемый в Иране) – существуют в рамках доминирующих трендов и не исключают друг друга, так как обе имеют прочную ценностную и духовную базу. Важно отметить, что сосуществование двух дискурсов преобладает над желанием определить победителя или проигравшего. Хотя в этих дискуссиях используется много схожих понятий, в том числе «борьба с деспотизмом», укрепление «национальной исламской идентичности» и «противодействие Израилю», они различаются степенью доверия к Западу в вопросах проведения реформ, политической философии и моделей развития. Идеология, проблемы геополитики и вопросы государственного управления неотделимы друг от друга, поскольку в совокупности подразумевают новое распределение ролей между региональными и нерегиональными акторами. Иными словами, будущее власти и политики на Ближнем Востоке будет в равной степени зависеть от баланса идеологий (ценностей) и ролей (сил).
Различия региональных и международных подходов
Все острые региональные кризисы были связаны с применением западных рецептов, включая использование силы. В случае с Ираком, например, США и Запад рассматривали международный терроризм и «Аль-Каиду» как наиболее серьезную и неминуемую угрозу мировой безопасности. Атаку на Ирак объясняли тем, что режим Саддама Хусейна обладает оружием массового поражения и может передать его террористам либо вооруженным исламистским группировкам. Хотя подозрения не подтвердились, Запад развязал восьмилетнюю кампанию, пагубные последствия которой ощущаются до сих пор. Война в Афганистане началась из-за прямого участия страны в международном терроризме, но дальнейшие события имеют исключительно локальные корни. Тем не менее НАТО продолжает интервенцию, не учитывая местных особенностей и потребностей. В Сирии западные страны склонны разрешать преимущественно региональный вопрос при помощи своего традиционного метода, оказывая политическое давление и бряцая оружием, но при этом они не в состоянии оценить реальные политические риски и возможные потери.
Восстания в арабском мире связаны с проявлением активной роли людей. Возникновение национальных исламских движений в странах с независимыми парламентами, отражающими настроения общества, будет оказывать растущее влияние на власти и региональную политику. Это не значит, что западные подходы и схемы исчезнут, поскольку они пользуются поддержкой некоторых политических и интеллектуальных групп, и особенно этнических меньшинств. Но геополитика определит баланс между региональными и международными подходами. События доказывают, что разумнее решать проблемы, опираясь на региональные и локальные реалии, а не на основе схем, привнесенных извне. В отношении сирийского кризиса региональное решение, несомненно, будет более благотворным, чем международное в форме военного вторжения НАТО. В этой сфере такие ближневосточные державы, как Иран, Турция и Саудовская Аравия могут сотрудничать с трансрегиональными и мировыми державами – Соединенными Штатами, Россией, Китаем и Евросоюзом – ради достижения консенсуса и разрешения кризиса на базе региональных интересов, что принесет пользу и международному сообществу.
События в регионе заставили усомниться в традиционном представлении о том, что у мирового сообщества (Запада) есть решение для любой региональной проблемы. Во многих случаях предложенные рецепты подорвали политическую систему и безопасность, спровоцировав конфликты и усугубив разногласия. Например, западный подход к сирийскому кризису столкнул Иран и Турцию, что само по себе является стратегической ошибкой. Разногласия или соперничество между двумя ключевыми региональными державами опасны для перспектив мира и устойчивой безопасности в регионе, прежде всего в Афганистане и Ираке. Региональные решения, напротив, способны учесть интересы всех сторон, локальных и внешних. При этом естественно, что у таких держав, как Иран и Турция, проводящих активную политику и руководствующихся динамичной идеологией, будет больше возможностей для использования приемлемых для них подходов и защиты собственных интересов.
Противоречивые роли региональных и внешних акторов
В число активных региональных игроков входят Иран, Турция, Саудовская Аравия и Израиль. Внешние акторы – США, Россия, Китай и Европейский союз. Все они вышли на арену, стремясь добиться реализации собственных геополитических и идеологических интересов.
Турция взяла на вооружение «максималистский» подход, используя любую возможность, чтобы посредством поддержки арабских восстаний повысить свою региональную и международную роль. Однако по ходу дела (особенно в случае с кризисом в Сирии) проблемой Анкары стал поиск баланса между ценностями идеологии, внутренней политикой и геополитическими интересами. Мустафа Кемаль Ататюрк, основатель современной Турции, полагал, что страна нуждается в тесных взаимоотношениях с Западом, но не считал вестернизацию обязательной. Затем, однако, сторонники светского государства поставили эту идею себе на службу, подстегивая идеологическое и геополитическое сближение с США и Европой. Это до сих пор затрудняет для Турции решение региональных вопросов. Приверженцы светской модели и сегодня твердо убеждены, что необходимо делать ставку на взаимодействие с НАТО и Западом. Основным вызовом для правящей исламистской Партии справедливости и развития (ПСР) и правительства Реджепа Тайипа Эрдогана является, с одной стороны, позиция прозападных секуляристов, с другой – более происламское общественное мнение. Светские оппоненты официальной Анкары утверждают, что ПСР переоценивает возможности страны и идет на поводу у оппортунистического подхода, стремясь опереться на ислам и исламские группировки, такие как «Братья-мусульмане». Общественное мнение при этом настроено против чрезмерного вовлечения в региональные вопросы, особенно в конфликт вокруг Сирии и тем более против участия в военных интервенциях под руководством Запада.
На Западе принято считать, что Турция выиграет от событий в арабском мире, но это отнюдь не гарантировано. Перемены, в особенности кризис в Сирии, привели к разногласиям между ПСР и секуляристами. В результате Турция стала более консервативно, чем в предыдущие месяцы, оценивать перспективы и более реалистично воспринимать роль других акторов, включая Иран и Россию, в урегулировании сирийского кризиса. Из-за своего максималистского подхода Анкара оказалась перед серьезным выбором. С одной стороны, если Турция поможет союзникам по НАТО, она не сможет претендовать на ведущую роль в регионе. С другой – сосредоточенность на внутриполитической ситуации может вступить в противоречие с традиционной ролью, которую ПСР определила для себя в решении этих вопросов.
Саудовская Аравия, наоборот, использует «минималистский» подход. Она пытается замедлить события или «реквизировать» революции, поставить их себе на службу. Нельзя не отметить относительный успех такой политики. Используя свои финансовые ресурсы, подконтрольные СМИ и наличие влиятельных лобби в Египте, Сирии и Йемене, а иногда применяя силу (например, для подавления восстания в Бахрейне), Эр-Рияд старается сохранить позиции. При этом Саудовская Аравия, которая и сама почувствовала на себе дыхание «арабской весны», попыталась ускорить события в Сирии, так как в Эр-Рияде, по-видимому, считают, что любой режим в Дамаске будет выгоднее Западу и саудовцам, чем нынешний. Как бы то ни было, цель консервативного саудовского режима – отодвинуть «арабскую весну» подальше от своих границ. Кроме того, Саудовская Аравия старается воздействовать на геополитику и идеологию. Так, она препятствует установлению тесных связей между Ираном и Египтом и пропагандирует исламские прогрессивные ценности.
Тегеран практикует умеренный подход. Он основан на защите своих геополитических интересов (насколько смены власти повлияют на стабильность двусторонних отношений) и идеологических ценностей (идеалы исламской революции 1979 г., целью которой были поддержка народных движений, противостояние вмешательству иностранных держав и содействие «исламскому единству»). Формулируя курс по сирийскому вопросу, Иран ищет баланс между геополитическими и идеологическими интересами. Тегеран не возражает против реформ в Сирии при условии, что они не будут представлять угрозу для движений сопротивления – «Хезболлы» и ХАМАС. Иран считает, что кризис в Сирии – это региональный вопрос, который должен решаться на региональном уровне с учетом реалий безопасности. В определенной степени это поддерживают Россия и Китай, для них важно не противодействовать трансформации Сирии, а установить пределы западного вмешательства. Определение этих рамок позволит избежать одностороннего взгляда на ситуацию, отражающего интересы исключительно Запада.
Наконец, Израиль рассматривает арабские восстания с пессимистической и консервативной точки зрения. Израиль столкнулся с серьезными проблемами в отношениях с Египтом, Сирией, Ираном и Турцией, четырьмя столпами стабильности на Ближнем Востоке. Безопасность еврейского государства зиждется на Кэмп-Дэвидских соглашениях – мирном договоре Израиля и Египта, позволявшем поддерживать приемлемые отношения с ключевыми арабскими государствами, чтобы затем добиться так называемого устойчивого мира. Эта стратегия, по сути, неприменима после падения режима Хосни Мубарака. Общество обрело более активную роль в формировании парламента, что ведет к росту влияния исламских и национально ориентированных сил. События в Сирии не отвечают израильским интересам, хотя Израиль и пытался свергнуть режим Асада. А участие России и Ирана в урегулировании сирийского кризиса в значительной степени ослабило роль Запада и Израиля.
В свою очередь у Турции, которая рассматривает арабские революции как возможность расширить свое влияние и использовать мягкую силу в арабском мире, не осталось других вариантов, кроме как дистанцироваться от Израиля. Это стало еще одним ударом по двусторонним отношениям после рейда против «флотилии свободы» в мае 2010 г. (инцидент с судном «Мави Мармара»), который почти привел к разрыву дипломатических контактов. Наконец, Иран, противодействуя стремительной смене режима в Дамаске и пропагандируя исламские ценности и единство, пытается ослабить роль Израиля на Ближнем Востоке, что еврейское государство воспринимает как угрозу безопасности.
На трансрегиональном уровне также наблюдается соперничество между Соединенными Штатами и Евросоюзом с одной стороны, и Россией и Китаем – с другой. В октябре 2011 г. Москва и Пекин заявили о необходимости ограничить западное вмешательство в дела региона, а затем наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН против сирийского режима. Де-факто сформировались коалиции: Иран, Россия и Китай – с одной стороны, и США, ЕС, Саудовская Аравия, Катар и Израиль – с другой. Турция находится где-то посередине. Подобное противостояние не отвечает долгосрочным интересам Ближнего Востока, поскольку издержки могут оказаться очень высокими. Нужно осознать необходимость компромисса между интересами региональных и трансрегиональных акторов, который достижим посредством учета региональной специфики.
* * *
Арабские восстания оказали огромное геополитическое воздействие на структуры региональной власти и политики. Они привели к дальнейшей политизации ближневосточной проблематики, укрепив регионализм в дихотомии «региональные – интернациональные подходы», а также обострив конкуренцию между игроками. Тегеран воспринимает эти восстания и как новые возможности, и как вызов. Формирование новых национальных исламских правительств может позволить Ирану преодолеть прежнюю изоляцию неарабского государства и укрепить связи с арабскими странами, что обещает более активную роль на Ближнем Востоке. Но события в арабском мире также бросают Ирану вызов, поскольку растет риск противоречий с влиятельными акторами, включая Турцию, Саудовскую Аравию и США. Геополитическая значимость Ирана связана с его региональной ролью. Как новая региональная держава Иран может выиграть от событий в арабском мире, воспользовавшись стратегической возможностью консолидировать геополитические и идеологические интересы.
Кайхан Барзегар – глава факультета политологии и международных отношений научно-исследовательского отделения Исламского университета Азад и директор Института стратегических исследований Ближнего Востока в Тегеране.

Арабская весна – первый год
Опасное время для жизни
Резюме: Римский историк Тацит однажды точно подметил, что «лучший день после свержения плохого императора – это самый первый день». Нынешнее третье арабское пробуждение лежит на весах истории. В нем есть опасности и перспективы, опасность оказаться в застенках, но и возможность обрести свободу.
Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 2, 2012 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
На протяжении всего 2011 г. из арабского мира доносилось ритмичное скандирование: «Народ – за свержение режима». Этот клич легко преодолевал границы, нашел отражение на страницах газет и журналов, в социальных сетях Twitter и Facebook, звучал на телеканалах «Аль-Джазира» и «Аль-Арабия». Арабский национализм недооценивали, зато налицо были все признаки панарабского пробуждения. Молодые люди, жаждавшие политической свободы и экономических возможностей, уставшие просыпаться каждый день в монотонной действительности, восстали против своих склеротичных господ.
Все произошло неожиданно. На протяжении почти двух поколений волны демократии захлестывали другие регионы – от Южной и Восточной Европы до Латинской Америки, от Восточной Азии до Африки. Однако до Ближнего Востока они не докатывались. Местные тираны взяли под контроль политический мир и стали владельцами своих стран – если не по форме, то по сути. Сложилась довольно унылая картина: ужасные правители, подавленное население, террористы-маргиналы, в отчаянии бросающиеся под каток нелегитимного режима. Арабы почувствовали, что над ними тяготеет проклятье, они обречены на деспотизм. Исключительность региона оборачивалась не только гуманитарной катастрофой, но и моральной ущербностью.
Внешние державы закрывали глаза на происходящее, полагая про себя, что это лучшее, на что арабы способны. Внезапный порыв вильсонианства привел к тому, что в течение нескольких лет Соединенные Штаты своей властью провозгласили в Ираке свободу. Саддама Хусейна удалось вытравить из его «паучьей щели», сирийские террористы и вымогатели были изгнаны из Ливана, деспотизму Хосни Мубарака, который долгое время был столпом американского влияния, также был положен конец. Но Ирак после Саддама представлял собой противоречивую смесь демократии с кровью на улицах и религиозным противостоянием. Автократии ушли в глухую оборону и сделали все возможное, чтобы новый иракский проект окончился провалом. Ирак оказался в огне, и арабские «самодержцы» указывали на него как на предостережение – к чему приводит свержение даже худшего из деспотов. Более того, Ирак нес двойное бремя унижения из-за ослабления арабов-суннитов – США принесли свободу, и война усилила позиции шиитов в арабском мире. Результатом оказалась ничья: арабы не могли затушевать или игнорировать проблески свободы, но пример Ирака не стал маяком надежды для простых людей, на что многие рассчитывали.
Сами арабы говорят, что Джордж Буш вызвал цунами в регионе. Это верно, но арабы хорошо умеют пережидать бури, и вскоре уже сами американцы упали духом и решили не продолжать экспериментировать. На выборах 2006 г. в Палестинской автономии победу одержало движение ХАМАС, и администрацию Буша постигло еще одно разочарование. Наращивание контингента в Ираке стало весьма своевременным спасением всей военной кампании, но от более честолюбивых планов реформирования арабского мира пришлось отказаться. Автократиям удалось пережить короткий период наступательного порыва Соединенных Штатов, и вскоре новый знаменосец американской власти Барак Обама принес утешительную весть: США изменят свою политику, установят мирные отношения со всеми имеющимися режимами, обновят партнерство с дружественными автократами и даже попытаются взаимодействовать с враждебными режимами в Дамаске и Тегеране. Какое-то время Америке еще потребуется для завершения миссии в Кабуле, но Большой Ближний Восток оказался предоставлен самому себе.
В первое лето президентства Обама был захвачен врасплох мятежом против засилья аятолл в Иране и не знал, что предпринять. Твердо взяв курс на умиротворение правителей, он не нашел нужных слов для переговоров с мятежниками. Тем временем сирийский режим, отказавшийся под нажимом мирового сообщества от владычества в Ливане, жаждал восстановить там утраченные позиции. Тайная кампания терактов и убийств, доминирование «Хезболлы» и субсидии Ирана способствовали подавлению «Кедровой революции», которая была гордостью дипломатии Буша.
Изучая баланс сил в регионе в конце 2010 г., наблюдатели могли побиться об заклад, что автократия просуществует еще долго. Имея перед собой пример Башара Асада в Дамаске, они невольно приходили к выводу, что аналогичная участь ждет Ливию, Тунис, Йемен и даже законодателя мод в арабской политической и культурной жизни – Египет. Однако за внешней стабильностью скрывались нищета и бесплодность политической мысли. Арабы не нуждались в каких-либо докладах о «развитии человечества», и без того осознавая свое жалкое положение. В обществе отсутствовало согласие; единственное, что связывало правителей и их подданных, – это страх и подозрительность. Не было и намека на какие-либо проекты по общественному переустройству, которые можно было бы завещать будущему поколению, и это в арабских странах, где молодое население столь многочисленно.
Затем грянул гром. В декабре 2010 г. в Тунисе отчаявшийся торговец фруктами Мохаммед Буазизи не смог найти иного выхода, как совершить самосожжение в знак протеста против несправедливого уклада жизни. Вскоре миллионы его безымянных соотечественников вышли на улицы, избрав другой способ выражения протеста. Внезапно деспоты, владычеству которых, казалось бы, ничто не угрожало, без пяти минут небожители, вынуждены были спасаться бегством. Со своей стороны, Соединенные Штаты поспешили оседлать эту волну. «В слишком многих странах, и везде по-разному, фундамент региона проседает и уходит в песок,» – заявила государственный секретарь Хиллари Клинтон, выступая в Катаре в середине января 2011 г., когда буря только начиналась. Вскоре события в арабском мире стали красноречивой иллюстрацией к ее словам. Единственное, что упустила госсекретарь, так это то, что в песок ушли и наработки нескольких поколений американской дипломатии.
На этот раз огонь
Мятеж был сведением счетов между властью и населением, которое твердо решило покончить с засильем деспотов. Первый взрыв произошел в маленькой стране, расположенной на периферии арабского политического пространства, более образованной, процветающей и связанной с Европой, чем большинство других государств Магриба. Когда волна восстаний начала продвигаться на восток, она поначалу обогнула Ливию и обрушилась на «мать мира» Каир. Там продолжающееся представление обрело достойные подмостки в соответствии с амбициями мятежников.
Часто списываемый со счетов как страна, преимущественно покорная, Египет столкнулся с беспрецедентными по своей жестокости беспорядками. То, что народ терпел Мубарака три десятилетия, можно отнести за счет везения диктатора. Будучи преемником Анвара Садата, Мубарак проводил осторожную политику, но со временем у него возникли династические амбиции. В течение 18 дней в январе и феврале египтяне всех профессий, как завороженные, собирались на площади Тахрир, требуя избавления от Мубарака. Ведущие военачальники сместили его с президентского поста, и он разделил участь тунисского деспота Зин эль-Абидина Бен Али, кабинет которого пал месяцем ранее. После Каира пробуждение охватило весь арабский мир – восстания вспыхнули в Йемене и Бахрейне. Последний, будучи монархией, стал редким исключением, поскольку весной 2011 г. беспорядками были охвачены только республики, управлявшиеся автократами. Но если в большинстве монархий действовал общественный договор между властью и подданными, Бахрейн оказался расколот противостоянием шиитского большинства и суннитских правителей. Таким образом, страна уязвима, и в порядке вещей, что социальный взрыв в ней вылился в межрелигиозное противоборство. Тем временем беднейшая из арабских стран, Йемен, раскололась на два лагеря вследствие буйствующих на севере и на юге изоляционистских течений и политики лидера страны, Али Абдуллы Салеха, ничем не примечательного, кроме владения искусством политического выживания. Феодальная вражда в Йемене вспыхивала в основном из-за ссор между племенами и их вождями. Широкие волнения в арабском мире дали йеменцам, жаждущим избавиться от правителя, мужество, чтобы бросить ему вызов.
Затем волна с удвоенной силой обрушилась на Ливию. Это было царство безмолвия, где безраздельно правил психически неуравновешенный Муаммар Каддафи, самопровозглашенный «староста арабских правителей». Четыре мучительных десятилетия ливийцы находились под началом тюремного надзирателя – полутирана, полуклоуна. Каддафи разграбил богатейшую в Африке страну и довел ее население до ужасающего обнищания. В период между мировыми войнами Ливия столкнулась с жестоким колониальным господством итальянцев. После небольшой передышки при аскетичном короле Идрисе страну в конце 1960-х гг. охватила революционная лихорадка. Главный лозунг тех лет звучал так: «Иблис ва ла Идрис» – лучше дьявол, чем Идрис. И Ливия получила то, чего хотела. Наличие больших запасов нефти лишь подливало масла в огонь безумия: европейские лидеры и американские интеллектуалы всячески обхаживали ливийских заправил. На сей раз в 2011 г. поднялся Бенгази – город, находящийся на некотором удалении от столицы – и история дала ливийцам еще один шанс.
Египетские воротилы заявили, что их страна – не Тунис. Каддафи сказал, что его республика – не Тунис и не Египет. Башар Асад также уверял, что Сирия – это не Тунис, не Египет и не Ливия. Асад молод, его режим был более легитимен в глазах ислама, потому что противостоял Израилю, а не сотрудничал с ним. Но он явно поторопился со своим суждением, и в середине марта настала очередь Сирии. Туда ислам пришел сразу после того, как преодолел пределы Арабского полуострова, но раньше, чем его центр переместился из арабского мира в Персию и Турцию. Вместе с тем несколько десятилетий тому назад отец Башара Хафез – чрезвычайно изворотливый и опытный политик – привел военных и партию Баас к абсолютной власти, создав режим алавитов, народа, составляющего меньшинство. Объединение деспотизма и религиозного фанатизма породило самое страшное государство на арабском Востоке.
Когда в 2011 г. вспыхнуло восстание, оно имело четкие географические границы, как доказывал французский политолог Фабрис Баланше. Главными очагами стали городские кварталы и территории, населенные арабами-суннитами. Сначала социальный взрыв произошел в южном провинциальном городке Дераа, затем мятеж перекинулся на такие города, как Хама, Хомс, Джиср эль-Шугур, Растан, Идлиб и Дейр-аз-Зор, минуя курдские и друзские территории, а также горные селения и прибрежные города, считающиеся оплотом алавитов. Наиболее ожесточенные столкновения произошли в третьем по величине городе Сирии Хомсе из-за его взрывоопасной демографии – две трети суннитов, четверть алавитов и 10% христиан.
Конечно, дело не только в религиозной вражде. В Сирии один из самых высоких показателей рождаемости в регионе; ее население выросло почти вчетверо с 1970 г., когда к власти пришел Хафез Асад. У режима, образно говоря, произошла закупорка сосудов, поскольку в политике и экономике доминировал военно-торговый комплекс. Финансовые средства государства значительно сократились, после того как под знаменами приватизации, проводимой в последние годы, государство самоустранилось от решения злободневных проблем. Мятеж явился выражением чувства экономической обездоленности и гнева суннитского большинства, твердо решившего избавиться от власти нечестивого меньшинства.
Нынешнее положение дел
Никакого единого сценария по смене режимов в арабском мире, конечно, не существовало. Тунис с его глубокими традициями государственности и ярко выраженной национальной самоидентификацией решил все проблемы сравнительно легко. Было избрано учредительное собрание, в котором большинство получила исламистская партия «Ан-Нахда». Ее лидер Рашид Ганнуши оказался мудрым и предусмотрительным человеком; годы, проведенные в изгнании, научили его осторожности, и партия сформировала коалиционное правительство совместно с двумя светскими партиями.
В Ливии иностранная интервенция помогла повстанцам свергнуть режим. Каддафи вытащили из трубы коллектора, где он скрывался, и зверски убили. Та же участь постигла одного из его сыновей. Диктатор пожал ненависть и ярость, которую сам сеял. Богатство, небольшая плотность населения и помощь иностранных государств – вот те плюсы, на которые может рассчитывать Ливия. Годы правления Каддафи – худшее, что могло приключиться с этой страной.
Над Бахрейном витают тени Ирана и Саудовской Аравии. Массового террора нет, но политический порядок малопривлекателен. Имеет место религиозная дискриминация, да и правящая верхушка ведет себя по меньшей мере странно. Династия Халифа, завоевавшая эти территории в конце XVIII века, до сих пор не заключила мирного соглашения с местным населением. Силы безопасности комплектуются иностранцами, и до настоящей стабилизации еще очень далеко.
Что касается Йемена, то это государство несостоятельно по определению. Правительство почти не вмешивается в дела населения, оно неплатежеспособно, зато в стране почти нет такого понятия, как террор. Заканчиваются запасы пресной воды, джихадисты, бежавшие из предгорий Гиндукуша, нашли здесь пристанище. Это тот же Афганистан, но с протяженной береговой полосой. Люди, высыпавшие на улицы Санаа в 2011 г., требовали восстановления правопорядка, более достойной политики, чем та, которую проводил циничный фигляр, стоявший у руля больше трех десятилетий. Будут ли их требования выполнены, неясно.
Сирия по-прежнему в хаосе. Палестинское движение ХАМАС ушло из Дамаска в декабре, потому что оно боялось оказаться на неправильной стороне укрепляющегося среди арабов консенсуса, который направлен против сирийского режима. «Никакого Ирана, никакой «Хезболлы», мы хотим правителей, боящихся Аллаха», – так звучит одно из наиболее осмысленных требований протестующих. Власть алавитов незаконна. Режим, жестоко подавляющий восстания, позволяющий силам безопасности осквернять мечети, стрелять в молящихся и приказывающий несчастным заключенным скандировать: «Нет Бога, кроме Башара», сам себя изжил. Хафез Асад тоже совершал жестокости, но всегда умудрялся оставаться в арабском правовом поле. Башар ведет себя иначе – совершенно безрассудно и безответственно, так что даже Лига арабских государств, которой свойственно закрывать глаза на некоторые бесчинства и авантюры своих членов, приостановила членство Дамаска.
Битва продолжается, Алеппо и Дамаск пока еще не восстали, и осажденный правитель, похоже, убежден, что сможет бросить вызов законам гравитации. В отличие от Ливии, на горизонте пока не маячит иностранная гуманитарная миссия. Но несмотря на всю неопределенность, одно не вызывает сомнений: устрашающая система государственной безопасности, которую построил Хафез Асад, партия Баас, солдаты-алавиты и главари спецслужб канули в Лету. Потеряв народную поддержку, режим какое-то время держался на страхе, но люди победили страх и вышли на улицы. Узы, некогда связывавшие властителей Сирии с ее населением, теперь разорваны окончательно.
Что после фараона
Тем временем Египет, возможно, утратил былой блеск, но об этой арабской эпохе будут судить по конечным результатам. При катастрофическом сценарии революция приведет к образованию исламской республики: копты будут вынуждены бежать, о доходах от туризма можно будет забыть, и египтяне будут жаждать железной хватки фараона. Большое число голосов, которые получили на недавних парламентских выборах «Братья-мусульмане» и еще более экстремистская партия салафитов, наряду с расколом светского и либерального электората, похоже, оправдывают опасения по поводу возможного развития политической ситуации. Но египтяне с гордостью вспоминают о либеральных периодах своей истории. Шесть десятилетий военный режим лишал их преимущества проведения открытой политики, и вряд ли они теперь легко откажутся от нее.
Выборы были прозрачными и представительными. Либеральные и светские партии оказались не готовы к борьбе, тогда как «Братья-мусульмане» десятилетиями ждали благоприятного исторического шанса и не преминули им воспользоваться. Не успели салафиты выйти из катакомб, как население возмутилось, и им пришлось отказаться от некоторых экстремистских взглядов. События на площади Тахрир ошеломили мир, но, как выразился молодой египетский интеллектуал Самуэль Тадрос, «Египет – это не Каир, а Каир – это не площадь Тахрир». Когда осядет пыль, за будущее Египта будут бороться три силы: армия, «Братья-мусульмане» и широкая светская коалиция либералов, лозунгами которой являются отделение религии от политики, гражданская форма правления и спасительные добродетели нормальной политической жизни.
«Братья-мусульмане» привносят в политическую борьбу проверенную временем смесь политической хитрости и искреннего стремления установить политический порядок по канонам ислама. Основатель этой партии Хасан аль-Банна был убит в результате покушения в 1949 г., но до сих пор служит ориентиром для мусульманского мира. Неутомимый заговорщик, он говорил о Божьем правлении, но подспудно совершал сделки с королем Египта против Вафд – господствующей партии тех дней. Он играл в политические игры, собрав грозное ополчение и попытавшись найти сочувствующих в офицерском корпусе, к чему с тех пор стремятся и его последователи. Вне всякого сомнения, его бы восхитило тактическое искусство преемников, маневрирующих между либералами и Высшим советом Вооруженных сил. Они приобщились к мятежу на площади Тахрир, но не участвовали в погромах и эксцессах, подчеркивая приверженность трезвости и общественному порядку.
Правда в том, что Египту не хватает финансовых средств для построения успешного современного исламского порядка. Исламская Республика Иран опирается на нефтяные доходы, и даже умеренное усиление Партии справедливости и развития в Турции обеспечивается процветанием благочестивой буржуазии из нагорной Анатолии. Египет находится на перекрестье международных сообщений и во многом полагается на доходы от туризма, судоходства по Суэцкому каналу, зарубежную помощь и денежные переводы от египтян, живущих за рубежом. Добродетель вынуждена идти на поклон к необходимости: в прошлом году золотовалютные резервы снизились с 36 до 20 млрд долларов. Инфляция стучится в дверь, цена импортной пшеницы очень высока, и приходится платить по счетам. Желание стабильности сегодня уравновешивает пьянящий восторг от низложения деспота.
Лидерам Египта придется решать грандиозные проблемы, и нежелание «Братьев-мусульман» и военных принять всю полноту власти говорит о многом. Вместе с тем здравый смысл и прагматизм может возобладать. Разумное разделение полученной в результате выборов легитимности и ответственности обещает оставить за «братьями» министерские портфели, которые им наиболее дороги: образование, социальное обеспечение и судебно-исполнительную власть, тогда как генералы будут контролировать оборону, разведку, мирный договор с Израилем, военные связи с США и сохранение экономических прерогатив офицерского корпуса. Светские либералы сохранят за собой значительное число сторонников, влияние в повседневной жизни, которая с трудом поддается регламентации и организации, а также возможность выставить сильного кандидата на предстоящих президентских выборах.
На протяжении двух веков кряду Египет борется за современное общество и достойное своих амбиций место в международной жизни. До сих пор это напоминало Сизифов труд, но египтяне упорствуют. В августе прошлого года страна стала свидетелем сцены, которая продемонстрировала великодушие египтян, что может их утешить. Перед судом на инвалидной коляске предстал, если так можно выразиться, последний фараон. Мубарака не вытащили из трубы коллектора, чтобы расправиться, как с Каддафи, он не затаился со своей семьей и не убивал свой народ, как это делал Асад. По словам писателя Эдварда Моргана Форстера, египтяне всегда демонстрировали способность примирять противоречия и могут сделать это еще раз.
Третье великое пробуждение
Это третье пробуждение в новейшей истории арабского мира. Первое – культурно-политический ренессанс, порожденный желанием быть частью современного мира – началось в конце 1800-х годов. Возглавляемое книжниками и законниками, мнимыми парламентариями и христианскими интеллектуалами, оно задалось целью реформировать политическую жизнь, отделить религию от политики, эмансипировать женщин и восстановить мусульманский мир после развала Османской империи. Не случайно это великое движение, важнейшими центрами которого были Каир и Бейрут, основал его летописец Георг Антониус, христианский писатель, родившийся в Ливане, выросший в Александрии, получивший образование в Кембридже и служивший в британской администрации на территории Палестины. Написанная им в 1938 г. книга «Арабское пробуждение» остается главным манифестом арабского национализма.
Второе пробуждение началось в 50-е гг. прошлого столетия и набрало силу в последующее десятилетие. Это была эпоха Гамаля Абдель Насера в Египте, Хабиба Бургибы в Тунисе и ранних лидеров партии Баас в Ираке и Сирии. Лидеры того времени не были демократами, но они энергично занимались политикой, стремясь решать насущные проблемы своего времени. Они были выходцами из среднего класса или даже ниже среднего и мечтали об индустриализации и избавлении своего народа от комплекса неполноценности, который развился в годы колониального господства, и еще раньше – в эпоху правления Османов. Простое обращение к их деяниям не способно раскрыть всего величия проекта. Их грандиозные свершения были отчасти сведены на нет демографическим взрывом, поползновениями авторитаризма и другими недостатками. Когда режим зашатался, образовавшийся вакуум заполнили полицейские государства и политический ислам.
Нынешнее, третье, пробуждение произошло как никогда вовремя. Арабский мир стал мрачным и пугающим. Население ненавидело своих правителей и их иностранных покровителей всеми фибрами души. Банды джихадистов, прошедшие закалку в жестоких тюрьмах зловещих режимов, распространились повсюду, сея смерть. Мохаммед Буазизи призвал своих собратьев творить новую историю, и миллионы людей в этом регионе услышали его и откликнулись. В июне прошлого года алжирский писатель Буалем Сансал написал Буазизи открытое письмо: «Дорогой брат, пишу тебе эти строки, чтобы ты знал, что у нас в целом все хорошо, хотя день на день не приходится: иногда меняется ветер, начинается дождь, и жизнь пробивается из всех пор… Давай задумаемся на мгновение о будущем. Может ли найти путь тот, кто не знает, куда идти? Разве изгнание диктатора – это все, что нам нужно? Теперь, когда ты второй после Бога, Мохаммед, тебе, наверно, стало очевидно, что не все дороги ведут в Рим, и за изгнанием тирана автоматически не последует свобода. Узники любят менять одну тюрьму на другую ради перемены обстановки, и чтобы получить возможность чему-то научиться, приобрести новый опыт».
Римский историк Тацит однажды точно подметил, что «лучший день после свержения плохого императора – это самый первый день». Это третье арабское пробуждение лежит на весах истории. В нем есть опасности и перспективы, опасность оказаться в застенках, но и возможность обрести свободу.
Фуад Аджами – старший научный сотрудник Института Гувера при Стэнфордском университете и сопредседатель Рабочей группы Герберта и Джейн Дуайт по исламизму и мировому порядку при Институте Гувера.

Нет у революции конца
Демократизация Ближнего Востока и новые вызовы
Резюме: Россия вынужденно пошла на риск обострения отношений с Западом и с нефтяными монархиями Персидского залива. Соображения внешнеполитического позиционирования как государства, с которым нельзя не считаться, совпали с экспертными оценками региональных последствий.
Пошел второй год с тех пор, как началась череда массовых народных выступлений, которая смела целый ряд несменяемых арабских правителей (Тунис, Египет, Ливия, Йемен). Другим странам (Марокко, Иордания, Сирия) пришлось пойти на частичные политические реформы, промедление с которыми в Сирии было одной из причин разгоревшегося внутреннего конфликта. Третьи восприняли «арабскую весну» как сигнал серьезной опасности, с которой нужно бороться финансовым «пряником» и «мечом» одновременно (нефтяные монархии Аравии). Вновь, как и в начале прошлого века, когда первое «пробуждение арабов» было поставлено под англо-французский протекторат, или во время подъема освободительного движения 1950–1960-х гг. под руководством националистически настроенного офицерства, этот регион, жизненно важный для всего человечества, вошел в полосу затяжных потрясений. Эволюционный путь развития в последние два-три десятилетия вылился в авторитарную стабильность, и теперь вступили в силу законы революционного хаоса. Мощная энергия массовых протестов, выплеснувшаяся на поверхность, создает атмосферу неопределенности, повышенных конфронтационных рисков.
Новое поколение арабов потрясло мир страстным призывом к отстаиванию человеческого достоинства, социальной справедливости, права на свободное национальное развитие. Вместе с тем нельзя не видеть и другой стороны этой медали. Завязался тугой клубок острых противоречий и сталкивающихся интересов. Естественная тяга к давно назревшим переменам и открытость перед внешним миром переплетаются с живучестью исторических и религиозных традиций, завышенные ожидания – с отсутствием реальных возможностей для их быстрой реализации, интервенционизм Запада – с непомерными амбициями ближневосточных игроков, не затронутых «арабской весной». В результате теряется или затушевывается видение конечных целей, а справедливые демократические лозунги, провозглашаемые протестными движениями, поиски национальной идентичности превращаются в банальное средство борьбы за власть и перехват революционной волны на регилнальном уровне. По мере снижения государственной управляемости международные террористические группировки укрепляют свои опорные базы в Северной Африке, Йемене, Ираке и последнее время Сирии, что вносит в переходные процессы дополнительные элементы непредсказуемости.
Революционные всплески на всем пространстве арабского мира от Марокко до Бахрейна высветлили три слоя напряженности, воспроизводя все новые очаги конфликтогенности на страновом, региональном и глобальном уровнях.
И после распада биполярного мира, когда «игра с нулевой суммой», казалось бы, закончилась, международное сообщество демонстрирует неспособность согласованно реагировать на политический форс-мажор. Эксперты-ближневосточники и ранее прогнозировали смену правящих элит, но скорость обвала прежних режимов и формы, в которые это вылилось, захватили врасплох практически всех. Политические решения принимались в условиях острого дефицита времени, причем скорее интуитивно, чем продуманно. Спустя год пора не только трезво осмыслить происходящее, но и попытаться найти общие подходы, которые за истекший период так и не наметились.
В чем, собственно, заключаются расхождения? Действительно ли Россия и ее западные партнеры заняли места по разные «стороны истории»? Или проблема здесь в том, что сама история, в том числе арабская, не закончилась, имеет свое пока неясное продолжение, а в мире, как справедливо заметил Фрэнсис Фукуяма, происходит что-то странное. Важно проследить последовательность международной реакции на системные сдвиги в регионе, определиться с процессом адаптации к их побочным негативным последствиям.
«Свой – чужой»
С самого начала «арабская весна» выглядела как демократический вызов авторитаризму и воспринималась на Западе как некое универсальное явление. Нередко проводились даже аналогии с разрушением Берлинской стены и демократическими революциями в странах Восточной и Центральной Европы на рубеже 1980-х и 1990-х годов. Одним словом, инерционно возобладала тенденция к идеологизации сложных и далеко неоднозначных событий в мусульманском мире. Настолько велик был соблазн подкрепить «пробуждением арабов» тезис о победном шествии демократии по всему миру. В условиях, когда сама либеральная модель мирового капитализма переживает кризисные времена, такие упрощенные трактовки представлялись особенно своевременными.
Сегодня очевидно, что арабские революции не были и не могут быть «бархатными». В каждой из трансформация власти проходила своим путем, а в Ливии и Сирии эти процессы приняли характер вооруженного противостояния. В Египте взрыв народного протеста, во многом стихийный, вынудил армию, которая не применила жесткую силу, взять на себя управление страной в переходный период.
В тех особых условиях логика действий свелась к необходимости принести в жертву крупную фигуру, чтобы спастись от сползания в анархию. Режим Каддафи в Ливии был свергнут повстанческим движением племен, вылившимся в многомесячную гражданскую войну, однако решающую роль сыграло вооруженное вмешательство НАТО. Социально-политические причины, вызвавшие взрыв в Египте и Тунисе, налицо и в Сирии. Особое ожесточение конфликту между баасистским режимом и оппозицией придал конфессиональный фактор: алавитское меньшинство, сконцентрировавшее в своих руках власть и финансово-экономические ресурсы, против суннитского большинства. Нарастающее напряжение в Бахрейне также развивается по линии межконфессионального разлома с той разницей, что там все зеркально – правящее суннитское меньшинство противостоит требованиям раздела власти со стороны шиитского большинства. В Йемене затянувшееся отречение Али Абдаллы Салеха от власти, хотя и имело под собой политически договорную основу и одобрение Совета Безопасности ООН, проходило в обстановке внутреннего конфликта, немалых человеческих жертв и по сути латентной гражданской войны.
В отличие, например, от США и Франции, которые по идеологическим причинам быстро начали идеализировать «арабские революции», Россия сразу сделала акцент на недопустимости иностранного вмешательства и необходимости решать проблемы внутреннего развития – такие, как характер и темпы реформ – через политический диалог. Возможно, с российской стороны декларации солидарности с демократическими устремлениями арабских народов звучали и не столь громко. Исчерпавшая в минувшем столетии лимит на революции и войны и имевшая свой, не во всем успешный опыт на Ближнем Востоке, Россия не пошла по пути продвижения демократии на риторическом уровне. Тем более что российское экспертное сообщество в отличие от западных политиков не рассматривало происходящее в черно-белых тонах. В общем и целом падение режимов в Тунисе и Египте не повлекло за собой заметных противоречий в позициях России и Запада. И это нужно отметить особо.
В международную повестку дня арабская тема вошла только на волне ливийских и сирийских событий. И дело здесь не в том, что одни альтруистически встали на сторону «демократии», а другие своекорыстно выступили в поддержку «диктатур», как об этом в пылу полемики всерьез заявляли солидные официальные лица Соединенных Штатов, Франции и Англии. Предмет спора видится гораздо шире, и дело вовсе не в спасении старых режимов, боровшихся или борющихся за выживание. По большому счету речь идет о том, будут ли и дальше действовать такие фундаментальные нормы международного права, как государственный суверенитет и невмешательство во внутренние дела, или правила поведения государств меняются де-факто в зависимости от политической, экономической или иной целесообразности. После военного удара НАТО по Сербии и американской оккупации Ирака именно эти уставные принципы вновь подверглись серьезному испытанию в Ливии и Сирии. Объявление правящих там режимов априори нелегитимными и поспешная поддержка оппозиционных внутренних сил вплоть до прямого или косвенного, как в Сирии, вооруженного вмешательства. Привлечение Организации Объединенных Наций, имеющей немалый опыт миротворчества, к легитимации операций совсем иного рода – «по принуждению к демократии». Все это не могло не вызвать в России подозрений, не используется ли «арабская весна» для перекраивания геополитического ландшафта.
Мышление категориями «свой – чужой» превалировало в период холодной войны и блокового противостояния, особенно в регионах, где переплетались интересы двух сверхдержав. В новых постконфронтационных условиях многополярного мира глобальная управляемость утрачивается, и региональные процессы стали развиваться зачастую бесконтрольно, подчиняясь собственной внутренней логике.
В период 1990–2000 гг. Ближний Восток не числился среди приоритетов России, переживавшей трудности собственной трансформации в условиях распада государства и внутренних конфликтов. Соединенным Штатам, в свою очередь, не удалось воспользоваться моментом для укрепления позиций в регионе. Политика США попала в заложницы двух трудносовместимых противоречий – приверженности союзническим отношениям с Израилем на базе общих ценностей и осознанию того, что продолжение ближневосточного конфликта наносит ущерб коренным интересам Америки в мусульманском мире. Это противоречие особенно обострилось после того, как администрация Джорджа Буша инициировала две войны – в Афганистане и в Ираке.
Возвращение России
Возвращение России на Ближний Восток в последнее десятилетие происходило уже в иных условиях. Отношения с арабскими государствами более или менее выровнялись, развиваясь по широкому спектру. Во главе угла стояли соображения прагматического свойства, в первую очередь экономика и региональная безопасность. На этой основе строились, и довольно успешно, отношения с традиционно дружескими арабскими режимами (Алжир, Египет, Сирия, Ирак), начали выходить на стратегический уровень взаимовыгодные связи с новыми партнерами в регионе Персидского залива. Наметилось совпадение подходов России и США к решению практических вопросов палестино-израильского урегулирования, что позволило наладить конструктивное взаимодействие в рамках «ближневосточного квартета» при признании за Вашингтоном ведущей роли международного посредника. Словом, Россия, поставившая своей целью обеспечение национальных интересов на более ограниченном поле, отошла от системного противоборства.
В этом духе российская дипломатия действовала и в ходе ливийского кризиса. И даже два вето на проекты резолюций Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии Москва не рассматривает как повод для возвращения к давно минувшим баталиям. Российские мотивировки заслуживают того, чтобы быть услышанными.
С самого начала реакция России на конфликт в Ливии, как и ранее в Тунисе и Египте, отражала международную озабоченность судьбой мирного гражданского населения и призывала к общим усилиям по предотвращению насилия. Особенно после того, как против повстанцев была задействована тяжелая артиллерия и даже авиация. Россия поддержала резолюцию 1970 Совета Безопасности ООН, которой вводилось эмбарго на поставку в Ливию вооружений с целью обеспечить условия для начала политического диалога. Когда это не помогло, и считанные часы отделяли войска Каддафи от взятия Бенгази, было принято решение не блокировать резолюцию 1973 Совета Безопасности о введении бесполетной зоны. Москва показала, что помимо стремления избежать человесческих жертв для нее имеют значение соображения глобальной политики, сохранения авторитета ООН и действенной роли Совета Безопасности.
Дальнейшие действия западных партнеров, вольно трактовавших резолюцию ООН для легализации военной операции по смене режима (Каддафи или кого-то другого – не имело значения), были расценены не только как намеренный выход за пределы мандата совершенно в иных целях, но и как удар по международному престижу самой России. Этим, в частности, объяснялась позиция при рассмотрении в Совете Безопасности ООН сирийского кризиса. Россия вынужденно пошла на риск обострения отношений с Западом и с нефтяными монархиями Персидского залива. Для совершения такого серьезного и даже драматического шага в большой политике требуются, как правило, весомые основания. В данном случае соображения внешнеполитического позиционирования как государства, с которым нельзя не считаться, совпали с экспертными оценками региональных последствий от неконтролируемого развития событий. Свою роль сыграло и крайне негативное восприятие натовских ударов российским общественным мнением, что не могло не учитываться в непростой предвыборной обстановке.
Силовая смена режима в Ливии, и сегодня это очевидно всем, повлекла за собой тяжелые гуманитарные и политические последствия, прежде всего для самих ливийцев, вновь вернула страну в состояние полураспада, дестабилизировала обстановку южнее Сахары (события в государстве Мали, которое фактически развалилась, тому свидетельство), подстегнуло нелегальную иммиграцию в Европу. Сирия в отличие от «отдаленной» Ливии находится в сердце ближневосточного региона. Нарушение хрупких конфессиональных и этнических балансов в случае продолжительной гражданской войны чреват риском ее перетекания в соседние страны. Возрастет вероятность новых вспышек палестино-израильского противостояния. Наихудший из возможных сценариев: международному сообществу придется иметь дело с внутримусульманским конфликтом по линии шиитско-суннитского разлома.
Ставка таких крупных региональных игроков, как оформившийся союз арабских государств Персидского залива, на победу сирийской оппозиции, где ощутимо влияние воинствующих исламистов, судя по всему связана не столько с поддержкой демократии, сколько с осуществлением антииранской стратегии. В сирийской головоломке присутствует и цивилизационный аспект с учетом международной озабоченности судьбой христианского населения, численность которого на Святой земле неуклонно сокращается. Для России с ее двадцатимиллионным мусульманским населением и исторической ролью покровителя ближневосточного православия перенос внутренних конфликтов в плоскость религиозно-конфессиональных крайне чувствителен. В этой связи особую опасность для выстраивания эффективных международных подходов представляет разыгрывание конфессиональных карт в борьбе за сферы регионального влияния.
Экспертные оценки негативных последствий гражданской войны в Сирии в основном совпадают. Суть же разногласий на официальном уровне сводится к тому, как добиться прекращения кровопролитного внутреннего конфликта – через вооружение оппозиции и насильственные действия по свержению режима или путем внутрисирийского диалога о политических реформах, нацеленных на достижение соглашения о разделе власти. По российским оценкам, поощрение оппозиции к движению по первому пути чревато неоправданными региональными рисками, оно перегружает международные отношения конфронтационными элементами. К пониманию этого постепенно пришел и Генеральный секретарь ООН, который, вопреки своему статусу высшего международного чиновника, поначалу занял несбалансированную позицию. Теперь и он признает: «Вооруженный конфликт в Сирии может серьезно сказаться на ситуации во всем ближневосточном регионе… привести к непредсказуемым глобальным последствиям».
В многосторонних контактах по сирийскому кризису Россия пытается снизить конфронтационный тон, заданный западными и некоторыми арабскими партнерами. Ее дипломатические усилия направлены по сути дела на то, чтобы наладить скоординированную параллельную работу влиятельных внешних игроков с сирийским режимом и оппозицией, побуждая обе стороны к политической гибкости. Не остаются без внимания и просчеты, допущенные сирийскими властями. Дамаск с трудом расстается с иллюзиями о том, что в быстро меняющемся мире можно сохранить монопольную власть одной партии.
Международная адаптация к политическим катаклизмам, сотрясающим арабский мир, проходит столь же болезненно, сколь и сами трансформационные процессы. Государствостроительство началось практически с нулевого цикла. В первую очередь это касается Ливии, где единоличный режим Каддафи, прикрывавшийся фасадом народовластия, оставил после себя политический вакуум. Египет также находился в шаге от послереволюционного хаоса, если бы армия не взяла на себя роль стабилизатора. Другой сколько-нибудь монолитной силы к тому времени не было, но даже военным вынужденным в ходе перехода к гражданскому правлению маневрировать между различными политическими силами, с большим трудом удается контролировать ситуацию. Если напор улицы выйдет за рамки законности, реакция Высшего военного совета может быть жесткой. Призывы ко «второй революции» раздаются и в Йемене уже после ухода Салеха и проведения президентских выборов. Если смена нынешней власти партии БААС в Сирии произойдет обвальным, а не реформистским путем, эту страну, как и соседний Ирак, ожидает долгая полоса нестабильности с более трагическими последствиями.
Легализация исламистов
Революционные потрясения в арабском мире с новой силой поставили перед мировым сообществом такие вопросы, как роль и перспективы политического ислама. Причем уже не столько в академическом аспекте, сколько в плане практической внешней политики и дипломатии. Исламские движения и партии, находившиеся многие годы в подполье, получили легальный статус. Не будучи главными движущими силами массовых выступлений, они сумели оседлать революционную волну и одержать победу на парламентских выборах в Египте и Тунисе, закрепиться в рядах ливийских повстанцев и разрозненной сирийской оппозиции, сформировать правительство в Марокко и получить более трети мест в парламенте Кувейта.
Побед с таким широким региональным охватом не одерживало ни одно политическое движение со времени подъема националистической волны на Ближнем Востоке в 50–60-е гг. прошлого столетия. Тогда перемены в регионе происходили в результате военных переворотов, теперь же исламистские партии пришли во власть через всеобщие выборы, получив международную легитимность.
Особое внимание этот феномен привлекает к себе в Египте. От того, какая модель развития там возобладает, зависит, как можно полагать, и ход трансформаций в других частях арабского мира. Если успех умеренных «братьев-мусульман» в целом прогнозировался, то поистине ошеломляющего результата добились кандидаты от спешно образованной крайне консервативной исламистской партии «Ан-Нур» (Свет), представляющей так называемых салафитов – около четверти голосов египетских избирателей. В итоге исламистское движение в Египте получило более двух третей парламентских мест.
Неожиданный приход во власть салафитов вносит существенные коррективы в расстановку политических сил. Поле борьбы за влияние на принятие политических решений пролегает теперь не только в треугольнике между военными, исламистами и светской частью общества. Следует ожидать усиления борьбы внутри самого исламистского движения.
Программы «братьев-мусульман» и салафитов во многом расходятся. Лидеры салафитских группировок в своих проповедях вообще отвергали демократию представительного типа. Приняв участие в выборах, они несколько смягчили эти акценты. Суть требований осталась, однако, прежней: добиваться принятия такой конституции, которая гарантировала бы исламский характер египетского государства и распространение жестких норм шариата, пусть и постепенное, на все стороны общественной жизни, гражданские и личные свободы. Египетский салафизм берет за основу саудовскую ваххабитскую модель государства. По данным египетской печати, благотворительные фонды этого толка в прошлом году получили от доноров из арабских государств Персидского залива более 65 млн долларов. Для Египта с его светскими устоями и традициями веротерпимости такая исламизация неминуемо сопряжена с новыми всплесками массовых выступлений уже против тех, кто «украл революцию». Реакция египетского гражданского общества на монополизацию исламистами конституционного процесса показывает, насколько революция далека от завершения.
Помимо умеренного и жестко исламского крыла в составе салафитского течения легализацию получили и так называемые джихадисты, то есть активисты находившихся ранее в подполье многочисленных террористических организаций. Такой пестрый расклад сил еще более обостряет внутриполитическую борьбу в Египте вокруг президентских выборов и принятия новой конституции.
Руководство «братьев-мусульман», заявляющих о готовности играть по современным демократическим правилам, опасается соперничества со стороны радикальных исламистов, которые могут потеснить их именно на религиозном фронте. В этом случае они окажутся перед дилеммой – либо рисковать сужением своей социальной базы, либо поставить под угрозу отношения с Западом, в финансовой помощи которого Египет остро нуждается. Придерживаясь принципов социально ориентированной рыночной экономики, умеренные исламисты видят в жесткой исламизации серьезные преграды на пути иностранных инвестиций и угрозу для туристического сектора, одного из главных источников валютных поступлений.
Разногласия в исламистской среде имеют также серьезный внешнеполитический аспект. Теперь, когда исламисты стали доминирующей силой в египетской политике, возникают вопросы о судьбе мирного договора с Израилем, об отношениях Египта с палестинцами, о корректировках планов сдерживания исламского экстремизма и великодержавных амбиций Ирана. Конечно, быстрое возвращение Египта в глобальную политику вряд ли возможно. Слишком тяжел груз внутренних проблем. Вместе с тем появляются признаки того, что на региональном направлении новый Египет будет пытаться проводить более самостоятельный и нюансированный курс. Хотя истоки египетской революции находятся внутри страны, свою роль сыграли и такие общественные настроения, как недовольство слишком большой зависимостью от США и Израиля, а также принижением ведущей роли Египта на Ближнем Востоке.
Победу политического ислама на международной арене оценивают противоречиво. Существуют две крайние точки зрения. Согласно одной из них, умеренные исламисты представляют собой некий аналог христианско-демократических партий Европы. Соответственно, со временем, после прихода к власти, они будут вынуждены демонстрировать прагматизм и развиваться по пути секуляризации. Сторонники противоположных оценок утверждают, что исламистские партии в силу самой природы ислама склонны к догматизму, испытывают комплексы антизападничества и не способны адаптироваться к мировым реалиям.
Реакция на американскую инициативу «Большой Ближний Восток» показала, что к идее ускоренной демократизации по западным рецептам исламский мир отнесся скептически. На фоне революционного подъема, когда эти вопросы стали неотъемлемой частью повестки дня, вновь разворачиваются дискуссии вокруг того, до какой степени современная демократия соотносится с нормами шариата, не является ли демократизация синонимом вестернизации, очередной попыткой Запада навязать свои ценности. По мере того как проходит эйфория в лексиконе арабских политологов все чаще фигурирует такое понятие, как «хассыя арабия», то есть «арабская особость». И в этом есть свой резон. Демократические ценности в их либеральном понимании не во всем ложатся на арабо-мусульманскую почву. Регион имеет специфический менталитет, свои глубоко укоренившиеся традиции правления и бытовой жизни, отличные от западных. Реформирование Ирака даже в условиях иностранной оккупации показало, что парламентаризм в многоконфессиональной и многоэтнической арабской стране прививается с трудом. Египет также трудно представить парламентской республикой европейского образца. Эффективную, зачастую харизматическую власть арабское сознание не рассматривает как автократию, скорее как способ национально-государственного существования. От семьи до государственных институтов в арабском мире укоренены такие негласные нормы, как патернализм и консенсусное принятие решений по принципу «ни победителей, ни побежденных», что не укладывается в русло строго регламентированных демократических процедур.
Как бы ни сужались возможности внешнего воздействия на стихийные процессы в регионе, их интернационализация уже произошла. Причем в немалой степени по инициативе самих арабских государств. Какие-то уроки из ливийского, йеменского, бахрейнского и особенно сирийского кризисов уже можно извлечь. В первую очередь это касается характера вмешательства извне. Силовой способ решения деликатных внутренних проблем значительно осложняет проведение реформ на переходном этапе. Внешнее воздействие, пусть и по просьбе самих государств региона, имеющих свои особые интересы, должно быть направлено на поиск разумных компромиссов, на достижение общенационального примирения. Без этого накопившуюся протестную энергию арабов трудно направить в русло конструктивных программных действий по реализации их справедливых чаяний.
А.Г. Аксенёнок – кандидат юридических наук, Чрезвычайный и Полномочный Посол, опытный дипломат, арабист, долго работавший во многих арабских странах, в том числе в качестве посла России в Алжире, а также спецпредставителем на Балканах и послом Российской Федерации в Словакии.

Лабиринт, которого нет
Зачем и кому нужна война с Ираном
Резюме: Соскальзывание ситуации к войне или к эскалации напряженности вокруг Ирана не отвечает интересам России. Поэтому Москве важно не самоустраняться, но продолжать предотвращать силовой сценарий, насколько это в ее силах, играя ответственно и – главное – не по чужим нотам.
«Ядерное оружие – отнюдь не источник достоинства и силы. Обладание ядерным оружием отвратительно, аморально, позорно». Так говорил… нет, не какой-нибудь европейский пацифист. Так говорил действующий иранский президент Махмуд Ахмадинежад. Причем произнес он эти слова не тихо за чаем в Тегеране, а в Нью-Йорке, с трибуны Обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), обращаясь к делегатам, представляющим более чем 180 стран – участниц Договора. Он был единственным главой государства на этой конференции, и поэтому – ирония протокола – первым получил слово.
Делегаты, впрочем, слушали его вполуха. А многие и вовсе покинули зал. Ирану верят все меньше и меньше – даже те, кто относится к нему без предубеждения. И по всему миру крепнет убеждение, что иранское руководство сделало ставку как раз на то, что оно клеймит позором с высоких трибун, – на обладание ядерным оружием, причем уже в ближайшей перспективе.
А раз так, то – Тегеран надо остановить. Любой ценой. И чем раньше, тем лучше. Потому что Иран с ядерным оружием (говорят) неприемлем с точки зрения ключевых игроков международных отношений.
Соскальзывая к войне
Последнее время я провел в дороге, чтобы разобраться: а что, действительно мир так напуган Ираном? Действительно верит в его чудодейственную ядерную способность? И готовится к войне?
Если не считать Кубы с Венесуэлой и примкнувшей к ним Никарагуа, явных сторонников у Тегерана негусто. В сухом остатке «блестящая иранская дипломатия» слабо сыграла в государствах Движения неприсоединения, едва-едва наскребывая считанные очки в свою пользу. А Латинская Америка все-таки далековато будет от зоны предполагаемых боевых действий.
Наиболее впечатлили меня соседи Ирана по Персидскому заливу. Там – прежде всего в Саудовской Аравии – антииранский настрой оказался даже сильнее, чем об этом можно было судить из Москвы. «Ату его!» – таков лейтмотив разговоров и с дипломатами, и с военными, и с политологами. И хотя некоторые авторитетные эксперты, в первую очередь принц Турки аль-Фейсал, утверждают, что «военные удары по Ирану будут совершенно контрпродуктивными», все же складывается впечатление, что большинство его соотечественников были бы только рады подобному развитию событий. К тому же исход войны в Ливии и происходящее в Сирии укрепляют их настрой на то, что Иран – как его ядерная инфраструктура, так и его политический режим – должен и может быть разрушен.
С другой стороны, в регионе войны с Ираном боятся. Она не выгодна Объединенным Арабским Эмиратам, которые, хотя и имеют нерешенный территориальный спор с Ираном, но выигрывают от торговли с ним, даже и в санкционные времена. Она не выгодна Оману, имеющему свой «контрольный пакет» в Ормузском проливе и проводящему самостоятельную внешнюю политику. Она страшит Бахрейн, чья правящая семья, держась на саудовских и американских штыках против воли шиитского большинства, может стать первой жертвой иранских «асимметричных действий». Она заставляет нервничать даже Катар, обычно нагло-самоуверенный, благодаря умелой конвертации сверхбогатства в политические инвестиции: не вполне комфортно будет прикрывать строительство объектов для чемпионата мира по футболу силами ПВО. Но против иранского блицкрига, да еще чужими руками, в Дохе, думаю, сегодня бы не возражали.
Если кто и посочувствует Тегерану, так это Европа. «Присоединятся ли европейские государства к войне против Ирана? – задавал вопрос на проходившей в начале февраля конференции в Брюсселе бывший генеральный директор МАГАТЭ швед Ханс Бликс. – К войне против Ирака несколько европейских правительств присоединились, чтобы ликвидировать оружие массового уничтожения, которого не было. Готовы ли европейцы сейчас присоединиться к пресечению иранских ядерно-оружейных намерений, которые, возможно, существуют, а возможно, и не существуют? Иран не осуществлял нападения против кого бы то ни было, и не похоже, что собирается на кого бы то ни было нападать, так что решения со стороны Совбеза ООН о применении силы против Ирана ожидать не следует». Европейская аудитория встречает слова Бликса аплодисментами. Но ответ на его вопрос: с кем ты, Европа? – повисает в воздухе. Другой европейский эксперт, венгерка Эржебет Роза, иранист по образованию, представляет блестящий анализ контрпродуктивности санкций ЕС против Ирана. Тоже аплодисменты. Между тем, санкции уже одобрены Евросоюзом.
Погрязшая в экономических проблемах Европа, не признаваясь в этом, изображая деятельную суету, по сути самоустраняется от решения иранского вопроса. Кивает на «мудрых» Бразилию с Турцией. Но Бразилия с уходом президента Лулы к иранской теме интерес теряет. Турция – да, вот она играет свою игру, и играет соло.
Вашингтон. Здесь я рассчитывал как минимум узнать о совместной кропотливой работе, которую в ближайшие месяцы могут проделать Россия и США, о пунктирной линии, намеченной «планом Лаврова»… Но вместо этого пришлось выслушать, что Россия опять недостаточно сотрудничает с Соединенными Штатами по Ирану. Что она «зациклилась» на отказе от новых санкций. Что время истекает. Что в предвыборный год администрация Обамы не сможет остановить «израильских друзей»… Будто бы на дворе были девяностые, и Москву учили вытаскивать каштаны из костра для Вашингтона, под разговор о борьбе с «общей угрозой». При этом никто из моих собеседников в Вашингтоне не хотел войны… или, может быть, втайне хотел, но, работая на нынешнюю администрацию, отчетливо понимал, что позволить себе войну с Ираном Обама не может.
Но в целом – фантасмагорическое впечатление. Израилю с его десятками (если не сотнями) ядерных боеголовок, с ракетами, пересекающими Европу, – ему все позволено. Развязывать кибервойну. Угрожать ударами. Выкрадывать, убивать ученых и инженеров. Потому что он – важный и неприкосновенный фактор в год выборов. Иран – враг. А если враг не сдается…
Наконец, иранские собеседники. Я спрашивал, зачем Иран провоцирует своих соседей и мировое сообщество. Хочет нарваться на военный конфликт? Но слышал в ответ, что Тегерану военный конфликт не выгоден, потому что он к нему не готов и чувствует себя увереннее, проецируя влияние невоенными средствами.
Я вернулся в Москву с ощущением, что мало кто в мире хочет войны против Ирана, – а если вынести за скобки Эр-Рияд, то, может быть, и никто не хочет. Даже в Израиле воинственно-голливудский Нетаньяху остается в меньшинстве. Никто не готов к войне, одни по причинам экономическим, другие – внутриполитическим, но нарастание турбулентности вокруг Ирана скоро достигнет той точки, когда мир соскользнет к войне.
В чем причина? В климате тотального недоверия. Если даже мы в России недоверчиво усмехаемся на высказывания иранского президента об «аморальности» обладания ядерным оружием, чего же тогда ожидать от американцев, на десятилетия ошпаренных захватом заложников в их посольстве в Тегеране? Иранцы не имеют ни малейших оснований доверять саудовцам, готовым втихаря «сдать» их израильтянам. Саудовцам, в свою очередь, мерещится наступление воинственных персов-шиитов на зону их традиционного влияния. Разрушено хрупкое доверие, которое существовало между иранцами и немцами; французы пестуют иранскую оппозицию, в ответ иранцы переходят на личности, включая личность жены французского президента. Апогей взаимного недоверия – отношения между Израилем и Ираном. Тегеран ставит под сомнение право Израиля на существование, в то же время Израиль фактически развязал тайную войну против Ирана, включая кибератаки, взрывы на ракетных шахтах, убийства ученых-ядерщиков.
Климат тотального недоверия заставит инстинктивно спустить курок, когда тот, кто напротив, всего-то полез в карман… А ведь у него могло и не быть там никакого ствола.
В этой ситуации нам, в Москве, надо бы ответить на три вопроса. Первый: чего хочет Иран? Второй: есть ли решение у иранского ядерного вопроса? Третий: как вести себя России?
Чего хочет Иран
У нынешнего руководства Ирана имеется четыре круга ключевых и связанных между собой стратегических задач, которые оно последовательно решает или пытается решать.
Первый круг связан с внутриполитической устойчивостью. До последнего времени Иран оставался одним из наиболее демократических государств Ближнего Востока. Парламентские и президентские выборы в сочетании со сложной многоуровневой системой принятия решений делают систему потенциально уязвимой. Иранское руководство уже прошло первый тест на уязвимость, когда малочисленная, но шумная оппозиция пыталась перехватить инициативу. Сегодня возможности оппозиции минимизированы. Но иранский режим крайне болезненно реагирует на подкармливание оппозиции извне. В этой связи у иранского руководства нет никаких причин начинать широкий диалог с Соединенными Штатами, поскольку те своей конечной целью (по крайней мере, как это видится в Тегеране) ставят демонтаж правящего режима, а раскручивание «ядерного вопроса» – это лишь метод для смены власти. Это не «паранойя мулл». У Ирана есть реальные основания для опасений. Этому их учит история: от свержения Мосаддыка до поддержки шаха. Такая ли уж разница для Ирана, кто сейчас правит в Белом доме? Как хорошо заметил (в New York Times) Билл Келлер, позицию в отношении Ирана в Вашингтоне как определял, так и будет определять коллективный «Обамни» (собирательный образ Обамы и его наиболее вероятного оппонента-республиканца Митта Ромни. – Ред.). Есть нюансы, но по большому счету курс на смену режима в Тегеране остается.
Второй круг связан с технологическим прогрессом и самодостаточностью. Иран хочет играть первую скрипку в мировых делах XXI века, а для этого считает принципиально важным обладать собственными передовыми технологиями, так как только они обеспечат независимость, самодостаточность и свободу рук (еще один исторический урок, который иранцы хорошо усвоили). Иран трудно входит в мир передовых ядерных, ракетно-космических и биотехнологий. При всех консолидирующих нацию технологических прорывах «самостоятельная работа» дается Ирану куда более тяжело, чем его руководители готовы признать. Скачок в ядерной области (достигнутый отчасти благодаря плохим пакистанским технологиям) сменяется мучениями и стагнацией. Отчасти ограничителем становится «вынужденная самодостаточность» в результате санкций. Иранцам уже не хватает собственных знаний. В отличие от Кубы, которая когда-то, будучи зажата в блокаде, подняла на мировой уровень свои биотехнологии и медицину, впитывая помощь Советского Союза, пока не обогнала его, Ирану не удается положиться здесь ни на кого. Бушерская АЭС – одно из считанных исключений, да и ту, по правде говоря, вряд ли можно назвать вершиной инженерной мысли. Скорее уж вершиной русской инженерной смекалки, когда отечественную конструкцию пришлось скрещивать с полуразбомбленным немецким «каркасом».
Третий круг связан с обеспечением внешней безопасности и минимизацией риска вооруженных конфликтов по периметру границ и извне. Это третий исторический урок, который выучил Тегеран, испытав на своей шкуре, что значит, когда врагу-соседу (саддамовскому Ираку) помогали все, а ему, Ирану, никто. Именно тогда, в середине 1980-х гг., когда Ирак безнаказанно применял оружие массового уничтожения (химическое) против Ирана, в глубинах иранского военно-политического руководства и возникла мысль о разработке собственного ядерного оружия.
Проблему с Ираком Иран парадоксальным образом решил благодаря американцам. Теперь их отношения вполне добрососедские, и ОМУ-аргументов не требуют. Но иранская дипломатия не смогла наладить столь же добрососедские отношения со всеми странами Персидского залива (возможно, за исключением Омана и Дубая из ОАЭ). Впрочем, по мнению иранцев, их главный сосед сегодня – Соединенные Штаты, представленный Пятым флотом и военными базами, не говоря уже о войсках в Афганистане и беспилотниках в Пакистане. То есть для Тегерана решение вопросов внешней безопасности жестко завязано на отношения с Вашингтоном.
Наконец, четвертый круг задач связан с экспансией влияния в регионе, утверждением в качестве региональной сверхдержавы и магнита притяжения для всех мусульман Ближнего Востока, вне зависимости от того, сунниты они или шииты. Так как весь регион находится в брожении, рано делать заключения, проиграл ли Иран в результате так называемой арабской весны или выиграл. Пока иранский «выигрыш», о котором любят многозначительно поговорить в Тегеране, представляется эфемерным. «Каирская улица», еще недавно, при Мубараке, завистливо глядевшая в сторону Тегерана и ему внимавшая, несмотря на религиозные различия, сегодня увлечена собственным национальным строительством. Влияние Ирана на арабские государства Ближнего Востока присутствует, но оно гораздо скромнее турецкого. И проецирование будущего влияния Тегерану удается куда хуже, чем Турции. «Выпадение» асадовской Сирии из зоны иранского влияния внешнеполитической катастрофой для Тегерана не будет, но болезненным ударом, конечно, станет. Иранское руководство предпочитает делать хорошую мину при скверной игре.
Не следует мешать Ирану решать первые три задачи. Как раз наоборот, нужно способствовать тому, чтобы он спокойно их решил. Это стабилизирует обстановку в регионе, сделает ее более предсказуемой. Что касается четвертой задачи, то иранские региональные амбиции должны быть вписаны в реальный (а не сочиненный Тегераном) ближневосточный контекст, и поощрять их не следует, так как это приведет к еще большему раскачиванию региональной лодки.
Решение иранского ядерного вопроса
Подозреваю, что многие читатели споткнулись, когда я только что говорил об иранской стратегической задаче по развитию технологического прогресса и самодостаточности. «А как же ядерное оружие? Ведь даже МАГАТЭ намекает, что Иран втайне работает над ним».
Попытаемся посмотреть на ситуацию, чтобы «суп – отдельно, а мухи – отдельно».
На сегодняшний день у Ирана отсутствует не только ядерное оружие (это знают все), но и политическое решение о его создании (такой гипотезы придерживается большинство международных экспертов, занимающихся ядерным нераспространением; хотя это и не аксиома). Иран не занимается тайно разработкой ядерного оружия (таково мое мнение, но с ним многие эксперты, особенно израильские и американские, будут спорить). Сегодня для обеспечения своих стратегических задач иранскому руководству ядерное оружие не нужно. Потому что среди этих задач нет задачи нападения на США, на Израиль и, главное, нет задачи самоубийства режима.
Действительно, на протяжении более двух десятилетий Иран рассматривал различные научно-прикладные аспекты, связанные с ядерным оружием (хотя началось все еще раньше, при шахе и под присмотром американцев). Не могу исключать, что лет 25 тому назад иранское руководство рассматривало вопрос о целесообразности тайного создания собственного ядерного арсенала. Возможно, определенные круги автономно возвращались к этому проекту и позже. При этом аргументы, предположу, могли быть различны и могли меняться в зависимости от региональной динамики. Например, соперничество с Саддамом Хусейном, который имел химическое и биологическое оружие и работал над ядерным оружием. А потом, когда Саддам пал: «Чем мы, персы, хуже Пакистана?». А в какой-то момент: «Ну неужели же мы, персы, глупее северных корейцев?».
Как бы то ни было, дело далеко не продвинулось.
Действительно, за Ираном тянутся «хвосты» лукавства, а то и прямой лжи во взаимоотношениях с МАГАТЭ. Сколько бы ни ворчал Тегеран на МАГАТЭ, на гендиректора Юкия Амано (даже если на то есть веские причины), он должен продолжить сотрудничество с агентством, чтобы все сомнения прояснить, а где-то и честно покаяться в прошлых прегрешениях (как бы это ни ущемляло гипертрофированное у иранцев чувство собственного достоинства).
Но, с другой стороны, – кто без греха? Подобное «лукавство» в разные годы было замечено и за некоторыми другими членами международного сообщества – например, за Южной Кореей. Но Сеул грамотно отчитался о «работе над ошибками», и теперь этот случай помнят разве что узкие специалисты. Бразилия упорно отказывается ввести у себя Дополнительный протокол к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, что по меньшей мере странно; но в регионе царит совершенно иной климат, и недоверия в отношении намерений Бразилии (справедливо) не возникает.
Итак, первым шагом к решению иранского ядерного вопроса должно быть широкое, без пререканий сотрудничество Ирана с МАГАТЭ. Иран время от времени делает полушаги (в августе прошлого года, в январе нынешнего). Это шаги в правильном направлении, но их недостаточно для того, чтобы все мировое сообщество, включая Россию, смогло убедиться, что все иранские прегрешения остались в прошлом. Иран должен ратифицировать Дополнительный протокол, а до этого добровольно пойти на исполнение его положений, как если бы он был ратифицирован. Частично и выборочно иранцы, кстати, так и действуют, теперь надо уйти от выборочности.
Иранские коллеги и публично, и особенно в частных разговорах сетуют на то, что МАГАТЭ «раздевает» их перед американской и британской разведкой и что в конечном итоге все данные сливаются Израилю. Это Тегеран унижает. Но, помимо эмоционального негатива, речь ведь идет еще и о том, что в условиях, когда Израиль прямо заявляет о вероятности ударов по иранским ядерным объектам, иранцам просто опасно вот так «раздеваться».
Многие упрекают Иран в том, что он сначала строит ядерные объекты, а лишь потом сообщает о них в МАГАТЭ. Но, мне кажется, можно понять, почему Иран так делает.
Можно ли выйти из этого противоречия? Да. И Россия может сыграть здесь ведущую роль. Ниже я вернусь к этому.
Вторым шагом должно стать снятие требований к Ирану отказаться от обогащения урана. Это нереалистично, да и не нужно. Если Тегеран не нарушает своих обязательств по ДНЯО (а в этом остаются сомнения, как минимум в «исторической» части), то не следует добиваться от него того, что не является и не будет в обозримой перспективе международной нормой. Экономически Иран может действовать не вполне разумно, но политически его стремление к самодостаточности не уважить нельзя. На это мне указывают многие коллеги из развивающихся государств, прежде всего из Египта. Самоограничения в части отказа от уранового обогащения были бы, с моей точки зрения, правильным и важным шагом, но они могут быть только добровольными.
Третьим шагом должна стать резолюция Совета Безопасности ООН о недопустимости применения силы или угрозы применения силы (включая и кибератаки) против любых атомных объектов Ближнего Востока, находящихся под гарантиями МАГАТЭ либо продемонстрированных инспекторам МАГАТЭ по их запросу, как построенных, так и находящихся в процессе строительства, а также против персонала этих объектов. Эта резолюция должна быть принята до начала работы международной Конференции по вопросам зоны, свободной от ОМУ (ЗСОМУ) на Ближнем Востоке, которая запланирована на конец текущего года в Хельсинки. Иначе участие Ирана в этой важной конференции окажется под вопросом: в самом деле, нормальна ли ситуация, когда твоя ядерная промышленность, твои ученые находятся под постоянным прицелом и угрозой атаки, а тебя как ни в чем не бывало приглашают за стол переговоров?
Четвертым шагом должно быть добровольное решение Ирана о временном замораживании уровня обогащения урана, а также замораживании на нынешнем уровне количества центрифуг, отказ от введения в каскады новых центрифуг, создания новых каскадов, запуска вращающихся (но пока без газа) центрифуг. О важности подобного шага говорил, в частности, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, когда встречался с членами Международного клуба «Триалог» под эгидой ПИР-Центра. Такой шаг станет мерой укрепления доверия, но не юридически обязывающей нормой.
Пятым шагом должно быть решение Совета Безопасности ООН о временном приостановлении действия санкций в отношении Ирана, при условии удовлетворительного сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ (такой подход предлагают сейчас некоторые европейские эксперты); а при закрытии вопросов «иранского файла» МАГАТЭ – и полная отмена санкций.
Шестым шагом должно быть формирование климата доверия в регионе в вопросах ядерной безопасности. Коллеги из Кувейта, других государств Персидского залива высказывали мне опасения по поводу надежности и безопасности Бушерской АЭС, построенной при участии России. Они предлагают провести стресс-тесты станции с участием наблюдателей из заинтересованных сопредельных государств. Ирану и России следует ответить на такие запросы позитивно и доброжелательно.
Наконец, седьмым шагом должно стать начало регионального ближневосточного диалога по всему комплексу ядерных вопросов: от формирования зоны, свободной от ядерного и других видов ОМУ на Ближнем Востоке (с участием всех арабских государств, Ирана и Израиля) до формирования «ближневосточного МАГАТЭ» по примеру Евратома. «Увертюрой» этого процесса имеет шанс стать конференция по ЗСОМУ в Хельсинки – конечно, если ее рассматривать не как единоразовое собрание, но как начало долгого процесса восстановления доверия, открытости и диалога.
Не надо мешать Ирану развивать ядерную энергетику. Тегеран все равно замкнет ядерный топливный цикл (ЯТЦ), даже после израильских бомбардировок и парочки уничтоженных ядерных объектов. Только после бомбардировок он наверняка проведет корректировку своей стратегической калькуляции. Как точно заметил уже цитировавшийся мной Билл Келлер, отвечая на статью Мэтью Крёнига в Foreign Affairs, «бомбить Иран – это лучший способ обеспечить именно то, что мы пытаемся предотвратить».
Надо учесть и попытаться научиться уважать стратегические задачи Ирана: три из четырех не создают проблем ни для региона, ни для международного сообщества в целом.
Если стратегические задачи Ирана хотя бы отчасти будут учтены и уважены, у Тегерана не будет мотивации переключать свой ЯТЦ на военные рельсы. А жить с иранским ЯТЦ всем его соседям – включая и Россию – нужно будет просто привыкнуть; ведь живем же мы по соседству с японским ЯТЦ, при этом некоторые – даже не имея мирного договора. И ведь если и боимся, так новой Фукусимы, а не ядерных бомб.
Как вести себя России
Начну с «наивного» вопроса: а чем для России плох Иран с ядерным оружием? На этот вопрос важно ответить сразу, чтобы мои последующие выводы и идеи были понятны.
С одной стороны, может показаться, что Иран, создай он ядерное оружие, интересам России действительно не угрожает. Да, иранские ракеты не долетят до Парижа, зато долетят до Сочи. Но не на Сочи же они будут нацелены. Далее, на Ближнем Востоке установится система регионального сдерживания по линии Израиль–Иран. Сдерживание работало в самые худшие дни холодной войны в отношениях между СССР и США; работает между Индией и Пакистаном; будет работать и на Ближнем Востоке, может быть, даже облегчит путь Израилю и Ирану к взаимным договоренностям по контролю над вооружениями (что сегодня немыслимо). Наконец, последние пять лет Россия живет бок о бок с ядерной КНДР – сначала было как-то некомфортно (особенно Приморью, где пришлось вспомнить про учения гражданской обороны), но теперь уже привычно. А ведь уровень ответственности Тегерана будет, безусловно, выше, чем северокорейского режима, и никаким другим игрокам (в отличие от безответственного, нестабильного Пакистана) Иран свои ядерные знания и технологии продавать не будет.
Так-то оно так. Но я придерживаюсь иного взгляда. Появление у Ирана ядерного оружия взорвет ДНЯО, который, по моему глубокому убеждению, продолжает оставаться краеугольным камнем международной безопасности. Благодаря ДНЯО Москва имеет исключительное положение в качестве члена «ядерной пятерки».
Я не разделяю мнения тех экспертов, которые предвидят, будто в случае появления в Иране ядерного оружия его вскоре создадут Саудовская Аравия или Турция. Проблема будет хуже: сам ДНЯО обесценится и перестанет существовать. И дело не в том, что за Ираном непременно последует Саудовская Аравия, но в том, что в ядерных вопросах по всему миру воцарится хаос. А вот это – против жизненных интересов России.
России трудно с Ираном. Ни российские политики, ни крупный российский бизнес не стремятся плотно работать с Ираном: разговоры о «близких отношениях» двух стран – во многом миф. При выборе системы координат «свой»–«чужой» и российский дипломат, и российский бизнесмен интуитивно присвоят Ирану код «чужой». В лучшем случае: «не-свой».
Иран не раз обманывал Россию, умалчивая о своих ядерных объектах и исследованиях двойного характера: так можно лукавить с врагом или конкурентом, но не с тем, кого ты называешь партнером и другом. Иранцы презрительно скривились, когда Россия пригласила их сотрудничать по обогащению урана в международном центре в Ангарске. Иранцы сначала согласились, а потом отказались от предложения по топливу для Тегеранского исследовательского реактора, изначально выработанного при активном вовлечении России.
Россия не раз подводила Иран: затягивала строительство Бушерской АЭС, не продала современные противоракетные системы. Не встретила Тегеран с распростертыми объятиями, когда он запросился в ШОС. Да что уж там: Россия голосовала за все четыре санкционные резолюции Совета Безопасности ООН по Ирану.
России далеко не всегда понятно, как и кем принимаются решения в Тегеране (даже после многочисленных стараний разобраться). Ирану мерещится, что Москва «сливает» часть полученной от него конфиденциальной информации в Вашингтон и Тель-Авив.
В последнее время Москва и Тегеран неоднократно обменивались колкостями. Но это не помешало России сохранить хладнокровие, выступить с «планом Лаврова» по Ирану, основанном на «поэтапности и взаимности». Наверное, иранцам было трудно в полной мере оценить усилия России, так как вскоре – в ноябре прошлого года – последовал доклад МАГАТЭ, принятие которого, как рассчитывали в Тегеране, Москва просто обязана была заблокировать.
Трудно. Но России все же следует, наступив на горло предубеждениям, посмотреть на сегодняшний Иран как на своего серьезного и долгосрочного партнера в регионе – не на декларативном уровне, а на уровне действий. Такие попытки периодически происходят, но то и дело прерываются из-за, по-моему, ложной боязни обидеть американцев. По-моему, Россия уже и так максимально плотно и конструктивно сотрудничает с Соединенными Штатами по Ирану и его ядерной программе. Сворачивать это сотрудничество не надо; наоборот, пришла пора усилить его созданием двусторонней рабочей группы «креативщиков» с обеих сторон по поиску сценариев выхода из лабиринта (или того, что выглядит как лабиринт).
Но когда разговор от важного обсуждения ядерных объектов типа Фордо как-то сам собой сбивается на требования отхлестать Иран за «поддержку терроризма», а затем и вовсе скатывается к пожеланиям видеть в Тегеране «другой режим», – думаю, в таких обсуждениях Москве с Вашингтоном не по пути.
Когда западные партнеры России по переговорному процессу с Ираном (пока еще не публично) радуются гибели иранских ученых-ядерщиков, с гордостью говорят о качестве (мы доподлинно не знаем, кем осуществленных) кибератак против иранских ядерных объектов, и тогда России с ними, думаю, не по пути.
Когда, с одной стороны, приглашают Иран к диалогу «без предварительных условий», а другой, советуют Москве подумать насчет новой резолюции Совета Безопасности, где фигурировали бы меры против Ирана по Главе 7 Устава ООН, – думаю, тут России следует и вовсе решительно отойти в сторону. В условиях нагнетания турбулентности, имеющего целью психологическое давление на Тегеран, России стоило бы подумать не только о том, что все возможные санкции по пресечению доступа Тегерана к ядерным и ракетным технологиям уже приняты и действуют, но и о том, на пользу ли все эти санкции в нынешних конкретных условиях. Ни США, ни Евросоюз не вняли настоятельным пожеланиям России не вводить санкции вне Совета Безопасности ООН. Их право. Право России – пересмотреть свой подход к ныне действующим санкциям Совета Безопасности ООН, и если окажется, что часть из них исчерпала себя, действовать в Совете Безопасности ООН соответственно.
К слову, в свое время в Нью-Йорке санкции прописывались таким образом, что не затрагивали права России на поставки Ирану оборонительных комплексов, в частности, С-300 или С-400. Президент Медведев своим указом решил, что Россия должна воздержаться от таких поставок, что и было сделано. В условиях, когда Ирану прямо угрожают ракетными ударами, не пришло ли время такие поставки осуществить, да и вообще помочь Тегерану укрепить обороноспособность (при условии, что эти поставки не будут передаваться третьей стороне)?
В свое время Россия уклонилась от заявки Ирана на вступление в ШОС; причем было принято решение, не позволяющее принимать в эту организацию государства, находящиеся под санкциями Совета Безопасности ООН. Эту временную норму можно было бы пересмотреть. У России, как и у других действующих членов ШОС, есть много общих тем с Ираном: это и энергетическая безопасность, и борьба с наркотрафиком, и стабилизация ситуации в Афганистане после ухода оттуда НАТО. Конечно, прежде чем инициировать этот процесс, России следовало бы понять настроение Ирана по ряду нерешенных двусторонних экономических вопросов, в частности, по Каспию.
Наконец, российским экспертам, как неправительственным, так и правительственным, стоило бы собраться вместе, чтобы – пока неформально – обсудить вопрос, а не устарел ли механизм «шестерки», в рамках которого сейчас в основном обсуждается иранская ядерная программа, да и другие вопросы по Ирану. Ведь даже от американских партнеров часто приходится слышать: «Давайте решать этот вопрос (по Ирану) без участия европейцев, от них проку мало, и они ни на что не влияют». Так что с американцами Россия могла бы продолжать обмены по двусторонней линии, как это сейчас успешно и делается.
Многосторонний подход к решению иранского ядерного вопроса важен. Сейчас он более важен, чем когда-либо. Просто в мире есть ведь и другие силы, у которых много конструктивных идей и которые могут быть лучше услышаны в Тегеране.
К примеру, в переговорах с Ираном вместо «шестерки» можно было бы использовать уже имеющийся формат БРИКС. Здесь, помимо России, присутствуют представленный, как и она, в «шестерке» Китай, ранее участвовавшая в диалоге с Ираном Бразилия (если Дилма Русеф не окончательно утратила интерес к этой теме), и поддерживающая плотный диалог с Ираном Южная Африка. Индия в последнее время является оппонентом Ирана, но в этом качестве она и может быть полезна – особенно учитывая ее близкие связи с США в сочетании с традиционно взвешенной линией в международных делах.
Москве следует плотнее, чем сейчас, вести двусторонний диалог с Пекином по иранской проблематике. При этом надо помнить прописную истину, что у КНР – собственные интересы, которые могут и не совпадать с российскими. Так, Пекин успешно диверсифицирует источники импорта углеводородов, и его энергетические потребности в Иране скоро могут быть замещены поставками из Саудовской Аравии. Для КНР главное направление на ближайшее десятилетие – никакой не Ближний Восток, а продвижение в Южно-Китайское море и в Юго-Восточную Азию, а может, и на Тайвань. Тут везде мешают США – при нынешней администрации больше, чем когда-либо. Что делать? Затянуть Соединенные Штаты в длительную сухопутную военную операцию, из которой выбраться сложнее, чем из Ирака или Афганистана. Так что поддержка Китаем Ирана, столь очевидная сегодня, не является константой. С другой стороны, диалог России и КНР по Ирану, не исключено, помог бы скорректировать такую точку зрения в Пекине или как минимум удостовериться в том, что она не является доминирующей, как не являются доминирующими в Москве взгляды тех, для кого «война в Иране» – приятный синоним роста цен на нефть.
Не исключаю, что более продуктивной, чем БРИКС, могла бы стать группа по диалогу с Ираном, которую создали бы Россия и Турция. В нее могли бы войти те же Бразилия, Южная Африка, а также такие авторитетные (в мире и в Иране) игроки в вопросах ядерного нераспространения, как Казахстан, Индонезия, а также (но здесь большой знак вопроса) Египет.
Конечно, надо быть реалистами и отдавать себе отчет в том, что такая группа не принесет Ирану «на блюдечке» главное, что нужно сейчас Тегерану: гарантии безопасности со стороны Вашингтона (включая отказ от применения силы и вмешательства во внутренние дела). Однако при активном участии России она могла бы предоставить как минимум эффективное обеспечение первого, самого срочного шага по решению иранского ядерного вопроса. А именно – прозрачности ядерной программы, уверенности, что в сегодняшнем виде она не направлена на оружейные цели, и при этом уважительного отношения к той информации, которая будет получена от Ирана в рамках такого «прозрачного» подхода. Каждая из названных стран имеет авторитетных технических экспертов, которые могли бы получить беспрецедентный доступ к объектам ядерной инфраструктуры Ирана – даже тем, прежде всего строящимся, которые Иран никому показывать не обязан. Ни в коей мере не замена МАГАТЭ, но подспорье для МАГАТЭ на тот переходный период, пока доверие полностью не восстановлено, – так я вижу работу группы экспертов.
Недавно за ужином в Эр-Рияде иранская оппозиционерка, проживающая в Лос-Анджелесе, бросила мне: «России должно быть стыдно, что она поддерживает прогнивший режим в моей стране». Сидевшие рядом саудовцы и кувейтяне оживленно закивали. Я не выдержал: «России не должно быть стыдно. Хотя бы потому, что она столько сделала и делает, чтобы бомбы не падали на головы ваших соотечественников».
Цинично говоря, Россию могла бы устраивать нынешняя ситуация вокруг Ирана – «ни мира, ни войны». Но это только если знать, что у всех игроков стальные нервы, и никто не сорвется. Сегодня есть противоположное ощущение. Один удар по Араку или пррименение новых типов глубоко проникающего высокоточного оружия в районе Кума – и следующим шагом Иран… нет, не обязательно бьет по Тель-Авиву или высаживается на Бахрейне. И даже не перекрывает Ормузский пролив. Он выходит из ДНЯО. Из договора, который его не защитил. Ответственность за этот сценарий будет лежать и на России, одном из трех депозитариев – хранителей ДНЯО.
Соскальзывание ситуации к войне ли, к эскалации напряженности вокруг Ирана не отвечает интересам России. Поэтому России важно не самоустраняться, но продолжать предотвращать силовой сценарий, насколько это в ее силах, играя ответственно и – главное – не по чужим нотам.
В.А. Орлов – президент ПИР-Центра (Центра политических исследований России), член Международной академии по ядерной энергии, член Общественного совета при Министерстве обороны РФ.

Побеждающее многообразие
Надежды 1990-х и современное развитие мира
Резюме: По мере подъема восходящие державы пойдут собственным путем к модернити. Впереди не дорога с односторонним движением к свободным рынкам и либеральной демократии, а мир, в котором эпоха модернити будет иметь много обликов, конкурирующих между собой.
Окончание холодной войны и распад Советского Союза поставили точку в почти полувековой истории биполярности и идеологической конфронтации между капитализмом и коммунизмом. Вскоре после роспуска советского блока многие эксперты провозгласили начало эпохи однополярности, которая ускорит идеологическую конвергенцию на основе западной модели современного развития. Вера в материальное и идеологическое превосходство Запада вылилась в широко распространенное убеждение в том, что, в соответствии с известным высказыванием Франсиса Фукуямы, история близится к своему завершению.
Оглянувшись назад через двадцать лет, мы вправе судить о том, чем завершились попытки предвидеть ход событий в XXI веке. В одном весьма важном аспекте прогноз относительно привлекательности западной модели оказался довольно точным: капитализм одержал верх над альтернативными путями развития. Конечно, в разных странах капитализм проявляет себя по-разному. Но даже там, где у власти остаются коммунистические партии (Китай и Вьетнам, например), управление экономикой осуществляется по законам рынка.
Однако другие направления мирового развития во многом не совпадают с представлениями, царившими в 1990-е годы. Пожалуй, особенно примечательна стремительность, с какой произошло перемещение силы и политического влияния в незападный мир. Китай, Россия, Индия, Бразилия, Турция и другие восходящие державы демонстрируют хорошие темпы роста и политическую стабильность, в то время как демократии Запада переживают нелегкие времена и в экономическом, и в политическом плане. И хотя 1990-е гг. были отмечены впечатляющими успехами в распространении демократии, за последнее десятилетие процесс замедлился, если не обратился вспять. «Арабская весна» свидетельствует об универсальном стремлении к достойной жизни и вере в человеческие возможности. Но пока нет полной ясности, будут ли народные восстания, охватившие Ближний Восток, способствовать продвижению либеральной демократии в регионе.
Данное эссе призвано ответить на вопрос, почему мировое развитие так сильно разошлось с первоначальными надеждами на то, что окончание холодной войны расчистит путь к «концу истории».
Глобальный сдвиг
Ноябрьский саммит «Большой двадцатки» в Каннах ярко продемонстрировал, как сильно изменился мир за двадцать лет. В конце холодной войны «Большая семерка» представляла собой влиятельную группу крупнейших мировых экономик. В нее входили исключительно государства-единомышленники, достигшие примерно одного уровня развития. Сегодня аналогичная группа насчитывает 20 членов, а ее состав отличается большим разнообразием.
В Каннах западные демократии не только оказались в меньшинстве, но и представляли крайне слабую позицию в экономическом и политическом отношении. Государства, входящие в еврозону, изо всех сил пытаются восстановить финансовую стабильность, а Соединенные Штаты – преодолеть замедление темпов роста, высокий уровень безработицы и быстро растущую задолженность. Экономические трудности усугубляет ситуация политического тупика. В зоне евро более двух лет кипят споры о приемлемом плане восстановления финансовой устойчивости. Тем временем в США неоднократные попытки администрации Барака Обамы принять меры по стимулированию роста блокировались расколотым Конгрессом.
Америка долго играла доминирующую роль во многих международных организациях, членом которых она является. Но Каннский саммит явил иную картину. Из-за ограниченности финансовых возможностей Соединенных Штатов президент Обама мог лишь с тревогой наблюдать со стороны за метаниями европейцев, сражающихся с политическим хаосом в Греции. Среди стран, прибывших в Канны с положительным сальдо платежного баланса, фигурируют восходящие державы – Китай, Россия, Бразилия и другие, но они отказались участвовать в европейском фонде помощи и лишь посоветовали ЕС навести порядок в своем доме.
Конечно, значение новой расстановки сил не стоит и преувеличивать. Крупнейшие экономики Запада находятся в состоянии глубокого спада, но, скорее всего, в конечном счете они решат свои проблемы и восстановят нормальные темпы роста. США, Евросоюз и Япония вместе взятые дают значительную долю мировой продукции, и на них приходится более половины военных расходов. И все же встреча «Большой двадцатки» позволила убедиться, сколь серьезен сдвиг, происходящий в глобальном балансе экономических сил.
Если в 1990-е гг. многие аналитики были уверены, что наступает конец истории, сегодня многие ощутили стремительное приближение эпохи многополярности и нового политического разнообразия. Как же получилось, что превалировавшая еще недавно точка зрения оказалась ошибочной?
Прежде всего, большинство наблюдателей чересчур оптимистично приветствовали окончание холодной войны. Они ошибочно приняли распад Советского Союза за окончательный и бесповоротный триумф западных ценностей и западной модели современного развития. Впрочем, был ряд важных исключений – Китай, Куба, Северная Корея и Саудовская Аравия. Но, согласно тогдашним представлениям, эти «оплоты» вскоре должны были рухнуть, не устояв перед привлекательностью западного пути развития.
Оптимизм оказался неоправданным. Демократизация действительно совершила прорыв в 1990-е гг., но впоследствии процесс явно застопорился. Российская «суверенная демократия», китайский «государственный капитализм» и «племенная автократия» Аравийского полуострова – все эти бренды демонстрируют значительные запасы прочности. На большей части африканского континента многопартийная демократия – всего лишь фасад диктаторского правления. Либеральная демократия, кажется, пустила корни в большинстве стран Латинской Америки, но этот регион – не правило, а исключение. Формирующийся мир будет состоять из множества разных режимов; вдоль границ Запада складывается не политическое единообразие, а пестрое политическое разнообразие.
Общепринятые представления о глобализации тоже оказались некорректными. Глобализация должна была привести к «плоскому миру», форсировав принятие всеми либеральных экономических систем, поскольку только они, мол, позволяют эффективно конкурировать на глобальном рынке. Предполагалось, что западные демократии, вследствие своей склонности к свободному предпринимательству, располагали наилучшими возможностями для плавания в океане новой глобальной экономики. Меньше регулирования и больше динамизма как будто бы даст государству возможность лучше чувствовать себя в эпоху глобализации и цифровой технологии.
Однако первоначальные прогнозы на глобализацию в значительной степени не оправдались. Один из таких примеров – Китай, где государство сохранило существенный контроль в экономике. Безусловно, темпы роста рано или поздно замедлятся, и страну ждут немалые экономические и политические трудности. Но впечатляющие экономические показатели КНР позволяют предположить, что государственный капитализм не уступит позиций более либеральным альтернативам.
В то же время западные демократии несут от глобализации тяжелый урон. Соединенные Штаты, Европейский союз и Япония испытывают серьезные трудности. Свою роль, конечно, сыграли политические просчеты, но более масштабная причина – перенос производственных мощностей из развитых в развивающиеся страны, что привело к росту безработицы и стагнации доходов среднего класса по всему Западу. Глобализация и экономика цифровых технологий, от которой она зависит, углубляют неравенство в западных обществах, поскольку в выгодном положении оказываются работники, занятые в сфере высоких технологий, и ловкие инвесторы – в проигрыше «синие воротнички». Долговые кризисы, охватившие западные демократии, только усугубляют положение. Американцы теряют работу и жилье, а европейцы трудятся в условиях строгой экономии, подавляющей рост и ведущей к лишениям. Япония на протяжении более двух десятилетий страдает от стагнации, при этом растут показатели уровня неравенства и бедности.
Сложившиеся экономические условия – основная причина политической слабости ведущих западных демократий. В США экономическая неопределенность провоцирует размежевание по вопросам стратегии развития, поляризацию общества и патовую ситуацию в Конгрессе. В Европе трудные времена создают условия для повышения роли отдельных стран в политической жизни, что чревато фрагментацией Европейского союза, поскольку его члены пытаются вновь утвердить свой государственный суверенитет. В Японии правящая Демократическая партия переживает внутренний раскол и находится в состоянии открытой конфронтации с главной оппозиционной партией – Либерально-демократической. Все эти политические передряги чрезвычайно осложняют Соединенным Штатам, ЕС и Японии задачу решения экономических проблем.
Когда двадцать лет назад распался Советский Союз, никто не мог предвидеть, что разочарование демократией окажется в какой-то момент столь явным. И даже если ведущие демократии найдут выход из нынешнего тупика, не факт, что трудности Запада не снизят привлекательность его модели современного развития как раз в тот момент, когда мир вступает в период непредсказуемых глобальных перемен.
В результате велика вероятность того, что по мере подъема восходящие державы пойдут собственным путем к эпохе модернити, гарантируя тем самым не только многополярное устройство будущего мира, но и его политическое разнообразие. Более того, даже такие прозападные восходящие державы, как Индия, Бразилия и Турция не всегда неуклонно следуют западным путем к либеральной демократии. Напротив, они периодически расходятся с Соединенными Штатами и Европой по вопросам геополитики, торговли, окружающей среды и пр., предпочитая объединяться с восходящими государствами, независимо от их идеологической принадлежности. Интересы более значимы, чем ценности. Впереди не дорога с односторонним движением к свободным рынкам и либеральной демократии, а мир, который будет иметь много обликов, конкурирующих между собой.
Меняющийся Ближний Восток
Другим сюрпризом стала центральная роль Ближнего Востока в глобальной политике. Катализатором послужили теракты 11 сентября 2001 г., которые заставили США вести длительные и до сих пор незавершенные войны в Ираке и Афганистане. Вашингтон, наконец, приступил к сворачиванию операций, придя к пониманию, что хорошая разведка и «хирургические» приемы намного эффективнее в борьбе с терроризмом, чем широкомасштабное вторжение и оккупация. Однако эти войны, отвлекавшие внимание Соединенных Штатов от других регионов и приоритетов, резко увеличили государственный долг и сыграли роль в том, что на правительство оказывается политическое давление. От Белого дома требуют сократить оборонные расходы и выбрать менее обременительный способ участия в мировой политике.
Спустя десять лет стало ясно, что хотя события 11 сентября, безусловно, изменили мир, но не столь радикально, как вначале полагало большинство экспертов. Предотвращение терактов останется приоритетом для всех администраций. Но помимо предупреждения будущих терактов аналогичного или более серьезного масштаба, нежели те, что имели место в Нью-Йорке и Вашингтоне, данная задача не будет доминирующей в стратегии США, как это случилось в предыдущее десятилетие.
Между тем вследствие «арабской весны» Ближний Восток остается в центре всеобщего внимания. Народные выступления, охватившие в конце 2010 г. Ближний Восток и Северную Африку (их распространению частично способствовали новые информационные технологии и социальные сети), на первый взгляд, опровергают приведенное выше утверждение, что мир движется не к единообразию, а к политическому разнообразию. По крайней мере по внешним признакам восстания позволяют предположить, что мусульманский Ближний Восток, наконец, движется в сторону западной модели модернити. По мере того как всплески происходили в одной стране за другой, казалось, что регион стоит на пороге перехода к демократии. Политические стратеги и обозреватели первоначально сравнивали волнения с Французской революцией и падением Берлинской стены, то есть считали, что эти события – исторический водораздел, который знаменует начало эпохи «политики участия» в арабском мире.
Политическое пробуждение Ближнего Востока – действительно примечательное и внушающее оптимизм подтверждение присущих всем людям потребности в уважении и стремления к свободе.
Но когда страсти улеглись, а первоначальная эйфория сошла на нет, стала вырисовываться отрезвляющая картина. Правительства Бахрейна, Ирака, Ливии, Сирии, Йемена и ряда других государств пошли на крайние меры для подавления демонстраций. В случае с Ливией угроза уничтожения повстанцев в Бенгази убедила Совет Безопасности ООН санкционировать вооруженную интервенцию для защиты гражданского населения. Миссия, осуществленная под командованием НАТО, привела к падению режима. Однако внешняя помощь, предложенная оппозиционному движению Ливии, не правило, а исключение. Во многих других странах, охваченных народными восстаниями, автократические режимы подавляют волнения, а западные правительства почти ничего не предпринимают кроме призывов к сдержанности. Репрессии – зачастую очень жестокие – во многих случаях привели к подавлению мятежей.
Как известно, ряд правителей-диктаторов в этом регионе – Зин эль-Абидин Бен Али в Тунисе, Хосни Мубарак в Египте, Муаммар Каддафи в Ливии – были смещены. Но большинство новых правительств, постепенно приступающих к деятельности после ухода диктаторов, хотя и проводят реформы, вряд ли в ближайшем будущем свяжут судьбу своих стран с либеральной демократией. К тому же Египет, хотя это самая большая по численности населения и, пожалуй, наиболее влиятельная страна арабского мира, не стоит рассматривать как законодателя политических тенденций для региона. Египет пользуется политическими преимуществами, которых нет у его соседей. Египетская армия, профессиональный и дисциплинированный институт, прочно связанный с США, сыграл главную роль в отстранении от власти Мубарака и по-прежнему осуществляет контроль за конституционным и политическим реформированием страны. В большинстве стран – соседей Египта нет национальных институтов, способных выполнять посредническую функцию при осуществлении подобных политических перемен.
Кроме того, национальное самосознание египтян имеет глубокие исторические корни, отсюда их социальная сплоченность – редкое явление в регионе, где большинство государств представляют собой политические образования, оставленные ушедшими колониальными режимами. В Ираке, Иордании, Ливане, Сирии, а также на большей части Аравийского полуострова и Северной Африки племенная, религиозная и этническая рознь постоянно одерживает верх над слабым национальным самосознанием. Подобные противоречия долгое время нивелировались благодаря мерам принуждения, и демократизация скорее еще больше обнажит их, чем устранит. Если Египет так неторопливо продвигается к демократии, то большинство его соседей будут продвигаться еще медленней.
Даже если тенденция изменится, а демократия быстро распространится по Ближнему Востоку, он все равно не пойдет по западному пути развития. Чем больше демократии, тем большую роль в тамошней общественной жизни будет играть ислам, пусть даже в умеренной форме вероисповедания. Как показывает статистика, около 95% египтян считают, что ислам должен занимать большее место в политической жизни, а почти 2/3 населения выступает за то, чтобы гражданское право строго соответствовало Корану. То, что влияние ислама на политику растет, не хорошо и не плохо; просто это станет реальностью в той части мира, где политика и религия тесно переплетены. И как бы там ни было, наблюдателям и разработчикам политического курса пора оставить иллюзии, что распространение демократии на Ближнем Востоке равнозначно триумфу западных ценностей.
Более того, стремление обрести достоинство, сопровождаемое возгласами в пользу демократии, вероятно, будет подпитывать и настойчивые призывы к противостоянию Западу и Израилю. Так, опросы, проведенные после падения Мубарака, показывают, что более 50% египтян одобрили бы аннулирование мирного договора Египта с Израилем, действующего с 1979 года. На Ближнем Востоке – в регионе, где живы горькие воспоминания о господстве иностранных держав, «больше демократии» весьма возможно будет означать резкое сокращение стратегического сотрудничества с Западом.
Россия, Запад и остальные
Мир быстро движется не просто к многополярности, но и к многообразию моделей модернити. Это будет политически разнородный ландшафт, в котором западная модель предложит лишь одну из многих конкурирующих концепций внутреннего и международного порядка. Не только хорошо управляемые автократии будут в некоторых случаях более эффективными, чем либеральные демократии, но и развивающиеся демократические государства станут на регулярной основе совместно с Западом управлять одними и теми же компаниями. Можно сказать, что определяющей задачей для Запада и остальных – поднимающихся держав – будет взятие под контроль этого глобального поворота и мирный переход к следующему этапу развития в соответствии с заранее подготовленным планом. В противном случае следует ждать воцарения анархии, когда будут соперничать различные концепции миропорядка, представленные многочисленными центрами силы.
Россия благодаря своему бренду «суверенной демократии», а также статусу признанной державы и члена БРИКС способна сыграть уникальную роль в наведении мостов между западным миропорядком и тем, что придет ему на смену. Москва имеет длительную историю дипломатических и деловых отношений с Западом, пользуется значительным доверием восходящих держав. Более того, усилия по перезагрузке отношений между Вашингтоном и Москвой принесли плоды: по многим вопросам сотрудничество поднялось на новый уровень. Ведется диалог, нацеленный на более полное подключение России к Западу, при этом Москва играет ведущую роль среди восходящих держав. США и Евросоюз могут прийти к выводу, что Россия – полезна как арбитр в переговорах о будущем характере постзападного миропорядка, особенно если Атлантическому сообществу и Москве удастся продвинуться к сближению – возможно, путем включения России в НАТО.
Запад и остальные – восходящие державы – готовы конкурировать по вопросам принципов, статуса и геополитических интересов по мере того, как убыстряется сдвиг в глобальном балансе сил. Задача, стоящая перед Западом и другими государствами, – создать на фоне множества вариантов модернити новый, плюралистический порядок, такой, при котором будет сохранена стабильность и международная система, основанная на четких правилах.
Чарльз Капчан – профессор мировой политики Джорджтаунского университета, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям (США).

Есть ли у Обамы большая стратегия?
Почему в смутные времена нам нужны доктрины
Резюме: Несмотря на заявления критиков, у администрации Обамы была даже не одна, а две большие стратегии. Но пока президент и его советники ясно не сформулируют свои стратегические установки, за них это будут делать оппоненты – в выгодном для себя и проигрышном для власти ключе.
Опубликовано в журнале Foreign Affairs № 4, 2011 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
Американское военное вмешательство в ливийскую ситуацию вызвало жаркие дебаты по поводу существования доктрины Обамы, при этом эксперты по внешней политике с горечью говорили о стратегической некомпетентности Соединенных Штатов. Колумнист Джексон Диел писал в The Washington Post прошлой осенью: «Нынешняя администрация отличается отсутствием большой стратегии – или стратегов». В издании The National Interest в январе этого года политолог Джон Миршаймер сделал следующий вывод: «Основная причина американских проблем – это выбор неверной большой стратегии после холодной войны». Историк-экономист Найл Фергюсон отмечал в Newsweek, что потеря позиций на Ближнем Востоке является «прогнозируемым следствием отсутствия у администрации Обамы какой-либо внятной стратегии, и этот недостаток уже давно тревожил многих ветеранов американской внешней политики». Даже похвалы защитников администрации были робкими и двусмысленными. Майкл Хёрш из National Journal заявлял, что «реальная доктрина Обамы – это не иметь никакой доктрины. И именно этого пути, вероятно, будет придерживаться администрация». Хёрш, во всяком случае, предполагал, что это комплимент.
Но правда ли, что у президента Барака Обамы нет большой стратегии? И даже если это действительно так, станет ли это катастрофой? Администрация Джорджа Буша разработала четкую, внятную стратегию после терактов 11 сентября. Но от этого она не стала удачной, а ее реализация принесла больше вреда, чем пользы.
Большие стратегии далеко не так важны, как хочется думать стратегам, потому что о странах обычно судят по их действиям, а не по словам. На самом деле для великих держав важна мощь – экономическая и военная сила, которая говорит сама за себя. Однако в период нестабильности стратегия может иметь значение как «сигнальное устройство». В такие моменты, как сейчас, четко сформулированная стратегия, подкрепленная последовательными действиями, особенно полезна, так как позволяет донести информацию о намерениях государства до общественности как внутри страны, так и за рубежом.
Несмотря на заявления критиков, в действительности у администрации Обамы была даже не одна, а две большие стратегии. Первая – многосторонняя перегруппировка – имела целью сокращение обязательств США за границей, восстановление положения страны в мире и перекладывание бремени на партнеров. Этот курс – ясно сформулированный – не принес значительных политических результатов.
Вторая стратегия, появившаяся недавно, предусматривает ответные меры. В последнее время, столкнувшись с вызовом со стороны других государств, администрация Обамы стала стремиться оказывать влияние и продвигать свои идеалы по всему миру, обнадеживая союзников и демонстрируя решимость соперникам. Эта стратегия воплощается лучше, но сформулирована она недостаточно внятно. Именно вакуум интерпретации поспешили заполнить критики администрации. До тех пор пока президент и его советники ясно не определят стратегию, которая оставалась несформулированной в течение года, критики внешней политики президента будут охотно – и плохо – описывать ее за него.
Слова и поступки
Большая стратегия заключается в четкой формулировке национальных интересов в сочетании с конкретными планами по их продвижению. Иногда стратегии формулируются заранее, а затем следуют действия. Или стратегии могут предлагаться в качестве объяснения, связывающего политику прошлого и будущего. В любом случае, хорошо сформулированная стратегия устанавливает интерпретационные рамки, которые говорят всем, включая сотрудников внешнеполитического ведомства, как понимать поведение администрации.
Все это звучит очень внушительно, но в большинстве случаев на практике оказывается далеко не так. Чтобы большая стратегия имела смысл, она должна демонстрировать способность менять политику. А пытаться изменить внешнеполитический курс государства – все равно что заставить авианосец совершить поворот на 180 градусов: в лучшем случае это произойдет, но медленно. Необходимость соблюдать статус-кво часто превращает стратегию скорее в константу, чем в переменную, несмотря на решительные стремления каждой администрации к интеллектуальным изменениям и ребрендингу.
Мощь – вот реальная резервная валюта в международных отношениях, и большинству стран просто не хватает ее, чтобы заставить других беспокоиться по поводу их намерений. Вряд ли весь мир будет не спать ночами, чтобы узнать большую стратегию Бельгии (хотя было бы неплохо познакомиться, наконец, с ее новым правительством). То же касается и негосударственных акторов. После 11 сентября множество аналитиков подробно разбирали каждое высказывание руководства «Аль-Каиды». Однако с сокращением масштабов деятельности, возможностей и идеологической притягательности группировки эти заявления стали привлекать все меньше внимания. Если преемники Усамы бен Ладена не смогут продемонстрировать способность вызывать хаос, интерес к их идеологии и стратегии сохранится лишь у узкой группы специалистов. Именно поэтому дискуссии о большой стратегии менее важны, чем дискуссии об оздоровлении американской экономики.
Даже в случае с мощными игроками действия говорят больше, чем слова. Джордж Кеннан мог ясно изложить доктрину сдерживания, но в его формулировке стратегия не требовала защиты Южной Кореи. «Сдерживание» приобрело нынешнее значение, потому что президенты, один за другим, трактовали концепцию Кеннана по-своему. Как отмечал историк Мелвин Леффлер, основные элементы стратегии национальной безопасности Джорджа Буша-младшего – превентивная война и продвижение демократии – не новы, они появлялись в официальных документах предыдущих администраций. Разница в том, что в отличие от своих предшественников, воспринимавших концепции как шаблонную риторику, Буш действовал.
Критики и аналитики подчеркивают важность выбора правильной стратегии и катастрофические последствия, которые влечет за собой неверный выбор. Однако история свидетельствует о том, что большие стратегии не так уж значительно меняют траекторию политики великой державы. Возьмем Соединенные Штаты. Даже далекие от совершенства стратегии не повлияли существенно на их взлеты и падения. После Первой мировой войны США следовало взять на себя более активную роль в международных делах, вместо этого страна выбрала политику изоляционизма. Несколько президентов, поверив в теорию домино и наступление коммунизма, расширили участие Америки во вьетнамской войне до масштабов, которые вряд ли могли быть продиктованы каким-либо здравым смыслом. Администрация Буша предпочла начать войну против Ирака, которая должна была принести демократию и стабильность в регион и укрепить режим ядерного нераспространения. Реальный результат – диверсионная война стоимостью более 1 трлн долларов и глобальная волна антиамериканизма.
Все три стратегических промаха вытекали из популярных среди политиков и в обществе стратегических идей. Однако нужно отметить, что ни одна из этих ошибок не изменила траекторию американской мощи. В конечном итоге, Соединенные Штаты взяли на себя бремя ответственности лидера после Второй мировой войны. Проблемы во Вьетнаме не повлияли на исход холодной войны. Операция «Иракская свобода» была затратной, но данные опросов общественного мнения показывают, что вред, нанесенный имиджу США, быстро забылся. Во всех трех случаях институциональная мощь страны обеспечила необходимую корректировку внешнеполитической стратегии. Новые лидеры в Белом доме, Конгрессе и Пентагоне заставили страну принять роль лидера в послевоенный период, воздерживаться от интервенций, как во Вьетнаме, и реформировать доктрину противодействия повстанцам с учетом ошибок, допущенных в Ираке. Благодаря такой корректировке недочеты в стратегии не превратились в полный провал.
Когда идеи имеют значение
Если значение больших стратегий столь преувеличено, почему возникают яростные дебаты? По двум причинам – одна из них незначительная, а другая существенная. Первая заключается в том, что каждый в американском внешнеполитическом сообществе втайне надеется стать новым Джорджем Кеннаном. Если эксперт сокрушается по поводу провалов большой стратегии, можете не сомневаться, что он уже успел набросать собственные соображения на этот счет. Именно по этой причине после окончания Второй мировой войны недовольство стратегией возникало при каждой американской администрации. Большие стратегии легко придумывать – они касаются будущего, оперируют общими понятиями и дают повод для рекламы соответствующих изданий. Когда эксперт по внешней политике выдвигает новую большую стратегию, у ангела вырастают крылья.
Более существенная причина заключается в том, что бывают моменты, когда большие стратегии действительно имеют значение, – это периоды абсолютной неопределенности в международных отношениях. Идеи важны, когда действовать приходится в незнакомых водах. Они выполняют функцию когнитивных маячков, направляющих страны к безопасным берегам. В нормальные периоды, принимая решения, политики экстраполируют нынешние возможности или действия в прошлом, чтобы прогнозировать поведение других. Однако если наступает время перемен, большие стратегии сигнализируют о будущих намерениях руководства той или иной страны, заверяя или, напротив, разубеждая в чем-то заинтересованные стороны.
Два типа событий могут привести к периоду глубокой неопределенности, когда повышается значение больших стратегий. Во-первых, это событие глобального масштаба – война, революция или экономическая депрессия, – которое переворачивает интересы стран по всему миру. В ситуации, когда никто не знает, как будут развиваться события, большая стратегия может стать дорожной картой, помогающей интерпретировать происходящее и выбрать адекватный политический ответ. Второй тип событий – это смена державы-лидера, что также может стать причиной серьезной неопределенности. Когда переживающей упадок державе бросает вызов набирающий силу соперник, государства хотят знать, как каждое из двух правительств представляет свою роль в мире. У государства, находящегося в относительном упадке, есть множество вариантов для ответа – от постепенного отступления до превентивного конфликта. Набирающая силу держава может быть ревизионистской, как Германия в 1930-х гг., или стремиться к сохранению статус-кво, как Япония в 1980-х годах. Другие акторы будут тщательно оценивать заявления и действия новых держав, чтобы понять их намерения.
Примечательно, что ныне совпали оба набора явлений. «Великая рецессия» потрясла мировую экономику, произошли резкие колебания цен на товары. Международная система вынуждена справляться с огромным количеством стихийных бедствий, технологическими изменениями и случаями дипломатической неразберихи. В странах Ближнего Востока с невероятной скоростью распространилась революция, и последствия для глобальной системы абсолютно неясны.
В то же время относительная мощь Китая увеличилась, а Соединенных Штатов – уменьшилась. По оценкам Международного валютного фонда, экономика Китая через пять лет опередит американскую по паритету покупательной способности. Это изменение привело к колебаниям относительной мощи обоих государств уже сейчас. В рамках исследования Центра Pew в апреле 2010 г. респондентов по всей планете попросили назвать «ведущую экономическую державу мира». Во многих развивающихся странах, включая Бразилию и Индию, большинство опрошенных выбрало США. В развитых государствах результаты были абсолютно другими. В пяти странах первоначальной G7, включая Германию, Японию и Соединенные Штаты, значительное большинство назвало Китай. Иными словами, развивающийся мир по-прежнему верит, что Вашингтон сохраняет гегемонию, в то время как развитый мир считает, что господство перешло к Пекину. Какие-то изменения явно происходят, но люди расходятся во мнении о том, какие именно. При такой неопределенности намерения имеют значение, и большая стратегия может оказаться очень полезной.
Действуя в незнакомых условиях, официальные лица, отвечающие за реализацию национальной политики, могут опираться на официальные стратегические документы. Акторы за рубежом делают прогнозы тоже на их основе. В этих обстоятельствах иностранные правительства беспокоит, насколько предлагаемый ответ на неопределенность направлен на пересмотр или поддержание статус-кво. Страны предпочитают иметь дело с врагами, которых знают. Даже в периоды неопределенности большие стратегии, предполагающие полный пересмотр международного порядка, заставляют нервничать. Доктрина Буша о превентивном вмешательстве возымела именно такой эффект, как и недавнее заявление Китая о том, что Южно-Китайское море представляет собой «основной национальный интерес».
Еще один аспект большой стратегии привлекает всеобщее внимание: нацелено ли национальное стратегическое видение на продвижение частного или общего блага. Все великие державы имеют собственные идеи по поводу поддержания стабильного мирового порядка: жесткое признание суверенитета в Вестфальской системе, нераспространение ядерного оружия, борьба с терроризмом, больше многополярности, более глобальное развитие, продвижение демократии и так далее. Некоторые из этих идей подразумевают блага, которые, несомненно, принесут пользу как самой великой державе, так и всему миру; в ряде случаев польза для других кажется менее очевидной. Если великая держава выдвигает большую стратегию, которая в первую очередь сфокусирована на ее собственных интересах, это может вызвать негативную реакцию других стран. Например, администрация Буша считала, что продвижение демократии является благом для всех, но другие государства рассматривали эту цель в сочетании с превентивным вмешательством как право США обходить многосторонние международные институты. Неудивительно, что этот курс в результате нанес серьезный краткосрочный ущерб имиджу страны.
В большинстве работ о большой стратегии Соединенных Штатов слишком много преувеличений, но администрация Обамы унаследовала мир, находящийся в состоянии глубокой неопределенности. Есть ли у нее большая стратегия для адекватного ответа? На самом деле их было две.
Смена стратегии
Обама пришел к власти с тремя твердыми убеждениями. Во-первых, внутреннее оздоровление необходимо для любой долгосрочной стратегии – этот принцип он подчеркивал во всех выступлениях по внешней политике. «Мы не смогли оценить связь между нашей национальной безопасностью и нашей экономикой», – заявил Обама в обращении по Афганистану в декабре 2009 года. «Наше процветание обеспечивает основу нашей мощи. Оно оплачивает наши военные расходы. Оно является гарантом нашей дипломатии». Во-вторых, США перенапрягли силы, ведя две кампании против боевиков и войну с терроризмом на Ближнем Востоке, но игнорируя ситуацию в других регионах мира. В-третьих, из-за ошибок администрации Джорджа Буша рейтинг Соединенных Штатов в мире снизился до исторического минимума. Бен Родес, заместитель советника Обамы по национальной безопасности, отвечающий за стратегические коммуникации, недавно разъяснил видение администрации изданию The New Yorker: «Если свести все к коротким слоганам, это будет звучать так – завершить две войны, восстановить позиции и лидерство Америки в мире и сосредоточиться на более широком спектре приоритетов, от Азии и мировой экономики до режима ядерного нераспространения».
Первая большая стратегия Обамы, как пояснялось в различных выступлениях и заявлениях администрации в первый год его президентства, заключалась в том, чтобы обернуть сложившуюся ситуацию в свою пользу. Как заявила госсекретарь Хиллари Клинтон, многополярный мир на самом деле является «многопартнерским» миром, в котором США будут призывать другие страны – как соперников, так и союзников – содействовать сохранению глобального порядка. Администрация Барака Обамы пыталась «перезагрузить» отношения с Россией. Начали говорить о преобразовании стратегического и экономического диалога между Вашингтоном и Пекином в G2, которая будет напоминать встречи руководителей двух стран в период холодной войны. Администрация приветствовала G20 в качестве замены G8 как главного международного экономического форума, считая, что большее число партнеров будет означать более эффективное сотрудничество. Вместо агрессивного подталкивания к демократии Соединенные Штаты будут действовать более сдержанно, подавая личный пример.
Это сочетание слов и поступков представляло собой четкую концепцию, но результаты отнюдь не оправдали ожиданий. Китай отреагировал на протянутую руку Обамы агрессивной риторикой и ростом региональных амбиций. Россия продолжила жесткий курс. Традиционные союзники не захотели расширить свое участие в афганской кампании. Достижения G20 не соответствовали поставленным целям. В то же время изоляционистские настроения внутри США достигли максимума за 40 лет.
Что пошло не так? Администрация и многие другие ошибались, считая, что улучшение имиджа даст Соединенным Штатам больше возможностей для проведения своего курса. Имидж США среди граждан и элит иностранных государств действительно восстановился. Но это изменение не трансформировалось в значительное укрепление «мягкой силы». Вести переговоры в рамках G20 или в Совете Безопасности ООН не стало легче. Мягкая сила, как выяснилось, не может существенно помочь при отсутствии готовности применить жесткую силу.
Другая проблема заключалась в том, что Китай, Россия и страны, стремящиеся к статусу великих держав, не рассматривали себя как партнеров Соединенных Штатов. Даже союзники считали, что предполагаемая сдержанность администрации Обамы является лишь прикрытием намерения переложить бремя обеспечения глобальных благ на плечи остального мира. Поэтому большая стратегия Белого дома воспринималась скорее как продвижение узких интересов США, а не всеобщих благ.
В ответ администрация после первых 18 месяцев у власти изменила политику, выбрав вторую, более решительную стратегию. Единственной константой осталось стремление восстановить мощь Америки дома, но теперь ряд быстро развивающихся иностранных держав стал активно использоваться в качестве инструмента мотивации. Именно поэтому в послании этого года «О положении страны» Обама заявил, что для Соединенных Штатов наступил «момент спутника», и пообещал увеличить государственные инвестиции в образование, науку и чистые виды энергии.
Одновременно администрация перешла от стратегии перегруппировки к стратегии ответных действий. В ответ на международные провокации США продемонстрировали, что по-прежнему способны собрать союзников и противостоять возникающим угрозам. Например, американцы укрепили отношения в сфере экономики и безопасности с большинством соседей Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заставив Пекин пересмотреть подход. Продемонстрировав готовность противодействовать новым угрозам, Соединенные Штаты смогли заверить своих союзников, что в ближайшее время не собираются отступать на позиции изоляционизма. Подобным же образом, реагируя на волнения на Ближнем Востоке, Вашингтон использовал рычаги воздействия на египетских военных, чтобы способствовать практически мирной смене режима в Египте.
Наконец, вопреки заявлениям многих республиканцев, Обама связал внешнюю политику с американской исключительностью. Клинтон стала более открыто критиковать нарушение прав человека в Китае, а в ответ на революции в арабском мире Обама продемонстрировал понимание необходимости продвигать как американские ценности, так и американские интересы. Объясняя свое решение вмешаться в ситуацию в Ливии, он заявил: «Отбросить обязательства Америки как мирового лидера и – что еще более важно – наши обязательства перед человечеством в данных обстоятельствах было бы изменой самим себе… Рожденные в результате революции, совершенной теми, кто стремился к свободе, мы приветствуем тот факт, что сейчас история вершится на Ближнем Востоке и в Северной Африке и молодежь прокладывает дорогу вперед. Потому что если где-то люди стремятся к свободе, они всегда найдут друга в лице США». Вряд ли такие слова мог произнести человек, который верит только в реальную политику.
Внутренние проблемы
Как набор идей, новая большая стратегия Обамы объединяет многие страны мира. Ключевые союзники Соединенных Штатов в Европе и Тихоокеанском регионе получили необходимые заверения. Соперники США теперь понимают, что Вашингтон нельзя игнорировать. Но поддержка администрацией демократических идеалов была по-разному воспринята в Саудовской Аравии или Израиле – странах, которые предпочитают знать врага в лицо, и Соединенные Штаты могут вновь рассматриваться в регионе как ревизионистская держава. Молчание администрации по поводу возможного вмешательства в ситуацию в Бахрейне или Сирии должно уменьшить эту обеспокоенность.
Но если в международном плане новая доктрина ответных действий выглядит достаточно устойчиво, то на внутреннем фронте все совсем иначе. Наиболее серьезные вызовы для большой стратегии Обамы, скорее всего, появятся внутри страны, а не за ее пределами. Жизнеспособная стратегия должна опираться на прочную поддержку дома. Главная проблема Обамы – это внушающий беспокойство внутриполитический аспект.
В первую очередь это несоответствие сложности глобальной системы и простоты внешнеполитической риторики США. Политики с легкостью рассуждают о «друзьях» и «врагах», но испытывают затруднения, говоря о «соперниках», поскольку эта категория имеет больше нюансов. Администрации сложно использовать развивающиеся державы в качестве угрозы, чтобы побуждать Америку к дальнейшим действиям, и при этом не переходить к излишней демагогии по поводу Китая. Официальная риторика по крайней мере отчасти виновата в раздувании опасений общества по поводу мощи КНР.
Более серьезная проблема заключается в том, что администрация Обамы, сосредоточившись на восстановлении внутренней мощи, нарушила партийное равновесие. В афоризме о том, что политика заканчивается на границе США, по-прежнему есть доля истины. Но если администрация заявляет, что ключевой элемент внешней политики Соединенных Штатов – внутренняя экономика, это повышает вероятность разногласий внутри страны. Учитывая драматизм дебатов о растущем уровне долга, перспективы достижения президентом консенсуса по бюджетной и налоговой политике кажутся весьма отдаленными. Эти трудности подкрепляют аргумент политологов Чарльза Капчана и Питера Трубовитца о том, что демографические и политические изменения в США (включая отрицание правыми принципа многополярности и отрицание левыми принципа проекции силы) существенно затруднят поддержку большой стратегии, которая основана на либеральных интернационалистских принципах.
Но почему Обама так плохо объясняет свою стратегию американцам? Надо признать, что вследствие длительного экономического спада тесное взаимодействие с остальным миром стало раздражать американцев, поэтому активная внешняя политика превратилась в трудно продаваемый товар. При этом администрация сослужила недобрую службу сама себе. В действительности самая известная фраза, определяющая большую стратегию Соединенных Штатов, – «возглавлять из-за кулис», что является катастрофической формулировкой в политическом смысле.
Почему администрация Обамы не была более открытой в отношении изменения большой стратегии? Во-первых, смена курса подразумевает признание того, что предыдущий курс был неверным, а ни одна администрация не хочет этого делать. Во-вторых, администрация гордится прагматизмом внешней политики, и это осложняет продвижение нового стратегического видения. Наконец, военные действия обычно заглушают интерес к другим аспектам внешней политики. И хотя вмешательство в ливийский кризис может быть оправдано, оно не вполне вписывается в новую большую стратегию Обамы. Ливия, по собственному признанию администрации, не является основным национальным интересом. В результате Обама оказался в затруднительном положении, пытаясь объяснить свою внешнюю политику и при этом приуменьшить человеческие и материальные затраты на первую начатую им войну. Просто назвать это «кинетическими военными действиями» оказалось недостаточно.
Все это – серьезная проблема, потому что политика не выносит вакуума риторики. Если президент не может четко сформулировать большую стратегию, эксперты и политические оппоненты будут рады сделать это за него, используя отнюдь не лестные формулировки. Пока администрация не сможет внятно объяснить свое поведение американцам, она будет сталкиваться с серьезным сопротивлением.
После нескольких неверных поворотов вначале администрация Обамы, по-видимому, нашла подходящую стратегическую карту, но ей еще нужно убедить в этом других пассажиров в автомобиле. Четкая коммуникация вряд ли может быть панацеей. Однако на фоне смерти бен Ладена у администрации появилась отличная возможность разъяснить пересмотренную большую стратегию. Взяв на себя ответственность за отправку американского спецназа в Пакистан для ликвидации бен Ладена, Обама добился значительного скачка в поддержке своей внешней политики. Если в ближайшее время он сформулирует стратегию ответных действий, то сможет сделать это с позиции внутренней силы, а не слабости. Лучше разъяснив свое видение американцам, Обама покажет им – и остальному миру – что знает, куда идти и как туда добраться.
Дэниел Дрезнер – профессор международной политики Школы права и дипломатии имени Флетчера в Университете Тафтс, автор книги «Избегая банальностей: роль стратегического планирования во внешней политике США».

Снизу вверх и обратно
«Арабская весна» и глобальная международная система
Резюме: Глобальная международная система образца 2011 г. продемонстрировала не только неготовность адекватно реагировать на изменения, которые никто не смог предсказать, но и недостаточную управляемость. В условиях нарастающей дивергенции и неопределенности утопичны рассуждения о формировании «мирового правительства» из ведущих игроков.
Многие аналитики полагают, что серьезные изменения, которые переживает сегодня глобальная международная система (ГМС), являются продолжением некоего долгосрочного переустройства мира, которое началось с крушением прежнего миропорядка еще в 1980-е годы. Распространяясь по модели «сверху вниз» (top down), этот процесс постепенно охватывает все новые регионы. Однако изменения, весьма вероятно, генерируются и «снизу вверх» (bottom up), оказывая влияние на всю ГМС, что проявляется в турбулентности, возникающей то в одном, то в другом регионе.
ГМС проходит период трансформации, одним из направлений которой, в частности, является перераспределение глобальной силы в пользу Азии, также очевидно расхождение, или дивергенция, иначе говоря, бЧльшая разнородность, которая собственно и делает мир полицентричным. Характерной чертой эволюции глобальной международной системы образца 2011 г. служит и неопределенность. А одним из главных агентов изменений, происходящих сегодня на региональном и глобальном уровнях, выступает «арабская весна», которая смела одни казавшиеся стабильными ближневосточные режимы и раскачала другие.
Разнородная активность арабских обществ
Для описания «арабской весны» используются различные термины-клише. Это и революция, и бунт, и политическое цунами, и мятеж, и переворот, и движение «фэйсбуковской» молодежи, и даже гражданская война. Разнобой в терминологии отражает не только смятение в умах, но и разнородную противоречивую действительность, что стоит за процессом глубоких и начавшихся изнутри изменений арабских обществ, каждое из которых и похоже, и не похоже на другое. Хотя процесс находится в самом начале, а его развитие и конечные итоги очень трудно предсказать, уже есть основания для его первоначального осмысления в контексте эволюции мировой системы международных отношений (как ядра ГМС) и дальнейших сдвигов в балансе сил и правилах игры мировой политики.
«Арабская весна» включает в себя элементы, известные из истории, и новый опыт, необычный для региона. Новизной стало не инспирированное внешним воздействием спонтанное светское массовое движение молодежи, преимущественно образованной и либерально настроенной, что особенно ярко проявилось в Египте и Тунисе. При этом, несмотря на некоторое сходство, категорически неправомерно ставить знак равенства между тем, что произошло в Египте, Ливии, Сирии, Йемене, на Бахрейне и в других странах. В одном случае это революционное движение молодежи и среднего класса, в другом – повстанческая активность племен, в третьем – мятеж конфессиональной группы и т.д.
Тем не менее, все эти массовые протестные движения нового типа вызваны не в последнюю очередь социальными, точнее социально-экономическими причинами. Это безработица, дороговизна, коррупция, неравенство, непотизм, многолетнее засилье правящих элит, полностью оккупировавших верхние ступени социальной лестницы и лишивших молодежь возможности самореализоваться, повышать свой статус даже в сфере мелкого и среднего бизнеса, удушаемого коррумпированным чиновничеством. Есть причины и политические: отсутствие представительства, архаичность системы управления, ее приспособленность под интересы все тех же элит, монополизировавших доступ к власти и ресурсам, жесткий авторитаризм, лишающий людей возможности отстаивать свои интересы легальным путем. И везде – тираны, правившие своими странами в течение десятилетий и аккумулировавшие огромные богатства.
Новые движения носили сетевой характер, не имели четкой организационной структуры, единого руководства, программы и плана действий. Восставшие выдвигали простые требования – улучшение условий жизни, создание рабочих мест, отстранение от власти засидевшихся диктаторов, их кланов, семейств, ближайшего окружения и реформирование контролируемых ими институтов (правительств, парламентов, партий, руководства силовых структур). В большинстве случаев требования либо изначально носили ярко выраженный политический характер, либо вскоре переходили от экономических к политическим.
Впрочем, существовали и причины «традиционного» характера, специфичные для каждой страны. В Ливии, например, это противоречия между восточной провинцией – Киренаикой и западной – Триполитанией (в меньшей мере юго-западной частью – Феццаном), а также между различными племенами. В Йемене – давний конфликт между Севером и Югом, недовольство южан дискриминацией со стороны правящего режима, а также противоречия между родоплеменными элитами и соперничество племен. На Бахрейне – недовольство шиитского большинства правящим суннитским режимом и т.д. Для арабских государств независимо от их устройства всегда был характерен высокий уровень персонификации. Одна из причин взрыва: засидевшиеся и утратившие доверие населения авторитарные правители потеряли сначала способность эффективно управлять страной, а потом и саму власть отчасти и в результате нежелания значительной части государственных структур (в Тунисе и Египте, в первую очередь армии) встать на их защиту.
В этой связи необходимо подчеркнуть очевидную несостоятельность двух конспирологических теорий, которые нетрудно обнаружить в выступлениях некоторых отечественных аналитиков, пытавшихся объяснить феномен «арабской весны».
Согласно первой из них, события инспирированы и даже управлялись некими западными (прежде всего американскими) кругами через Интернет (Google, Twitter, Facebook и т. п.) и в этом смысле явились аналогами «цветных революций», которые в недавнем прошлом имели место на постсоветском пространстве. Как утверждал Сергей Кургинян, «одновременно в Тунисе, Египте, Иордании, Йемене, Сирии люди просто так на площади не выйдут». Но то ли автор не совсем понял ситуацию в регионе, то ли сознательно передернул факты (тут напутаны и время, и страны), лишь бы найти повод обвинить американцев, которые, оказывается, давно все именно так и запланировали. Многотысячными массами образованной арабской молодежи просто манипулировали американские кукловоды, которыми, по объяснению автора, вела рука «все того же Бжезинского». А он будто бы давно и преданно работает над проектом «глубокого партнерства США и радикального ислама». Подобные суждения ранее можно было услышать исключительно из уст представителей крайне правых израильских кругов (кстати, автор утверждает, будто Израиль – чуть ли не единственное «препятствие на пути объединения Соединенных Штатов с исламизмом»).
При этом, конечно, нельзя отрицать того, что коммуникационно-сетевая «публичная дипломатия» США, распространяя определенные ценности, оказывала воздействие на часть молодежи. Права Наталья Цветкова, которая пишет: «Публичная дипломатия не ставила своей целью осуществление революций в арабском мире, но они явились незапланированным продуктом публичной дипломатии США и популярности сетевого общения».
Согласно другой теории, все протестное движение организовали и тайно возглавили мусульманские фундаменталистские силы. Утверждения подобного рода гармонировали с эскападами Каддафи, пытавшегося свалить всю вину за кровопролитие в стране на исламистов. Полемизируя со мной в одной из телепрограмм, Евгений Сатановский заметил, что в конце туннеля всех подобных революций все равно стоит «мрачный бородатый дядька в чалме и с автоматом Калашникова». Иначе говоря, даже если сейчас исламские радикалы и не правят бал на обновленном арабском политическом поле, в дальнейшем они все равно воспользуются плодами победы протестных масс. Никаких аргументов не приводится. Действительность, напротив, такова, что инициативу протеста у исламистов (к слову сказать, совсем не единых) в этом случае перехватили другие игроки.
У отдельных отечественных авторов обе теории слились воедино. Так, по утверждению того же Кургиняна, «исламизм – особая религиозная субкультура, которую взрастили при прямом участии Запада». Организация «Братьев-мусульман» у него – «британский проект». А Барак Обама даже виноват в том, что в своей знаменитой речи в Каире протянул руку дружбы исламскому миру. Будто бы современный мир не разделен глубоким непониманием между Западом и исламским сообществом.
Стоит заметить, что нападки на любые движения под исламскими лозунгами вряд ли принесут России какие-либо дивиденды. А «Братья-мусульмане» в Египте (как ранее в Иордании) через созданную ими Партию свободы и справедливости уже становятся влиятельной политической силой. То же можно сказать о родственных им объединениях – партии «Ислах» в Йемене и движении ХАМАС в Палестине. Американская администрация, поначалу колебавшаяся, а затем поддержавшая восстание в Египте, явно набрала очки, завоевав симпатии тех, кто, возможно, завтра будет править этой страной, но и не утратив доверия традиционных сторонников – египетского военного истеблишмента.
На самом деле и для Запада, и для национальных и транснациональных исламских движений события явились полной неожиданностью. Помимо накопления предпосылок для всплеска активизма и синергии традиционных и новых механизмов мобилизации в каждом случае проявились свои «триггеры», взорвавшие ситуацию. К примеру, спусковым крючком для первого спонтанного выхода на улицы тунисской молодежи стал акт самосожжения молодого человека, отчаявшегося бороться с коррумпированной бюрократической машиной. Жестокие репрессии силовых структур против школьников в Дераа сыграли такую же роль в Сирии.
Общими чертами событий в разных странах стали инструменты мобилизации и формы социального и политического активизма. При этом значение Интернета и информационных сетей (пока не получивших массового распространения в арабском мире) сильно преувеличивается. Ничуть не меньшую роль, чем Twitter и Facebook (скажем, тысячи протестующих женщин с покрытыми никабами лицами, вышедшие на улицы йеменских городов, вряд ли когда-либо о них слышали), сыграли гораздо более традиционные механизмы, в первую очередь консолидация протестной массы, собравшейся на пятничную молитву в мечетях, и сами пятничные проповеди (что не означало руководящей роли духовенства).
Три «арабских кризиса»
В ходе событий «арабской весны» проявилась еще одна важная черта, для понимания которой полезно посмотреть на события, которые я мог бы условно назвать «третьим арабским кризисом», в двадцатилетней региональной ретроспективе (период 1990-х – 2000-х гг.). Во всех трех кризисах ключевую роль играл фактор вооруженного насилия с участием глобальных акторов. (Здесь я не рассматриваю случаи с участием только местных или региональных акторов, к примеру, вторжение Израиля в Ливан и его войну с «Хезболлой» 2006 года.)
«Первый арабский кризис» рубежа 1990–1991 гг. пришелся на время крушения биполярности, чего не понял правитель Ирака Саддам Хусейн, решившийся атаковать Кувейт, хотя Багдад был ослаблен изнурительной войной с Ираном. Начавшаяся операция коалиционных (в первую очередь – американских) сил под кодовым названием «Буря в пустыне» фактически означала реабилитацию силовых подходов к решению международных проблем, о чем в ту пору писал автор этих строк. Это особенно рельефно диссонировало с еще популярной тогда в России внешнеполитической философией «нового политического мышления» (читай: «мира без насилия») Михаила Горбачёва, о которой теперь уже мало кто вспоминает. Та почти гандианская философия стала рукой, протянутой Западу и всему миру, но по ней вскоре был сделан чувствительный шлепок. Тем не менее, иракские войска «благополучно» изгнали из Кувейта, отчасти в результате того, что вокруг операции сложился беспрецедентный региональный (и глобальный) консенсус. Вспомним, что союзниками США выступали такие разные арабские страны, как Сирия и Египет, не говоря уж о политической поддержке со стороны Ирана.
Фоном для «второго арабского кризиса» 2003 г. послужили трагические события 11 сентября 2001 г. и начавшаяся вслед за ними американская Глобальная война против террора с вторжением в Афганистан, которое было поддержано международным сообществом. Второй арабский кризис был, как и первый, связан с Ираком, но в этом случае даже такие союзники Соединенных Штатов и члены Североатлантического альянса, как Франция и Германия выступили против вооруженного вторжения. Вторжение не одобрила Россия и региональные державы (хотя, как ни парадоксально, действия США и на этот раз отвечали интересам Ирана, с их помощью триумфально начавшего продвижение к статусу едва ли не самой влиятельной страны этой части мира). Тем не менее, основы «нового интервенционизма» были заложены, а Джордж Буш-младший, опиравшийся на влиятельную группировку неоконсерваторов, решил действовать в одностороннем порядке, без учета мнения своих союзников и значительной части собственного населения. Буш окончательно отошел от сформулированной еще Джорджем Кеннаном концепции «сдерживания» (тогда – применительно к Советскому Союзу), заменив ее, по замечанию Иэна Шапиро, «доктриной агрессивного унилатерализма и упреждающих ударов».
В ходе «второго арабского кризиса» проявился казус псевдоигры с нулевой суммой, частично воспроизводивший парадигму, характерную для ушедшей эпохи биполярного мира. Антиинтервенционистский квазиблок объединил совсем разные страны (в том числе входившие в НАТО), которые заняли эту позицию в силу разных причин. Новыми элементами в действиях Соединенных Штатов и примкнувших к ним государств явились цель операции – смена режима, а также выдвижение в адрес иракского правителя двух несостоятельных обвинений, оправдывавших вторжение, – обладание ядерным оружием и поддержка «Аль-Каиды».
Конечно, сама стратегия смены режима не была совершенно новым явлением. Но в прошлом она осуществлялась не путем масштабной военной акции, а преимущественно с помощью операций спецслужб, опиравшихся на местных союзников. Так, к примеру, смещали лидеров Ирана, Гватемалы, пытались свергнуть Гамаля Абделя Насера, Фиделя Кастро.
Впрочем, вместо указанных двух, как известно, вскоре был найден новый предлог – необходимость установления в Ираке демократического порядка. В любом случае, имело место нелегитимное насилие (в последнем варианте – в рамках демократизации путем насильственной смены режима). Собственно говоря, уже в ходе «второго арабского кризиса» проявились признаки упоминавшейся выше дивергенции.
Особенности «третьего арабского кризиса»
«Третий арабский кризис» возник под влиянием «арабской весны» в ходе событий в Ливии, которые вспыхнули на фоне быстрого отстранения от власти «рассерженной молодежью» лидеров Туниса и Египта. Барак Обама, декларировавший уход от доктрины унилатерализма и явно не желающий еще больше увязнуть на Ближнем Востоке, все же увлекся перспективой вписать Ливию в будущий североафриканский «пояс демократии» и приложил усилия к проведению через Совбез ООН резолюции о «бесполетной зоне». Главным же агентом «неоинтервенционистской» акции на этот раз явился Николя Саркози (поддержанный Дэвидом Кэмероном), который с помощью внешнеполитического активизма решал, в частности, и внутриполитические задачи (предвыборное соперничество с другими политическими партиями, желание парировать обвинения в адрес правительства за слишком тесное и небескорыстное сотрудничество с диктаторами). «Сменорежимная» стратегия пережила ребрендинг и была вписана в парадигму гуманитарной интервенции. Важнейшим фактором, сделавшим операцию возможной, была ее легитимация Лигой арабских государств, в первую очередь группой арабских режимов во главе с Катаром (лично у Муаммара Каддафи преданных сторонников и друзей в международном сообществе не оказалось практически вовсе).
Как известно, в ходе «третьего кризиса» образовалась группа влиятельных глобальных и региональных акторов (государства БРИК, к которым потом присоединилась Южная Африка, члены НАТО – Германия, Турция и др.), которые не поддержали проект бесполетной зоны, но и не стали ему мешать, а когда действия коалиции, что было нетрудно предположить, стали выходить за рамки резолюции 1973 СБ ООН, подвергли их критике. С альтернативным проектом выступила и Организация африканских государств. А Тегеран, несмотря на неприятие всякого рода западного интервенционизма, фактически выступил против Каддафи столь же решительно, как и США (правда, он пытается увидеть в протестном движении «римейк» исламской революции 1979 г. в Иране).
Кстати, события продемонстрировали, что на опасные риски Иран не идет даже в случае, когда затронуты его идеологические интересы. По мнению одного из западных дипломатов, Тегеран пережил болезненное унижение из-за того, что не смог (точнее, благоразумно не захотел) вступиться за единоверцев-шиитов, взбунтовавшихся на Бахрейне.
Некоторые исторические параллели
Является ли влияние региональных изменений на ГМС (по модели «снизу вверх») феноменом, характерным только для нашего времени, или подобные примеры можно найти в недавней истории Ближнего Востока?
Ближневосточная региональная подсистема складывалась как часть ГМС биполярного мира после Второй мировой войны. Правила «игры с нулевой суммой» диктовали поведение глобальных акторов на региональной арене, где баланс сил определяли разделительные линии, характерные для той эпохи.
Однако и тогда внутренняя конфигурация региональной подсистемы, во-первых, далеко не всегда была подвластна правилам, навязанным двумя сверхдержавами и их союзниками (лидеры государств «третьего мира» даже пытались, иногда небезуспешно, манипулировать сверхдержавами в своих интересах). Во-вторых, и в условиях биполярности там проявлялись элементы дивергенции. Среди причин ее можно, к примеру, назвать разное отношение к колониализму, да и к использованию военной силы, у США и их европейских союзников, вместе противостоявших «коммунистической угрозе».
Июльская антимонархическая революция 1952 г. в Египте поначалу встретила позитивный отклик со стороны премьер-министра Израиля Давида Бен-Гуриона и особенно министра иностранных дел Моше Шарета (заметим, кстати, что в СССР, ориентированном в ту пору исключительно на арабских коммунистов, отношение к переменам было тогда, напротив, враждебным). А администрацию Дуайта Эйзенхауэра в Тель-Авиве небезосновательно рассматривали как недружественную Израилю. Не случайно Бен-Гурион отверг первый совместный американо-британский мирный план («План Альфа»).
Вообще, бытующее в отечественной литературе представление о том, будто американские власти всегда и во всем безоговорочно поддерживали Израиль, исторически несостоятельно. Было время, когда американские стратеги даже разрабатывали план военной акции против Израиля в том случае, если он пойдет на несогласованные действия, способные нарушить сложившийся баланс сил и интересов в регионе.
В 1956 г. произошел Суэцкий кризис, в ходе которого также имело место нехарактерное для холодной войны размежевание. Желая восстановить контроль над Суэцким каналом, национализированным Насером, Англия и Франция в союзе с Израилем, преследовавшим собственные цели, совершили вооруженное вторжение в Египет. СССР решительно выступил против, а Соединенные Штаты заняли позицию, которая была ближе к советской, нежели к английской. Тот факт, что американцы не хотели участвовать в прямых военных действиях, объяснялся их стремлением привлечь на свою сторону новых националистических лидеров, в которых они видели потенциальных союзников для нейтрализации угрозы коммунизма.
Провозглашенная 5 января 1957 г. «доктрина Эйзенхауэра» фактически предопределила возможность использования американской военной силы во имя идейно-политических целей. Помимо экономической и военной помощи в ней упоминалось применение вооруженных сил «для оказания содействия любой нации или группе таких наций, обратившихся за помощью против вооруженной агрессии со стороны любой страны, находящейся под контролем международного коммунизма». Сначала эта доктрина не распространялась на Израиль. Но ситуацию меняло то, что компонентом наступающего кризиса 1958 г. с израильской стороны была демонизация Сирии, в которой все более заметной силой становился баасизм. Отчасти поэтому летом 1957 г. политика США стала более произраильской, Вашингтон пришел к выводу, что Дамаск опасно разворачивается к Москве. В августе 1957 г. ЦРУ предприняло неудачную попытку свергнуть сирийское правительство, а Бен-Гурион сделал заявление в поддержку Соединенных Штатов.
Создание Объединенной Арабской Республики в феврале 1958 г. было первым (и, как оказалось, последним) опытом реализации насеровской националистической доктрины арабского единства, что серьезно усилило страхи лидеров западных держав и Израиля. Опасения резко усугубились после того, как антимонархическая революция во главе с Абделем Керимом Касемом произошла и в Багдаде – центре антисоветской блоковой структуры.
В то время вице-президент США Ричард Никсон настаивал на немедленном военном вторжении в Ирак и даже требовал заменить тех американских послов, которые выступали против этой идеи. Со своей стороны, госсекретарь Джон Фостер Даллес, не одобрявший подобный план, напоминал Никсону о бесславном итоге суэцкой авантюры для англичан (он открыто говорил о необходимости дистанцироваться от европейского колониализма). Хотя Эйзенхауэр не разделял панических настроений Уинстона Черчилля, предвещавшего, что если Запад не предпримет решительных действий, весь Ближний Восток может скоро оказаться под советским контролем, он также опасался революционного «эффекта домино», подобного тому, что имел место в Юго-Восточной Азии.
Через два года после Суэца США и Великобритания вновь действовали совместно и обсуждали планы возможной интервенции. Однако в отличие от британского премьер-министра Гарольда Макмиллана Эйзенхауэр не проявлял решимости прибегнуть к военной силе, тем более что его доктрина вовсе не предполагала, что для свержения коммунистических или левых режимов Америке следует непременно использовать войска.
Международный кризис вокруг Ирака в 1958 г. был значительно более серьезным, чем еще не так давно было принято считать. Советский Союз выступил с резкими угрожающими заявлениями по поводу англо-американской интервенции в Ираке, но при обсуждении вопроса в руководстве СССР возникли серьезные разногласия.
Повторяя опасения военных, маршал Климент Ворошилов на заседаниях Политбюро критиковал реализацию политики советского правительства на Ближнем Востоке, говоря, в частности, что частое повторение угроз в адрес Запада их обесценивает. Он считал, что активная поддержка прогрессивных режимов на Ближнем Востоке может иметь для Советского Союза катастрофические последствия, спровоцировав войну с США. Другие члены Политбюро также не хотели воевать, но считали, что лучший способ избежать этого – постоянно угрожать Соединенным Штатам. Такую точку зрения поддерживал Никита Хрущев. Анастас Микоян полагал, что американцы все еще размышляют, пойти ли им на интервенцию в Ираке, и принятие того или иного решения якобы зависит от того, будет ли СССР в этом случае готов выступить в защиту этой страны.
Климент Ворошилов же утверждал, что Запад уже принял решение о вмешательстве, поэтому не надо рисковать, чтобы тем самым не оказаться обязанными вступить в открытое столкновение с Соединенными Штатами. В общем, можно сделать вывод, что схватка великих держав из-за Ирака была тогда достаточно вероятной. Советское руководство приняло решение оказать военную помощь Багдаду, доставка вооружений и военной техники осуществлялась с помощью Египта. В то же время оно спокойно отнеслось к отправке американских и британских войск соответственно в Ливан и Иорданию.
После того как вопрос об интервенции был снят, западные державы не могли прийти к согласию и по поводу признания Ирака. Англия считала необходимым сразу сделать это, чтобы не толкать Багдад в объятия СССР, США же не хотели торопиться, чтобы не вызвать обиду у лидеров Ирана и Турции.
Признание Ирака Западом было расценено Никитой Хрущевым как политическая победа наступательной стратегии СССР. Запад, мол, хотел силой свергнуть иракский режим, но отступил под советским нажимом, следовательно, мощное политическое давление – единственный язык, который понимают западные соперники. Отчасти поэтому во время кубинского кризиса (предтечей которого был иракский кризис 1958 г.) советский лидер с самого начала (но, к счастью, не до самого конца) действовал весьма решительно.
Конфигурация ближневосточной региональной подсистемы ГМС и баланс сил окончательно сложились только в 1970-е гг., но после распада биполярности арабские страны и весь Ближний Восток переживают период болезненного приспособления к динамично меняющемуся миру. Об этом удачно высказался автор термина «полиархия» американский международник Сейом Браун: «Структура мировой политики со времени окончания холодной войны все еще характеризуется глобальной гегемонией США (но не монополярностью), только американская гегемония все активнее вписывается в полиархическое поле игроков: национальные государства, террористические сети, субнациональные группы, транснациональные религиозные и прочие организации, глобальные и региональные экономические организации и структуры безопасности. Эти сообщества и организации часто вступают между собой в интенсивную конкуренцию за ресурсы, поддержку и лояльность базы своих сторонников».
О назревавших серьезных изменениях в ближневосточной подсистеме ГМС специалисты говорят уже несколько лет. Незадолго до событий «арабской весны» директор Ближневосточного центра Карнеги в Бейруте Пол Салем утверждал, что регион «сломан». На самом деле если Ближний Восток и «сломался» сам, то в то же время он стал успешно «ломать» и других, оказывая возрастающее воздействие на мировой порядок. Но если Салем имел в виду, что структуры и баланс силы, сложившиеся здесь к концу 1970-х гг. и видоизменившиеся с концом холодной войны и распадом Советского Союза, более уже не существовали, то это утверждение недалеко от истины.
Подводя итоги сказанному, можно заметить, что, во-первых, «арабская весна» подготовлена всем ходом мирового развития в послевоенный период, в особенности – в XXI столетии; во-вторых, влияние изменений на Арабском Востоке на глобальную международную систему не является принципиально новой чертой.
Последствия и возможные сценарии
В отличие от весны климатической «арабская» не завершилась с наступлением лета. Главная трудность для предсказания ее последствий состоит в отсутствии ясности, каким будет облик новых режимов в арабских странах, подвергшихся экзекуции масс. Можно говорить о трех основных сценариях:
демократический режим,исламский режим,новая (возможно, военная) диктатура.
Теоретически существует еще четвертый, маловероятный, но и не совсем нереальный, сценарий – неуправляемость, хаос.
Осмысления требует тот факт, что, судя по всему, арабские монархии устояли перед натиском протестного активизма, жертвами которого стали республиканские государства, где имеются институты демократии, пусть и формальные, жестко контролируемые авторитарными режимами. И дело не только в финансово-экономических возможностях монархий – они далеко не у всех из них столь велики. Вероятно, свою роль играет фактор легитимности, которая в полноценном монархическом режиме выше, чем в республике, где не проводятся демократические и тем самым легитимирующие власть выборы. При этом некоторые монархические режимы менее авторитарны, чем отдельные республиканские, где правят диктаторы.
Очевидным результатом стало и беспрецедентное усиление двух стран, фактически находящихся на ближневосточной периферии, – Ирана и в особенности Турции. Часто говорят о том, что Турция во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом (его просвещенная Партия справедливости и развития вновь победила на выборах 12 июня 2011 г.), стремящаяся объединить исламские и европейские ценности и добившаяся больших успехов в экономическом развитии, становится моделью для таких стран, как Тунис и особенно Египет. Но новые элиты не менее энергично начали изучать посткоммунистический опыт стран Центральной и Восточной Европы.
Еще одна страна – Израиль – окончательно утвердилась как держава, доминирующая в военном отношении. Однако критическая ситуация в ближневосточном конфликте во многом обесценивает это преимущество. Мировое сообщество пока не в полной мере оценило прошедшие недавно репетиции, обкатку сирийцами мирного штурма границы с оккупированными Голанскими высотами (попытка штурма границы с Израилем была предпринята и с территории Ливана). Как сообщил автору один из высших руководителей палестинского движения сопротивления, используя опыт «арабской весны», палестинцы при необходимости мобилизуют на такой мирный марш-прорыв (главным актором будет «рассерженная молодежь») до 500 тысяч человек. Они даже не будут вооружены палками или камнями, так как не должны совершать акты насилия против израильтян.
Подобный мирный марш, между прочим, не был инновацией. Видный израильский политолог и бывший офицер военной разведки, а затем высокопоставленный сотрудник «Моссада» Йоси Альфер рассказал автору этих строк, что в 1950 г., после первой арабо-израильской войны, палестинские беженцы собирались совершить массовый переход через границу для возвращения в свои дома. На вопрос Альфера, что делать, его начальник генерал Аарон Ярив (впоследствии убежденный сторонник замирения с палестинцами) сказал: «В этом случае я буду вынужден открыть огонь». Но тогда марш не состоялся.
В арабском мире, с архаичным состоянием которого западные правительства вроде бы уже смирились, похоронив идею экспорта демократии, неожиданно для Запада произошли революции под демократическими лозунгами, а основным актором событий в Тунисе и Египте, как уже говорилось, стала либеральная образованная молодежь. Запад трактует эти события как свою победу, подтвердившую привлекательность вызывавших на Востоке отторжение либерально-демократических ценностей и западной модели общества в целом. Уже выделяются немалые, хотя явно недостаточные, ресурсы для поддержки тех арабских стран, где могут установиться демократические режимы. При этом США понимают, что в политике этих режимов могут (и скорее всего будут) проявляться весьма сильные не только антиизраильские, но и антиамериканские настроения. Кроме того, исламским политическим силам предстоит играть важную роль в этих трансформирующихся обществах, хотя степень их влияния никто не возьмется предсказать даже в краткосрочной перспективе.
Значительное повышение роли исламского фактора является еще одним важным вектором влияния событий в арабском мире на трансформацию глобальной международной системы. Естественно, что это непосредственно затронет государства Евросоюза, поскольку еще больше подхлестнет миграцию с Ближнего Востока и из Северной Африки. Уже сегодня миграция становится для Европы серьезной проблемой, трансформирующей вполне сложившиеся европейские институты (вроде Шенгенской зоны) и общую атмосферу европейской политики (достаточно посмотреть на результаты выборов в одной стране ЕС за другой, где растет спрос на популистские партии антииммигрантского толка).
Не исключено, что в арабском мире возникнет своего рода дихотомия традиционных авторитарных монархий и новых, по ценностям близких Западу (хотя и не обязательно во всем ему дружественных) демократических режимов, конечно, в том случае, если этот сценарий будет реализован. Здесь, очевидно, развернется противоборство между двумя тенденциями развития – к секуляризму (с исламским лицом) и исламскому «клерикализму» (условно экстраполируя это изначально связанное с католицизмом, но уже ставшее универсальным понятие на ислам).
Глобальная международная система образца 2011 г. продемонстрировала не только неготовность адекватно реагировать на изменения, которые никто не смог предсказать, но и недостаточную управляемость. В условиях нарастающей дивергенции и неопределенности утопичны расхожие рассуждения о формировании своего рода «мирового правительства» из ведущих глобальных игроков. Использование военной силы, в том числе в порядке, на который не получен соответствующий международный мандат (оставим за рамками этого анализа интервенционистское, но санкционированное межправительственными соглашениями в рамках ССАГПЗ применение силы региональными державами, прежде всего Саудовской Аравией, на Бахрейне), не ушло в прошлое с уходом с политической сцены Джорджа Буша. Тем более что такие нетрадиционные угрозы международной безопасности, как религиозный экстремизм и терроризм, нелегальный оборот наркотиков, не говоря уже о возможных новых региональных взрывах нестабильности, сохраняют свою актуальность.
В.В. Наумкин – профессор, доктор исторических наук, директор Института востоковедения РАН, зав. кафедрой региональных проблем факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, президент Центра стратегических и политических исследований, главный редактор журнала РАН «Восток – ORIENS».

Когда «сбываются» мечты
Израиль на другом «новом Ближнем Востоке»
Резюме: Многолетние грезы о демократизации в арабском мире в силу, как казалось, их заведомой недостижимости позволяли Западу рассчитывать на вечное моральное превосходство и возможность смотреть на окружающий мир сверху вниз. Однако мечтания иногда становятся явью – но к этому, как оказалось, не готов никто.
В 1990-е гг. Шимон Перес, а в 2000-е – Джордж Буш-младший рисовали радужные картины будущего «нового Ближнего Востока». Тогдашний министр иностранных дел, а ныне – президент Израиля делал упор на взаимовыгодной экономической кооперации. Его книга так и называлась: «От экономики, работающей на нужды войны, к экономике мира». Джордж Буш верил, что цементирующим фактором «нового Ближнего Востока» будут процессы демократизации. Едва ли не любимой книгой Буша и его помощницы по национальной безопасности, а затем госсекретаря Кондолизы Райс стало сочинение израильского политика Натана Щаранского «В защиту демократии» с жизнеутверждающим подзаголовком «Свобода победит тиранию и террор». Речь самого Джорджа Буша о путях урегулирования палестинской проблемы, произнесенная 24 июня 2002 г., объявлялась в этом произведении образцом «ясности моральных критериев» и «нового смелого политического курса».
«Если цветок свободы распустится на каменистой почве Западного берега и Газы, это вдохновит миллионы мужчин и женщин на земле, которые также устали от нищеты и угнетения, которые также имеют право на демократическое правительство», – упоенно цитировал Щаранский бесконечно пафосные слова тогдашнего американского президента.
«Величайшей ошибкой арабов в XX веке – ошибкой, которая до сих пор так и не исправлена, – явилась их приверженность тоталитарным военным или президентским режимам», – писал, в свою очередь, Шимон Перес. Он убеждал читателей в том, что «только подлинная демократизация, и ничто иное, принесет настоящую пользу арабскому миру и не в последнюю очередь – палестинскому народу». В 1993 г. нынешний президент Израиля полагал, что «наиболее эффективное оружие палестинских организаций против ХАМАСа – демократические выборы: они должны привести к созданию властной структуры законно избранного большинства, которая поставит заслон вооруженному и фанатичному меньшинству».
Сегодня это звучит как издевка, ибо многопартийные демократические выборы в Палестинской администрации, прошедшие в январе 2006 г., ХАМАС как раз уверенно выиграл. А вот проверить тезис о желательности падения «тоталитарных военных или президентских режимов», вероятно, удастся теперь. Впервые в истории региона конец нескольким авторитарным правлениям был положен путем мирного протеста, в котором приняли участие широкие слои населения. Оказалось, однако, что выглядит «новый Ближний Восток» совсем не так, как его принято было рисовать. Израильтянам, нравится им происходящее или нет, совершенно необходимо понять, что же представляет собой «новый Ближний Восток», появившийся вокруг них.
В израильской прессе отмечалось, что «израильское политическое и военное руководство… вяло отреагировало на политическое цунами. Израильские лидеры не удостоили нас серьезным анализом происходящего». Известный политический обозреватель Ярон Декель выделяет несколько важных вопросов: как Израиль готовится к существованию в новой ближневосточной реальности? Предпринимают ли руководители какие-либо действия в связи с происходящим в арабских странах? Имеется ли опасность разрыва дипломатических отношений с Египтом и Иорданией, с которыми Израиль подписал мирные договоры? Стоит ли, несмотря на происходящие события, попытаться добиться мирного урегулирования с палестинцами и Сирией? Однако «молчание наших руководителей вызывает подозрение, что они просто-напросто не знают, что делать, – отмечает Декель. – У них нет ни малейшего представления о том, как Израиль должен готовиться к новой реальности».
Забудьте об Израиле и Палестине
Еще полгода назад никто не предвидел падения режимов Зина аль-Абидина Бен Али в Тунисе и Хосни Мубарака в Египте, не обсуждалась даже теоретическая возможность массовых демонстраций протеста по всему арабскому миру. А те, кто предсказывал всплеск напряженности на Ближнем и Среднем Востоке, почти единодушно связывали его с вероятным обострением палестино-израильского конфликта.
События в регионе кардинально меняют привычную систему понятий: то, на чем десятилетиями заостряли внимание едва ли не все, кто писал о Ближнем Востоке, в настоящее время точно не является наиболее важным. В течение долгого времени три принципиально разных понятия – «ближневосточный конфликт», «палестино-израильский конфликт» и «арабо-израильский конфликт» – практически приравнивались друг к другу и воспринимались как синонимы.
Очевидно, что арабо-израильский конфликт не исчерпывается его палестинским измерением. Он включает в себя также проблемы отношений с Сирией и Ливаном – странами, с которыми мирных договоров нет до сих пор, а также многими другими арабскими государствами – от Алжира до Саудовской Аравии – до сих пор не признавшими право еврейского государства на существование в каких бы то ни было границах. Очевидно и то, что наиболее сложными на сегодняшний день являются отношения Израиля с Ираном – страной мусульманской, но не арабской. Используя словосочетание «ближневосточный конфликт» для описания исключительно проблем отношений Израиля с кем бы то ни было, мы лишаемся адекватной терминологии для понимания того, что в настоящее время происходит на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Ведь к Израилю (как и к палестинцам и даже к Ирану) все это не имеет практически никакого отношения. Как справедливо отметила в этой связи профессор кафедры востоковедения МГИМО Марина Сапронова, «взрыв Ближнего Востока и всего арабского мира прогнозировался уже давно, но источник опасности видели в тупиковой ситуации ближневосточного урегулирования, расколе Палестины и подъеме исламского движения. Классический народный бунт, тем более в самой развитой и европеизированной арабской стране, стал неожиданностью».
Волна беспорядков, причины и механизм которых, если говорить начистоту, по-прежнему не вполне прояснены, прокатилась по большинству стран Северной Африки и Ближнего Востока. Нечто подобное происходит впервые, и это требует серьезного переосмысления реальности. Центральная и непререкаемая аксиома на протяжении многих лет состояла в том, что для урегулирования ближневосточных проблем необходимо прежде всего решить именно палестинскую проблему. Действительно, даже те арабские страны, которые не имеют ни территориальных, ни водных, ни иных претензий к Израилю, как, например, Алжир или Саудовская Аравия, из чувства солидарности с палестинцами не идут на примирение, однако факт состоит в том, что нынешний кризис никак не связан с этими вопросами. С 1973 г., когда крайне тяжелый для развитых стран Запада нефтяной кризис был спровоцирован именно арабо-израильской войной, ситуация изменилась кардинальным образом.
Сейчас совершенно ясно, что проблемы Ближнего Востока отнюдь не сводятся к палестино-израильскому конфликту и его разрешение не приведет к успокоению региона. Как не без иронии отмечалось в редакционной статье газеты «Ха’арец», «кого сейчас интересует мирный процесс, демонтаж поселений, разметка границ между Израилем и Палестиной или урегулирование вопросов безопасности [между ними]? Палестинская администрация также оказалась в новой для себя ситуации. Неожиданно для палестинцев их конфликт с Израилем был вытеснен на периферию общественного внимания».
В мире много проблем, и палестино-израильская – никак не ключевой фактор международной напряженности. Более того: на самих палестинских территориях никаких волнений нет, в настоящее время это удивительно спокойное место. Для снижения напряженности в регионе «большого Ближнего Востока» мировой дипломатии нужно заниматься другими вопросами.
В то же время нельзя не обратить внимание на «фестиваль признаний» несуществующей палестинской государственности, открытый 3 декабря 2010 г. завершавшим свою каденцию президентом Бразилии Луисом Инасио Лула да Силвой и продолженный в последующие два месяца еще шестью странами Южной Америки, вследствие чего количество государств, признавших независимость Палестины, перевалило за 110. Все это ни на йоту не изменило реальную ситуацию: с одной стороны, все границы территорий Палестинской администрации (ПНА) контролируются Израилем, с другой – сами власти ПНА ни в малейшей степени не контролируют сектор Газа. На Западном берегу у палестинцев одно правительство во главе с Саламом Файедом, в котором нет представителей ХАМАСа. В Газе – другое, во главе с Исмаилом Ханийей (который на самом деле подотчетен находящему в Дамаске Халеду Машалю), в котором нет никого, кроме активистов ХАМАСа, и между ними нет никакого взаимодействия.
Учитывая, что четырехлетний срок полномочий Махмуда Аббаса на посту главы ПНА истек еще в январе 2009 г., а пятилетний срок полномочий Законодательного совета ПНА закончился в январе 2011 г. (при этом никакие новые выборы не назначены), речь идет о распавшемся надвое несостоявшемся государстве, не имеющем легитимных органов власти и управления. Ситуация вернулась к «до-ословским» временам, когда реальные руководители палестинцев находятся за пределами Палестины. Перед нами – второе Сомали, государство также де-факто давно распавшееся, но в Палестине еще и все границы контролируются внешней силой – Израилем. Признание в этих условиях государственного суверенитета Палестины наглядно демонстрирует, насколько далека от реальности политико-правовая риторика на Ближнем Востоке.
Крах международно-правовых механизмов региональной безопасности
После каждой из двух мировых войн были предприняты попытки сформировать международные структуры, которые ставили целью переход от «права кулака» к «праву мира». Лига Наций, ООН, ее Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности, Международный суд – все эти и многие другие организации были созданы, чтобы решать межгосударственные споры не силой, а путем достижения коллективного согласия.
На Ближнем Востоке эти структуры, прямо скажем, никогда не работали идеально. Примеров тому много, ограничимся двумя наиболее наглядными. Решение Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 г. о разделе территории бывшего британского мандата, согласно которому создавались палестинское и еврейское государства, а Иерусалим объявлялся международным городом, выполнено было лишь в части создания Израиля. Другой пример – вопреки консультативному заключению Международного суда, принятому в июле 2004 г. четырнадцатью голосами против одного, Израиль продолжил строительство стены безопасности.
Нынешний кризис вновь показал ограниченность международно-правовых механизмов. Как справедливо отметила Марина Сапронова, Лига арабских государств практически бездействует, и это лишний раз доказывает ее слабость, демонстрируя силу дезинтеграционных процессов в арабском мире, вследствие которых правящая элита каждой страны исходит из своих собственных интересов. Совбез ООН начал 22 февраля обсуждение ситуации в Ливии, но многочисленные жертвы среди мирного населения при разгоне демонстраций в Египте, Сирии, Йемене и других странах региона не удостоились никакого внимания. Показательно в этой связи удивительное равнодушие всех стран мира, кроме Ирана, к судьбе участников выступлений протеста шиитов (составляющих три четверти населения страны, но лишенных доступа к власти) в Бахрейне и вводу туда объединенных войск Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). События не обсуждалось ни на Генассамблее, ни в СБ ООН.
Иным оказался расклад применительно к ситуации в Ливии, где между войсками, верными Муаммару Каддафи, и силами оппозиции началась гражданская война. Хотя Каддафи в Совете Безопасности не поддержал никто, крупнейшая страна Европы – Германия, а также все страны БРИК – Бразилия, Россия, Индия и Китай – при голосовании воздержались. Это превратило операцию против Ливии едва ли не в личный проект президента Франции Николя Саркози, поддержанный новым правительством Великобритании, к которому с оговорками и, что называется, «на расстоянии» присоединилась администрация Барака Обамы. О готовности поддержать операцию по установлению зоны, запретной для полетов военной авиации, объявили Норвегия, Дания, Канада, Польша, Катар, ОАЭ, а позднее и Швеция – для демонстрации мирового единства этого, конечно, мало.
Раскол в международном сообществе очевиден, как очевидно и то, что в существующей сегодня вокруг Ливии ситуации торжествует «право кулака». Международно-правовая система обеспечения безопасности потерпела полный крах: Ливию, по инициативе президента Франции, бомбит авиация НАТО, в Бахрейн введены войска Саудовской Аравии и других стран – членов ССАГПЗ, в Египте власть захватило местное военное командование… Для Израиля, не имеющего мирных договоров с подавляющим большинством стран региона, все это – плохие новости. В Израиле хорошо помнят события мая 1967 г., когда Гамаль Абдель Насер закрыл для израильского судоходства Тиранский пролив, блокировав порт Эйлат на Красном море, и никакая международная организация не встала на защиту интересов еврейского государства – что в итоге привело к Шестидневной войне, перекроившей контуры ближневосточной политической географии. Как оказалось, с тех пор мир изменился меньше, чем многие предполагали и надеялись.
Без сверхдержав: Ближний Восток в эпоху бесполярного мира
Ближний Восток перешел к новому геополитическому состоянию: никакая внешняя сила не сможет реально влиять на происходящее в регионе.
И Соединенные Штаты, и Европейский союз, и Россия были застигнуты врасплох событиями в арабских странах. При этом и в Египте, и в Тунисе с политической арены ушли светские и лояльные Западу режимы, и пока неясно, какие силы придут им на смену. Способность американского руководства воздействовать на происходящие процессы минимальна. Администрация вначале поддерживала Хосни Мубарака, а затем, видя, что маятник качнулся в противоположную сторону, «сдала» его, при этом 11 февраля президент Барак Обама заявил, что руководству Египта следует «четко и недвусмысленно встать на путь демократии». Верховный совет вооруженных сил Египта, получивший власть в стране после отставки Мубарака, это пожелание фактически проигнорировал. В конце марта, спустя полтора месяца после ухода президента, объявлено, что парламентские выборы пройдут только в сентябре 2011 г., а президентские пока не назначены вовсе. Предполагается, что они состоятся лишь летом 2012 г., т.е. более чем через год!
Равнодушно отнеслись к американским призывам не только в 80-миллионном Египте, но и в Бахрейне, население которого в сто раз меньше и на территории которого находится база Пятого флота ВМС США, которая позволяет контролировать нефтяной экспорт из Персидского залива. 15 марта король Бахрейна Хамад ибн Иса аль-Халифа объявил о введении чрезвычайного положения сроком на три месяца. Действия преданных королю сил, разгромивших при поддержке войск Саудовской Аравии и ОАЭ палаточный лагерь оппозиции, вызвали резкую реакцию Вашингтона, представители которого призвали к политическому диалогу с оппозицией. Однако монархии региона проигнорировали пожелание Белого дома. Барак Обама в телефонном разговоре с королем Бахрейна выразил «глубокую озабоченность» методами подавления протестных выступлений и потребовал от властей «максимальной сдержанности». Резкой критике действия официальной Манамы подвергла и Верховный комиссар ООН по правам человека Наванетхем Пиллэй. Но никакого эффекта это не возымело.
Кроме того, определились границы американского силового участия. Объясняя 28 марта в телевизионном обращении к согражданам позицию правительства относительно военной операции в Ливии, Барак Обама публично пообещал, что американские самолеты там не задержатся. О наземной операции, как не устают повторять в Белом доме, речь и вовсе не идет. Итак, стало очевидно: ближневосточные походы Соединенных Штатов закончились в Афганистане и Ираке. Период, когда США пытались играть роль «мирового полицейского», завершился. Двадцать лет назад на смену эпохе противостояния двух сверхдержав, Соединенных Штатов и Советского Союза, пришла эпоха фактически однополярного мира, однако на наших глазах завершается и она. Страны и народы Ближнего Востока, и в том числе Израиль, где многое «завязано» на партнерстве с США, должны адаптироваться к жизни в «бесполярном» мире.
На сегодняшний день никто не знает, какими будут новые режимы Ближнего Востока. 75-летний Мохаммед Хуссейн Тантауи, возглавивший Египет после ухода Хосни Мубарака, едва ли может рассматриваться в качестве долгосрочного президента. Ключевыми фигурами в диалоге между политическими элитами Египта и Израиля со стороны Каира на протяжении многих лет были Осама эль-Баз, ближайший советник Мубарака, и глава Службы общей разведки в 1993–2011 гг. Омар Сулейман. В конце января он был назначен вице-президентом, но уже в день отставки Мубарака 11 февраля 2011 г., о которой он же и объявил, потерял этот пост и с тех пор не появлялся на публике. Все эти люди – очень пожилые: Осаме эль-Базу исполняется 80 лет, Омару Сулейману – 75. Ровесник Сулеймана – еще один многолетний член «команды Мубарака» Амр Муса, на протяжении последних десяти лет – генеральный секретарь ЛАГ, а до этого десять лет возглавлял египетский МИД. 70-летний премьер-министр маршал авиации Ахмед Шафик, фактически последний назначенец Хосни Мубарака (утвержден на высший пост в правительстве 29 января 2011 г.), 3 марта отправлен в отставку. На его место назначен 59-летний инженер Эссам Абдель-Азиз Шараф, который до этого лишь однажды на протяжении полутора лет работал в правительстве в должности министра транспорта, а с декабря 2005 г. не входил в руководство страны. Наработанных контактов с ним ни у кого на Западе (равно как и в Израиле) нет, непонятно, сколько он продержится на посту, каков будет круг его полномочий и есть ли у него президентские амбиции и перспективы.
На данный момент невозможно спрогнозировать и кто именно придет к власти в Тунисе. И.о. президента Фуад Мебаза и премьер-министр Каид Эс-Себси в силу возраста вряд ли могут на это претендовать (первому – 78 лет, второму – 85). Как отмечает бывший посол РФ в Тунисе Алексей Подцероб, вернувшийся из эмиграции руководитель Конгресса за республику Монсеф Марзуки широкой известностью в стране не пользуется. Легальные оппозиционные организации – Партия народного единства, Прогрессивная демократическая партия, «Ат-Тадждид», Демократический форум за труд и свободы и другие массовой поддержки не имеют. И в Египте, и в Тунисе весьма вероятно существенное увеличение представительства исламистов в высших органах власти.
Неизбежность исламизации
Идея всемирной демократизации как способа решения существующих, в том числе на Ближнем Востоке, проблем потерпела крах. Представляется, что такие активные сторонники этой идеи, как Кондолиза Райс и Натан Щаранский, фатально путали понятия «политическая культура» и «форма правления», причем второе в их понимании вытесняло первое. Демократические режимы там, где они реально существуют, являются следствием самостоятельного социально-политического развития этих стран и народов. Пожалуй, лишь в Японии «работающая» либеральная демократия оказалась привнесенной извне.
Политическая культура куда важнее формы правления. Культура толерантности и уважения прав национальных, конфессиональных, сексуальных и иных меньшинств значительно важнее демократической формы правления и связанных с нею процедур, например, свободных многопартийных выборов. Однако подобной либеральной политической культуры в арабо-мусульманском мире нет – и введение новой, формально демократической, формы правления не приведет к торжеству либеральных ценностей и отказу от насилия как средства разрешения внешних и внутренних конфликтов.
Наиболее свободные выборы в странах Ближнего Востока – в Турции, Иране, Ливане и Палестинской администрации – привели к власти значительно более фундаменталистские силы, чем те, что находились у руля правления до этого. Даже в Израиле от выборов к выборам усиливаются позиции традиционалистов и религиозных фундаменталистов, хотя в целом страна остается единственным примером либеральной демократии в регионе.
В этой связи важно трезво оценивать перспективы проведения многопартийных демократических выборов в Египте. Эти выборы, даже если не приведут к победе «Братьев-мусульман», усилят их позиции. Движение «Братья-мусульмане», основанное в 1928 г., с 1954 г. находилось в Египте под запретом. Это осложняло их деятельность, одновременно окружая ее ореолом мученичества, по традиции весьма позитивно воспринимаемого широкими слоями общества. По существу, в ходе демонстраций января-февраля 2011 г. «Братья-мусульмане» впервые за много лет по-настоящему вышли из подполья, открыто участвуя в публичных массовых акциях. Кстати, нынешний глава Египта министр обороны Мохаммед Хуссейн Тантауи, выступая на площади Ат-Тахрир, во всеуслышание заявил, что «Братья-мусульмане» достойны хотя бы одного портфеля в будущем правительстве. В комитете, названном «Коалиция за перемены» и насчитывавшем пятьдесят членов, «Братья-мусульмане» представлены четырьмя делегатами. 15 февраля лидеры движения объявили о планах по созданию политической партии.
Сразу после обнародования этих намерений 67-летней руководитель «Братьев-мусульман» Мохаммед Бади, отсидевший девять лет в тюрьме за общественно-политическую деятельность, дал интервью, в котором призвал арабские и исламские страны к кооперации «для осуществления проектов против колониализма, вестернизации и сионистской гегемонии». Вот что, в частности, сказал Бади: «Мы обращаемся к нации с просьбой объединиться перед лицом сионистского образования [так Бади, как и многие другие в арабо-мусульманском мире, именует Израиль. – Авт.] и западного проекта». 11 февраля 2011 г. Сами Абу-Зухри от имени ХАМАСа поздравил «Братьев-мусульман» с «победой над режимом Мубарака» и выразил надежду, что новые египетские власти помогут снять израильскую осаду сектора Газа.
Интенсификация контактов «Братьев-мусульман» с ХАМАСом в непосредственной близости от границ с Израилем может привести (а, возможно, уже и привело) к разработке совместных планов действий против еврейского государства, что способно спровоцировать локальное или масштабное вооруженное противостояние. Совершенно очевидно, что в случае прихода исламистов к власти в Египте существует реальная вероятность возникновения угрозы Израилю. Как справедливо отмечает Григорий Косач, для египетского общества мир с Израилем «всегда оставался “холодным”, а сохранение этого мира всегда определялось авторитарным характером египетской власти (да и власти в любой другой стране арабского мира), которая едва ли не полностью игнорировала общественные настроения, проводя свой внешнеполитический курс».
На Ближнем Востоке мы оказываемся перед замкнутым кругом, когда исламисты в любом случае усиливаются если не в краткосрочной, то в средне- и долгосрочной перспективе. С одной стороны, Марина Сапронова права, утверждая, что сегодня на Ближнем Востоке «исламизация … равнозначна демократизации». С другой стороны, противодействие демократизации тоже не способно изменить общий вектор. Как указывает Рупрехт Поленц, эксперт по Ближнему Востоку и глава комитета Бундестага по внешней политике, «чем дольше авторитарное правительство находится у власти, тем выше вероятность того, что исламистские движения становятся сильнее». Авторитарные правительства не допускают свободу слова, печати, однако они не в силах запретить религию, поэтому общественные дискуссии, невозможные в СМИ, перемещаются под своды мечетей. Там ислам обретает высокий градус политизированности. Либеральным странам поддерживать на Ближнем Востоке некого: и военная хунта, и исламисты не соответствуют западной политической культуре, а приверженцы западного пути развития постепенно оказываются в арабо-мусульманском мире просто нерелевантными.
В прошлом, когда речь заходила о том, что военные являются заслоном перед исламистами, в пример всегда ставились Алжир и Турция. Однако очевидно, что нельзя говорить о «демократичности» режима, который держится исключительно на военных; «гарнизонное государство» – не синоним, а антоним демократии. В любом случае, для западного мира и для Израиля оба сценария – и длительное правление в Египте военной хунты, и резкое усиление исламистов – означает существенное ухудшение ситуации.
Вероятно, прав директор Института востоковедения РАН Виталий Наумкин, который полагает: даже если предположить, что «Братья-мусульмане» станут влиятельной легальной силой, они не будут требовать денонсации мирного договора с Израилем и примут этот договор как политическую реальность. Пример Турции, где исламисты пришли к власти, но не прервали дипломатические отношения с Израилем, свидетельствует в пользу такого вывода. Однако правительство Реджепа Тайипа Эрдогана направило в Газу флотилию солидарности, следствием чего стали трагические события, в которых погибли девять человек, а израильско-турецкие отношения оказались на грани разрыва. Если подобным же курсом будет следовать и новое египетское руководство, то это уже точно будет совсем другой Ближний Восток, у Израиля не останется ни одного стратегического союзника во всем регионе.
В Израиле с особым вниманием следят за тем, что происходит в соседней Иордании, где опасность прихода к власти исламистов давно считается высокой (в 1970-е – 1980-е гг. в Израиле так же считали весьма вероятным падение Хашимитской династии, однако под натиском ООП). Критическое значение имеет для Израиля сохранение Иордании в качестве независимого государства, не рассматривающего свою территорию как плацдарм для нападения на еврейского соседа. На протяжении многих десятилетий сохранение в Иордании статус-кво считается судьбоносным для Израиля.
Как отмечал политический обозреватель израильской газеты «Маарив» Шалом Иерушалми еще в середине февраля, «Биньямин Нетаньяху наблюдает за происходящим в Египте и видит перед собой два сценария: Турция-1 и Турция-2. Первый сценарий – Турция Ататюрка и продолжателей начатой им секулярной революции, которая превратила страну в модернизированное и относительно либеральное общество, где ислам перестал играть центральную роль. Второй вариант – Турция Эрдогана и правящей исламской партии. Турция-1 всегда поддерживала прочные связи с Израилем. Турция-2 вступила с Израилем в конфликтные отношения, однако не стала окончательно разрывать связь с Иерусалимом». Иерушалми считает, что и такая модель устроила бы Израиль, однако существует опасность развития событий в Египте по иранскому сценарию. «То, что в Тегеране 1979 г. началось как революция интеллектуалов, молодежи и представителей среднего класса, выступавших против шаха Резы Пехлеви, очень быстро переродилось в радикальный исламский режим, который наводит ужас на весь ближневосточный регион. В последние дни Нетаньяху часто упоминает имя Шахпура Бахтияра, первого иранского премьер-министра периода антишахских волнений, правившего в Тегеране до тех пор, пока аятолла Хомейни и его соратники окончательно не взяли власть в свои руки. Подобный сценарий, опасаются в Израиле, может иметь место и в Египте, если “Братья-мусульмане” будут принимать участие во властных структурах или просто-напросто захватят власть силой».
Традиционно пользующийся большим влиянием в израильских интеллектуальных кругах аналитик Ари Шавит опасается, что под прикрытием лозунгов о демократизации значительная часть арабских стран Персидского залива перейдет под фактический контроль Ирана. «Под лозунгами освобождения от гнета диктаторов радикальный ислам возьмет под контроль значительную часть арабских стран. Мир между Израилем и палестинцами, между Израилем и Сирией станет невозможным. Мирные соглашения с Иорданией и Египтом постепенно сойдут на нет. Исламистские, неонасеристские и неоосманские силы будут формировать облик Ближнего Востока. С арабской революцией 2011 г. может произойти то, что произошло с революцией 1789 г. в Европе: ее узурпирует какой-нибудь арабский Наполеон, использует революционные чаяния и превратит революцию в серию кровавых войн», – предполагает Шавит.
Дилемма, возникающая в связи с тем, что демократизация неизбежно приводит к исламизации, оказывается для автора – и отнюдь не для него одного – неразрешимой. С одной стороны, Шавит пишет, что «американцы правы, становясь на сторону народных масс, требующих прав и свободы, это верный подход, с исторической точки зрения». Однако прямо за этим он утверждает, что «американцы ошибаются, способствуя развалу тех режимов, которые были их союзниками на Ближнем Востоке, собственными руками прокладывая путь к победе “Братьям-мусульманам” и Ирану». Как и почему правота вдруг превращается в ошибку, Ари Шавит не объясняет, и это в полной мере отражает смятение умов, которое царит в Израиле и в западном мире относительно происходящих на «большом Ближнем Востоке» событий. Многолетние мечты о демократизации в арабском мире в силу, как казалось, их заведомой недостижимости позволяли рассчитывать на вечное моральное превосходство и возможность смотреть на окружающий мир сверху вниз. Однако мечты иногда сбываются – но к этому, как оказалось, не готов никто.
Алек Эпштейн – доктор философских наук, преподаватель Открытого университета Израиля, Еврейского университета в Иерусалиме и Института стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова, эксперт московского Института Ближнего Востока.

Пресса под ружьем
Как современная журналистика помогает войнам
Резюме: Когда гора идет к Магомету, ему уже не нужно напрягаться. В большинстве своем журналисты ленивы. Везде и всюду средства массовой информации охотно бросаются потреблять то, что им скармливают правительства и ведущие политики, обладающие подлинным или дутым авторитетом.
Безопасность, политика государств и общественное мнение – три феномена, которые оказывают друг на друга взаимное влияние. Правительства используют общественное мнение и пытаются его формировать. Средства массовой информации служат при этом их инструментами, иногда становясь хозяевами, а иногда – прислужниками. Новейшие технологии качественно преображают массмедиа, что, в свою очередь, меняет и характер их воздействия на настроения общества. Недавние кадры трассирующих снарядов в небе над Триполи в очередной раз продемонстрировали, насколько актуальна эта проблема.
Новая информационная эпоха наступила 17 января 1991 г. в 2.40 местного времени, когда с налета американских ВВС на Багдад началась первая война в Персидском заливе. При рождении эры тотального телевидения присутствовала телекомпания CNN. С балкона своего номера в отеле «Мансур» корреспондент Питер Арнетт в прямом эфире транслировал, как ракеты, запускаемые с самолетов США, разорвав черное небо яркой вспышкой, поражали цели. Спутниковые антенны и тарелки сделали свое дело, любой житель Земли, включивший в тот момент телевизор, впервые смог ощутить сопричастность настоящей войне в режиме реального времени.
С тех пор синхронность происходящих событий и их одновременное восприятие потребителями новостей значительно повысили степень манипулятивности информации. Стремительное распространение любительского видео, снятого при помощи мобильного телефона, усугубляет эту тенденцию. Диктат оперативности и давление конкуренции в сочетании с коммуникационными возможностями, имеющимися сегодня в распоряжении печатной прессы, меняют содержание и вес новостей.
Постоянная гонка и требование максимальной краткости губят рефлексию. Раньше у журналиста была функция очевидца. Тот факт, что он находился на месте событий и располагал средствами передачи информации, легитимировал его высказывание. Возможно, он прибыл всего час назад, впервые в этой стране, не владеет языком, не знает там ни единого человека и имеет лишь туманное представление о политической и социальной предыстории. Он описывает, что происходит, либо то, что имеет возможность увидеть или узнать из происходящего. Если репортеру повезло, и ему сразу встретились правильные люди, если он имеет богатый опыт работы и обладает интуицией и способностью чувствовать настроения и улавливать впечатления, вполне возможно, что мы получим качественные репортажи.
Но обстоятельства описывать намного сложнее, чем сами события. Между тем обстоятельства несопоставимо важнее, особенно если именно они становятся причиной потрясений. До тех пор, пока не исследованы обстоятельства, сиюминутные слепки меняющейся реальности только сбивают с толку, переключая внимание на побочные темы. Но именно эти сиюминутные слепки, иногда и вовсе совершенно мимолетные, формируют устойчивые представления миллионов людей. А настроениями этих миллионов, их оценками и предубеждениями руководствуются политики. На этой основе они принимают решения, иногда – ошибочные.
Техническая простота и доступность имеют оборотную сторону. Комментаторы от Тайбэя до Торонто, работой которых является интерпретация событий, вводят одни и те же ключевые слова в поисковую систему Google и получают идентичный набор из нескольких десятков статей. Стандартизация в оценке мировых событий и определенное интеллектуальное нивелирование при этом неизбежны.
Юбер Бёв-Мери, основатель Le Monde, когда-то внушал своим журналистам: будьте невыносимо скучными! Так, утрируя, он побуждал сотрудников к тому, чтобы они ставили содержание над формой, предпочитали существенное броскому. А ведь он даже не догадывался о грядущем пожелтении серьезных изданий и торжестве инфотейнмента.
Подмена точной информации привлекательной оболочкой превратилась в смертный грех нашего ремесла. Дэн Разер, который много лет возглавлял информационную службу CBS, давно предупреждал о «голливудизации» новостей. Правда, будучи противником такого подхода, он сам являлся его большим мастером. Однажды на встрече руководителей подразделений информации теле- и радиокомпаний он сказал: «Глубокие аналитические материалы никому не нужны. Растет спрос на шоу в прямом эфире. На работу надо нанимать мастеров видеоэффектов, а не писателей. Секрет хорошего интервью – удачный грим, а не хитрые вопросы. И, ради всего святого, никого не раздражайте. Make nice not news».
Триумф поверхностности, нежелание публики вникать в сложные контексты – это западня, в которой репортер одновременно оказывается и преступником, и жертвой. Существует множество причин небрежной работы журналистов. Вероятно, наиболее важной из них является следующее: даже самые мыслящие потребители новостей зачастую воспринимают только те факты, которые вписываются в их устоявшуюся картину мира. То, что выходит за ее рамки, вытесняется и быстро забывается. Оценки, вынесенные однажды, крайне редко пересматриваются на основе новых фактов.
Отсюда и труднопреодолимая инертность медиа, которые не хотят разбираться в запутанных взаимосвязях. Перевороты в арабском мире – свежий пример того, что западная картина исламского мира давно уже определяется преимущественно средствами массовой информации. Внимание журналистов десятилетиями приковано к региональным конфликтам от Йемена и Бахрейна, до Балкан и Чечни, от Ливии и Палестины, до Судана и Афганистана. Но в освещении мотивов и действующих лиц почти всегда преобладает негативизм.
Все мы знаем, что терроризм, апеллирующий к исламу, является делом крошечного меньшинства мусульман. Но восприятие широкой общественностью террористической угрозы ведет к упрощению общей картины. Ислам, политический ислам, исламизм, фундаментализм во всех его проявлениях, религиозно мотивированный экстремизм и готовность применять насилие для большей части западной публики сплавились в амальгаму, если не стали взаимозаменяемыми понятиями. Арабские деспоты успешно эксплуатировали эту амальгаму, утверждая десятилетиями: или мы, или исламистский хаос, и большинство СМИ популяризировали это послание.
Первой жертвой любой войны становится правда, писал Редьярд Киплинг. Вторая жертва – язык. Искажение действительности часто начинается со словоупотребления. Бомбежки превращаются в «хирургические удары», оккупированные земли – в «спорные территории», эскадроны смерти – в «элитные подразделения», убийства – в «точечные ликвидации». Несуществующее оружие массового уничтожения Саддама Хусейна, послужившее поводом к войне, до сих пор (хотя война доказала его отсутствие) именуется в многочисленных публикациях «преувеличенными данными» и «недостатками работы разведслужб». Никого не смущает, когда в нейтральном информационном тексте арабский или исламский политик характеризуется как «антизападный». Называли ли когда-нибудь какого-либо американского политика «антиарабским»? Радикальные исламисты «ненавидят» Израиль. Разве нет израильских экстремистов, которые ненавидят палестинцев?
Последняя война, репортажи о которой были относительно независимыми, – Вьетнам. Именно неприкрашенная картинка действительности способствовала растущему неприятию боевых действий в американском обществе, что заставило Вашингтон пойти на попятный. Но военные выучили урок. Переизбыток информации – одна из форм управления общественным мнением. Это наглядно продемонстрировала первая иракская война. Никогда раньше так много журналистов, снаряженных столь современным оборудованием, не видели настолько мало из происходящего.
Когда гора идет к Магомету, ему уже не нужно напрягаться. В большинстве своем журналисты ленивы. В прекрасно оборудованном пресс-центре в Саудовской Аравии, за сотни километров от боевых действий, не прекращался дождь из пресс-релизов, издавались горы вспомогательных материалов, услужливые сотрудники пресс-служб по первому требованию были готовы предоставить статистику и графическую информацию. Бесконечные пресс-конференции превратились в холостую словесную канонаду, поток сообщений ширился и нарастал.
Вторую иракскую войну освещали «прикомандированные журналисты» – новый термин, который неизбежно напоминает о военных шорах. Эти люди видят происходящее сквозь прорезь прицела, а не глазами пострадавших. Тема терроризма ведет к похожим искажениям оптики. Редко кто замечает, что место удара ракеты, запуск которой санкционирован государством, выглядит ровно так же, как и то место, где взлетел на воздух начиненный взрывчаткой автомобиль. По крайней мере, для жертв никакой разницы нет.
Когда в триумфальном коммюнике, выпущенном вооруженными силами НАТО в Афганистане, провозглашается, сколько убито талибов, кому-то из тех, кто занимает ответственные должности в органах власти или редакциях, стоит задуматься о том, что у каждого из убитых есть братья, сыновья, близкие родственники-мужчины, которые с того момента мечтают только об одном – о мести. Бывший британский посол в Риме Айвор Робертс метко назвал президента США Джорджа Буша лучшим агентом по вербовке в ряды «Аль-Каиды».
Тот, кто для одного является террористом, другому всегда представляется борцом за свободу. Для немецких оккупантов и режима Виши во Франции террористами были бойцы французского Сопротивления. Десять лет спустя в этой роли – теперь уже для французов – выступали повстанцы из алжирского Фронта национального освобождения. «Террористом» считался в свое время Нельсон Мандела. Будущие главы правительства Израиля Ицхак Шамир и Ицхак Рабин разыскивались за терроризм британской администрацией подмандатной Палестины. И Ясир Арафат, прежде чем он появился на лужайке перед Белым домом в качестве партнера по международным договорам, был террористом. Некоторые из вышеперечисленных лиц даже стали лауреатами Нобелевской премии мира. Об этом полезно вспомнить каждый раз каждому, кто утверждает, что его трактовка есть истина в последней инстанции.
Мы не ведем переговоров с террористами. Питер Устинов, человек удивительной выдержки, сказал однажды, может быть, слегка перегнув палку: терроризм – это война бедных, война – это террор богатых.
Везде и всюду средства массовой информации охотно бросаются потреблять то, что им скармливают правительства и ведущие политики, обладающие подлинным или дутым авторитетом, вплоть до того, что комментаторы заимствуют официальный вокабулярий. Когда президент каждую неделю твердит об иракском оружии массового поражения или иранских планах стать ядерной державой, они превращаются в виртуальную реальность. Средства массовой информации плохо приспособлены к тому, чтобы сопротивляться подобной ситуации. Все, что говорит президент или официально заявляет министр, должно быть изложено снова и снова, причем на наиболее видном месте.
Самым ужасным результатом в долгосрочном плане является то, что пропагандистские усилия приводят к дегуманизации, «расчеловечиванию» противника. Убийства или унижения врагов, объявленных террористами, становятся «простительными» прегрешениями. Тем самым мы загоняем в тупик себя самих, потому что рубим под корень возможность диалога и перспективу урегулирования. Стабильность и безопасность, в том числе нашу собственную безопасность, невозможно обеспечить, ведя беседу только с единомышленниками.
Наш альянс с коррумпированными тираническими режимами Ближнего Востока надолго дискредитировал в глазах народов этого региона идеалы демократии и прав человека, которые мы на словах проповедуем. Привычка к клише ведет нас самих к фатальному недоразумению. Нет ничего опаснее, чем начать верить собственной пропаганде.
Нашей публике, взращенной телевидением, нужны герои недели. В какой-то момент ими стали ливийские революционеры. О них практически ничего не известно. Кто-то из этих людей наверняка причисляет себя к либералам, но плечом к плечу с ними стоят религиозные экстремисты, представители племен, имеющих счеты к Каддафи, и перебежчики из числа его клевретов. Две наиболее значимые персоны в Национальном переходном совете еще пару недель назад занимали посты в правительстве Джамахирии, между прочим, они служили не главами почтового или какого-либо подобного ведомства, а министрами внутренних дел и юстиции, опорами любой диктатуры. Но стоило им только произнести волшебные слова «свобода» и «реформа», как немедленно выстроилась длинная очередь желающих поверить в сказку. Если кто-то на Западе заикается о том, что все на самом деле намного сложнее, он, как правило, вызывает неприязнь.
Где бы ни вспыхивали протесты против диктаторского режима, международные массмедиа без промедления приклеивают манифестантам ярлык «продемократического движения», обычно не задаваясь вопросом, действительно ли целью мятежников является свобода. В свое время некоторые комментаторы считали борцами за свободу и «красных кхмеров».
Рудольф Кимелли – немецкий журналист и писатель, долго работавший на Ближнем Востоке, корреспондент газеты Suddeutsche Zeitung в Париже.

После стабильности
Арабский мир и пределы авторитарной модернизации
Резюме: Процессы, идущие сегодня в странах Северной Африки и Ближнего Востока, не надо сравнивать с падением Берлинской стены. Арабские события – это не «бархатные революции» в Восточной Европе, хотя западные журналисты с надеждой ищут аналогии.
В феврале в Мюнхене проходила очередная конференция по безопасности, на которую собирается весь мировой истеблишмент. Организаторы загодя составили насыщенную повестку дня, но выдерживать ее удавалось с трудом. Участникам явно не терпелось досидеть до перерывов, чтобы в прямом эфире увидеть трансляцию с главной площади Каира. Искушенные в международных делах, они казались обескураженными.
Неожиданные потрясения в Северной Африке и на Ближнем Востоке сформировали другую повестку дня не только мюнхенской конференции, но и, по сути, всей большой политики. Осмысление новой ситуации, которая продолжает стремительно развиваться сразу в нескольких странах региона, еще впереди, и, судя по судорожным шагам, предпринимаемым внешними игроками, они слабо понимают, что именно происходит. По крайней мере, готовность ведущих западных держав вмешаться в гражданскую войну в Ливии, не имея не только плана действий, но даже достоверных данных о диспозиции на месте, демонстрирует скорее растерянность, чем решительность. Между тем, кровь мирного населения льется и в других частях Ближнего Востока. И если коалиция, спешно собранная против полковника Каддафи, захочет быть последовательной в своей политике, то конца вмешательству в дела этого региона не видно.
Причины революций – вовне и внутри
Первая реакция Запада на народные выступления в Северной Африке и на Ближнем Востоке оказалась дежурной. В Вашингтоне и европейских столицах заговорили о фундаментальных ценностях – о правах человека и демократии. То есть о том, чем длительное время в отношении североафриканских и ближневосточных режимов пренебрегали. Ради интересов относительной стабильности и нефти.
Незадолго до нынешних событий, в ноябре прошлого года, состоялся саммит Евросоюз – Африка. Лидер ливийской революции полковник Муаммар Каддафи объявил, что Африка готова сотрудничать только с теми европейскими государствами, которые не будут выставлять «непомерных» требований по части соблюдения прав человека и норм демократии. И заодно запросил у Брюсселя 5 млрд евро на предотвращение миграции в Европу.
Надо сказать, что Запад не то что «непомерных», а вообще никаких сколько-нибудь серьезных требований такого рода к Каддафи и не предъявлял. Как и к другим руководителям Северной Африки и Ближнего Востока, которые теперь либо свергнуты, либо продолжают сопротивляться. Лишь изредка из Брюсселя раздавались вежливые сожаления о том, что в государствах региона права человека все же нарушаются, управление экономикой и обществом не укладывается в демократические нормы, а экспорт беженцев не сокращается.
Подход с моральной точки зрения сомнительный, но рациональный. Ведь без двойных стандартов странам НАТО пришлось бы жить в условиях постоянных санкций против недемократических режимов, а то и воевать с каждым из множества диктаторов, сменяющих один другого. Чтобы разорвать этот замкнутый круг, требовались бы длительные оккупации освобожденных от тиранов территорий, что влетает в копеечку. К тому же есть невеселый опыт силового распространения демократии в Ираке и войны в Афганистане. Там оккупационные контингенты попросту застряли при удручающем, с точки зрения целей вторжения, эффекте.
Волнения в Северной Африке и на Ближнем Востоке начались внезапно. Правда, эксперты указывают на «рейтинг ботинкометания», составленный летом прошлого года Всемирным банком, который сопоставлял такие показатели, как уровень нищеты, грамотности населения, безработицы, коррупции и прочее. В среднем для бунтующего сегодня региона цифры оказались если и не на предреволюционном, то уж точно на весьма тревожном уровне. Но внимание на это обратили только задним числом.
Устроить революцию извне, о чем сейчас много говорят, невозможно, если к ней нет предрасположения внутри. Вероятнее всего, имеет место комплексный феномен, который включает в себя разнообразные факторы экономического, социального, геополитического характера. Например, ряд экспертов справедливо говорят об общем росте национального самосознания в арабском мире. Среди прочего он порожден неудачами Израиля, извечного «экзистенциального» оппонента, в ливанской кампании 2006 г. и операции в секторе Газа два года назад, да и вообще некоторым ослаблением политических позиций еврейского государства.
Нельзя сбрасывать со счета коммуникационный фактор. С одной стороны, массовая доступность данных о «настоящей» жизни в более благополучных частях планеты, с другой – повсеместное распространение «революционной литературы» через информационные и социальные сети. Если большевистскую «Искру», выходившую крошечными тиражами, по мере возможностей несли в массы курьеры-одиночки, то «твиттер» позволяет пустить революционную искру повсюду и в режиме реального времени.
Можно назвать и вполне конкретные экономические причины взрыва. Так, в начале года индекс цен на продовольствие превысил 230 пунктов, что исчерпало способность правительств субсидировать базовые продукты питания. Прогнозы Всемирной продовольственной организации на текущий год не радужные – мировое производство зерна снизилось из-за засухи в США и России, наводнений в Австралии и Канаде. Более долгосрочные продовольственные прогнозы тоже тревожны. Среди причин кризиса называют производство биотоплива. Только в Соединенных Штатах от пищевых нужд отвлекается на замену бензина до трети всего урожая кукурузы. И велика вероятность, что мировое сообщество в скором времени столкнется с массовыми «голодными бунтами», которые дестабилизируют прежде всего африканские страны, расположенные южнее нынешней горячей линии.
Правда, в Северной Африке удорожание продовольствия все-таки трудно отнести к главному спусковому крючку восстаний. В той же Ливии Муаммар Каддафи за счет нефтяных доходов обеспечил вполне приемлемый уровень жизни, хотя с безработицей среди молодежи он не справился. Ливийская конъюнктура в целом положительно оценивалась и МВФ, и Всемирным банком, а мировой кризис весь этот регион, как ни странно, пережил сравнительно легко. Специалисты российского МГИМО полагают, что решающую роль в раскачивании лодки сыграл не абсолютный, а относительный уровень благополучия – в североафриканском обществе возник взрывоопасный «разрыв между ожиданиями роста благосостояния и реальностью».
Политики на юге и севере Судана, в Эфиопии, Джибути, Объединенных Арабских Эмиратах говорят, конечно, о подрывной роли США, Израиля и неких неправительственных организаций. Но даже они признают, что основные причины революций в Египте и Тунисе, которые открыли «ящик Пандоры», кроются в поколенческом разрыве. В глазах молодых людей существующие несменяемые или династические режимы утратили либо быстро утрачивают легитимность, которую за ними признавали предыдущие поколения.
Институциональный дизайн региона не менялся с середины прошлого века. Большой Ближний Восток, по сути, обошли потрясения, прокатившиеся по мировой политике в конце ХХ столетия и радикально преобразившие Европу, Восточную Азию, Латинскую Америку и юг Африки. Нынешняя молодежь не выбирала тех, кто десятилетиями сидит у власти. Ей надоело терпеть и искать лучшей доли за границей, стыдиться за свою страну, сидеть во внутренней эмиграции и выслушивать вранье пропаганды. Надоели уверовавшие в собственное величие лидеры, за которых, будь выборы честными, едва ли кто-то проголосовал бы. И люди в арабском мире теряют страх.
Отрыв местного правящего сословия, семей и кланов руководителей, практически приватизировавших национальные богатства, от народа столь велик, что говорить о каких-то общих целях бессмысленно. Североафриканские и ближневосточные элиты не поспевали за обстановкой, прозевали появление среднего класса. В странах региона под предлогом угрозы исламского экстремизма была уничтожена всякая системная оппозиция, отсутствовала социальная мобильность. Стабильность режимов Северной Африки и Ближнего Востока оказалась видимостью.
Однако оппозиция состоит не только из эмансипированных молодых людей. Противники режимов разношерстны, и, скажем, волнения в Бахрейне и частично в Сирии имеют выраженный межрелигиозный характер. Среди тех, кто сражается против Каддафи, обнаружены боевики «Аль-Каиды». Революционные выступления в Тунисе и Египте, наиболее продвинутых государствах региона, стали предлогом для выяснения отношений с властью в других странах Африки и Ближнего Востока, где ситуация иная. Авторитарные режимы региона поражены кризисом, нуждаются в реформах, но разные группы оппозиционеров под прикрытием вполне демократических лозунгов могут преследовать и разные цели.
Главная мина еще не взорвалась
После того как коалиция, собранная для предотвращения резни в Бенгази, приступила к выполнению резолюции СБ ООН 1973, внимание политиков и экспертов сосредоточилось на Ливии. Но страсти не утихают и в других странах региона, а если говорить об Африке, то кровь льется и южнее средиземноморского побережья.
В Сирии демонстрации проходили в городах Нава, Тафас, Хомс, Эс-Санамейн, Алеппо. В Латакии сожгли офис правящей партии Баас. В город ввели войска. Основные требования демонстрантов – положить конец коррупции, улучшить систему социального обслуживания населения, решить проблему безработицы, отменить чрезвычайное положение. Президент Асад после долгих колебаний согласился на отмену ЧП. Но причины волнений, очевидно, не сводятся только к этому.
Господствующее положение в стране занимают алавиты – шиитское меньшинство, составляющее чуть более 10% от общего населения. В свое время, когда страна была еще подмандатной территорией Франции, эта община пользовалась французским покровительством. В 1982 г. Хафез Асад уничтожил 50 тысяч суннитов в Хаме. И надо полагать, что отголосок этой истории присутствует и в нынешних выступлениях против его сына Башара. Есть сведения о бесчинствах исламских экстремистов, которые занимаются поджогами и атакуют тех, кто требует реформ. Волнениями охвачена северо-восточная часть страны, населенная курдами. Лозунг курдов, многие из которых не имеют сирийского гражданства: «Мы хотим не только гражданства, но и свободы». Новый кабинет министров, назначенный президентом Асадом, приступил к работе над обновлением законодательства. Учрежден Институт по исламским и арабским исследованиям, что расценивается как попытка Дамаска привлечь на свою сторону духовенство.
В Египте события развиваются более благоприятно – гарантом плавных реформ выступает армия. Переходное правительство утвердило закон об уведомительном создании политических партий, но сохраняется запрет на партии, которые проводят дискриминацию по религиозному, этническому, половому или расовому признаку. Исламизации политики не заметно – глава Высшего военного совета заявил, что Египет не планирует разрывать мирный договор с Израилем, а операция в Ливии у Каира озабоченности не вызывает. В отношении видных представителей режима Мубарака и его семьи заведены коррупционные дела, его партия распущена.
В Иордании бунтующая молодежь требует отставки премьер-министра, прекращения политических репрессий, проведения реформ. Требования молодых оппозиционеров такие же, как в соседних странах – борьба с коррупцией и безработицей, принятие закона о выборах, упразднение марионеточного парламента и секретной службы. Премьер аль-Бакит был назначен на этот пост месяц назад. Ему-то король Абдалла II и поручил провести реформы. Но аль-Бакит уже был главой правительства в 2005–2007 гг., и оппозиция не видит в нем проводника обновления.
В Бахрейне борьбу с суннитской королевской династией ведет шиитская оппозиция. Военную помощь в подавлении выступлений оказала Бахрейну Саудовская Аравия. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) возложил на Иран ответственность за события в Бахрейне. Есть сведения, что члены Совета готовят высылку граждан Ливана и Ирана, которых обвиняют в связях с «Хезболлой» и иранской разведкой. Дело зашло далеко – Бахрейн прекратил воздушное сообщение с Ираном, Ливаном и Ираком. Отозваны послы – Бахрейна в Иране и Ирана в Бахрейне. Тегеран обвиняется и во вмешательстве во внутренние дела Кувейта. Там раскрыта шпионская сеть, работающая на Иран. Два иранца и один кувейтец приговорены за шпионаж к смертной казни, послы отозваны и между двумя этими странами.
Уместно заметить, что Бахрейн, пожалуй, самое модернизированное государство арабского мира. Половину мест в парламенте, который выбирается так, как положено, занимает оппозиция. Женщины уравнены в правах с мужчинами, во всяком случае, могут голосовать.
В Йемене продолжаются массовые волнения. Президент Али Абдалла Салех, занимающий этот пост более тридцати лет, согласился уйти в отставку до конца 2011 г. и мирно передать власть военному совету. Но это не устраивает оппозицию. ССАГПЗ открыто призывает Салеха уйти, в США опасаются, что междоусобица отвлекает власти Йемена от антитеррористической борьбы. Есть информация, что в эту страну прибывают боевики «Аль-Каиды» и вступают в вооруженную борьбу с силами безопасности. А офицеры правительственных войск переходят на сторону восставших. Йеменская оппозиция вроде бы согласна вести переговоры с властями при посредничестве Эр-Рияда, однако столкновения не утихают. Война в Йемене способна поколебать относительную стабильность в Саудовской Аравии.
Сохраняется вероятность нового взрыва в Алжире. Оружия там не меньше, чем в Ливии, а исламисты уже побеждали на демократических выборах в 1991 г. и вели кровопролитную войну против военно-бюрократического режима. Новая междоусобица грозит вовлечением в нее Марокко. Ведь проблема спорной Западной Сахары не решена, а бойцы фронта ПОЛИСАРИО штыков в землю не воткнули. Боевые действия могут пересечь границы стран зоны Сахеля: Мали, Чада, Нигера, а есть еще и неспокойные районы Судана. Власти Алжира укрепляют границы с Ливией, откуда, по их мнению, просачиваются боевики «Аль-Каиды» в странах исламского Магриба. Они известны как похитители европейцев, но их может привлечь и шанс отомстить за поверженных когда-то братьев по идеологии. Тогда в Алжире главной действующей силой окажутся откровенные радикалы-исламисты.
Огонь бикфордова шнура, подожженного в Тунисе, еще не дошел до самой большой мины, которая заложена под существующий порядок на Большом Ближнем Востоке. Это возможность противостояния между самой мощной шиитской державой Ираном и его суннитским аналогом – Турцией. Судя по тому, как стремительно демократические движения в той же Сирии или Бахрейне переходят в шиито-суннитский конфликт, к тактическим союзам Анкары и Тегерана, которые сейчас демонстрируют друг другу подчеркнутую почтительность, следует относиться осторожно. Потому что обе эти страны откровенно претендуют на лидерство в исламском мире, обе достаточно сильны в военно-экономическом отношении. Каждая из них следует собственным модернизационным исламским проектам и настойчиво предлагает их близким и далеким соседям.
Неуемный полковник
В отличие от президентов Туниса и Египта глава Ливии не отступил перед оппозицией и развернул боевые действия против повстанцев. Иначе говоря, Каддафи не выполняет резолюцию СБ ООН 1973. Россия и Китай воздержались при голосовании по этой резолюции, другими словами, «пропустили» ее. Суть документа – защита гражданского населения Ливии от насилия, совершаемого его собственным правительством, но формулировки открывают возможность широкой военной операции против войск Триполи.
Резолюция 1973 – первый в истории документ ООН, разрешающий военное вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Сербию бомбили без санкции ООН, вторжение в Ирак тоже происходило в обход Совета Безопасности. Иначе говоря, резолюция 1973 – это признание того факта, что в случае с Ливией отсутствие насилия извне означает его рост внутри.
Разумеется, у ведущих членов коалиции есть интересы в Северной Африке. Личные счеты к ливийскому полковнику, вероятно, имеются и у Николя Саркози, и у Сильвио Берлускони, двух европейских руководителей, которые особенно усердствовали в налаживании коммерческих отношений с Триполи. Лондон тоже не отставал, но в лице предыдущих лейбористских властей, так что консерватор Дэвид Кэмерон в этом смысле запятнаться не успел. Как бы то ни было, среди причин бомбовых ударов по Ливии не стоит искать следы мирового заговора или американских нефтяных интересов (2% мировой добычи – не настолько солидный куш). Скорее речь идет о беспомощности мирового сообщества перед теми, кто стреляет в собственный народ. Поспешные удары еще до составления каких-либо конкретных планов операции – это следствие смятения, которое охватило западных лидеров после начала событий в регионе.
Некоторые из друзей Каддафи (надо сказать, весьма немногочисленных) именуют его сейчас не иначе как «лидером арабского мира». И утверждают, что Запад развернул на него охоту именно в этом качестве. На самом деле полковник никогда таковым не являлся, хотя очень хотел. Хотел настолько, что вызвал стойкое отторжение практически у всех соседей, что и аукнулось при голосовании в СБ ООН по резолюции 1973 – не поддержи ее активно Лига арабских государств, ни Россия, ни Китай, вероятнее всего, не согласились бы «пропустить» документ.
Каддафи всегда был неугомонным революционером. Во имя реализации своих экстравагантных идей бомбил Хартум. Разжигал гражданскую войну в Чаде, да так, что ухитрился объединить против себя таких антагонистов, как Ирак, Египет и США. Семь раз принимался сколачивать союзы с Сирией, Египтом, Тунисом и Чадом. Вошел в историю как автор всполошившего Африку плана Великой исламской сахарской империи. Все кончилось, однако, убийством президента Гвинеи-Бисау, свержением президента Верхней Вольты и неудавшимся переворотом в Нигерии и Гамбии.
Подвергаться атакам Каддафи тоже не впервой. Рональд Рейган бомбил Триполи и Бенгази в 1986 г. в качестве возмездия за теракт на берлинской дискотеке, где погибли американские военные. В 1989 г. Соединенные Штаты наносили удары по Ливии, подозревая, что полковник строит завод по производству боевых отравляющих веществ. Много говорят об американском лайнере, сбитом в 1988 г. над Шотландией, но это отнюдь не единственный такого рода «подвиг» вождя Джамахирии. Кстати, остается только диву даваться, как при таком послужном списке Муаммар Каддафи сумел не просто договориться с Западом в начале 2000-х гг., но и стать для всех желанным деловым партнером.
Ливийская кампания, как и всякая локальная война, весьма непрозрачна. Например, только спустя несколько недель после начала событий более или менее прояснились основные группировки внутри повстанцев. Среди них – исламисты, в том числе боевики «Аль-Каиды» и регионалисты. Эти силы первоначально шокировали своих французских покровителей антисемитскими лозунгами. Третьей силой эксперты считают ливийских берберов, претензии которых на собственную этничность Каддафи не признавал. На самом деле они составляют чуть ли не десятую часть всего населения и относятся к числу наиболее непримиримых противников полковника.
Лондонская конференция, которая прошла в конце марта без участия главы Лиги арабских государств, представителей России, Китая и Африканского союза, наконец, выдвинула некий план и обозначила цель: Каддафи должен уйти – живым или мертвым. (О резолюции 1973 на этом собрании напоминало, пожалуй, лишь присутствие Генсека ООН.) Свои выступления перед прессой авторы плана неизменно заканчивали заявлением, что после ухода Каддафи ливийский народ должен сам решать свою судьбу. Такого рода стратегии составлялись накануне вторжения и в Афганистан, и в Ирак с той же конечной целью – предоставить народам право решать свои судьбы. Прошли годы, а иностранные державы по-прежнему не могут покинуть эти страны. Именно не могут, хотя явно все больше хотят. Есть основания предполагать, что в Ливии все может сложиться похожим образом.
Мирный выход или бесконечная рознь
К резолюции 1973 есть обоснованные претензии. Россия справедливо критикует ее за расплывчатые формулировки. Де-факто коалиция, не мудрствуя лукаво, встала на сторону повстанцев, которых, по сути, нельзя считать чисто гражданским населением – они вооружены. Среди причин, по которым Россия только «пропустила» резолюцию, а не проголосовала за нее, министр иностранных дел Сергей Лавров назвал именно отсутствие в документе четких ограничений применения силы. Полагаю, что Москва заняла совершенно верную позицию по отношению к происходящему в Ливии: у нас хватает дел внутри страны, скоро выборы, нужна модернизация и т.д. Театр этих военных действий от России достаточно далек, но у Москвы есть возможность претендовать на посредничество, требовать прекращения огня и скрупулезного следования резолюции 1973.
Стороны конфликта в Ливии предельно ожесточены. Но это не основание, чтобы отвергать инициативы мирного урегулирования. Прецедент есть – развод противоборствующих сторон в Судане без применения силы, который, правда, закончился отделением Юга страны от Севера. Зато появились возможности их мирного развития. Потребовалось заинтересованное сотрудничество стран «большой пятерки» СБ ООН. Оно состоялось в том числе благодаря перезагрузке российско-американских отношений, российско-китайскому стратегическому партнерству и желанию Евросоюза обрести субъектность во внешней политике. Общими усилиями удалось переломить скептическое отношение к официальному Хартуму Великобритании и Франции. Помогла, конечно, и слаженная работа с ООН и Африканским союзом. Решающую роль сыграл консенсус элит Севера и Юга Судана, которые прагматично согласились, что лучше справедливо делить нефтяные прибыли, чем лить кровь и бесчинствовать ради неких идеологических догм.
Заметную роль в суданском урегулировании сыграл институт специальных представителей, среди которых был и спецпредставитель президента России. Главная их задача состояла в том, чтобы контролировать Всеобъемлющее мирное соглашение и следить за ситуацией в Дарфуре. Спецпредставителю России выпала особая роль в «суданском досье», ведь западные посредники обязаны были избегать личных встреч с президентом Судана Омаром Аль-Баширом, на которого завел дело Международный уголовный суд. У российской стороны сложились исключительно конструктивные отношения со всем пулом международных посредников, прежде всего с представителями США и Китая. При всех тонкостях работы не было зафиксировано ни единого случая, когда российские позиции разошлись бы с американскими. Это очевидное, хотя не столь известное свидетельство успеха перезагрузки. Представляется, что мы недооцениваем нашу собственную роль в суданском урегулировании. А ведь это демонстрация реальных возможностей России играть важную роль в делах Африки и Ближнего Востока.
Надо сказать, что жестокости, которыми сопровождалась междоусобица в Судане, намного превосходили то, что пока наблюдается в Ливии. Однако международные организации, ООН и Африканский союз вместе с институтом спецпредставителей добились демократических (по африканским меркам) всеобщих выборов и референдума по самоопределению суданского Юга. Это кропотливая работа – челночная дипломатия между центрами Юга и Севера страны, консультации с лидерами соседних стран, с ООН, с контингентом миротворцев, с вождями повстанцев, инспекции лагерей беженцев в Дарфуре и т.д. Имея такой опыт, можно с уверенностью сказать – при желании мировое сообщество в состоянии обойтись в Ливии и без бомбометания. И это – главный урок суданского урегулирования. Тем более что за прекращение огня в Ливии вместе с Россией выступает и Африканский союз, сыгравший чрезвычайно важную роль в установлении мира в Судане.
Есть угроза, что после свержения Каддафи Ливия пойдет путем, с которого в Судане в конце концов удалось сойти – бесконечная племенная рознь, замешанная на деньгах, этнической неоднородности и религии. Если коалиция сумеет привести к власти в Триполи лояльное правительство, оно тут же погрузится в поиски мучительного компромисса по дележу нефти между племенами. А с востока грянет новое наступление, теперь уже подкрепленное силами «Аль-Каиды» и не гнушающееся откровенно террористическими методами. И тогда вмешиваться в ливийские дела извне придется вновь и вновь, а поток беженцев начнет захлестывать Европу.
К сожалению, вероятность такого сценария высока. Процессы, идущие сегодня в странах Северной Африки и Ближнего Востока, не надо сравнивать с падением Берлинской стены. Арабские события – это не «бархатные революции» в Восточной Европе, хотя западные журналисты с надеждой ищут аналогии. Параллели успокаивают. Но у народов Восточной Европы были идеологии, ясные цели и явные вожаки. В Северной Африке и на Ближнем Востоке демократические лидеры, мягко говоря, не ярки, зато со всех концов света срочно прибывают фигуры из ранее запрещенных экстремистских организаций. А в программах оппозиций внятно звучит только требование отставки президентов, после чего следуют общие пожелания. В обыденной жизни это называется «сорвать зло». А вот кто воспользуется затем революционным порывом – большой вопрос.
Ситуация в Северной Африке и на Ближнем Востоке имеет и еще одно толкование. В значительной степени это кризис авторитарных модернизаций в регионе, то есть такой политической модели, когда власти вознамериваются осчастливить и просветить свой народ без его участия. Такие страны, как Тунис, Египет, Ливия, Сирия, Иордания, Бахрейн не назовешь отсталыми, все они относительно успешно развивались (исключение составляет, пожалуй, Йемен). Но чтобы добиться устойчивости и социальной гармонии, мало одних только рыночных реформ, высоких темпов роста ВВП и приличного состояния финансовой сферы. Наступает время, когда народ больше не желает удовлетворяться материальными подачками, а требует свобод и прав. И подробный анализ социально-экономической ситуации в странах региона дал бы нам возможность увидеть пределы, на которые натыкаются авторитарные модернизации.
М.В. Маргелов – председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Федерального Собрания РФ, специальный представитель президента России по Африке.

Революция и демократия в исламском мире
Резюме: Падающее воздействие великих держав создает политический вакуум на Ближнем и Среднем Востоке. Часть его заполнит Индия (в Афганистане), но в основном – на всей территории – усилится Китай. С учетом роста влияния Турции и Ирана состав игроков этого огромного региона и распределение сил будет в XXI веке больше напоминать XVII, чем ХХ столетие.
События в Тунисе и Египте продемонстрировали удивительный парадокс. Революции, вызвавшие эффект домино и поставившие на грань существования всю систему сдержек и противовесов в арабском мире, приветствовали не только Иран и «Аль-Каида», но и ряд западных политиков, первыми из которых должны быть названы президент и госсекретарь Соединенных Штатов. Отказ Николя Саркози предоставить убежище бежавшему из Туниса президенту Зин эль-Абидину Бен Али, который на протяжении десятилетий был оплотом интересов Парижа в Магрибе, еще можно было списать на растерянность или неизвестные широкой публике «старые счеты». Но призывы Барака Обамы и Хиллари Клинтон, которые в разгар охвативших Египет бунтов, погромов и антиправительственных выступлений требовали от египетского президента Хосни Мубарака немедленно включить Интернет, обеспечить бесперебойную работу иностранных СМИ, вступить в диалог с оппозицией и начать передачу ей власти, вышли за пределы не только разумного, но и допустимого. Вашингтон в очередной раз продемонстрировал, что в регионе у него нет не только союзников, но даже сколь бы то ни было ясно понимаемых интересов.
Непоправимые ошибки Америки
Откровенное до бесхитростности предательство главного партнера США в арабском мире, каким до недавнего времени полагал себя Мубарак, никак не может быть оправдано с практической точки зрения. «Либеральная оппозиция» во главе с экстренно прибывшим в Египет «брать власть» Мохаммедом эль-Барадеи, влияние которого в стране равно нулю, не имеет никаких шансов. Если, конечно, не считать таковыми возможное использование экс-главы МАГАТЭ в качестве ширмы, ликвидируемой немедленно после того, как в ней отпадет надобность. Заявления «Братьев-мусульман» о том, что, придя во власть, они первым делом пересмотрят Кэмп-Дэвидский договор, и сама их история не дают оснований для оптимизма. Амбиции еще одного потенциального претендента на египетское президентство, Генерального секретаря Лиги арабских государств Амра Мусы, несопоставимы с возможностями генерала Омара Сулеймана, которого Мубарак назначил вице-президентом. А переход власти к высшему военному командованию хотя бы оставляет надежду на управляемый процесс.
Ближний Восток: история проблемы
Георгий Мирский. Шииты в современном мире
Евгений Сатановский. Новый Ближний Восток
Усмотреть смысл в «выстреле в собственную ногу», произведенном американским руководством, очень трудно. Разве что начать всерьез воспринимать теорию заговора, в рамках которого Соединенные Штаты стремятся установить в мире «управляемый хаос», для чего готовы поддерживать любые протестные движения и организовывать какие угодно «цветные» революции, не важно, за или против кого они направлены. Альтернатива – полагать, что руководство США и ряда стран Европы охватила эпидемия кратковременного помешательства (кратковременного – потому что через несколько дней риторика все-таки стала меняться). Такое впечатление, что в критических ситуациях лидеры Запада следуют не голосу рассудка, государственным или личным обязательствам, но некоему инстинкту. Тому, который заставляет их во вред себе, своим странам и миропорядку в целом приветствовать любое неустроение под лозунгом «стремления к свободе и демократии», где бы оно ни происходило и кого бы из союзников ни касалось.
Какие выводы сделаны из этого всеми без исключения лидерами стран региона от Марокко до Пакистана – не стоит и говорить. Во всяком случае, израильтяне, которые до сих пор полагали, что в основе предвзятого отношения администрации Обамы к правительству Биньямина Нетаньяху лежат столкновение популистских американских теорий с торпедировавшей их ближневосточной реальностью, антиизраильское лоббирование и личная неприязнь, внезапно начали осознавать: дело гораздо хуже, это работает система.
В рамках этой системы исторически непоправимых ошибок, последовательно совершаемых президентами Соединенных Штатов, Джимми Картер в 1979 г. заставил шаха Ирана Мохаммеда Резу Пехлеви отказаться от противостояния с аятоллой Хомейни. Исламская революция в Иране, не встретив сопротивления, победила со всеми вытекающими для этой страны, региона и мира последствиями, одним из которых было введение советских войск в Афганистан.
Сменивший Картера Рональд Рейган поддержал не только фанатиков-моджахедов, но и создание «Аль-Каиды» во главе с Усамой бен Ладеном. Можно только вспоминать генерала ХАД (аналог КГБ в Демократической республике Афганистан) Наджибуллу, который при поддержке Запада мог стать в Афганистане не худшим руководителем, чем генералы КГБ и МВД СССР Алиев и Шеварднадзе в Азербайджане и Грузии. Вместо этого шиитский политический ислам в Иране получил достойного соседа и конкурента в лице террористического суннитского «зеленого Интернационала». Джордж Буш-старший в связи с краткосрочностью пребывания на президентском посту свой вклад в дело укрепления радикального политического ислама не внес. Он лишь провел «Войну в Заливе», ослабив режим Саддама Хусейна, но не уничтожив его в тот непродолжительный исторический момент, когда это могло быть поддержано всеми региональными игроками с минимальной выгодой для экстремистских организаций.
Зато Билл Клинтон, смотревший сквозь пальцы на появление ядерного оружия у Пакистана и проворонивший «черный ядерный рынок», организованный отцом пакистанской бомбы Абдулом Кадыр Ханом, поддержал авантюру израильских левых, приведшую Ясира Арафата на палестинские территории, и операцию пакистанских спецслужб по внедрению движения «Талибан» в качестве ведущей военно-политической силы Афганистана. Именно ближневосточный курс Клинтона привел к «интифаде Аль-Акса» в Израиле и мегатеракту 11 сентября 2001 г. в Соединенных Штатах.
Президент Джордж Буш-младший, пытаясь привести в порядок тяжелое ближневосточное наследство Клинтона, расчистил в Ираке плацдарм для деятельности не только «Аль-Каиды» и других суннитских радикалов, но и таких шиитских радикальных групп, как поддерживаемая Ираном Армия Махди. Иран, лишившийся в лице свергнутого и повешенного Саддама Хусейна опасного соседа, получил свободу рук для реализации имперских амбиций, в том числе ядерных, стремительно превращаясь в региональную сверхдержаву. Попытка иранского президента-либерала Мохаммеда Хатами наладить отношения с Вашингтоном после взятия американской армией Багдада была отвергнута, что открыло дорогу к власти иранским «неоконам» во главе с президентом Махмудом Ахмадинежадом. В Афганистане не были разгромлены ни талибы, ни «Аль-Каида», их лидеры мулла Омар и Усама бен Ладен остались на свободе, зато администрация, ведомая госсекретарем Кондолизой Райс, всерьез занялась демократизацией региона.
В итоге ХАМАС стал ведущей военно-политической силой в Палестине и, развязав гражданскую войну, захватил сектор Газа. Проиранская «Хезболла» укрепила позиции в Ливане, «Братья-мусульмане» заняли около 20% мест в парламенте Египта, а успешно боровшийся с исламистами пакистанский президент Первез Мушарраф и возглавляемая им армия уступили власть коррумпированным кланам Бхутто-Зардари и Наваза Шарифа. Страна, арсеналы которой насчитывают десятки ядерных зарядов, сегодня управляется людьми, стоявшими у истоков движения «Талибан» и заговора Абдула Кадыр Хана.
Наконец, Барак Обама, «исправляя» политику своего предшественника, принял политически резонное, но стратегически провальное решение о выводе войск из Ирака и Афганистана и смирился с иранской ядерной бомбой, которая, несомненно, обрушит режим нераспространения. Попытки жесткого давления на Израиль, переходящие все «красные линии» в отношениях этой страны с Соединенными Штатами, убедили Иерусалим в том, что в лице действующей администрации он имеет «друга», который опаснее большинства его врагов. Несмотря на беспрецедентное охлаждение отношений с Израилем, заигрывания с исламским миром, стартовавшие с «исторической речи» Обамы в Каире, не принесли ожидаемых дивидендов. Ситуацию с популярностью США под руководством Барака Обамы среди мусульман лучше всего характеризует реакция египетских СМИ на эту речь: «Белая собака, черная собака – все равно собака».
Поддержка американским президентом египетской демократии в варианте, включающем в систему власти исламских радикалов, помимо прочего откроет двери для дехристианизации Египта. Копты, составляющие 10% его населения и без того во многом ограничиваемые властями, несмотря на демонстрацию лояльности к ним, являются легитимной мишенью террористов. Их будущее в новом «демократическом» Египте обещает быть не лучшим, чем у их соседей – христиан Палестины, потерявшей за годы правления Арафата и его преемника большую часть некогда многочисленного христианского населения.
Упорная поддержка коррумпированных и нелегитимных режимов Хамида Карзая в Афганистане и Асифа Али Зардари в Пакистане, неспособность повлиять на правительственные кризисы в Ираке и Ливане, утечки сотен тысяч единиц секретной информации через портал «Викиликс», несогласованность действий Госдепартамента, Пентагона и разведывательных служб, череда отставок высокопоставленных военных и беспрецедентная публичная критика, с которой они обрушились на гражданские власти… Все это заставляет говорить о системном кризисе не только в ближневосточной политике, но и в американской управленческой машине в целом.
Инициативы Обамы по созданию «безъядерной зоны на Ближнем Востоке» и продвижению к «глобальному ядерному нулю», настойчиво поддерживаемые Саудовской Аравией, направлены в равной мере против Ирана, нарушившего Договор о нераспространении (ДНЯО), и Израиля, не являющегося его участником. Проблема не только в том, что эти инициативы не имеют шансов на реализацию, но в том, что они полностью игнорируют Пакистан, хотя опасность передачи части пакистанского ядерного арсенала в распоряжение Саудовской Аравии, а возможно, и не только ее, не менее реальна, чем перспективы появления иранской ядерной бомбы. Активная позиция в поддержку ядерных инициатив Барака Обамы, занятая в конце января с.г. в Давосе принцем Турки аль-Фейсалом, наводит на размышления. Создатель саудовских спецслужб известен не только как архитектор «Аль-Каиды», его подозревают в причастности к организации терактов 11 сентября в США и «Норд-Ост» в России. На этом фоне поспешные непродуманные заявления в адрес Хосни Мубарака только подчеркнули: Америка на Ближнем и Среднем Востоке (БСВ) действует исходя из теории, а не из практики, и, не считаясь с реальностью, строит фантомную «демократию» (как когда-то СССР – фантомный «социализм»), безжалостно и бессмысленно сдавая союзников в угоду теоретическому догматизму.
Демократия с ближневосточной спецификой
Принято считать, что демократия – наилучшая и самая современная форма правления. Соответствующая цитата из Уинстона Черчилля затерта до дыр. Право народа на восстание против тирании, которое легло в основу западного политического обустройства последних веков – это святыня, покушения на которую воспринимаются в Вашингтоне и Брюсселе как ересь, сравнимая с попытками усомниться в непогрешимости папы римского. При этом расхождения между теоретической демократией и ее практическим воплощением в большей части стран современного мира не только не анализируются, но даже не осознаются «мировым сообществом», точнее политиками, политологами, политтехнологами, экспертами и журналистами, которые принадлежат к узкому кругу, не только называющему, но и полагающему себя этим сообществом.
Констатируем несколько аксиом ближневосточной политики. Знаменующий окончательную и бесповоротную победу либеральной демократии «конец истории» Фрэнсиса Фукуямы не состоялся, в отличие от «войны цивилизаций» Самьюэла Хантингтона. Во всяком случае, на Ближнем и Среднем Востоке демократий западного типа нет, и в ближайшие десятилетия не предвидится. В регионе правят монархи, авторитарные диктаторы или военные хунты. Все они апеллируют к традиционным ценностям и исламу до той поры, пока это ислам, не подвергающий сомнению легитимность верховной власти. Республиканские режимы БСВ могут до мелочей копировать западные органы власти, но эта имитация европейского парламентаризма не выдерживает проверки толерантностью. Права этно-конфессиональных меньшинств существуют до той поры, пока верховный лидер или правящая группировка намерены их использовать в собственных целях и в той мере, в которой это позволено «сверху», а права меньшинств сексуальных не существуют даже в теории. В отличие от западного сообщества, права большинства не подразумевают защиту меньшинств, но в отсутствие властного произвола дают большинству возможность притеснять и физически уничтожать их. Политический неосалафизм приветствует это, а ссылки теоретиков на терпимость ислама в корне противоречат практике, в том числе современной.
Любая демократизация и укрепление парламентаризма в регионе, откуда бы они ни инициировались и кем бы ни возглавлялись на начальном этапе, в итоге приводят исключительно к усилению политического ислама. Националистические и либеральные светские партии и движения могут использоваться исламистами только как временные попутчики. Исламизация политической жизни может быть постепенной, с использованием парламентских методов, как в Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, или революционной, как в Иране рахбара Хомейни, но она неизбежна.
Период светских государств, основатели которых воспринимали ислам как историческое обоснование своих претензий на отделение от метрополий, а не как повседневную практику, обязательную для всего населения, завершается на наших глазах. Все это сопровождается большой или малой кровью. Различные группы исламистов апеллируют к ценностям разных эпох, от крайнего варварства до сравнительно умеренных периодов. Некоторые из них готовы поддерживать отношения с Западом – в той мере, в какой они им полезны, другие изначально настроены на разрыв этих отношений. В одних странах исламизация общественной и политической жизни сопровождается сохранением государственных институтов, в других – их ликвидацией. Каждая страна отличается по уровню воздействия на ситуацию племенного фактора или влияния религиозных братств и орденов. Но для всех без исключения движения, которые, взяв власть или присоединившись к ней, будут обустраивать режимы, возникающие в перспективе на Ближнем и Среднем Востоке, характерны общие черты.
Движения эти жестко противостоят укоренению на контролируемой ими территории «западных ценностей» и борются с вестернизацией, распространяя на Западе «ценности исламского мира», в том числе в замкнутых этно-конфессиональных анклавах, растущих в странах Евросоюза, США, Канаде и т.д., под лозунгами теории и практики «мультикультурализма». Наиболее известными итогами сложившейся ситуации являются «парижская интифада», датский «карикатурный скандал», борьба с рождественской символикой в британских муниципалитетах, покушения на «антиисламских» политиков и общественных деятелей и убийства некоторых из них в Голландии, общеевропейская «война минаретов», попытка построить мечеть на месте трагедии 11 сентября в Нью-Йорке. Несмотря на заявления таких политиков, как Ангела Меркель и Дэвид Кэмерон о том, что мультикультурализм исчерпал себя, распространение радикального исламизма на Западе зашло далеко и инерция этого процесса еще не исчерпана. Усиление в среде местного населения Швейцарии, Австрии, Бельгии и других стран Европы консервативных антииммигрантских политических движений – реакция естественная, но запоздавшая. При этом антиглобалистские движения, правозащитные структуры и международные организации, включая ООН, с успехом используются исламистами для реализации их стратегических целей.
Консолидация против Израиля
Одной из главных мишеней современного политического ислама всех толков и направлений является Израиль. Борьба с сионизмом – не только единственный вопрос, объединяющий исламский мир, но и главное достижение этого мира на международной арене. Как следствие – гипертрофированное внимание мирового сообщества, включая политический истеблишмент и СМИ, к проблеме отношений израильтян и палестинцев. Утверждение в умах жителей не только исламского мира, но и Запада идеи исключительности палестинской проблемы – на деле едва ли не наименее острой в череде раздирающих регион конфликтов. Во имя создания палестинского государства многие готовы идти против экономической, политической и демографической реальности, да и просто против здравого смысла, о чем свидетельствует «парад признания» рядом латиноамериканских и европейских государств несуществующего палестинского государства в границах 1967 года.
Израиль пока выжидает и готовится к войне, дистанцируясь от происходящих в регионе событий, чтобы не провоцировать конфликт. Руководство страны осознает, что ситуация с безопасностью в случае ослабления режимов в Каире и Аммане, поддерживающих с Иерусалимом дипломатические отношения, вернется к временам, которые предшествовали Шестидневной войне. Любая эволюция власти в Египте и Иордании возможна только за счет охлаждения отношений с Израилем, поскольку на протяжении десятилетий главным требованием арабской улицы в этих странах был разрыв дипломатических и экономических отношений с еврейским государством. Этот лозунг используют все организованные оппозиционные группы, от «Братьев-мусульман» до профсоюзов и светских либералов.
Не только Амр Муса и эль-Барадеи, известные антиизраильскими настроениями, но и Омар Сулейман, тесно контактировавший на протяжении длительного времени с израильскими политиками и военными, либо другой представитель высшего генералитета будет вынужден (сразу или постепенно) пересмотреть наследие Мубарака в отношениях с Израилем. Как следствие, неизбежно ослабление или прекращение борьбы с антиизраильским террором на Синайском полуострове, поддерживаемым не только суннитскими экстремистскими группами, но и Ираном. Завершение египетской блокады Газы означает возможность доставки туда ракет среднего радиуса действия типа «Зильзаль», способных поразить не только ядерный реактор в Димоне и американский радар в Негеве, контролирующий воздушное пространство Ирана, но и Тель-Авив с Иерусалимом. Поддержка ХАМАС со стороны Сирии и Ирана усилится, а Палестинская национальная администрация (ПНА) на Западном берегу ослабеет. Все это резко повышает вероятность терактов против Израиля и военных действий последнего не только в отношении Ирана, к чему Иерусалим готовился на протяжении ряда лет, но и по всей линии границ, включая Газу и Западный берег.
Военные действия против Ливана и Сирии возможны в случае активизации на северной границе «Хезболлы». Война с Египтом вероятна, лишь если исламисты придут к власти и разорвут мирный договор с Израилем. В зависимости от того, прекратят ли США поставки вооружения и запчастей Египту, возможны любые сценарии боевых действий, включая, в случае катастрофичного для Израиля развития событий, удар по Асуанской плотине. При этом ситуация в Египте резко обострится через 3–5 лет, когда правительство Южного Судана, независимость которого обеспечил проведенный в январе 2011 г. референдум, перекроет верховья Нила, построив гидроузлы. Ввод их в действие снизит сток в Северный Судан и Египет, поставив последний на грань экологической катастрофы, усиленной катастрофой демографической. Физическое выживание населения Египта не гарантировано при превышении предельно допустимой численности жителей, составляющей 86 миллионов человек (в настоящий момент в Египте живет 80,5 миллионов).
Конфликт Израиля с арабским миром может быть спровоцирован кризисом в ПНА. Палестинское государство не состоялось. Улучшения в экономике Западного берега связаны с деятельностью премьер-министра Саляма Файяда, находящегося в глубоком конфликте с президентом Абу Мазеном. Попытка свержения президента бывшим главным силовиком ФАТХа в Газе Мухаммедом Дахланом привела к высылке последнего в Иорданию. Главный переговорщик ПНА Саиб Эрикат обвинен в коррупции. Абу Мазен полностью изолирован в палестинской элите. Агрессивные антиизраильские действия руководства ПНА на международной арене контрастируют с его полной зависимостью от Израиля в экономике и в сфере безопасности. Население Западного берега зависит от возможности получения работы в Израиле или в израильских поселениях Иудеи и Самарии. Без поддержки со стороны израильских силовых ведомств падение режима в Рамалле – вопрос нескольких месяцев.
Иран и другие
Последствия этого для Иордании могут быть самыми тяжелыми. Пока король Абдалла II сдерживает палестинских подданных, опираясь на черкесов, чеченцев и бедуинов. Смена премьер-министра и ряд других мер политического и экономического характера позволяют ему избежать сценария, реализованного его отцом в «черном сентябре» 1970 года (подавление палестинского восстания). Ситуацию в Иордании дополнительно отягощает фактор иракских беженцев (до 700 тысяч человек), а также финансовые и земельные аферы, в которых обвиняются палестинские родственники королевы Рании. В отличие от времен короля Хусейна, Иордании не грозит опасность со стороны Сирии и Саудовской Аравии, однако страна остается мишенью для радикальных суннитских исламистов. Следует отметить сдвиг в отношениях между Иорданией и Ираном.
Последний, наряду с Турцией, является ведущим военно-политическим игроком современного исламского мира, успешно соперничающим за влияние с такими его традиционными лидерами, как Египет, Саудовская Аравия и Марокко. Несмотря на экономические санкции, Иран развивает свою ядерную программу и хотя, по оценке экс-директора «Моссад» Меира Дагана, не сможет изготовить ядерную бомбу до 2015 г., накопил объем расщепляющих материалов, которого хватает для производства пяти зарядов, а к 2020 г., возможно, будет готов к ограниченной ядерной войне. При этом непосредственную опасность Исламская Республика Иран (ИРИ) представляет исключительно для своих соседей по Персидскому заливу и Израиля, который официальный Тегеран последовательно обещает уничтожить.
Предположения о возможности нанесения Ираном удара по Европейскому союзу или Соединенным Штатам представляются несостоятельными. Нанесение ракетно-бомбового удара по ядерным объектам ИРИ со стороны Израиля и США маловероятно. Америка может уничтожить промышленный потенциал Ирана, но не имеет людских ресурсов для проведения сухопутной операции, обязательной, чтобы ликвидировать иранскую ядерную программу. Израиль не обладает необходимым военным потенциалом, хотя поразивший иранские ядерные объекты компьютерный вирус не без основания связывают с противостоянием этих двух стран.
Борьба за власть в Иране завершается в пользу генералов Корпуса стражей исламской революции, оттесняющих на периферию аятолл. «Зеленое движение», объединившее ортодоксов и либералов, потерпело поражение. Сохраняя лозунги исламской революции, ИРИ трансформируется в государство, основой идеологии которого во все возрастающей степени становится великодержавный персидский национализм. Тегеран успешно развивает отношения с КНР, странами Африки, Латинской Америки и Восточной Европы, Индией, Пакистаном и Турцией, фактически поделив с последней сферы влияния в Ираке, правительство которого координирует свои действия не только с США, но и с ИРИ. На территории БСВ интересы Ирана простираются от афганского Герата до мавританского Нуакшота (усиление позиций Тегерана в Мавритании спровоцировало разрыв Марокко дипломатических отношений с ним). Было бы наивным полагать, что закрепление ИРИ на мавританском правобережье реки Сенегал вызвано исключительно желанием вытеснить оттуда Израиль, дипломатические отношения с которым правительство Мавритании прекратило, сближаясь с Тегераном. Скорее захолустную Мавританию можно полагать идеальным транзитным пунктом для переброски оружия, а возможно и чего-либо, связанного с иранской ядерной программой, наиболее близким к латиноамериканским партнерам Ирана – Венесуэле и Бразилии.
Тегеран избегает прямых конфликтов с противниками, предпочитая «войны по доверенности», которые ведут его сателлиты. Ирано-израильскими были Вторая ливанская война, операция «Литой свинец» в Газе, да и за конфликтом йеменских хауситских племен с Саудовской Аравией, по мнению ряда аналитиков, стоял Иран. Агрессивная позиция ИРИ в отношении малых монархий Персидского залива подкрепляется наличием в таких странах, как Бахрейн, Катар, в меньшей степени Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Кувейт шиитских общин. Единственным союзником Ирана в арабском мире по-прежнему является Сирия, которая при поддержке «Хезболлы» постепенно возвращает контроль над ситуацией в Ливане и продолжает курировать ХАМАС, политическое руководство которого дислоцировано в Дамаске. С учетом наложенных на Иран санкций, перспективы его газового экспорта в Евросоюз зависят от кооперации с Турцией, которая будет использовать эту ситуацию в своих интересах, пока они не войдут в противоречие с интересами ИРИ (что в перспективе, несомненно, произойдет).
Турецкое руководство, взяв курс на построение «новой Османской империи», опередило события, приступив к постепенной исламизации политической и общественной жизни в стране. Оттесняя армию от власти под лозунгами демократии и борьбы с коррупцией, правящая партия провела необходимые конституционные изменения парламентским путем, подавив в зародыше очередной военный путч. Экономические успехи Турции позволяют ей действовать без оглядки на Европейский союз и Соединенные Штаты. А участие в НАТО в качестве второй по мощи армии этого блока дает свободу маневра, в том числе в иракском Курдистане и в отношениях с Израилем, значительно охладившихся после инцидента с «Флотилией свободы». При этом страна расколота по национальному признаку (курдский вопрос по-прежнему актуален), светская оппозиция правящей Партии справедливости и развития сильна, а в руководстве армии продолжается брожение. Однако, какие бы факторы (или их сочетание) ни спровоцировали антиправительственные волнения, триумвират премьера, президента и министра иностранных дел сохраняет достаточный ресурс для реализации планов экономической и дипломатической экспансии в Африке, исламском мире и Восточной Европе. Турция с большим основанием, чем Иран, претендует на статус региональной сверхдержавы, имея для этого необходимый потенциал, не отягощенный, в отличие от ИРИ, внешними конфликтами.
Сирийская стабильность опирается на сотрудничество с Турцией и Ираном, при улучшении отношений с США и странами ЕС. Правящая алавитская военная элита во главе с Башаром Асадом балансирует между арабами-суннитами и арабами-христианами, подавляя курдов и используя деловую активность армян. Однако в случае резкого усиления египетских «Братьев-мусульман» в Сирии не исключены волнения, наподобие подавленных большой кровью Хафезом Асадом в 1982 г., которые способны ослабить или обрушить режим. Последний усилил свои позиции в Ливане, но обстановку в самой Сирии осложняет присутствие там иракских (до 1 млн) и в меньшей мере палестинских (до 400 тыс.) беженцев.
Ливан после падения правительства Саада Харири переживает собственный кризис, вызванный противостоянием сирийского и саудовского лобби (последнее, поставив на конфронтацию с Дамаском, проиграло). Не исключено постепенное сползание в гражданскую войну, в качестве ведущей силы в которой будет выступать «Хезболла» шейха Насраллы. Роль детонатора конфликта могут, как и в 1975–1978 гг., сыграть заключенные в лагеря палестинские беженцы (более 400 тыс.).
На Аравийском полуострове катастрофическая ситуация сложилась в Йемене, почти неизбежный распад которого после отстранения от власти президента Али Абдаллы Салеха, правящего в Сане с 1978 г. и контролирующего Южный Йемен с 1990 г., может спровоцировать необратимые процессы в Саудовской Аравии. На территории Йемена столкнулись интересы Ирана и США, Катара и Саудовской Аравии. Эта страна – не только родина многих бойцов «всемирного джихада» (корни Усамы бен Ладена – в Йемене), но настоящий «котел с неприятностями». Конфликт между президентом и племенами, категорически отвергшими попытку передать власть по наследству, напоминает схожую проблему в Египте. Однако противостояние южан-шафиитов и северян-зейдитов, усиленное недовольством отстраненной от власти и обделенной благами бывшей военной элиты юга – местная специфика.
Йемен – первая страна БСВ, которая способна развязать с соседней Саудовской Аравией «водную войну». В ближайшее время Сана рискует стать первой столицей мира с нулевым водным балансом, тем более что ряд исторических йеменских провинций был аннексирован саудовцами в начале ХХ века. Дополнительным фактором риска является нищета поголовно вооруженного населения, которое находится под постоянным воздействием местного наркотика «кат». Не стоит гадать, смогут ли 25,7 млн саудовцев, большая часть которых в жизни не брала в руки оружия, противостоять 23,5 млн йеменцев, большинство которых на протяжении всей жизни оружия из рук не выпускало. Способность саудовской элиты, правящая верхушка которой по возрасту напоминает советское Политбюро 1980-х гг., контролировать ситуацию иначе, чем через подкуп воинственных племен на южных границах и радикалов из «заблудшей секты» внутри страны, сомнительна. С учетом значения пролива Баб-эль-Мандеб воздействие потенциального конфликта между Йеменом и Королевством Саудовская Аравия или гражданской войны в Йемене на мировой рынок энергоносителей сравнимо с перекрытием Суэцкого канала. В отсутствие на президентском посту человека, способного сменить генерала Салеха, а такого человека в Йемене, в отличие от Египта, нет, страна рискует стать такой же пиратской территорией, как Сомали, тем более что сотни тысяч сомалийских беженцев и так уже живут на его территории.
Какие последствия обрушение правящего режима в Йемене вызовет в ибадитском Омане, где правящий страной с 1970 г. султан Кабус бен Саид не имеет наследников, и малых монархиях Персидского залива, предсказать трудно. Балансируя между Соединенными Штатами (военные базы в Кувейте, Катаре и на Бахрейне), Великобританией (присутствие в Омане) и Францией (анонсировавшей строительство военной базы в ОАЭ), с одной стороны, Ираном (конфликт с ОАЭ и Бахрейном), с другой, и Саудовской Аравией – с третьей, все эти страны на случай возможной войны наладили неофициальные отношения с Израилем. Израильские опреснительные установки, агрокомплексы и системы обеспечения безопасности стратегических объектов, без указания страны-производителя или с указанием зарубежных филиалов израильских фирм – столь же обычное явление на южном берегу залива, как иранские суда в местных портах, иранские счета в банках и иранцы в деловых центрах. Оман пребывает в самоизоляции, усиленной раскрытием исламистского заговора, в организации которого Маскат обвинил ОАЭ.
Кувейт не оправился от последствий иракской оккупации 1990–1991 годов. Влияние Бахрейна ограничено нелояльностью шиитского большинства населения суннитской династии. Экономический кризис ослабил ОАЭ, особенно Дубай, обрушив «пирамиду недвижимости», на которой в последние годы было основано его благополучие. Свое политическое влияние укрепляет лишь умеренно ваххабитский Катар, обладатель третьего в мире газового запаса. В качестве медиатора региональных конфликтов он успешно соперничает с такими гигантами арабского мира, как Египет и Саудовская Аравия. Главное оружие катарского эмира в борьбе за доминирование на межарабской политической арене – «Аль-Джазира», эффективность которой доказывает ее запрет в Египте, где телеканал в немалой мере способствовал «раскачиванию лодки». Но этот инструмент может оказаться бесполезным в случае перенесения беспорядков на территорию самого Катара. При этом главным фактором нестабильности в монархиях Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, могут стать иностранные рабочие, в ряде стран многократно превосходящие их граждан по численности.
Еще одним дестабилизирующим фактором для полуострова является его близость к Африканскому Рогу, на побережье которого сосредоточены самые бедные, охваченные междоусобицей и полные беженцев страны: Эритрея, Джибути и пиратское Сомали, распавшееся на анклавы, крупнейшими из которых являются Пунталенд и Сомалиленд. Исламисты из движения «Аш-Шабаб» и других радикальных группировок – единственная сила, способная объединить эту страну, подчинив или уничтожив полевых командиров, подобно тому как талибы в свое время проделали это в Афганистане. Пугающая перспектива, особенно на фоне полнейшего банкротства мирового сообщества в борьбе с пиратами, бесчинствующими на все более широкой акватории Индийского океана. Не стоит забывать и о проблеме границ, обширный передел которых неизбежен после бескровного распада Судана. Север Судана в ближайшей исторической перспективе может объединиться с Египтом, особенно в случае исламизации последнего. Не случайно лидер суданских исламистов Хасан ат-Тураби опять арестован властями.
Волнения в Тунисе и Египте грозят самым прискорбным образом сказаться на ситуации в Алжире, вялотекущая гражданская война в котором идет с 1992 года. Президент Абдулазиз Бутефлика стар, конфликт арабов с берберами так же актуален, как и десятилетия назад, а исламисты никуда не делись. Под угрозой стабильность в Марокко, на территории которого еврейские и христианские святыни являются для «Аль-Каиды» Магриба столь же легитимными объектами атаки, как и иностранные туристы. Мавритания, где число рабов, по некоторым оценкам, достигает 800 тыс., находится в полосе военных путчей и восприимчива к любым революционным призывам.
Не стоит забывать и о том, что экспрессивный Муамар Каддафи в Ливии правит с 1969 г. и легко может стать жертвой «египетского синдрома». Тем более что собственных сыновей в руководство страны он продвигает не менее настойчиво, чем Мубарак и Салех, а поддержкой на Западе и в арабском мире пользуется куда меньшей.
Единственным, хотя и слабым утешением в сложившейся ситуации может служить то, что региональное потрясение основ ничем не угрожает Ираку, Афганистану или Пакистану. Первые два давно уже не столько государства, сколько территории. Последнему же, с исламистами в Северо-Западной провинции и Пенджабе, пуштунскими талибами в зоне племен, сепаратистами Белуджистана и Синда и противостоянием правительства, армии и судебной власти, для развала достаточно и одного Афганистана. После чего его внушительные ядерные арсеналы пойдут на «свободный рынок», а мировое сообщество получит куда более значимый повод для беспокойства, чем судьба палестинского государства или правителя отдельно взятой арабской страны, даже если эта страна – Египет.
Констатируем напоследок, что падающее влияние на БСВ великих держав создает вакуум, часть которого в Афганистане заполнит Дели. На всей прочей территории, включая и Афганистан, усилится влияние Пекина. Как следствие, состав игроков и распределение сил на Ближнем и Среднем Востоке в XXI веке будет более напоминать XVII, чем ХХ столетие. Что соответствует теории циклического развития истории, хотя и несколько обидно, если рассматривать это через призму интересов Парижа, Лондона, Брюсселя или Вашингтона.
Е.Я. Сатановский – президент Института Ближнего Востока.

Валютные войны
Кто оплатит выход из кризиса?
Резюме: Инструменты, имеющиеся у мирового сообщества для урегулирования валютного спора между США и Китаем, весьма ограничены. При неблагоприятном сценарии конфликт выльется в общий рост протекционизма. В случае второго витка долгового кризиса он приобретет геополитическое измерение.
«Сегодня, как и в прошлом, обострение экономических и финансовых проблем приводит к нарушению социального равновесия, подрыву демократии, падению доверия к институтам, и может перерасти в войну – гражданскую или международную».
Доминик Стросс-Кан, директор-распорядитель МВФ, 8 декабря 2010 года
В 1990-е гг. Международный валютный фонд с подачи Соединенных Штатов настойчиво рекомендовал странам с переходными экономиками привязывать обменные курсы к сильным и устойчивым мировым валютам, то есть к американскому доллару. Жесткие курсы минимизировали валютные риски зарубежных инвесторов и таким образом стимулировали приток иностранных капиталов, особенно в страны Юго-Восточной Азии.
В середине десятилетия США подняли ставки для борьбы с инфляцией. Чтобы удержать фиксированные курсы, развивающиеся страны были вынуждены тоже поднять ставки. Их валюты стали дорожать, что тормозило экспорт и увеличивало внешнюю задолженность. В 1997 г. на фоне обрушения тайского бата, индонезийской рупии, филиппинского песо и малайзийского ринггита Юго-Восточная Азия оказалась во власти сильнейшего финансового кризиса.
Понесенный ущерб фактически был той ценой, которую страны региона заплатили за одностороннее приспособление к денежно-кредитной политике Вашингтона. Теперь, 15 лет спустя, угроза односторонней адаптации нависла над Соединенными Штатами. Огромный дисбаланс по внешним расчетам, особенно с Китаем, делает американцев зависимыми от курса юаня. Впервые в современной истории страна – эмитент главной мировой валюты борется за проведение независимой экономической политики. До сих пор это право принадлежало ей безоговорочно и безраздельно.
Линия фронта
После окончания острой фазы кризиса главным стал вопрос о том, кто заплатит за восстановление экономического роста. Средства платежа определены заранее – безработица и снижение уровня жизни.
По официальным данным, рецессия в США закончилась в середине 2009 года. В четвертом квартале 2009 г. и в первом квартале 2010 г. ВВП рос со скоростью 4–5% годовых. Но во втором и третьем кварталах, когда отменили фискальные стимулы, темпы упали до 2% годовых. А этого явно недостаточно для сокращения безработицы, которая за время кризиса увеличилась вдвое – с 5 до 10% рабочей силы. Из потерянных к концу 2009 г. 8,4 млн рабочих мест за последующие три квартала удалось восстановить только 900 тысяч.
В начале ноября руководство Федеральной резервной системы (ФРС) объявило о втором этапе количественного смягчения: до конца второго квартала 2011 г. планируется скупить казначейских облигаций на общую сумму в 600 млрд долларов. Глава ведомства Бен Бернанке, выступая 19 ноября во Франкфурте-на-Майне, так объяснял это решение: «При нынешней траектории экономического развития Соединенные Штаты подвергаются риску иметь на протяжении многих лет миллионы безработных… Как общество мы должны признать этот выход неприемлемым». Согласно позиции ФРС, поддержка экономического роста в США вносит вклад в общий рост мировой экономики, а также повышает устойчивость доллара, который играет ключевую роль в международной валютно-финансовой системе.
Правда, ФРС умалчивает, что дальнейшая накачка долларовой ликвидности способствует долговременному обесценению доллара. А также о том, что дополнительная эмиссия всегда ведет к инфляции, и только страна с доминирующей в мире валютой может, по меткому выражению французского экономиста Жака Рюэффа, позволить себе «дефицит без слез». ФРС привычно рассчитывает на то, что новая порция избыточной долларовой массы будет размазана по миру, и потому не вызовет всплеска цен в самих Соединенных Штатах. То есть в денежно-кредитной политике Вашингтон действует по праву сильнейшего игрока: защищает национальные интересы и не слишком беспокоится об интересах партнеров.
Но есть сфера, где эта независимость уже нарушена. Речь идет о хроническом дисбалансе внешних расчетов США по текущим операциям, в том числе о значительном превышении импорта над экспортом (Рис. 1). В 2008 г. отрицательное торговое сальдо превысило 800 млрд долларов, увеличившись с 2001 г. вдвое. За тот же период времени дефицит в торговле с Китаем вырос в 3,2 раза, а доля КНР в данном показателе поднялась с 20 до 32%. Уже в 2004–2005 гг. Соединенные Штаты всерьез озаботились проблемой недооцененного курса юаня и начали требовать от Пекина его ревальвации. Американская позиция нашла поддержку на встречах министров финансов G7. Результатом этой кампании стало то, что Народный банк Китая (НБК), то есть центробанк, официально перешел от фиксированного курса юаня к управляемому плаванию.
Рис. 1. Баланс США по торговле товарами в 2001–2010 гг., млрд долл.

Примечание: 2010 г. – данные за 10 месяцев. Источник: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division
В июле 2005 г. обменный курс, находившийся долгие годы на отметке 8,28 юаня за 1 доллар, повысился до 8,11. Следующие три года он плавно рос и в сентябре 2008 г. достиг 6,82 юаня за доллар. В общей сложности за это время юань подорожал на 20%. Дальше случился глобальный кризис. Инвесторы стали уходить из валют развивающихся стран в доллары, считавшиеся самым надежным вложением. Хотя США находились в эпицентре кризиса, доллар испытал повышательное, а не понижательное давление рынков – исключительно благодаря статусу главной мировой валюты. Соответственно, укрепление юаня к доллару прекратилось, но, в отличие от многих других валют развивающихся стран, юань не обесценивался. Полтора года курс стоял на месте, а летом 2010 г. наметилось новое, очень осторожное повышение.
По итогам 2009 г. Соединенные Штаты значительно сократили импорт – с 2,1 до 1,6 трлн долларов, что позволило на 40% уменьшить дефицит торгового баланса – с 840 до 500 млрд долларов. В торговле с Китаем успех был минимальным, в результате на него пришлось чуть менее половины всего внешнеторгового сальдо США. Данные за десять месяцев 2010 г. немного лучше, но общей картины они не меняют. Американские власти убедились, что они могут сократить дефицит по внешним расчетам, но, увы, не с Китаем. Поднять пошлины на китайские товары или ограничить их ввоз количественно не позволяют правила ВТО. Остается только заставить Пекин ревальвировать юань. Для этого Вашингтону нужна широкая международная поддержка, особенно в лице МВФ и «Большой двадцатки».
На последнем саммите G20, состоявшемся 11–12 ноября 2010 г. в Сеуле, вопросам курсообразования придавалось первостепенное значение. В принятом совместном плане действий на первом месте значатся меры, призванные «обеспечить дальнейшее восстановление и устойчивый рост [мировой экономики], а также повысить стабильность финансовых рынков, в особенности за счет движения к рыночным системам курсообразования и поощрения гибкости валютных курсов». Участники саммита заявили о стремлении «воздерживаться от конкурентных девальваций». Развитым странам с резервными валютами было рекомендовано «избегать излишней волатильности и беспорядочных колебаний обменных курсов».
Саммит ясно обнаружил две точки зрения на происходящее в мировой валютной системе – развитых и развивающихся стран. У первых (главным образом в лице Соединенных Штатов) вызвал недовольство заниженный курс юаня и то, что были девальвированы некоторые другие валюты быстро растущих экономик. Вторые обеспокоены сильными колебаниями курсов доллара и евро, а также безответственной, по их мнению, денежно-кредитной политикой Вашингтона. И тех и других курсы валют волнуют по той причине, что в них сегодня уперся вопрос о глобальной стратегии возобновления экономического роста. То есть о том, какие страны будут на выходе из кризиса руководствоваться исключительно национальными интересами, а каким придется приспосабливаться к политике более сильных игроков. Важны не курсы сами по себе, а то, кто сможет навязать свою волю партнерам и переложить на них плату за восстановление мировой экономики.
Пекин, как и следовало ожидать, полностью отвергает обвинения США в заниженном курсе юаня. Согласно официальному заявлению, с 19 июня 2010 г. НБК перешел к более гибкому режиму курсообразования. Он также начал кампанию по подготовке китайских предприятий и банков к более частым и значительным колебаниям юаня. Экспортерам рекомендуется переключаться с трудо- и ресурсоемких производств на выпуск технологически сложных изделий, а также вкладывать средства в сферу услуг. Считается, что ее развитие позволит нарастить емкость внутреннего рынка, снизить зависимость от внешних рынков и создать множество рабочих мест.
Заместитель управляющего НБК Ху Сяолянь в заявлении, сделанном 30 июля 2010 г., главными целями экономической политики страны назвала экономический рост, полную занятость, ценовую стабильность и баланс расчетов НБК. По ее словам, «реформа режима обменного курса продемонстрировала международному сообществу приверженность Пекина задаче достижения глобального экономического баланса и обеспечения более благоприятного международного климата», притом что «плавающий курс юаня характеризует Китай как …ответственного участника мирового сообщества». Словосочетание «валютные войны» в официальных материалах НБК по понятным причинам не упоминается.
Куда более свободно и напористо выражает свои мысли Сяо Ган, председатель Совета директоров Банка Китая, одного из крупнейших коммерческих банков страны, бывшего до недавнего времени государственным. Его двухстраничная статья «Валютная война без победителей», опубликованная 12 ноября 2010 г., производит впечатление внешнеполитического ультиматума. Первый абзац звучит отрывисто, как выстрел: «Перекладывание государственного долга на другие страны, блокирование китайских инвестиций и ограничение экспорта нанесут ущерб восстановлению мировой экономики».
Федеральная резервная система Соединенных Штатов прямо называется «главной силой, подрывающей доллар», а политика денежного смягчения – опасной. «При процентных ставках, близких к нулю, страна снова печатает деньги, проталкивая их на американские рынки, откуда они растекаются по всему миру. В результате доверие к доллару подрывается, инфляционные ожидания растут, а цены на сырьевые товары бьют новые рекорды. Еще хуже то, что обесценение доллара уже негативно сказалось на экономике и валютах других стран, которые в ответ вынуждены ограничивать движение капитала или проводить интервенции на валютных рынках». По словам господина Сяо, США проводят политику разорения соседа, пытаясь интернационализировать госдолг, образовавшийся вследствие национализации частных долгов в период кризиса.
Особенно показательной является фраза, брошенная как будто невзначай, хотя в этом манифесте нет ни одного случайного слова: «Распределение накопленного долга по миру путем ослабления доллара заставит другие страны принять меры по защите своих валют, и, в конечном счете, изолирует доллар от тех, кто им пользуется. Поэтому Соединенным Штатам следует воздержаться от второго этапа количественного смягчения» (курсив мой. – О.Б.). Устами Сяо Гана Пекин сообщает Вашингтону, что век доллара не бесконечен, что его судьба зависит от доброй воли миллионов рядовых участников рынка, которых никто не может заставить использовать ту или иную валюту для заключения сделок. О том, что будет с курсом доллара, если Китай начнет диверсифицировать свои официальные резервы, достигающие 2,6 трлн долларов, говорить не приходится.
За китайской стеной
Действующий в Китае режим обменного курса власти именуют регулируемым плаванием, однако МВФ расценивает его как фиксированный – исходя из реального движения котировок. Возникает вопрос: почему Китай не переходит к свободному плаванию, то есть к курсу, который бы целиком определялся спросом и предложением на валютном рынке? Попытаемся ответить.
В финансовой сфере любая страна сталкивается с «магической триадой»: фиксированный курс, автономия денежно-кредитной политики и либеральный режим движения капиталов. Из трех условий можно выбрать только два, третьим приходится жертвовать. Когда центральный банк повышает или понижает ставку рефинансирования (иначе – учетную ставку), это приводит к соответствующему повышению или снижению всех остальных процентных ставок в экономике и заодно – доходности ценных бумаг с плавающим процентом. Зарубежным инвесторам становится более или менее выгодно, чем раньше, вкладываться в местную валюту. При росте процентной ставки их спрос на валюту растет, а при падении – падает. Приток или отток капиталов в страну толкает вверх или вниз курс местной валюты. То есть при свободном движении капиталов процентная политика самым прямым образом воздействует на обменный курс.
На практике это выливается в три возможные схемы. Первая – фиксированный курс плюс независимая денежно-кредитная политика и минус свободное движение капиталов. Именно эту схему практикует сегодня Китай. Вторая – фиксированный курс плюс свободное движение капиталов и минус независимая денежно-кредитная политика. Данная комбинация наиболее уязвима, поскольку денежные власти теряют возможность проводить антициклическое регулирование экономики. В периоды кризиса они обязаны любой ценой держать валютный курс, жертвуя интересами реального сектора. Именно это произошло в 2008–2009 гг. со странами Балтии, чьи национальные валюты были привязаны к евро в рамках механизма обменных курсов – 2 (МОК-2). Не случайно Эстония с 1 января 2011 г. поспешила перейти на евро, чтобы, наконец, освободить национальную экономику от валютного пресса. Третья схема – плавающий курс плюс независимая денежно-кредитная политика и свободное движение капиталов. Ее придерживаются все промышленно развитые страны и, естественно, эмитенты резервных валют.
При всем многообразии режимов обменного курса (валютное управление, фиксированный курс, валютный коридор, управляемое плавание и свободное плавание) главные баталии разворачиваются вокруг выбора между фиксированным и плавающим курсом. Их влияние на макроэкономическую политику одним из первых описал американский экономист Милтон Фридман, который еще в начале 1950-х гг. показал несостоятельность Бреттон-Вудской системы фиксированных курсов. Выкладки Фридмана подразумевали свободное движение капиталов, однако до начала 1990-х гг. почти все страны сохраняли валютные ограничения, а технические возможности систем трансграничных расчетов оставались весьма скромными. Рост информационных технологий, переход социалистических и развивающихся стран к открытой рыночной экономике, а также повсеместная отмена валютных ограничений радикально изменили обстановку на финансовых рынках.
Первый звонок прозвучал в 1992–1993 гг., когда под ударами спекулянтов были девальвированы фунт стерлингов, итальянская лира, шведская крона и еще несколько европейских валют. Валютный коридор, в рамках которого они привязывались к ЭКЮ (официально он именовался механизмом совместного плавания), оказался ненадежным укрытием в условиях развитых и подвижных финансовых рынков. Экономисты заговорили о том, что половинчатым решениям в курсовой политике приходит конец. Это только укрепило решимость стран ЕС перейти к единой валюте, незадолго до этого провозглашенной Маастрихтским договором. После кризисов в Юго-Восточной Азии и России 1997–1998 гг. вопрос о том, быть ли курсу фиксированным или плавающим, окончательно перебрался из учебников экономической теории на торговые площадки и в правительственные кабинеты.
С этого момента в мировой структуре валютных режимов началось вымывание середины. На Рис. 2 показано, как менялось число стран, практикующих различные валютные режимы. Для корректного сравнения из статистики исключены 34 страны с населением менее 1 млн человек (29 из которых имеют фиксированные курсы) и 14 государств Западноафриканского и Центральноафриканского валютных союзов (ЗАВС, ЦАВС). По данным МВФ, из оставшихся почти 140 стран в 1996 г. де-факто фиксированный курс имели 26, а в 2010 г. – уже 45. Число стран со свободным плаванием возросло за указанное время с 53 до 66. Правда, в 2009 г. МВФ изменил методику классификации валютных режимов, что добавило очков данной категории. Количество государств, практикующих смешанные режимы (валютные коридоры и управляемое плавание), сократилось в два с лишним раза – с 55 до 25.
Рис. 2. Режимы обменных курсов стран МВФ с населением более 1 млн человек в 1996–2010 гг.
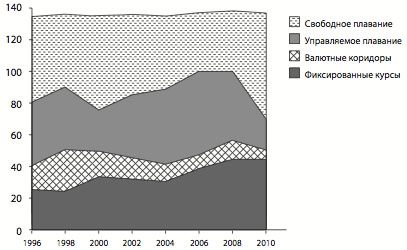
Примечание. МВФ дает сведения о реальных, а не декларируемых странами курсовых режимах. В группу стран с фиксированными курсами включены государства, практикующие также режим валютной палаты и официально отказавшиеся от национальных денежных единиц.
Источник: IMF Annual Report за соответствующие годы
Как видно, сегодня мировая практика не дает однозначного ответа в пользу свободного плавания. Да, его применяют все промышленно развитые страны и многие государства с формирующимися рынками, в том числе Мексика, Аргентина, Колумбия, Чили, Индонезия, Филиппины, Таиланд, Турция, Венгрия и Польша. Тем не менее, число стран, считающих необходимым избавить свой бизнес и население от валютных колебаний, неуклонно растет. Кроме Китая, к этой группе в 2010 г. относились, например, Гонконг, Бангладеш, Ирак, Шри-Ланка, Вьетнам, Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Катар, Бахрейн, Иордания, Кувейт, Ливия, Марокко, Намибия, Сирия, Тунис, Боливия, Венесуэла, Дания, Болгария, Латвия, Литва и Эстония. В списке мы видим не только крупный финансовый центр – Гонконг – но и богатых нефтеэкспортеров, а также членов Европейского союза.
Хотя международные институты обычно пропагандируют либеральный режим движения капиталов, его издержки не скрываются. В последнем «Глобальном докладе о финансовой стабильности», опубликованном МВФ в апреле 2010 г., говорится, что приток капиталов в страну расширяет базу для финансирования экономики, особенно в странах с недостаточными сбережениями, и содействует развитию финансовых рынков. Если же реальный сектор неспособен принять значительные объемы поступающих в страну инвестиций, это приводит к неадекватному расширению внутреннего спроса, перегреву экономики, инфляции и повышению реального обменного курса национальной валюты. Массированный приток капиталов «может также вызвать вздутие цен на фондовые активы и повышение системных рисков в финансовом секторе – в отдельных случаях даже при надлежащем надзоре и эффективной работе регуляторов». Далее эксперты МВФ честно признают, что эффективность контроля над движением капиталов оказывается тем выше, чем дольше он действует. Иначе говоря, сняв ограничения однажды, их нельзя ввести вновь, рассчитывая на прежний результат.
То есть фиксированный курс юаня вкупе с ограниченным движением капиталов необходимы Китаю для того, чтобы обеспечить управляемость национальной экономики. Легко представить, как это важно для страны с огромным населением, низким уровнем жизни и не поддающейся подсчету безработицей (по разным оценкам, она составляет от 30 до 150 млн человек). Сменив парадигму, Пекин улучшит условия для выхода из кризиса Соединенных Штатов, но оставит без тормозов собственную экономику. Возможно, через несколько лет обстоятельства изменятся, и страна проведет полную либерализацию валютной сферы. Но сейчас цена такого перехода была бы необоснованно высокой.
Мирные переговоры
Международная финансовая архитектура нуждается в коренной перестройке, с этим согласны все. Специалисты даже говорят о третьем Бреттон-Вудсе. Подразумевается, что действующая с 1971 г. система будет заменена на что-то кардинально иное. Главные направления реформы хорошо известны: изменение правил МВФ и его политики регулирования текущих балансов, совершенствование надзора за финансовыми рынками и использованием новых инструментов, учет возросшей роли развивающихся стран в мировых финансах, увязка действий МВФ и ВТО с тем, чтобы не допустить роста протекционизма.
Движение к новой системе займет несколько лет, возможно, десять и более. А решать вопрос конкурентных девальваций предстоит сейчас. Какие же для этого имеются средства?
Надо сказать, что вопрос о «правильном» обменном курсе – один из самых загадочных в современной экономике. Есть мнение, что, пока в ходу были монеты из благородных металлов, их обмен не вызывал проблем. Но это не так. Первые монеты появились в VI в. до н. э., а уже в III–II вв. до н. э. в Риме внутреннее денежное обращение было отделено от внешнего. В пределах государства ходили денарии и тяжелые бронзовые отливки полновесной монеты – aes grave. Для нужд внешней торговли чеканились монеты из серебра и легкой меди, не имевшие в самой метрополии официального статуса. Во второй половине XIX века большинство стран мира перешло с серебряного стандарта на золотой. Международная торговля велась исключительно на золото, а позже – на переводные векселя в фунтах стерлингов. Так или иначе, до краха Бреттон-Вудской системы обменные курсы базировались на золотом содержании валют.
Когда в 1971 г. это мерило исчезло, на первый план вышла концепция паритета покупательной способности (ППС), разработанная шведским экономистом Густавом Касселем. Согласно ей, валютный курс уравнивает количество товаров и услуг, которые можно приобрести за данную денежную единицу в стране-эмитенте и в другой стране после конвертирования. Увы, на практике ППС почти никогда не соблюдается. Известно, что за один доллар в Индии можно купить намного больше товаров, чем в Швейцарии. Внутренние цены сильно зависят от цен на местное сырье, топливо и рабочую силу. А поскольку в международную торговлю попадает не более трети всех производимых в мире товаров и услуг, то валютный курс не может и не должен отражать общего соотношения цен между странами. Как правило, обменные курсы развивающихся стран отклоняются вниз от ППС, а развитых – вверх (Рис. 3).
Рис. 3. Отношение номинального курса национальных валют к паритету покупательной способности в 2009 году
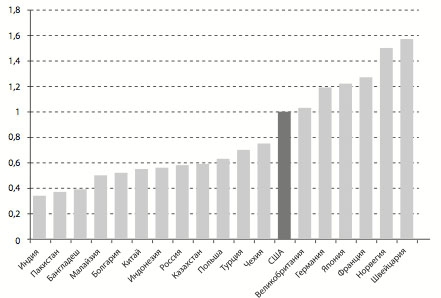
Примечание: рассчитано на основе вмененного курса международного доллара, используемого МВФ. Источник: World Economic Outlook Database, IMF
По данным МВФ, в 2009 г. текущий курс юаня составлял 55% от ППС, что находилось в одном ряду с показателями других развивающихся стран Азии. В России курс равнялся 58%, а в Польше – 63% ППС. Приведенные цифры не позволяют утверждать, что курс юаня в настоящее время занижен. Точно так же, как нельзя считать завышенными курсы норвежской кроны и швейцарского франка, хотя они в полтора раза выше ППС. Здесь уместно вспомнить девальвацию рубля в августе 1998 года. Кризис наступил в момент, когда курс поднялся до 70% ППС. По мнению многих аналитиков, для России – страны с переходной экономикой – данный уровень был завышен и не соответствовал рыночным реалиям. То, что сейчас курс рубля находится на более низкой отметке по отношению к ППС, усиливает эмпирическое обоснование данного утверждения.
Кроме ППС, существует несколько моделей равновесного курса. Их цель – рассчитать, при каком курсе экономика страны будет находиться в состоянии внутреннего и внешнего равновесия. Речь идет о нулевом или минимальном сальдо баланса по текущим расчетам, низкой инфляции, минимальной безработице и устойчивых темпах роста. Хотя данные модели позволяют выяснять, какой уровень курса лучше отвечает задачам экономического развития конкретной страны, они непригодны для международных сравнений. Тем более с их помощью невозможно измерить «справедливость» курсовых соотношений.
Трудно себе представить, как мировое сообщество могло бы заняться урегулированием валютного конфликта между США и Китаем, перейди он в острую фазу. Величина искомого курса неизвестна, а инструменты воздействия на участников поединка крайне ограничены. Да, G20 рекомендовала странам с активными балансами текущих расчетов наращивать внутренний спрос, а странам с пассивными балансами увеличивать размер сбережений и стимулировать экспорт. Начать первым, конечно, не захочет никто. Вернее, обе стороны осуществят небольшие подвижки, не противоречащие их текущим интересам. Китай, например, уже неоднократно повышал ставку рефинансирования и норму обязательного резервирования.
Решения G20 не имеют обязательной силы, и проведение их в жизнь зависит от приверженности участников общим целям. Средства принуждения возникают у МВФ, но только когда страна обращается к нему за кредитом. Изначально фонд создавался для помощи развивающимся и бедным странам на случай, если их отрицательное сальдо по внешним расчетам ведет к резкому обесценению национальной валюты. Механизмы МВФ не рассчитаны на то, чтобы заставить страну с главной мировой валютой восстановить баланс внешних расчетов или прекратить кредитную экспансию. Точно так же фонд не обладает полномочиями на случай заниженного курса валюты при большом профиците торгового баланса. То есть конфликт США и Китая выходит за пределы мандата МВФ. Тем более им не хочет и не будет заниматься ВТО, хотя некоторые склонны толковать конкурентные девальвации как необоснованные преимущества национальным экспортерам.
Еще один широко обсуждаемый выход – возвращение (частичное или полное) к золотому стандарту. С началом кризиса тема приобрела всемирную популярность, в России же с ностальгией стали вспоминать золотой червонец периода НЭПа. 8 ноября 2010 г. новостные ленты многих стран сообщили, что глава Всемирного банка Роберт Зеллик предложил привязать валюты ведущих экономик мира к золоту. Ничего подобного профессиональный экономист сказать, конечно, не мог. Дословно Зеллик заявил следующее: «Двадцатке следует дополнить ее программу восстановления экономики планом построения валютной системы, работающей на принципах взаимопомощи и отражающей экономические условия стран с формирующимися рынками. В новую систему, как представляется, нужно включить доллар, евро, иену, фунт и юань… Следует также рассмотреть возможность использования в данной системе золота как международного ориентира рыночных ожиданий в отношении инфляции, дефляции и будущей стоимости валют». В действительности возвращение к золоту невозможно, поскольку на этом пути лежит несколько непреодолимых препятствий.
Первое – золота недостаточно для того, чтобы обеспечить растущие потребности мировой экономики. Если курс валют будет жестко фиксирован к золоту, выпуск каждой новой банкноты должен будет сопровождаться новой порцией желтого металла, положенного в государственное хранилище. С 2004-го по март 2010 г. объем золота в резервах стран МВФ сократился с 898 до 871 млн унций (примерно с 28 до 27 тыс. тонн). Ежегодная мировая добыча золота держится в последние годы на уровне 2,5 тыс. тонн и не увеличивается, несмотря на рост цен. Почти половину названного объема добывают пять стран: Китай, Австралия, ЮАР, США и Россия (автор благодарит пользователя журнала old-pferd.livejournal.com за дискуссию и консультацию по вопросам добычи золота).
Отношение добычи к резервам составляет 9%, а ежегодный прирост денежной массы – не менее 6–8% (исходя из 4–5-процентного прироста ВВП и 2–3-процентной инфляции). Иначе говоря, привязав сегодня все валюты мира к имеющемуся золоту, мир очень скоро столкнется с его нехваткой для обеспечения нормального денежного оборота. И это при условии, что вся добыча пойдет в хранилища центробанков.
Вторая причина коренится в показанной выше взаимосвязи денежно-кредитной и валютной политики. При курсе, фиксированном к золоту, странам удастся сохранить свободное движение капиталов, только если они откажутся от проведения независимой денежно-кредитной политики. Другими словами, возвращение к золотому стандарту означало бы, что все страны переходят к режиму валютной палаты (currency board), при котором ЦБ фактически не может проводить антициклическую политику. Что станет при золотом стандарте с межбанковскими ставками, вообще трудно себе представить. Не исключено, что денежные рынки тихо отомрут.
Третья причина – золото не только денежный, но и обыкновенный промышленный товар. Спрос на него предъявляют ювелирная промышленность, а также электронная, электротехническая, космическая и передовое приборостроение. То есть при гипотетической привязке денег к золоту цели денежной политики будут вступать в противоречие с развитием высоких технологий. Коллизия, прямо скажем, не из лучших.
Общие выводы, которые следует сделать мировому сообществу, включая Россию, сводятся к следующим тезисам:
Трансформация мировой валютной системы в сторону многополярности, начавшаяся с введения в 1999 г. единой европейской валюты, медленно набирает силу. Участие в нынешнем валютном конфликте первой и третьей по величине ВВП стран мира придает происходящему важное геополитическое звучание.
Конфликт еще раз высвечивает проблемы, с которыми сталкиваются промышленно развитые страны ввиду усиливающейся глобализации. В последнее десятилетие они поддерживали экономический рост и уровень благосостояния во многом за счет увеличения государственного долга. Теперь этот источник близок к исчерпанию, а противоречие между экономическими центрами с разной стоимостью рабочей силы и разными системами социального обеспечения приобретает новые формы.
России следует максимально осторожно подходить к дальнейшей либерализации ее валютного режима и режима движения капиталов. Не исключено, что в ближайшее время отдельные страны начнут усиливать контроль над этой сферой, особенно если политика денежного смягчения в США усугубит волатильность курсов главных валют и мобильность спекулятивных капиталов.
Инструменты, имеющиеся у мирового сообщества для урегулирования валютного спора между Соединенными Штатами и Китаем, весьма ограничены. При благоприятном сценарии конфликт останется латентным. При неблагоприятном – выльется в общий рост протекционизма. Многое будет зависеть от того, насколько странам Запада удастся снизить уровень государственной задолженности. При втором витке долгового кризиса он приобретет геополитическое измерение.
О.В. Буторина – д. э. н., профессор, заведующая кафедрой европейской интеграции, советник ректора МГИМО (У) МИД России, член научно-консультативного совета журнала «Россия в глобальной политике».

Очень своевременный противник
© "Россия в глобальной политике". № 3, Май - Июнь 2005
В.Л. Иноземцев – д. э. н., главный редактор журнала «Свободная мысль-XXI».
Резюме «Война с террором» не могла не начаться, потому что политики во всем мире крайне нуждались в «правильном» враге. Такого противника нельзя увидеть; борьба с ним должна продолжаться бесконечно долго.
В хронике разворачивающейся антитеррористической кампании 6 июня 2005 года – примечательный день. Не менее знаменательный, чем 29 июля 2005-го или 12 сентября 2007-го. Неужели между тремя этими датами существует связь? Да, существует. Первую отделяют от 11 сентября 2001 года столько же дней и ночей, сколько минуло за период от нападения Японии на Перл-Харбор до подписания ею акта о безоговорочной капитуляции на борту американского линкора «Миссури». Вторая дата отстоит от сентябрьских событий на такой же отрезок времени, который прошел между вторжением германских войск на территорию СССР и взятием Берлина. Третья же придется на окончание промежутка в шесть лет и один день – ровно столько продолжалась самая кровавая в истории Вторая мировая война.
При этом, к сожалению, ничто не свидетельствует о том, что агрессия в отношении «свободного мира», совершенная осенью 2001-го, отражена столь же эффективно, а противник разгромлен столь же убедительно, как в войне, закончившейся 60 лет назад. Устойчивого сокращения числа террористических атак в мире не наблюдается. Практически невозможно подсчитать, сколько средств расходуется в мире на борьбу с террористической угрозой. Но если предположить, что государства, противостоящие террору, тратят на эти цели 40 % прироста своих военных бюджетов, то соответствующие расходы за 2001–2004 годы составят не менее 400 млрд долларов. При этом события в данной исторической драме развиваются таким образом, что «все прогрессивное человечество» начинает сомневаться: действительно ли необходимо доводить до конца «правое дело», инициированное «коалицией решительных», и так ли уж искренни намерения составляющих ее государств?
К сожалению, сегодня дело зашло слишком далеко. Тем важнее осознать, с чем мы все столкнулись, на что решились, каковы в сложившейся ситуации шансы на успех и у нас самих, и у тех, кого мы поспешно назвали (и стремительно сделали) своими врагами. Это необходимо всем нам.
ПОКАЖИТЕ МНЕ ВРАГА
Понятие «терроризм» не имеет однозначного толкования. Обычно его определяют как любые насильственные действия против гражданского населения, направленные на провоцирование паники и нагнетание чувства страха и незащищенности в обществе, дестабилизацию социальных институтов. По мнению экспертов Государственного департамента США, терроризм – это «предумышленное, политически мотивированное насилие, осуществляемое группировками субгосударственного уровня или нелегальными агентами против невоенных целей, чтобы воздействовать на соответствующую аудиторию». Между тем такое определение крайне редко применяется при оценке происходящих событий; намного чаще за терроризм выдаются преступные действия, которые, строго говоря, не могут и не должны рассматриваться в качестве проявлений террористической активности.
Так, ежедневно в репортажах из Ирака или с Северного Кавказа сообщается о таких «терактах», как подрыв автомобиля у ворот военной базы или расстрел из засады автомашины с военнослужащими. Подобные действия, однако, нельзя считать террористическими в прямом смысле слова, как, скажем, никогда не считались терроризмом вылазки партизан против оккупационных войск. Почему, например, убийство президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова 9 мая 2004 года считается террористическим актом, а убийство германского протектора Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха 27 июня 1942-го – успешной операцией сил Сопротивления? И если стало привычным говорить об убийстве народовольцами российского императора Александра II (1881) как об успехе террористов, то почему никто не рассматривает таким же образом убийство президента США Авраама Линкольна в 1865-м? И это далеко не все возможные вопросы.
Как правило, к террору прибегают три типа политических сил, каждый из которых преследует свои цели.
Во-первых, это социальные движения, не имеющие широкой общественной поддержки; они применяют террористические методы, чтобы вызвать своими действиями бЧльший общественный резонанс. Примерами могут служить «Народная воля» в России конца XIX века, а в XX столетии – итальянские «Красные бригады» в 1970-е годы, «Тупак Амару» в Перу в 1990-е и т. д. В большинстве случаев террористические вылазки не прибавляли этим группировкам симпатий граждан, и правительства успешно их подавляли.
Во-вторых, это движения меньшинств или угнетенных народов, стремящихся к независимости и самоопределению. Посредством террористических актов они пытаются заставить колонизаторов уйти с земли, которую считают исконно своей. Так действовали алжирские террористы во Франции в 50-е годы прошлого века, палестинские террористы в международном масштабе в 1960–1990-е, чеченские боевики в российских городах на протяжении последнего десятилетия. История показывает, что правительства в конце концов вынуждены идти на удовлетворение требований таких группировок.
В-третьих, это религиозные или квазиидеологические движения, целью которых является добиться либо невмешательства в дела тех или иных государств, регионов или религий, либо доминирования своих верований и идеологий над другими религиозными и общественными принципами. От первого, тоже идеологизированного типа они отличаются прежде всего масштабом деятельности и социальной поддержки, а также глубиной идеологических корней. К подобным движениям относятся исламские террористы, объединенные в организованные группы, такие, как, «Аль-Каида», ХАМАС, «Хезболла», «Ансар-аль-Ислам». В первую очередь «война с терроризмом» объявлена именно этим группам и организациям.
Противодействие каждому из названных типов терроризма обеспечивается по-разному. В первом случае это прежде всего максимально эффективное использование сил правопорядка и обычных механизмов борьбы с тяжкими правонарушениями. Террористическая организация, задумавшая, например, убийство известного политика, мало чем отличается от преступной группировки, замышляющей устранение лидера конкурентов. Второй случай более сложен, в частности потому, что Организация Объединенных Наций подтвердила «легитимность использования народами колоний, равно как и народами, находящимися под иностранным владычеством, любых имеющихся в их распоряжении методов борьбы за самоопределение и независимость» (резолюция Генеральной Ассамблеи № 2908 от 2 ноября 1972 года «О применении Декларации о предоставлении независимости странам и народам, находившимся под колониальным владычеством»). Строгое же разграничение легитимной борьбы за самоопределение и того, что сегодня предпочитают называть сепаратизмом, вряд ли возможно. Поэтому основным «оружием» в борьбе с терроризмом второго типа оказываются переговоры со стоящими за ним политическими силами. В свое время ставку на переговоры делал и французский президент Шарль де Голль, решая алжирскую проблему, и английский премьер Тони Блэр в поисках мира в Северной Ирландии. Заметные успехи достигнуты в Испании: в Стране Басков уровень насилия за последние годы понизился в несколько раз. Активизировался и ближневосточный мирный процесс, что связано с приходом к власти нового палестинского лидера Махмуда Аббаса.
И наконец, борьба с третьим типом терроризма, наименее изученным и осмысленным, должна, очевидно, строиться прежде всего на глубоком анализе целей и задач террористов, который, между тем, отсутствует у большинства «борцов против террора».
Итак, вооруженная борьба за самоопределение и национальную независимость, если даже в ней применяются методы, не предусмотренные конвенциями о способах ведения войны (как, например, на Западном берегу реки Иордан, в Чечне или Ираке), не может считаться террором. Не являются примерами терроризма и нападения на военнослужащих оккупационных армий. К террористической активности неправильно относить также отдельные насильственные акции, объектом которых оказываются военные или политические руководители «противника» (к примеру, обстрел багдадской гостиницы, где остановились американские чиновники). Ведь терроризм направлен против гражданского населения, то есть против тех, кто не причастен к политике, спровоцировавшей действия террористов.
Таким образом, война с терроризмом – это скорее миф, созданный современными политиками с целью найти оправдание своим агрессивным стремлениям. Мир нуждается не в объявлении войны непонятному врагу, а в первую очередь в изучении природы террористических движений, мотивов действий террористов, наконец, в определении того, каковы предпосылки устранения этого явления.
Сегодня главную угрозу западный мир усматривает в мусульманском терроризме. Атакуя 11 сентября 2001 года здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона в Вашингтоне, боевики «Аль-Каиды», весьма вероятно, стремились тем самым восславить Аллаха и нанести удар по тем символическим центрам, откуда осуществлялось экономическое и военное вмешательство в дела «правоверных». Более конкретных целей они перед собой, скорее всего, не ставили. (Во многом именно поэтому службы безопасности США и других западных стран не смогли воспрепятствовать нападавшим. Не понимая намерения противника, нельзя предположить, где и каким образом будет нанесен удар.)
Однако последствия террористических актов 11 сентября оказались куда более масштабными, чем те, на которые надеялись их организаторы, движимые только слепой ненавистью к западному миру. Вторжение войск антитеррористической коалиции в Афганистан и – еще в большей мере – американская агрессия в отношении Ирака позволили лидерам «Аль-Каиды» представить «войну с терроризмом» как войну Запада с исламским миром, на что, заметим, имелись веские основания. Как отмечает Джордж Сорос, «объявив войну терроризму и вторгнувшись в Ирак, президент Буш сыграл на руку террористам», и если террористы «ждали от нас той реакции, которая в действительности последовала, то, по-видимому, они понимали нас лучше, чем мы сами понимаем себя». Не менее крупной ошибкой развитых стран стала их готовность рассматривать происходящее на Северном Кавказе и палестинских территориях как битву на фронтах глобальной антитеррористической войны. Тем самым фактически оказались смешаны «в одну кучу» два совершенно разных процесса: с одной стороны, бескомпромиссная борьба исламских фундаменталистов с фундаменталистами западными, а с другой – очевидные, хотя и спорные с политической точки зрения, попытки чеченского и палестинского народов повысить степень своей автономии и суверенитета. Собственно говоря, не столько трагедия 11 сентября, сколько ответные действия Запада создали – практически из ничего – ту глобальную «террористическую коалицию», которой развитой мир мало что может сегодня противопоставить. Эта аморфная структура, а точнее, масса слабо связанных между собой полуавтономных группировок и движений, и есть тот «враг», против которого идет нынешняя «война».
Отсюда возникает, пожалуй, наиболее важный вопрос, которого всячески избегают апологеты «войны с терроризмом»: кто в этой «войне» выступает субъектом, а кто – объектом агрессии? Даже в наиболее сложном случае, ближневосточном, любой непредвзятый наблюдатель засвидетельствует, что Израиль подвергался нападениям со стороны своих арабских соседей, но в отношении палестинцев он сам оказывался агрессором. Следствие очевидно: еврейское государство борется сегодня не с египетскими или иорданскими, а с палестинскими террористами. В случае с Чечней дело обстоит так же: декабрьский указ 1994 года санкционировал ввод российских войск на территорию Чеченской Республики, что привело к многотысячным жертвам с обеих сторон. В ситуации с «Аль-Каидой» вряд ли правомерно вести речь об агрессивных действиях США, однако в то же время нельзя не признать, что с середины 1970-х американские военные базы находятся в Саудовской Аравии, Катаре, Бахрейне, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане и многих других странах региона, а никак не арабские – вблизи Вашингтона. При этом большая часть нападений на граждан США в странах Ближнего Востока направлена против военнослужащих или работников официальных представительств Соединенных Штатов.
Таким образом, современный всплеск терроризма обусловлен тем, что арабский мир все сильнее ощущает враждебное отношение к исламу со стороны западной цивилизации, прежде всего в американской ее версии. Причем реакция западного мира на события 11 сентября 2001 года лишь способствовала появлению «единого антитеррористического фронта», подтолкнув экстремистов к сплочению.
ПРИЧИНЫ АКТИВИЗАЦИИ ТЕРРОРИСТОВ
После террористических актов в Нью-Йорке и Вашингтоне западные политики и эксперты незамедлительно принялись искать причины, побудившие «Аль-Каиду» к столь внушительной демонстрации собственной силы. Практически сразу же прозвучали мнения о том, что активизация терроризма связана с усиливающимся экономическим разрывом между Севером и Югом; начались поиски корней терроризма в характере и специфических чертах ислама.
Однако истоки современного терроризма – не в экономическом неравенстве. Это становится очевидно при сравнении западного мира с наименее развитыми африканскими государствами: тропическая Африка в последнее время более известна кровопролитными внутренними войнами и этническими чистками, чем террористическими организациями. Из 261 террористической или военизированной организации только 64 приходится на этот регион, причем 30 из них действуют в Судане, Эфиопии, Эритрее, Сомали и Демократической Республике Конго, где продолжаются гражданские войны. Ни одна африканская террористическая организация не осуществляет терактов за пределами своей страны. Бедные страны Латинской Америки, где в 1970-е и 1980-е годы происходило наибольшее число террористических вылазок, также практически не участвуют в современном международном терроре.
В то же время исламский мир, который сегодня признан основным источником террористической угрозы, остается весьма богатым регионом, а наиболее известные международные террористы – это выходцы из вполне благополучных в материальном отношении слоев населения. Более того, сама террористическая деятельность обеспечивает ее участникам серьезные доходы (по некоторым оценкам, размеры так называемой новой экономики террора (the New Economy of Terror) составляют до 1,5 трлн дол., или 5 % мирового валового продукта.
Точно так же современный терроризм не обусловлен политическим противостоянием двух частей мира. Под политикой сегодня, как правило, понимают активность, в той или иной мере связанную с действиями государственных институтов. Напротив, террористические движения всегда возникали как негосударственные структуры, и именно государства, как наиболее значимые символы власти, обычно оказывались объектом их агрессивных действий. Как подчеркивает, например, профессор Нью-Йоркского университета Ной Фелдмен, уже сами разговоры о «государственном терроризме» «решительно наводят на мысль и наглядно свидетельствуют о том, что употребляемое нами в обычном смысле понятие “терроризм” включает лишь негосударственное насилие». Эту точку зрения разделяет ныне большинство экспертного сообщества. Достаточно уверенно можно утверждать, что подобная ситуация сохранится и впредь: в условиях начавшейся «войны с террором» негосударственный характер террористических группировок обеспечивает им серьезные преимущества. Вместе с тем отождествление террористической организации с неким государством, напротив, грозит тому самыми тяжелыми последствиями (как произошло с Афганистаном).
На мой взгляд, основные причины современной волны терроризма кроются не столько в объективной реальности нашего времени, сколько в восприятии ее широкими массами населения, в частности, в мусульманском мире. Западная цивилизация, несомненно, доминирует на планете, но доминирует весьма специфическим образом – минимизируя свои контакты с теми, кто к ней не относится. Торговля со странами Африки, Ближнего Востока и Азии (исключая Китай и других азиатских «тигров») обеспечивает не более 9 % товарооборота Соединенных Штатов и государств Европейского союза. Более 2/3 стоимостного объема этой торговли приходится на нефть и нефтепродукты. Инвестиции США и ЕС в эти регионы поддерживаются на минимальном уровне: не более 1,8 % совокупного американского и около 4 % совокупного европейского объемов.
Сами арабские государства, начав в 1960-е бурную модернизацию, вскоре столкнулись с перспективой более «легкого» существования за счет экспорта нефти; те из них, которые недавно считались наиболее развитыми – Египет и Сирия, оказались в новой ситуации аутсайдерами. Запад, и в первую очередь США, ничего не сделал для поддержки своих сторонников в этом регионе, предпочитая использовать тактику грубого нажима. В то же время культурное проникновение Запада шло в регионе не менее активно, чем повсюду в мире. Поэтому неудивительно, что местное население постепенно стало видеть в Америке враждебную силу – такую, которая поддерживает Израиль, укрепляет свое военное присутствие в регионе, проповедует образ жизни, всегда казавшийся недоступным большинству арабского населения, наконец, находится на стороне полуфеодальных режимов, не пользующихся большой поддержкой собственных подданных. Запад в глазах мусульман непобедим в военном отношении, недостижим по экономической мощи, но при этом пользуется их богатствами и сбивает их с пути, указанного предками. Сегодня часто цитируют знаменитую фатву Усамы бен Ладена от 23 февраля 1998 года, в которой говорится: «Убивать американцев и их союзников – гражданских и военных – личный долг каждого мусульманина», – но при этом забывают о том, что война американцам была объявлена «для того, чтобы их армии, потерпевшие поражение и неспособные угрожать мусульманам, убрались со всех земель ислама». В такой атмосфере людям проще пойти за толпой, чем сделать разумный индивидуальный выбор.
Население большинства государств арабского мира, безусловно, ставит коллективную самоидентификацию выше свободы индивидуального выбора. Связано ли это с исламскими традициями, на чем настаивают многие исследователи, для данного анализа не играет большой роли. Важнее то, что здесь Запад выступает в качестве той «чуждой» силы, противостояние которой сплачивает народы Ближего Востока, еще не имеющие подлинной национальной идентичности. Более того, чем активнее западый мир (и в первую очередь США) будет насаждать в этом регионе принципы личностной автономии и политической демократии, тем сильнее будет укрепляться исламская оппозиция и тем меньше останется шансов для того, чтобы западные ценности овладели умами и сердцами местного населения.
Современный терроризм, разумеется, не сможет навязать западному миру пересмотр его основополагающих принципов; он, конечно же, не приведет к возникновению «всемирного халифата», о чем для красного словца заявляют некоторые исламские проповедники. Собственно говоря, террористы и не ставят перед собой таких задач и целей. Их стремления намного скромнее: они прежде всего хотят, чтобы Запад перестал устанавливать свои порядки за пределами собственных границ. И эти требования, по сути, трудно не признать справедливыми.
ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
На сегодняшний день Запад во главе с Соединенными Штатами, государством, превосходящим по мощи величайшие империи прошлого, пока не добился ощутимых результатов в борьбе с противником, который применяет против него «оружие слабых», то есть террор.
Способен ли Запад победить в этой так называемой «войне с терроризмом»? Какие последствия для всего мира будет иметь взаимная эскалация «террористического» и «антитеррористического» насилия? Сохранятся ли нынешние международные институты, или они станут жертвами (пусть даже случайными) этой схватки?
Эти вопросы, весьма актуальные, практически никогда не поднимаются идеологами «войны с террором». Во-первых, глобальный террор – новое, неисследованное явление для западных политологов и социологов. Кроме того, западные эксперты настолько уверовали в неизбежность распространения демократии в мире, в преобладание в человеческом сознании индивидуалистических стремлений, в торжество рационального начала над иррациональным, что это мешает им охватить весь комплекс проблем, порождающих современный мусульманский терроризм.
Во-вторых, сегодня не видно особой потребности найти ответы на многие актуальные вопросы. Для современной политики, предельно инструментализированной и в значительной мере лишенной стратегического видения, всплеск терроризма оказался, как ни кощунственно это звучит, весьма кстати. Политики, мыслящие «от выборов до выборов» формулами типа «кто не с нами, тот против нас», охотно воспользовались террористической угрозой для «дисциплинирования» населения, а также для манипуляции сознанием и симпатиями избирателей. Борьба с абстрактным «международным терроризмом» является для них превосходным средством продемонстрировать своему народу сложность решаемых задач, собственную активность и ответственность.
Если глубоко задуматься над перечисленными проблемами, окажется, что поводов для оптимизма немного.
У Запада очень мало шансов на победу. В первую очередь потому, что ему приходится иметь дело не столько с экстремистскими вылазками единичных бандитов, сколько с феноменом, за которым прежде всего стоит стремление народов к самоопределению или обретению собственной идентичности, то есть определенные цивилизационные ценности. Но история свидетельствует, что на протяжении второй половины ХХ столетия Запад проигрывал все войны, в которых противная сторона боролась за свою независимость или за возможность состояться как культурная общность.
Помимо этого население западных стран сегодня убеждено в том, что «демократия» (то есть западные представления о свободе и справедливом обществе) должна укорениться повсюду. Однако смириться с навязанными извне представлениями о свободе – значит перестать быть свободным самому, и этого на Западе, похоже, не понимают и не хотят понимать. Утверждая, что террористы – это враги свободы, западные лидеры безнадежно заблуждаются и вводят в заблуждение тех, кто следует за ними. Нет, террористы борются не против свободы, а за свободу своих народов не прислушиваться к чужим советам.
Здесь на память приходит один пример, прекрасно показывающий всю примитивность мышления американского политического класса, выступающего ныне лидером в «войне с террором». В 60-е годы прошлого века чернокожие американцы начали масштабную кампанию борьбы за отмену расовой сегрегации, утверждая, что ничем не отличаются от белых. Однако сорок лет спустя те же афроамериканцы настаивают на своей «особости» и требуют квот в университетах и налоговых поблажек, дополнительного финансирования социальных программ и т. д. И что? Правительство вводит систему affirmative action (речь идет о принятом в 2003-м решении Верховного суда США оставить в силе Программу позитивных действий, предоставляющую льготы, в частности, расовым меньшинствам. – Ред.), прямо противоречащую, как отмечают многие социологи, фундаментальным принципам либерализма. В 1960-е годы новые независимые страны тоже хотели быть «такими, как все». Но они потерпели неудачу и теперь апеллируют к собственной исключительности. Почему же американские политики, соглашаясь с претензиями собственных чернокожих на «особость», игнорируют аналогичные претензии со стороны арабского мира?
Кроме того, противодействуя Западу, террористы используют заимствованное у него же оружие. Так, главная, как считается, трудность борьбы с террористами обусловлена «сетевым» характером их структур, успешно противостоящих традиционной тактике армий и спецслужб. Но на самом деле террористы ничего не изобрели. Они лишь взяли на вооружение средство, с помощью которого стремящийся к экономической экспансии Запад не первый год повышает эффективность деятельности своих транснациональных корпораций. Разве не говорили в США и Европе с придыханием о долгожданном приходе «сетевого общества»? Оно пришло.
Таким образом, не осмыслены в должной мере ни цели террористов, ни их методы. Однако существует и гораздо более сложная проблема – мотивация террористического движения. Дело в том, что отдельные террористические акции, как правило требующие от их исполнителей самопожертвования, нередко являются не жестом отчаяния и не проявлением мужества, а актом личного спасения! Будучи религиозным фанатиком, террорист-смертник действует рационально – ведь убийство десятков «неверных» открывает ему прямую дорогу в рай, что для него гораздо важнее, чем деньги, которые могли быть обещаны его семье или близким. Тем удивительнее, что большинство «борцов с терроризмом» не устают говорить о гигантских суммах, идущих на финансирование террора, о множестве наемников, проникающих в Ирак или Чечню, а также о своих успехах в перекрытии каналов финансирования террористов. Между тем разрушение башен-близнецов вкупе с атакой на Пентагон обошлось его исполнителям не более чем в 500 тыс. дол., в то время как объемы возрожденной торговли опиумом в Афганистане исчисляются миллиардами, а российская помощь «законному» чеченскому правительству – сотнями миллионов долларов. Так что террористы борются отнюдь не за финансирование...
Современные террористы либо воспитаны в обстановке перманентной незащищенности и неуверенности в будущем, либо добровольно обрекли себя (что относится прежде всего к их лидерам) на жизнь в подобных условиях. Еще в 1993-м известный палестинский экстремист Абу Махаз пояснил: «Мы – террористы, да, мы – террористы, потому что это наша судьба». Усиление «лобовой» атаки на террористическое движение может только расширить его ряды и ожесточить его участников, возбуждая в них чувство религиозной и этнической солидарности. Большинство же граждан западных стран не намерены лишаться ни личных свобод, ни материального благополучия и потому будут поддерживать борьбу с терроризмом только до тех пор, пока она не окажется чревата серьезными политическими и экономическими потрясениями. Поэтому удары террористов будут разваливать антитеррористическую коалицию; удары же по террористам – лишь укреплять их ряды.
Прошедшие с начала «войны с террором» почти четыре года показывают, что для поддержки этой войны населением западных стран необходимы весомые доказательства достигнутого прогресса. Пока еще такими свидетельствами могут служить свержение режима «Талибан», разгром лагерей «Аль-Каиды» и освобождение Афганистана, отстранение от власти Саддама Хусейна и оккупация Ирака войсками союзников. Однако эти достижения обошлись США и присоединившимся к ним странам в сотни миллиардов долларов, а дальнейшие перспективы туманны. Поток наркотиков из Афганистана растет, положение в Ираке не стабилизировалось, агрессивность США вызывает вполне понятное стремление других стран обеспечить себе доступ к ядерному оружию. Ситуация в Саудовской Аравии и в Пакистане, единственной мусульманской стране, обладающей оружием массового поражения, остается взрывоопасной. «Война с террором» приводит и к косвенным издержкам – от роста цен на нефть до кризиса на рынке авиаперевозок и туризма. Через некоторое время западный бизнес, пока еще радующийся новым военным заказам и увеличению государственных расходов на безопасность, ощутит, что инициированная американцами авантюра просто никому не выгодна. И террористам сегодня достаточно лишь поддерживать на Западе истерию, запущенную самими же западными лидерами, чтобы со временем увидеть крах их политики.
Кроме того, «война с террором» наносит ущерб единству западного мира. Так, американское вторжение в Ирак начиналось весной 2003 года в условиях беспрецедентного раскола мира на два лагеря – сторонников и противников кампании Соединенных Штатов. Давно назревшая реформа ООН, можно предположить, провалится именно по причине того, что в Соединенных Штатах, России и отчасти Великобритании к нынешним угрозам и вызовам относятся иначе, чем в континентальных европейских странах. Восприятие собственного государства в качестве «осажденной крепости», а остальных стран как звеньев разного рода «осей зла» непродуктивно и ведет лишь к расширению поля для конфликтов и противоречий.
Таким образом, новый раунд «войны с террором» закончится поражением Запада.
ИСТИННЫЕ ЦЕЛИ И НЕОТЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ
«Война с террором» не могла не начаться. Прежде всего потому, что политики во всем мире крайне нуждались во враге, отвечавшем ряду критериев. «Правильный», с точки зрения современных деятелей, враг – это тот, кто представляет собой опасность, кто не связан с ведущими западными странами. Его место там, куда можно наносить безответные удары; его нельзя увидеть; борьба с ним должна продолжаться бесконечно долго, а мера ее успешности – оставаться неопределимой; наконец, необходимость войны с ним должна оправдывать серьезные ограничения демократических прав собственных граждан, а увеличение расходов на нее не должно вызывать возражений у населения.
Все эти критерии идеально воплощены в «международном терроризме». В политике последних лет данное понятие сыграло ту же роль, что и понятие «глобализация» – в хозяйственной практике последних десятилетий. Если вспомнить историю, окажется, что до середины ХХ столетия взаимодействие между Европой и США, с одной стороны, и остальным миром – с другой, именовалось «вестернизацией», которая, как считалось, универсальна по своему временнЧму характеру и географическому охвату. Причем модель технологического общества со всеми его атрибутами – от массового потребления до либеральной демократии – оценивалась как в принципе легко воспроизводимая и поэтому всеобщая. Однако эта «всеобщая» модель предполагала и ответственного за ее повсеместное насаждение – Запад. Тот факт, что именно в последние десятилетия зафиксирован невиданный рост мирового неравенства, не волнует адептов глобализации. Гораздо важнее иное: любую экономическую проблему можно сегодня объяснить объективным процессом глобализации и, как говорится, «умыть руки». Понятие «международный терроризм» дало политикам такой же инструмент ухода от реальности (и от ответственности), какой получили экономисты с появлением термина «глобализация». Было бы наивно полагать, что политики не воспользуются этой новой возможностью.
«Война с террором» – это то, в чем кровно заинтересованы правящие элиты и руководители всех без исключения вовлеченных государств – Соединенных Штатов и России, Великобритании и Польши, многих других. Им необходимо раздувание террористической угрозы и уничтожение все новых и новых террористов. (Причем именно уничтожение, как мы видели это на примере Аслана Масхадова, а не предание их гласному и справедливому суду, о чем так много говорится.) Им требуется наращивание военных расходов и, как отмечалось выше, ограничение гражданских прав, а также многое другое... Так что этой войне не суждено завершиться быстро. Даже если антитеррористическая коалиция в ее нынешнем виде и прекратит свое существование (а в этом у меня практически нет сомнений), то сама «борьба» в разных ее формах будет продолжаться.
Но кровавые акции террористов, конечно же, не должны оставаться безответными. При этом в борьбе с террористической угрозой необходимо соблюдать несколько очевидных и неоспоримых правил.
Во-первых, нужно провести четкую грань между вооруженными формированиями, сражающимися за самоопределение и независимость своих народов, и террористами, действующими во имя идеологических и религиозных целей. Если в первом случае, как уже было сказано, наиболее эффективным средством решения проблем являются переговоры, то во втором переговорный процесс вряд ли возможен. Да в нем и нет необходимости – ведь требования террористов из «Аль-Каиды» или «Исламского джихада» не предусматривают политических договоренностей. Исламские экстремисты не представляют собой той политической силы, с которой возможны переговоры. Они не могут взять на себя внятных обязательств. Нет никакой возможности оказать на них давление при несоблюдении ими достигнутых договоренностей. В общем, все они – не сторона на переговорах.
Во-вторых, даже признавая необходимость отказаться от переговоров, нельзя утверждать, что конечной целью войны с террористами является их истребление. Чем активнее ликвидируются отдельные террористы, тем больше весь народ проникается целями и задачами их движения; примером тому может служить обстановка на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а также в Чечне.
Поэтому подходы к борьбе с терроризмом должны различаться в зависимости от того, где проходит «линия фронта». Если противостояние террору происходит на территории западных стран, теракты следует квалифицировать как тяжкое преступление – убийство или покушение на убийство с отягчающими обстоятельствами. Соответсвенно террористов надлежит обезвреживать, а в их организации – внедрять агентов; следует перекрывать каналы поступления к ним денег и оружия, а приток иммигрантов из стран, где расположены «основные силы» главных террористических организаций, – ограничивать. Мониторинг иммигрантов и выходцев из таких стран необходимо на определенный период времени признать хотя и неприятной, но вынужденной, а потому допустимой мерой. Об эффективности таких мер говорит пример США, где после 11 сентября 2001 года не зафиксировано ни одного террористического акта. И причиной тому – усилившиеся меры внутренней безопасности, а отнюдь не сокращение числа боевиков «Аль-Каиды».
Если же борьба с террором ведется за пределами Запада, требуется выработать и принять жесткие правила отношений с государствами, на территории которых активно действуют террористические группировки. Эти государства (а к ним, несомненно, относятся многие ближневосточные страны) должны быть лишены всякой помощи со стороны развитого мира; следует полностью отказаться от практики продажи им любых систем вооружения; предупредить о недопустимости обладания оружием массового поражения (причем, например, к Пакистану это относится даже в большей степени, чем могло бы относиться к Ираку), ограничить торговое и экономическое сотрудничество с ними и т. д. Если народы этих стран предпочитают сохранять свой образ жизни, традиции и религиозную «чистоту», им не нужно препятствовать. Напротив, показательное «отступление» Запада из данного региона при жестком недопущении перенесения исламского джихада на территорию развитых стран вызовет проблемы у самих мусульманских экстремистов, не имеющих никакой позитивной программы. Как показывает пример отстающих государств, наиболее эффективный способ дискредитировать популистские движения – позволить последним добиться провозглашаемых ими целей. «Бросив исламский мир на произвол судьбы», мы отнюдь не предадим идеалы свободы и гуманизма. Западные ценности будут усвоены не там, куда Западу хватит сил их донести, а там, где на них возникнет реальный и осмысленный спрос. Свобода важна не сама по себе – гораздо важнее завоеванная и выстраданная свобода. Пока мусульманские народы не ощутят потребность в западных ценностях, не возжелают свободы, навязать им их будет невозможно да и, замечу, не нужно.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

























