Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
Главные отличия.
Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

ФАБРИКА ГРЁЗ – ТЕПЕРЬ С ВОСТОКА
ГЕОРГИЙ ПАКСЮТОВ, Аспирант ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова.
ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ КИНО: ШАНС ДЛЯ СТРАН АЗИИ?
Глобальная киноиндустрия переживает стремительную трансформацию, связанную с успехом бизнес-моделей, в основе которых – цифровые технологии. Фактически мы наблюдаем, как стриминговые медиа (сервисы, подписчики которых за абонентскую плату приобретают возможность просматривать выбранный развлекательный контент через интернет) – Netflix, Prime Video и другие – формируют новый мировой рынок кино.
Пандемия COVID-19 ускорила процесс: в то время как кинотеатры понесли колоссальные потери из-за карантинных мер, стриминговые сервисы существенно нарастили абонентскую базу. Так, число подписчиков Netflix увеличилось в 2020 г. более чем на 20 процентов (см. таблицу 1). Это достижение выглядит особенно значимым, если учитывать резко возросшую с запуском в 2019 г. сервисов Disney+ и Apple TV+ конкуренцию на данном рынке.
Цифровая трансформация кинематографа проявляется не только в новом способе дистрибуции – посредством интернета вместо традиционного просмотра в кинотеатре. Стриминговые сервисы меняют всю цепочку добавленной стоимости в киноиндустрии, представляют собой новую форму организации, экономически более успешную, чем прежде существовавшие в отрасли. Традиционный кинорынок отличался непредсказуемостью результатов: кассовые сборы фильма трудно спрогнозировать до его премьеры. Экономист Артур де Вани демонстрирует, что это свойство является ключевой характеристикой кинобизнеса, которая определяет стратегии его участников[1]. Модель стриминговых сервисов, созданную Netflix, можно коротко представить следующим образом[2]:
Точное прогнозирование спроса подписчиков сервиса (для этого методами «машинного обучения» анализируются большие объёмы поведенческих данных пользователей).
Создание собственного развлекательного контента с учётом потребительских предпочтений.
Дистрибуция контента среди собственных подписчиков (без посредников – таких, например, как кинотеатральные сети).
Данная бизнес-модель снижает присущие кинобизнесу риски, используя преимущества вертикальной интеграции (контроль над всей цепочкой добавленной стоимости) и современные методы анализа больших данных. Конкурентоспособность подтверждается взрывным ростом числа подписчиков стриминговых сервисов.
Таблица 1. Совокупное число пользователей, оплативших подписку на Netflix (млн чел.), число пользователей (млн чел.) и процент подписчиков из стран кроме США (%), 2015–2020 гг.
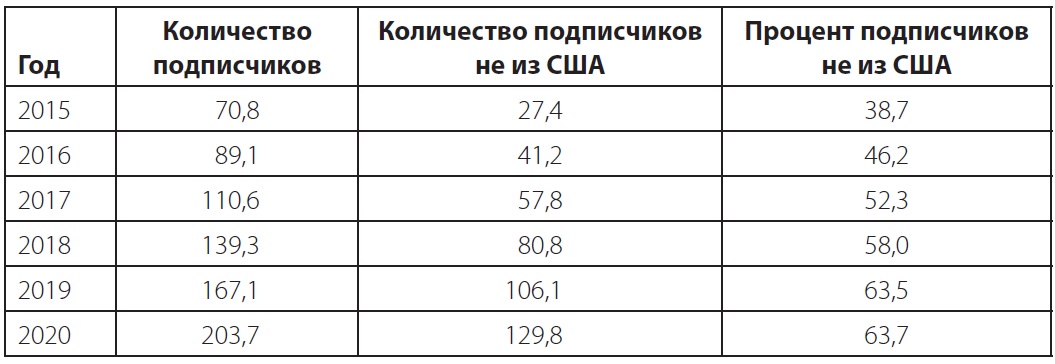
Источники: Statista. Netflix’s International Expansion // Statista. 2020. URL: https://www.statista.com/chart/10311/netflix-subscriptions-usa-international; Statista. Netflix’s Paid Subscribers Count by Region 2020 // Statista. 2021. URL: https://www.statista.com/statistics/483112/netflix-subscribers
Таблица 2. Совокупные кассовые сборы в странах АТР (млрд долларов) и доля мирового рынка кино, приходящаяся на страны АТР, 2010–2018 гг.
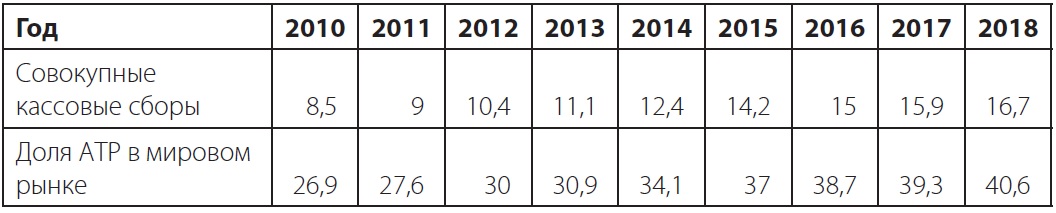
Источники: MPAA. Theatrical Market Statistics 2014 // MPAA. 2015. URL: https://www.motionpictures.org/wp-content/uploads/2015/03/MPAA-Theatrical-Market-Statistics-2014.pdf; MPAA. 2018 THEME Report // MPAA. 2019. URL: https://www.motionpictures.org/wp-content/uploads/2019/03/MPAA-THEME-Report-2018.pdf.
Гонка киновооружений
Другой важный тренд, определяющий облик современной индустрии кино, – значительное увеличение удельного веса Азии в мировом кинопрокате. За 2010–2018 гг. совокупные кассовые сборы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона возросли примерно вдвое – с 8,5 до 16,7 млрд долларов, существенно увеличилась и доля мирового кинорынка, приходящаяся на страны региона – с 26,9 процента до 40,6 процента (см. таблицу 2). Значительная часть прироста кассовых сборов на азиатском континенте пришлась на Китай.
Примечательно, что на фоне коронакризиса состоялось знаменательное событие – в 2020 г. китайский кинорынок впервые за десятилетия обошёл американский по показателю совокупных кассовых сборов и стал крупнейшим в мире. При этом оба рынка (как и кинотеатральные рынки по всему миру) пережили резкое падение: кассовые сборы в Китае составили 3,09 млрд долларов (почти на 70 процентов меньше, чем в прошлом году), а объём американского рынка составил 2,28 млрд долларов (на 80 процентов меньше, чем в 2019 г.)[3].
Кинорынки азиатских стран, как и прочие, затронула цифровая трансформация. К примеру, экспансия Netflix в Азиатско-Тихоокеанском регионе идёт темпами, опережающими среднемировые (см. таблицу 3). Культурная стратегия азиатских держав должна эффективно адаптироваться к новым реалиям, потому что позиции лидеров в зарождающейся цифровой киноиндустрии будет в дальнейшем всё тяжелее оспорить.
Таблица 3. Количество подписчиков Netflix в Азиатско-Тихоокеанском регионе (млн чел.), 2017–2020 гг.
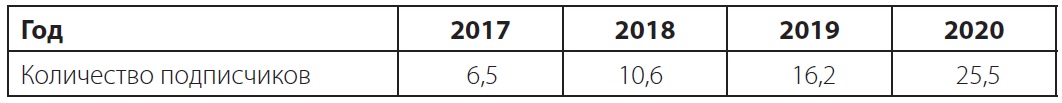
Источники: Statista. Netflix’s paid subscribers count by region 2020 // Statista, 2021. URL: https://www.statista.com/statistics/483112/netflix-subscribers; Statista. APAC: number of Netflix memberships 2017-2019 // Statista, 2020. URL: https://www.statista.com/statistics/1118182/apac-number-of-netflix-memberships.
Хотя в азиатских странах есть популярные стриминговые сервисы – например, китайский iQIYI или японский dTV – они пока мало делают для привлечения подписчиков за рубежом. В январе 2020 г. iQIYI заключил соглашение с малайзийским телевизионным оператором Astro, чтобы продвинуться на рынок Малайзии, что стало для сервиса первым мероприятием такого рода[4].
Основной объём азиатского кинорынка приходится на четыре страны – Китай, Японию, Южную Корею и Индию. Они генерируют более 35 процентов мировых кассовых сборов, и на рынках этих стран национальные производители крайне конкурентоспособны – в 2015 г. в Индии на собственные фильмы пришлось 85 процентов всех кассовых сборов, в Корее – 52,2 процента[5]. В 2018 г. в Китае национальные кинопроизводители заработали 62 процента от совокупного объёма рынка[6], а в Японии – 54,8 процента[7]. Ниже мы более детально рассмотрим перспективы четырёх азиатских флагманов индустрии кино, чтобы понять, смогут ли они конкурировать со странами Запада за лидерство в своей сфере в грядущие десятилетия.
Динамичные кинопроцессы имеют немалое значение в том числе и для политики. К середине XXI века на Азию может приходиться половина мирового ВВП, торговли и инвестиций[8], и многие страны континента стремятся конвертировать экономическое влияние в культурное и политическое. Производство кино и сериалов – часть «мягкой силы» таких разных стран, как Турция[9], ОАЭ[10], Китай[11], Индия[12] и других.
В академической литературе активные действия азиатских государств по наращиванию «мягкой силы» сравнивают с гонкой вооружений[13]. Правительства участвуют в этой гонке не только для укрепления положения собственных стран на международной арене, но и в качестве ответа на аналогичные действия других стран[14].
Как именно кинематограф и прочие культурные индустрии поддерживают влияние стран? С точки зрения исследователя медиа Дэвида Хезмондалша, культурные индустрии отличает «символическая креативность»: культурное производство требует особого труда и создаёт особого рода продукт, тексты или культурные артефакты, которые ценятся прежде всего за их смысл[15]. Потребление культурных артефактов подразумевает интерпретацию; они «влияют на нас», «обеспечивают нас связными представлениями о мире» и «помогают в создании нашей идентичности»[16]. Кинематограф, который называют «наиболее значимой культурной отраслью с точки зрения… символического влияния»[17], особенно важен в этом смысле.
Итак, культура воплощает и доносит до жителей других стран идеи и ценности того или иного общества (или, по выражению исследователя, «материализует мягкую силу»[18]). Экономический успех страны способствует расширению внутренних рынков культурных благ, что предположительно должно способствовать и экспансии её культурной продукции за рубеж, а следовательно – приращению культурного и политического влияния.
Так как произведения культуры имеют нематериальную, смысловую составляющую, количественно оценить приращение влияния, полученного благодаря культурным производствам, можно разве что весьма условно. Кроме того, как справедливо заметил экономист и философ Людвиг фон Мизес, усилия и достижения креативных инноваторов не могут быть учтены в анализе как средство производства: никто, кроме Данте и Бетховена, не сумел бы создать «Божественную комедию» или Девятую симфонию, вне зависимости от спроса или стимулов от государства на создание подобных произведений[19]. Таким образом, стратегия государства по продвижению национальной культуры не может иметь гарантированных результатов, она лишь обеспечивает условия для создания культурных артефактов и каналы для их распространения.
Каковы же перспективы киноиндустрии как ресурса мягкой силы азиатских стран? Размер внутреннего рынка – ключевой показатель потенциала национального кинопроизводства. Положительная динамика кассовых сборов означает, что киноиндустрия может повысить качество и разнообразие продукции за счёт совершенствования технологий и привлечения талантов. Кроме того, крупные национальные рынки кино имеют непосредственное значение с точки зрения «мягкой силы» ввиду того, что оказывают влияние на продукцию других стран, которые заинтересованы в освоении новых рынков. Это наблюдение относится в первую очередь к Китаю (по словам эксперта аналитического центра The Heritage Foundation, сценарии голливудских фильмов пишутся с оглядкой на китайский рынок[20]).
На зарубежных рынках, однако, азиатским кинематографистам тяжело конкурировать с традиционными лидерами, которыми являются США и – в меньшей степени – некоторые страны Европы (Англия, Италия, Франция). Американское, английское, французское кино – мощный бренд, формировавшийся десятилетиями. Особое положение занимает американская киноиндустрия: благодаря огромному притоку прибыли с внутреннего и внешних рынков, Голливуд может производить высокобюджетные блокбастеры, с которыми практически невозможно конкурировать. В 2019 г. в десятке лидеров мирового кинопроката все десять позиций заняли голливудские фильмы[21]. Доминированию США способствует и контроль над международной системой дистрибуции кино, которым обладают крупные игроки американской киноиндустрии (мэйджоры)[22].
Важным фактором обеспечения доступа на мировые рынки для американских кинокомпаний стали активные действия правительства Соединённых Штатов: экономическая помощь в рамках Плана Маршалла обуславливалась большими поставками американских фильмов на национальные рынки[23].
Имеются и определённые социокультурные факторы, которые способствуют лидерству Запада. Распространённость во всём мире языка и культуры западных держав, связанная в том числе с их положением метрополий в колониальную эпоху, создаёт выгодные условия в торговле культурными благами, включая фильмы и сериалы.
Успех использования культурных артефактов в качестве инструмента мягкой силы зависит от потребителей, их предпочтений и информированности[24]. Социокультурный контекст потребления кинофильмов, таким образом, определяет не только величину экспорта кинокартин, но и их эффективность в донесении смыслов. На формирование этого контекста также оказала влияние политическая воля ряда западных стран, что демонстрирует пример кинофестивалей.
В кинематографе важной составляющей «мягкой силы» является «институциональное признание… в форме наград и номинаций, участия в кинофестивалях» [25]. Ведущие мировые кинофестивали проводятся в США и Европе. Эти институции систематически отдают приоритет картинам, снятым в Соединённых Штатах, Великобритании, Франции и некоторых других западных странах, и тем самым «способствуют их культурному господству на международной арене»[26]. Наиболее престижные европейские кинофестивали – в Канне, Венеции и Берлине – с самого основания тесно связаны с политикой. Берлинский кинофестиваль, к примеру, был основан по инициативе офицера армии США и использовался как «американское орудие в холодной войне»[27].
Действия западных держав, стремившихся обеспечить себе доминирование в мировом кино, оказались весьма эффективными – они до сих пор приносят политические дивиденды.
В условиях доминирования культурных институций США и Европы, странам Азии тяжело полноценно конкурировать за лидерство в киноиндустрии.
Однако, по наблюдению Дэвида Хезмондалша, в наше время теряют значение «различные виды культурных авторитетов»[28]. Этот факт ярко иллюстрирует падение интереса к церемонии вручения премии «Оскар»: если в 2000 г. её смотрело 46,33 млн человек, то в 2020 г. – только 23,6 млн (самый низкий показатель за всю историю)[29]. В том же 2020 г. были представлены новые стандарты, которым должны соответствовать произведения, представленные в категории «Лучший фильм»: призванные «отражать разнообразие аудитории кинозрителей», они требуют участия в создании картин ранее «недостаточно представленных» этнических и расовых групп, сексуальных меньшинств и так далее[30]. Падение интереса к важнейшей американской кинопремии и снижение авторитета западных «культурных арбитров» в целом – процессы, обусловленные комплексом причин, требующих отдельного рассмотрения. Тем не менее можно предположить, что смещение акцента с оценки художественных достижений на продвижение идеологий способствует потере интереса к пока что главной мировой кинопремии.
«Культурные арбитры» имеют авторитет, пока люди верят, что они отдают должное лучшим произведениям – лучшим с точки зрения эстетических качеств, или, попросту говоря, красоты. Английский философ Роджер Скрутон отмечал, что «игнорирование красоты» влечёт за собой социальные, экономические и экологические издержки; культурный объект, созданный ради конкретной задачи в ущерб эстетической ценности, становится бесполезен, когда в обществе меняется повестка и данная задача перестаёт быть актуальной[31]. Культура живёт своей логикой, отличной от политической необходимости: это логика традиции, связи с прошлым и передачи в будущее. Чрезмерное увлечение политикой идентичности порождает ощущение, что «Оскар» всё больше «игнорирует красоту» и потому может утратить вес. Это относится и к азиатским державам, реализующим стратегии наращивания «мягкой силы»: поддержка и продвижение национальных производителей культуры не должны вести к инструментальному использованию культурного наследия, иначе такие действия вызовут у потенциальной аудитории недоверие и не принесут ожидаемого результата.
Флагманы из Азии
Теперь, когда мы коротко очертили глобальный контекст, в котором происходит соревнование национальных отраслей, рассмотрим перспективы четырёх крупнейших производителей Азии.
Таблица 4. Кассовые сборы (млрд долларов) и доля национального рынка в совокупном объёме мирового рынка (%) в 2014 г. и 2019 г. в Китае, Индии, Южной Корее и Японии

Источники: MPAA, 2015; MPAA. 2019 THEME Report // MPAA, 2020. URL: https://www.motionpictures.org/wp-content/uploads/2020/03/MPA-THEME-2019.pdf.
Индия. Традиционно самобытная индийская киноиндустрия считается одной из крупнейших в мире, но в последние годы она столкнулась с существенными вызовами. За 2005–2017 гг. посещаемость кинотеатров в стране упала почти вдвое – с 3,77 млрд проданных за год билетов до 1,98 миллиардов[32]. На этом фоне снижается удельный вес индийского кино на мировом рынке (см. таблицу 4).
В условиях падения спроса на внутреннем рынке важнейшей задачей становится наращивание экспорта. Огромный потенциал представляет китайский рынок: здесь проявляют немалый интерес к индийскому кино. Так, в 2017 г. индийские фильмы «Дангал» (режиссёр Нитеш Тивари) и «Тайная суперзвезда» (режиссёр Адваит Чандан) заработали в китайском прокате 200 млн и 118 млн долларов соответственно – значительно больше, чем на внутреннем рынке[33].
Что касается цифровой трансформации киноиндустрии, то именно сотрудничество с Китаем может быть для Индии более перспективным, чем ориентация на американские стриминговые сервисы. Сотрудничество с индийскими профессионалами для Netflix или Amazon Prime Video привлекательно в первую очередь как возможность увеличения абонентской базы в самой Индии и среди индийской диаспоры в других странах, тогда как совместный китайско-индийский сервис мог бы предоставить специалистам отрасли из этих двух стран огромный объединённый рынок. Однако напряжённость в политических отношениях между Пекином и Дели ограничивает возможности взаимовыгодного сотрудничества в данной сфере.
Япония и Южная Корея. С точки зрения тенденций в киноиндустрии последних лет и стратегии цифровой трансформации кинематографа эти две страны занимают сходное положение. Японское кино в XXI веке переживает подъём: в 2014–2019 гг. кинорынок рос темпами выше среднемировых (см. таблицу 4).
Хотя удельный вес южнокорейского кинематографа на мировом рынке несколько снизился в 2014–2019 гг. (см. таблицу 4), в долгосрочной перспективе национальный кинорынок демонстрирует стабильный рост: за 2005–2017 гг. посещаемость кинотеатров увеличилась более чем на 50 процентов[34]. Японские и южнокорейские производители в последние годы добились успехов: такие фильмы, как «Магазинные воришки» (режиссёр Корээда Хирокадзу) и «Паразиты» (режиссёр Пон Чжун Хо), получили высокое признание на международных кинофестивалях и премии «Оскар».
Обе страны вовлечены в активное сотрудничество со стриминговыми медиа, которые играют ведущую роль в формировании новой, цифровой индустрии, – в частности, с Netflix. В Японии Netflix в основном инвестирует в создание анимации, где сервис заключил долгосрочные договоры о сотрудничестве с рядом студий[35]. В 2015–2020 гг. Netflix инвестировал в производство корейских фильмов и сериалов около 700 млн долларов; в 2021 г. анонсировал, что намерен расширить присутствие в стране, и с этой целью создаст в Южной Корее две собственные производственные студии[36]. Кооперация корейских профессионалов с Netflix соответствует общей стратегии развития корейских «культурных отраслей», в рамках которой для продвижения корейской популярной культуры на мировые рынки активно используются цифровые платформы и социальные сети[37].
В ближайшие годы основным трендом в японской и корейской киноотрасли будет дальнейшее наращивание связей со стриминговыми сервисами. Таким образом, Япония и Корея скорее займут нишу в американоцентричной онлайн-киноиндустрии, чем предложат собственные альтернативы. На наш взгляд, размещение японского и корейского контента на таких платформах, как Netflix, имеет ограниченное значение в плане продвижения национальной «мягкой силы», так как в конечном счёте именно владельцы платформ определяют содержание контента и контролируют его донесение до потребителей. Разумеется, стратегия этих стран в сфере кино будет зависеть и от общего состояния их экономических и политических отношений с США и Китаем.
Китай. Китай является наиболее вероятным претендентом на то, чтобы оспорить гегемонию Соединённых Штатов в индустрии кино. В 2020 г. на фоне коронакризиса китайский кинорынок стал крупнейшим в мире и, вероятно, сохранит лидирующую позицию и в дальнейшем. Ключевым фактором роста китайского рынка стало повышение спроса благодаря увеличению доходов населения. Если в 2005 г. в стране было продано 157,2 млн билетов в кино, то в 2017 г. – уже более 1,62 миллиардов[38]. В отличие от перенасыщенного американского рынка, китайский рынок всё ещё обладает потенциалом роста.
Гораздо сложнее оспорить позиции США как ведущего мирового экспортёра фильмов и сериалов. Поскольку успех американской киноиндустрии обусловлен не только предпочтениями потребителей по всему миру, но и глобальной системой дистрибуции и маркетинга, Китай сделал ставку на совместное производство и инвестиции в американские компании. По мнению американской исследовательницы медиа Айнне Кокас, основной мотивацией для производства китайско-американских фильмов («Великая стена», «Кунг-фу панда») является стремление голливудских компаний проникнуть на защищённый государственным протекционизмом китайский рынок и наращивание Пекином «глобального культурного влияния»[39]. Благодаря огромному объёму внутреннего рынка китайские кинокомпании могут и самостоятельно производить высокобюджетные блокбастеры для продвижения за рубеж. Наибольший потенциал для китайского кино представляют динамичные рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. И главными задачами здесь являются создание системы дистрибуции и инфраструктуры для кинопоказа (что может быть реализовано, например, в рамках проекта «Пояс и путь») и проведение маркетинговых мероприятий.
Из-за наличия масштабных внутренних рынков цифровых медиа и государственного контроля над использованием интернета Китай, возможно, является единственной державой, способной предложить альтернативу западным стриминговым сервисам.
Опираясь на этот потенциал, КНР способна успешно продвигать свои цифровые продукты за рубеж, что ярко демонстрирует мировой успех приложения TikTok.
Наконец, составляющая культурного влияния, в которой китайский кинематограф существенно отстаёт от стран Запада, – признание со стороны международных культурных институций. Императивом для Китая является не просто получение наград на американских и европейских церемониях, а создание и продвижение собственных кинофестивалей и премий. И в этом уже достигнуты определённые успехи. Так, базирующаяся в Гонконге Азиатская кинопремия (Asian Film Awards) отдаёт предпочтение китайским фильмам[40]. Шанхайский международный кинофестиваль (Shanghai International Film Festival) является первым конкурсным (competitive) китайским кинофестивалем, получившим аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров (в 2020 г. в мире насчитывалось 15 таких фестивалей[41]). Время покажет, смогут ли эти институции завоевать авторитет в глазах публики не только в Азии, но и на других континентах.
--
СНОСКИ
[1] De Vany A. Hollywood economics: How extreme uncertainty shapes the film industry // Routledge. 2003.
[2] Паксютов Г.Д. Бизнес-модель компании Netflix: экономическое и социокультурное значение // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 2020. №3. С. 148–149.
[3] Yiu E. China’s Box Office Expands to the World’s Largest // South China Morning Post. 2021. URL: https://www.scmp.com/business/companies/article/3116128/chinas-box-office-expands-worlds-largest-defying-year-disastrous
[4] Ying, W. Chinese video streaming site iQIYI makes first overseas move // Nikkei Asia. 2020. URL: https://asia.nikkei.com/Business/Startups/Chinese-video-streaming-site-iQiyi-makes-first-overseas-move
[5] UIS Statistics. Percentage of GBO of all films feature exhibited that are national // UIS Statistics. URL: http://data.uis.unesco.org/?ReportId=5538
[6] Tan J. Another Record Year for China’s Box Office, But Growth Slows // Caixin Global. 2019. URL: https://www.caixinglobal.com/2019-01-02/another-record-year-for-chinas-box-office-101365697.html
[7] MPAJ. Statistics of Film Industry in Japan // MPAJ. URL: http://eiren.org/statistics_e/index.html
[8] Asian Development Bank. Asia 2050: Realizing the Asian Century // Asian Development Bank. 2011. P. 13.
[9] Anaz N. and Ozcan, C. C. Geography of Turkish soap operas: Tourism, soft power, and alternative narratives. In: Egresi, I. (ed.). Alternative Tourism in Turkey // Springer. 2016.
[10] Saberi D., Paris C. M. and Marochi B. Soft Power and Place Branding in the United Arab Emirates: Examples of the Tourism and Film Industries // International Journal of Diplomacy and Economy. Vol. 4. №1. 2018. PP. 44-58.
[11] Su W. New Strategies of China’s Film Industry as Soft Power // Global Media and Communication. Vol. 6. №3. 2010. PP. 317-322.
[12] Thussu D. K. The Soft Power of Popular Cinema – the Case of India // Journal of Political Power.Vol. 9. №3. 2016. PP. 415-429.
[13] Hall I. and Smith F. The Struggle for Soft Power in Asia: Public Diplomacy and Regional Competition // Asian Security. Vol. 9. №1. 2013. P. 1.
[14] Там же, pp. 10-11.
[15] Хезмондалш Д. Культурные индустрии // М.: Издательский дом ВШЭ, 2018. С. 18, 28.
[16] Там же, с. 16, 28.
[17] Vlassis A. Soft Power, Global Governance of Cultural Industries and Rising Powers: The Case of China // International Journal of Cultural Policy. Vol. 22. №4. 2016. P. 483.
[18] Su W. New Strategies of China’s Film Industry as Soft Power. P. 317.
[19] von Mises L. Human Action: a Treatise on Economics // Fox & Wilkes. 1963. PP. 139-140.
[20] The Heritage Foundation. How China is Taking Control of Hollywood // The Heritage Foundation. URL: https://www.heritage.org/asia/heritage-explains/how-china-taking-control-hollywood
[21] The Numbers. Top 2019 Movies at the Worldwide Box Office // The Numbers. URL: https://www.the-numbers.com/box-office-records/worldwide/all-movies/cumulative/released-in-2019
[22] Scott A. Hollywood and the World: The Geography of Motion-picture Distribution and Marketing // Review of International Political Economy. Vol. 11. №1. 2004. P. 53.
[23] Там же, p. 55.
[24] Rawnsley G. Approaches to Soft Power and Public Diplomacy in Taiwan // Journal of International Communication. Vol. 18. №2. 2012. PP. 129-130.
[25] Паксютов Г.Д. «Мягкая сила» и «культурный капитал» наций: пример киноиндустрии // Мировая экономика и международные отношения. Т. 64. №11. 2020. С. 108.
[26] Там же, с. 109.
[27] de Valck M. Film Festivals: From European Geopolitics to Global Cinephilia // Amsterdam University Press. 2007. PP. 47-48.
[28] Хезмондалш Д. Культурные индустрии. С. 15.
[29] Statista. Number of viewers of the Academy Awards ceremonies from 2000 to 2020 // Statista. 2021. URL: https://www.statista.com/statistics/253743/academy-awards—number-of-viewers/
[30] AMPAS. Academy Establishes Representation and Inclusion Standards for Oscars Eligibility // AMPAS. 2020. URL: https://www.oscars.org/news/academy-establishes-representation-and-inclusion-standards-oscarsr-eligibility
[31] Scruton R. Why Beauty Matters // The Monist. Vol. 101. №1. 2018. PP. 13, 16.
[32] UIS Statistics. Total number of admissions of all feature films exhibited // UIS Statistics. URL: http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=CUL_DS
[33] Vohra P. Indian Movies Attract Millions around the World // CNBC. 2018. URL: https://www.cnbc.com/2018/08/03/indian-films-attract-millions-globally-and-it-appears-to-be-growing.html
[34] UIS Statistics. Total number of admissions for all feature films exhibited.
[35] Woo G. Netflix Announces Plans for Many New Original Anime Series // Screen Rant. 2019. URL: https://screenrant.com/netflix-original-anime-series-future/
[36] Brzeski P. Netflix Expands South Korean Footprint, Leasing Two Production Facilities // Hollywood Reporter. 2021. URL: https://www.hollywoodreporter.com/news/netflix-expands-south-korean-footprint-leasing-two-production-facilities
[37] Parc J., Kawashima N. Wrestling with or Embracing Digitalization in the Music Industry: The Contrasting Business Strategies of J-pop and K-pop // Kritika Kultura. №30. 2018. P. 29.
[38] UIS Statistics. Total number of admissions for all feature films exhibited.
[39] Kokas A. Hollywood made in China // University of California Press. 2017. P. 65.
[40] Frater P. Asian Film Awards Honor Best of the Region’s Filmmaking // Variety, 2016. URL: https://variety.com/2016/film/spotlight/asian-film-awards-honor-best-of-the-regions-filmmaking-1201728145.
[41] FIAPF. Competitive Feature Film Festivals // FIAPF. URL: http://www.fiapf.org/intfilmfestivals_sites.asp.

УКРАИНСКИЙ УЧАСТОК АМЕРИКАНО-КИТАЙСКОГО ФРОНТА
МЕЖДУНАРОДНАЯ БОРЬБА ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, КОМПАНИЮ «МОТОР СИЧ»
Холодное противостояние вокруг запорожского авиадвигателестроительного предприятия, длящееся около пяти лет, в январе 2021 г. перешло в горячую фазу. Начавшаяся как банальный «наезд» Службы безопасности Украины (СБУ) на «красного директора» ПАО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева для дополнительного изъятия средств, который сам Богуслаев в апреле 2018 г. назвал «частью плана по рейдерскому захвату предприятия», история китайских инвестиций в экономику Украины превратилась в громкий международный скандал на высшем уровне с судебными исками, санкциями против собственных и иностранных миллиардеров и существенными репутационными потерями. 24 марта 2021 г. президент Украины Владимир Зеленский официально утвердил решение СНБО о возвращении предприятия в госсобственность.
Поиск виноватых
После известных событий 2014 г., сопровождавшихся затяжным политическим и экономическим кризисом, ситуация на ПАО «Мотор Сич», которое является лидером оборонно-промышленной и аэрокосмической сферы Украины, резко усложнилась. Основной заказчик – предприятия Российской Федерации, обеспечивающие до 70 процентов доходов «Мотор Сич», оказались под санкциями, производственная кооперация была нарушена, а сам владелец Вячеслав Богуслаев попал под огонь критики патриотически настроенных граждан Украины и пристальное внимание силовых структур за «сепаратизм, финансирование терроризма и связи с державой-агрессором».
Как гласит принятая до недавнего времени украинская версия, после событий зимы 2014 г. бессменный президент и обладатель контрольного пакета акций ПАО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, встав на путь измены Родине и руководствуясь корыстными побуждениями, решил нанести Украине, а также США непоправимый ущерб, продав подконтрольное ему предприятие и критические технологии производства новейших авиационных и ракетных двигателей рвущемуся к мировому господству Китаю[1].
Партнёром в этом непростом деле он избрал находившегося в списке Forbes-2018 самых богатых китайцев (и по совместительству – племянника одного из высших чиновников КНР), владельца группы компаний Xinwei Technology Group и Skyrizon,Ван Цзина (Wang Jing), уже не раз отметившегося масштабными высокотехнологическими и эксцентричными проектами, в том числе и на Украине. Его именуют китайским Маском. В 2014 г. Xinwei Group начала предоставлять украинским пользователям услуги мобильной широкополосной мультимедийной связи, а до этого прорабатывала проект строительства Керченского моста и углубления бухты в Донузлаве на сумму около 10 млрд долларов[2].
Сама личность Цзина довольна интересна. Он родился в 1972 г. и называет себя «обычным бизнесменом». О его прошлом известно немного. Он изучал традиционную китайскую медицину в Университете Цзянси, но не окончил его. Спустя некоторое время он создал в Пекине свою первую компанию – Dingfu Investment Consulting. Затем открыл компанию Yingxi Construction and Engineering, которая занималась добычей золота и драгоценных камней в Камбодже.
Но международная деятельность с довольно рискованными активами заставляет полагать, что едва ли обошлось без связи с китайскими властями. Так, в 2013 г. Цзин подписал контракт с правительством Никарагуа на строительство конкурента Панамскому каналу стоимостью 40 млрд долларов. Под него даже была создана компания Hong Kong Nicaragua Development Corporation (HKND). Проект в итоге был положен под сукно, но Цзин установил тесные связи с президентом страны Даниелем Ортегой и его сыном Лауреано.
На Западе полагают, что Цзин поддерживает тесные связи с китайскими властями как минимум с 2010-х гг., когда он приобрёл телекоммуникационную компанию Beijing Xinwei Technology Group, являвшуюся «дочкой» государственной компании Datang Telecom Group. И под руководством Цзина новое приобретение стало быстро дрейфовать в сторону оборонного бизнеса[3]. Его компания начала взаимодействовать с Университетом Циньхуа, который ведёт разработку спутников для НОАК, также она подписала соглашение о сотрудничестве с китайским экспортёром спутников – корпорацией China Great Wall Industry Corp. Компанию Цзина посещали председатели КНР Си Цзиньпин и Цзян Цзэминь, а также премьер-министр Ли Кэцян.
Список был бы, конечно, неполным без «руки Кремля», в качестве которой немедленно обнаружился российский партнёр Ван Цзина – бывший сотрудник ФСБ Андрей Смирнов – президент и председатель Совета директоров ООО «НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи», учредивший эту фирму незадолго до событий 2014 г. при содействии, как считают в Киеве, тогдашнего вице-премьера России Владислава Суркова[4]. Вскоре после «окончательной победы революции достоинства» состоялся «преступный сговор» указанных лиц, что впоследствии было квалифицировано СБУ как «возможная подготовка диверсии и государственная измена» и позволило через суд заблокировать весь реестр акционеров.
Без появления «угрозы национальной безопасности Украины» юридических оснований для блокирования сделки не было. В самом факте продажи акций частной компании иностранным инвесторам состава преступления нет. Тем более что акции «Мотор Сич», которые контролировались Богуслаевым, были разделены на пакеты объёмом менее 10 процентов и реализованы в 2016 г. разным офшорным компаниям и шести частным лицам, подконтрольным Ван Цзину, для чего разрешения Антимонопольного комитета Украины не требовалось.
Сам Богуслаев утверждал, что продал предприятие всего за 250 млн долларов[5]. Через пять лет после продажи ПАО «Мотор Сич» по-прежнему находится в его оперативном управлении и продолжает стабильно работать, в том числе и на экспорт в Китай, принося ежедневно 1–2 млн долларов[6]. Попытку покупателей и недавних партнёров провести собрание акционеров (оно не созывалось с 2017 г.), назначенную на 31 января 2021 г., Богуслаев назвал «рейдерским захватом».
В свою очередь, китайские инвесторы, купившие уже около 80 процентов акций, утверждают, что вложили в проект более 1млрд долларов., но так и не вошли в структуру управления[7]. Производство авиадвигателей на заводе, построенном в рамках сотрудничества с Украиной в г. Чунцин (провинция Сычуань) в промышленном парке Chongqing Skyrizon Aero-Propulsion, «временно заморожено». В декабре 2020 г. китайский инвестор и новый украинский партнёр Александр Ярославский инициировали арбитраж против государства Украина, экспроприировавшего их инвестиции и нарушившего права, предусмотренные межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций между Украиной и Китаем от октября 1992 года. Интересы истца представляют международные юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird, связанные с окружением президента США Джозефа Байдена. Заявленная сумма претензий – 3,5 млрд долларов – была увеличена ещё на 100 млн, на сумму полученного «Мотор Сич» от китайцев в апреле 2016 г. льготного кредита (100 млн долларов под 0,3 процента годовых на десять лет)[8].
31 января 2021 г., окончательно потерявшие терпение китайские акционеры вместе со своим новым украинским партнёром – группой DCH Александра Ярославского, намеревались провести первое с 2017 г. собрание акционеров «Мотор Сич», чтобы сменить менеджмент и внести изменения в устав. Оно было сорвано СБУ, которая провела следственные мероприятия по уголовным производствам о противоправных действиях представителей компаний DCH и Skyrizon Aircraft Holdings Limited, связанных с установлением контроля над крупнейшим производителем авиационных двигателей и газотурбинных установок «Мотор Сич», и отметила «уничтожение производственных мощностей акционерного общества, которое имеет важное оборонное и народнохозяйственное значение»[9].
Буквально накануне, 28 января 2021 г., президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о персональных санкциях против китайских инвесторов «Мотор Сич», которые оказались в одном списке с убитым ещё в 2017 г. президентом Йемена Али Абдаллой Салехом, «кумом Путина» Виктором Медведчуком и его супругой телеведущей Оксаной Марченко. При этом Медведчука, который с 2014 г. находится под американскими санкциями «за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины», украинские власти обвинили в финансировании терроризма, как ранее Богуслаева, который ни под какие санкции не попал. В ответ Ван Цзин уже открыто обвинил окружение Богуслаева в «измене, превышении доверия и полномочий», а действия украинских властей назвал «варварским грабежом»[10].
Таким образом, в первоначальную версию перестал вписываться «сепаратист» Богуслаев, который, напротив, как оказалось, вносил неоценимый вклад в повышение национальной безопасности и обороноспособности Украины, модернизировав более 100 вертолётов для украинских силовиков и обеспечив их эксплуатацию, заместив импортные поставки из «державы-агрессора».
Интересы «государственной безопасности» на этот раз совпали с интересами экс-владельца «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Именно аресты и неопределённая ситуация помогли Богуслаеву получить деньги с китайцев, но не отдавать завод. Благодаря аресту акций бывший владелец сохраняет контроль над финансовыми потоками компании. Ей управляют не новые акционеры из КНР, а верный менеджмент Богуслаева, назначенный им ещё в 2015 году.
На возможные причины этой борьбы за предприятие могут пролить свет финансовые показатели ПАО «Мотор Сич», приведённые в таблице 1.
Таблица 1. Выручка ПАО «Мотор Сич» в период 2013–2020 годов
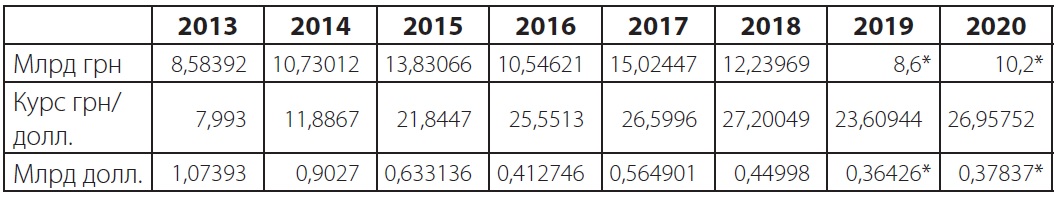
Источник: данные ПАО «Мотор Сич», оценка авторов. * Оценка
Хроника конфликта
25 февраля 2015 г. между ПАО «Мотор Сич» в лице Богуслаева и Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co в лице Ван Цзина был подписан Меморандум о сотрудничестве, включавший стратегическое партнёрство в подготовке кадров, исследованиях, разработках и производстве, китайские инвестиции в развитие авиадвигателестроительного производства на Украине и создание в Китае комплексов по производству и ремонту авиадвигателей ПАО «Мотор Сич». Объёмы заявленных инвестиций – около 20 млрд юаней (3 млрд долларов).
Но уже 16 сентября президент Украины Пётр Порошенко своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 сентября 2015 г. о применении санкций в отношении Российской Федерации, включая основных потребителей продукции ПАО «Мотор Сич»: ОАО «Вертолёты России», ОАО «Роствертол», ПАО «Казанский вертолётный завод», АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие», АО «Вертолётная сервисная компания», АО «Улан-Удэнский авиационный завод», ОАО «Арсеньевская авиационная компания “Прогресс” им. Н.И.Сазыкина», ООО «Борисфен-Авиа» и их руководителей.
Несмотря на это, в том же 2015 г. российским предприятиям было отгружено 540 новых вертолётных двигателей типа ТВ3-117/ВК-2500 производства ПАО «Мотор Сич» на сумму 327,5 млн долларов[11]. Стабильно снижающийся экспорт зафиксирован и в последующем, а в 2018 г. прямые поставки были полностью прекращены, зато уже с 2017 г. начались отгрузки посредникам в Латвию, Китай и Гонконг, составившие около 300 двигателей[12]. При этом динамика снижения их экспорта прекрасно коррелирует с завершением крупных контрактов холдинга «Вертолёты России» на поставки вертолётов семейства Ми-8/17, Ми-28, Ми-35, Ка-52 с этими силовыми установками. Продолжался и процесс импортозамещения: по итогам 2019 г. АО «ОДК-Климов» Госкорпорации «Ростех» заявлено о выпуске более 230 двигателей ВК-2500, тогда как в 2015 г. было сделано всего десять штук[13].
Другим лидером стал Китай, две госкомпании которого, AVlC International Holding и China National Aero-Technology Import and Export Corporation (CATIC), только в 2018 г. приобрели 72 новых авиадвигателя АИ-25ТЛК и АИ-322 для боевых самолётов на сумму 123,88 млн долларов, обеспечив 35 процентов от общей выручки «Мотор Сич»[14]. Последние известные экспортные поставки 16 АИ-322 пришлись на январь-февраль 2021 года. В январе 2021 г. объявлено о подписании ПАО «Мотор Сич» и AVIC International контракта на 400 двигателей АИ-322, используемых на китайских учебно-боевых самолётах L-15 на общую сумму около 800 млн долларов[15]. Тем не менее доходы запорожского предприятия по сравнению с 2013 г. сократились почти в три раза, прежде всего – из-за спада продаж на российском рынке.
С 2015 г. между украинскими и китайскими партнёрами был заключён ряд договоров на оказание услуг по разработке проектной документации на создание авиационного комплекса по разработке, производству и ремонту авиационных двигателей четвёртого поколения в г. Чунцин. Программа производства – серийный выпуск авиационных двигателей – 1000 единиц в год; капитальный ремонт авиационных двигателей – 250 единиц в год; капитальный ремонт энергетических наземных установок – 50 единиц в год. Для строительства комплекса планировалась площадка площадью около 5 гектаров. Проектные решения по возведению зданий разрабатывались на объекты первой очереди строительства двигателестроительного завода. Проектная документация готовилась в 2015–2018 годы.
Следует отметить, что постановлением кабинета министров Украины №83 от 4 апреля 2015 г. ПАО «Мотор Сич» было исключено из списка «стратегических предприятий».
В начале 2017 г. вице-премьер Украины, бывший комендант Евромайдана Степан Кубив официально поддержал совместный украино-китайский проект строительства завода в г. Чунцин и привлечение 250 млн долларов китайских инвестиций, которые должны пойти на модернизацию производственных и проектных мощностей «Мотор Сич» в Запорожье. Завод планировали ввести в эксплуатацию в 2020 году.
В 2018 г. первый завод в промышленном парке Chongqing Skyrizon Aero-Propulsion в новом районе Чунцина Лянцзян приступил к опытной сборке двигателей ТВЗ-117ВМА-СБМ1В (по сути – украинская версия российского вертолётного двигателя ВК-2500, устанавливаемого на большинстве китайских вертолётов семейства Ми-17 и Ка-27/32) из импортных деталей и комплектующих, постепенно осваивая их производство на месте.
О планах строительства второго аналогичного завода ПАО «Мотор Сич» и Skyrizon Aviation заявлено на 12-й Международной авиационно-космической выставке Airshow China 2018. Предприятие планировалось расположить около населённого пункта Лянцзян автономной провинции Гуанси. Намечалось создание производственного комплекса, а также научно-исследовательских и управленческих подразделений. На сегодняшний день оба проекта временно заморожены. Причины украинцами не назывались – в связи с тем, что это находилось в компетенции китайского инвестора.
Законно приобретя акции «Мотор Сич», китайские инвесторы, Skyrizon Aircraft Holdings Limited и «Мотор Сич» в июне 2017 г. подали заявку на их концентрацию в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), чтобы выполнить официальные процедуры в соответствии с украинским законодательством. Именно тогда официально стало известно, что гражданин Китая через подконтрольные структуры уже владеет 56,0009 процента акций ПАО «Мотор Сич». Продавцом оказался гражданин Украины, который владел напрямую 15,83 процента акций, а также 17,3113 процента акций через Business House Helena и 15,7 процента через ООО «Гарант Инвест», ООО «Гарант Альфа», СК «Мотор Гарант» и ЗАО «Торговый дом “Елена”». Супругу Богуслаева зовут Елена Серафимовна.
Вскоре последовал внезапный обыск, проведённый СБУ на «Мотор Сич» в рамках возбуждённого в июле 2017 г. уголовного дела №22017000000000272 по расследованию «подрывной деятельности (диверсии) неизвестных лиц, бывших и действующих руководителей и бенефициаров компании “Мотор Сич”», орудующих в сговоре и имеющих целью ослабить государство Украина, уничтожив «Мотор Сич» как субъект важного коммерческого и безопасного характера (единственное предприятие на Украине по производству двигателей гражданской и военной авиации), заключивших ряд соглашений о продаже контрольного пакета акций «Мотор Сич» шести иностранным компаниям и одному китайскому гражданину, которые намерены передать активы и производственные мощности «Мотор Сич» за границу (Китайская Народная Республика), что в конечном счёте приведёт к ликвидации и уничтожению «Мотор Сич»[16].
В сентябре 2017 г. в рамках указанного уголовного производства Шевченковский районный суд в Киеве вынес запрет на отчуждение акций «Мотор Сич». В апреле 2018 г. был наложен судебный запрет депозитариям вносить любые изменения в отношении акций «Мотор Сич» в системе, а также выдавать реестр акционеров. В дальнейшем суды различных инстанций регулярно удовлетворяли ходатайства прокуратуры по продлению ареста акций «Мотор Сич». Более того, Генеральная прокуратура пошла ещё дальше, добавив обвинение в государственной измене в перечень преступлений, которые расследуются в рамках указанного уголовного производства.
Запрет выдавать реестр акционеров полностью заблокировал возможность созыва и проведения общего собрания акционеров, что привело к невозможности получения дивидендов инвесторами. Неоднократные обращения самих иностранных инвесторов, их представителей и юридических лиц – держателей акций в украинские суды для отмены ареста активов были полностью отклонены.
Но выход из тупика вскоре «подсказали». Инвесторам от имени государства Украина предложили начать сотрудничать по совместному управлению «Мотор Сич», которое станет возможным после того, как они безвозмездно перераспределят 25 процентов уже имеющихся у них акций в пользу государственного концерна (ГК) «Укроборопром». В результате в апреле 2018 г. инвесторы и «Укроборопром», действовавший от имени Украины, заключили ряд соглашений, направленных на выделение 25,00002 процента акций «Мотор Сич» госконцерну, договор о сотрудничестве между сторонами, соглашение о финансировании специального назначения и так далее. Эти документы определяли ряд действий, которые правительство Украины должно было выполнить в 2019 г., чтобы создать функциональные условия для сторон по совместному владению «Мотор Сич», получить разрешения АМКУ и отменить арест активов.
Если бы Украина выполнила обязательства, инвесторам пришлось бы распорядиться 25 процентами акций в пользу ГК «Укроборопром», а одна из компаний инвесторов была бы вынуждена заключить специальное соглашение о финансировании, которое требовало внести 100 млн долларов в пользу Украины. Основанием для этого стало секретное решение СНБО о неотложных мерах по защите национальных интересов в авиадвигателестроении, введённое в действие указом президента Петра Порошенко от 6 марта 2018 года. В бюджет Украины на 2019 г. была даже внесена доходная статья – пополнение уставного капитала «Укроборонпрома» на 2,82 млрд грн, что соответствовало 100 млн долларов.
Спустя год, 6 июня 2019 г., Skyrizon Aircraft Holdings Limited, «Мотор Сич» и Государственный концерн «Укроборонпром» обратились в АМКУ с несколькими заявлениями на предоставление разрешения на слияние (концентрацию). 12 июня того же года в наблюдательный совет «Укроборонпрома» указом нового президента Владимира Зеленского был введён бывший в 2014–2016 гг. министром экономического развития и торговли Украины гражданин Литвы Айварас Абромавичус, вскоре ставший его председателем, а в августе сменивший на должности генерального директора концерна Павла Букина, который, выполняя указ президента, уже завершил подготовительную работу по разрешению конфликта с китайским инвестором.
В свою очередь, АМКУ распоряжением от 9 июля 2019 г. начал углубленное расследование соответствующих заявлений, искусственно задерживая вынесение решений о предоставлении разрешения на слияние для инвесторов.
Раскрыть причину нового внезапного прекращения действия и утраты юридической силы для сторон соглашения с «Укроборонпромом» может стать обнародованный 2 февраля 2021 г. факт открытия Национальной комиссией Украины по ценным бумагам и фондовому рынку дела в отношении депозитарного учреждения ООО «Драгон Капитал», на счетах которого в ценных бумагах размещены акции ПАО «Мотор Сич». Причиной названы нарушения требований «Положения о проведении депозитарной деятельности» в части осуществления информационного и организационного обеспечения, а также нарушение требований статьи 35 закона Украины «Об акционерных обществах». Dragon Capital – одна из крупнейших групп компаний на Украине, которая работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг. Её конечным бенефициаром является чех Томаш Фиала, с которым Абромавичуса связывают давние деловые связи.
Таким образом, логичным представляется наличие устойчивого коррупционного фактора, ведь интерес к получению доли предприятия в обмен на государственную поддержку и финансирование проявлен на самом верху, причём довольно давно. Известно заявление получившего политическое убежище в Лондоне бывшего гендиректора госкомпании «Укрспецэкспорт» майора СБУ Сергея Бондарчука о том, что ещё в 2005 г. долю ПАО «Мотор Сич» пытался получить тогдашний секретарь СНБО Пётр Порошенко.
Ещё через год китайские инвесторы решили сосредоточить усилия на другом направлении и нашли нового, более надёжного, партнёра на Украине – группу DCH украинского миллиардера Александра Ярославского. 4 августа 2020 г. DCH, аффилированная с ней ООО «МС-4», Beijing Xinwei Technology Group и связанная с ней компания Beijing Skyrizon договорились о будущем партнёрстве по совместному управлению «Мотор Сич» и обратились в АМКУ для получения разрешения на слияние (концентрацию).
В ответ последовал целый ряд заявлений, исходящих из высших политических органов Украины: заявление офиса президента от 6 августа 2020 г., заявление премьер-министра от 6 августа 2020 г. и заявление СНБО, которыми фактически оспаривалась легитимность активов китайских инвесторов, а 20 августа 2020 г. АМКУ вернул заявку без удовлетворения.
В сентябре 2020 г. китайские инвесторы направили министерству юстиции Украины сообщение об инвестиционном споре (Notice of Investment Dispute). Они указывают, что действия украинской власти по блокированию доступа новых акционеров к управлению предприятием – экспроприация их инвестиции, а также нарушение других их прав, гарантированных межправительственным украино-китайским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1992 года.
На протяжении нескольких месяцев юристы акционеров «Мотор Сич» безуспешно добиваются в украинских судах снятия четырёх арестов, которые заблокировали смену акционеров и оставили предприятие под фактическим контролем бывшего акционера Вячеслава Богуслаева и его топ-менеджеров.
В итоге китайские инвесторы официально потребовали от органов власти Украины, включая АМКУ, воздержаться от любой незаконной деятельности и выдвинули обвинение в нарушении соглашения между правительством Китайской Народной Республики и правительством Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1992 г., злоупотреблении властью, незаконных действиях и вредоносном давлении на стандартные рыночные процедуры и ведение хозяйственной деятельности предприятий. Было заявлено и о понесённых убытках:
дивиденды по акциям, которые «Мотор Сич» должно было распределить в прошлые годы, когда действовал арест активов;
потерянная в результате экспроприации стоимость акций;
ущерб от невозможности провести запланированную реструктуризацию из-за искусственной задержки по разрешению на слияние;
убытки от строительства производственных мощностей в Китае, необходимых для делового сотрудничества с «Мотор Сич»;
заём, выданный «Мотор Сич».
В декабре 2020 г. китайские инвесторы направили правительству Украины сообщение об обращении в Международный арбитражный суд для судебного разбирательства и необходимых действиях по законной процедуре международного инвестиционного арбитража.
В ответ с 28 по 29 января 2021 г. на официальном сайте офиса президента Украины последовательно были опубликованы указы президента № 29/2021 и № 36/2021 о применении на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd. и её дочерних компаний Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Skyrizon Aircraft Holdings Limited, а также Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. и трёх граждан Китая, среди которых Ван Цзин и Ду Тао. Министерство иностранных дел Украины проинформировало компетентные органы Европейского союза, Соединённых Штатов и других государств о применении санкций и поставило перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.
Это было истолковано китайцами как «умышленные действия государства Украина с целью препятствования инвестициям в украинскую компанию “Мотор Сич” и недопущения реализации проекта международного сотрудничества». Одновременно было заявлено, что такие действия «совпадают с целью действий Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США от 14 января 2021 г. о внесении компании Skyrizon в список военных конечных пользователей (MEU)».
Американский след
В новом варианте объяснений, касающихся сложившейся по вине украинской стороны неприглядной ситуации, есть ссылки на требования помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который 28 августа 2019 г. заявил в Киеве о рисках продажи части «Мотор Сич» китайцам, так как это способствует «укреплению обороноспособности стратегического противника США»[17]. Он сказал, что Китай ведёт нечестную игру и ворует военные технологии.
Министр финансов Украины Александр Данилюк во время переговоров с Болтоном сделал запрос на привлечение американского инвестора, который «в течение двух недель был найден». Но за полтора года переговоры с ним не продвинулись, в чём уволенный Данилюк обвиняет украинские власти, где «не осталось людей, которые бы понимали, как проводить переговоры такого уровня»[18].
В октябре того же 2019 г. Эрик Принс, основатель частных военных компаний Blackwater, Academi, Xe Services, фонда с акциями на Шанхайской бирже Frontier Service Group и неофициальный советник Дональда Трампа, встретился с руководством «Мотор Сич» для обсуждения приобретения и отмены продажи Китаю[19]. Об итогах встречи не сообщалось.
При этом говорилось, что Принс имел отношение к переговорам между инвестиционной компанией Oriole Capital Group (создана в 2017 г. на Ближнем Востоке), которой руководит Набиль Баракат, уже имевший интересы в оборонной сфере Украины и «Мотор Сич»[20]. Они, видимо, проходили в 2019–2020 годах. Вместе с Баракатом в переговорах с украинцами также участвовала техасская компания Trive Capital, которую возглавляет близкий к американским спецслужбам Коннер Сирси[21]. Судя по отсутствию новостей, и эти переговоры закончились ничем[22].
13 декабря 2019 г. Богуслаев вновь подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям. Генеральный конструктор ГП «Ивченко-Прогресс» Игорь Кравченко заверил, что уникальные разработки не будут проданы вместе с акциями ПАО «Мотор Сич», а предприятие ждёт лишь успех и развитие. Но никакой реакции со стороны Соединённых Штатов не последовало. Более того, даже в отношении китайской компании Skyrizon министерством торговли США только 14 января 2021 г. был введён особый режим контроля за экспортом – наименее болезненный вид санкций. Как американцы действуют в случае необходимости воздействия на несговорчивых оппонентов, хорошо известно на примере российских, иранских и европейских предприятий и физических лиц, на которых немедленно накладываются жесточайшие персональные политические, экономические и финансовые санкции, а зачастую и начинается уголовное преследование.
Судя по тому, что ничего подобного в отношении лично Богуслаева, ПАО «Мотор Сич» и многочисленных аффилированных с ними компаний не последовало, Принс получил некие гарантии от своего старого партнёра по оружейному бизнесу. Напомним, что отмеченная в Докладе группы экспертов ООН поставка в подсанкционный Южный Судан в 2015 г. модернизированных вертолётов Ми-24В-МСБ, осуществлённая ПАО «Мотор Сич», осталась без негативных последствий со стороны госдепартамента США, что объяснялось участием в сделке американских ЧВК, без излишней огласки широко применявших авиатехнику с запорожскими двигателями в многочисленных горячих точках по всему миру.
Заключение
Таким образом, в течение всех этих лет китайские инвесторы ни сами, ни в партнёрстве с частными и государственными структурами Украины не могут вступить в права собственности: сделка заблокирована, акции арестованы по инициативе СБУ, АМКУ не даёт разрешения на концентрацию, генпрокуратура наложила дополнительный арест, а президент Украины – санкции. С момента ареста акций в 2017 г. собрания акционеров не проводятся, прибыль предприятия не распределяется.
Возможными объяснениями затянувшегося конфликта, высказываемыми в различные периоды, могут быть следующие:
Вариант первый, к которому склонялось большинство украинских экспертов на начальном этапе скандала: известный «сепаратист и сторонник “русского мира”» Богуслаев продал принадлежащие ему акции ПАО «Мотор Сич» напрямую и через офшорные компании, после чего организовал через СБУ, АМКУ и суды их арест, что позволило, не возвращая новым китайским владельцам полученных средств, продолжать единолично управлять предприятием, не делясь корпоративными правами и не проводя ежегодные собрания акционеров.
Вариант второй, к которому оперативно и с редкой последовательностью пришло то же самое большинство украинских экспертов: китайские инвесторы, вступив в преступный сговор с представителями «государства-агрессора», попытались осуществить рейдерский захват стратегического украинского предприятия, крепившего под управлением команды патриота и героя Украины Богуслаева обороноспособность лучшей армии-защитницы всей Европы, который был своевременно разоблачён и пресечён бдительной СБУ и закреплён решениями судов, распоряжениями АМКУ, указами президента Украины и решениями СНБО о введении против них санкций с предстоящей национализацией ПАО «Мотор Сич».
Вариант третий, на который пока осторожно намекают отдельные представители, ранее возглавлявшие центральные органы украинской власти: «Группа лоббистов, преследующих свои личные цели, обманывает представителей власти, чтобы подтолкнуть Украину к национализации “Мотор Сич”»[23]. Дальнейшее развитие событий – получение в качестве компенсации через Международный арбитражный суд и делёжка нескольких миллиардов долларов, при этом менеджмент вновь обретённого ГП «Мотор Сич» остаётся прежним, что позволяет продолжать и далее работать по схемам Богуслаева. В случае же смены команды государственными управленцами завод, оставшийся без внешних заказов и поставки комплектующих из России и Китая, банкротится и приобретается той же группой лоббистов по бросовой цене.
В пользу последнего варианта развития событий говорит редкое единодушие в высказываниях Богуслаева, Ван Цзина и Ярославского, хором отговаривавших власти Украины от национализации, которая всё же произошла 24 марта после подписания соответствующего указа президента Зеленского.
Какой бы из приведённых вариантов ние оказался наиболее близким к истине, уже сейчас можно смело утверждать, что тянущийся седьмой год скандал с «Мотор Сич» ярко демонстрирует особенности украинского инвестиционного климата и государственно—частного партнёрства с приватизацией прибылей и активов и национализацией проблем и убытков. Учитывая на глазах обостряющийся конфликт между КНР и США и тесную связь между Киевом и Вашингтоном, эпопея, начинавшаяся как бизнес-конфликт, имеет все шансы обрести геополитическое измерение. Во всяком случае, в Пекине это с высокой степенью вероятности будут трактовать именно так.
--
СНОСКИ
[1] Постановление следователя-судьи Шевченковского районного суда в Киеве Щебиняев Л.Л. от 7 сентября 2017 г. по делу № 761/31558/17 и Постановление следователя-судьи Шевченковского районного суда в Киеве Слободянюк П.Л. от 7 сентября 2017 г. по делу № 761/31561/17.
[2] Киев в дыму, а Китай в Крыму // Деловой портал о бизнесе с Китаем ChinaLogist. URL: https://chinalogist.ru/book/articles/analitika/kiev-v-dymu-kitay-v-krymu (дата обращения: 08.04.2021).
[3] Wang Jing, the businessman spearheading Beijing’s global ambitions // Intelligence Online. 2020. URL: https://www.intelligenceonline.com/insiders/china/2020/03/09/wang-jing-the-businessman-spearheading-beijing-s-global-ambitions/108396907-be1 (дата обращения: 19.04.2021).
[4] Вице-премьер России провёл переговоры с Синвэй // НСТТ. 25.03.2012. URL: https://nxtt.org/sobytiya/vitse-premer-rossii-provel-peregovory-s-sinvey/ (дата обращения: 08.04.2021).
[5] Богуслаєв підтвердив передачу акцій «Мотор Січі» китайським компаніям // Укрінформ. 13.12.2019. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2837837-boguslaev-pidtverdiv-peredacu-akcij-motor-sici-kitajskimkompaniam.html (дата обращения: 08.04.2021).
[6] Годовой доход ПАО «Мотор Сич» в 2019–2020 гг. – около 350 млн долларов, то есть ежедневно предприятие приносит около 1 млн долларов.
[7] Ван Цзин: «Мотор Сич» всегда будет украинской компанией на украинской земле // РБК-Украина. 10.09.2020. URL: https://daily.rbc.ua/rus/show/van-tszin-motor-sich-budet-ukrainskoy-kompaniey-1599734819.html (дата обращения: 08.04.2021).
[8] Компания Мотор Сiч. URL: https://mc-osa.com.ua/ua/ (дата обращения: 08.04.2021).
[9] СБУ проводить слідчі дії за кримінальним провадженням щодо незаконних зборів акціонерів АТ «Мотор Січ» // Служба безпеки України. 31.01.2021. URL: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-provodyt-slidchi-dii-za-kryminalnym-provadzhenniam-shchodo-nezakonnykh-zboriv-aktsioneriv-at-motor-sich (дата обращения: 08.04.2021).
[10] Компания Мотор Сiч. URL: https://mc-osa.com.ua/ua/ (дата обращения: 08.04.2021).
[11] База данных Государственной фискальной службы Украины.
[12] Там же.
[13] «ОДК-Климов» подвела итоги 2019 года // Rostec. 14.04.2020. URL: https://rostec.ru/news/odk-klimov-podvela-itogi-2019-goda/ (дата обращения: 08.04.2021).
[14] Печорина Н. Итоги военно-технического сотрудничества Украины в 2018 году // «Экспорт вооружений». №1 (январь–февраль), 2019. С. 24–33.
[15] «Мотор Сич» заключило контракт с китайской AVIC International на поставку 400 двигателей АИ-322 // Livejournal. 16.01.2021. URL: https://diana-mihailova.livejournal.com/5986365.html (дата обращения: 08.04.2021).
[16] СБУ провела слідчі дії на підприємстві «Мотор Січ» // Служба безпеки України. 23.04.2018. URL: https://www.sbu.gov.ua/ua/news/250/category/21/view/4678#.sNJ7KJK2.dpbs (дата обращения: 08.04.2021).
[17] Болтон о Мотор Сичи: Китай «украл» F-35, поэтому предостерегаю Украину // BBC News Україна. 28.08.2019. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-49501524 (дата обращения: 08.04.2021).
[18] Мотор Січ: вихід із глухого кута // Новини України та Світу. 5.02.2021. URL: https://nv.ua/ukr/opinion/motor-sich-prodazh-yak-ukrajini-virishiti-problemu-z-kitayem-novini-ukrajini-50140067.html?utm_content=set_lang&utm_medium=in_article&utm_campaign=langanalitics (дата обращения: 08.04.2021).
[19] Security Contractor Erik Prince Is in Talks to Acquire Ukraine’s Motor Sich // The Wall Street Journal. 5.11.2019. URL: https://www.wsj.com/articles/security-contractor-erik-prince-is-in-talks-to-acquire-ukraines-motor-sich-11572949809 (дата обращения: 08.04.2021).
[20] Баракат ещё в 2017 г. подписал соглашение с ГК «Укроборонпром», в соответствии с которым он должен был инвестировать 150 млн долларов в Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и выпускать там транспортные самолёеты Ан-74 для своей компании.
[21] Компания осуществляет поставки разведывательного оборудования Командованию специальных операций, Разведывательному управлению Министерства обороны и Национальному агентству геопространственной разведки США.
[22] Washington turns to Gulf agents to wrest Motor Sich away from Chinese hands // Intelligence Online, 2020. URL: https://www.intelligenceonline.com/government-intelligence/2020/03/11/ washington-turns-to-gulf-agents-to-wrest-motor-sich-away-from-chinese-hands,108397465-eve (дата обращения: 19.04.2020).
[23] Национализация «Мотор Сич» – результат умышленного обмана власти Украины // Livejournal. 15.03.2021. URL: https://diana-mihailova.livejournal.com/6236575.html (дата обращения: 08.04.2021).

НОВОЙ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ НЕ БУДЕТ
ТОМАС КРИСТЕНСЕН
Профессор международных и общественных отношений Колумбийского университета.
На протяжении последних десятилетий китайские эксперты и дипломаты обвиняли США в переходе к менталитету холодной войны в отношении Пекина. Обычно такие заявления звучат, когда Вашингтон укрепляет военное присутствие или оказывает военное содействие союзникам в Азии.
Действительно, после холодной войны Соединённые Штаты вместе с союзниками и партнёрами в Азиатско-Тихоокеанском регионе вступили в стратегическое военное соперничество с КНР, которая модернизировала войска и наращивала возможности проецирования силы. До сих пор США удавалось удерживать материковый Китай от силового разрешения территориальных споров в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также в Тайваньском проливе. Кроме того, США и их ближайшие союзники запретили продажу оружия Китаю и попытались ограничить передачу ему некоторых военных технологий.
На этом основании, по крайней мере до недавнего времени, проводилась аналогия с холодной войной. Однако в 1950–1960-е гг. американское сдерживание СССР и его блока выходило далеко за рамки военной сферы. Все усилия были направлены на то, чтобы ограничить экономические контакты с этими странами, подорвать их экономики и расстроить дипломатические планы на международной арене. После начала реформ в Китае в 1978 г., напротив, никто (кроме самих китайцев) не содействовал масштабному экономическому развитию страны так, как это делала Америка. Открытие американских рынков для китайского экспорта, огромные инвестиции в китайскую промышленность, сотни тысяч китайских студентов в американских университетах – всё это способствовало стремительному росту и технологической модернизации КНР. Соединённые Штаты предлагали Пекину играть более активную роль в международной дипломатии или, как выразился бывший замгоссекретаря Роберт Зеллик, выполнять свою часть работы в качестве «ответственного акционера» международной системы[1]. Китай в ответ действовал спонтанно, но в любом случае слова Зеллика опровергают идею о том, что Вашингтон десятилетиями не позволял Китаю оказывать влияние на международную систему.
Сейчас ситуация меняется, «ястребы» укрепляют позиции в американской политике. После прихода Дональда Трампа в Белый дом в 2017 г. многие комментаторы предсказывали холодную войну с Китаем. В качестве доказательств они приводили не только активизацию военного соперничества в Индо-Тихоокеанском регионе (что не ново), но и американо-китайскую торговую войну, сопровождаемую призывами к полномасштабному экономическому разъединению. Вашингтон внёс Huawei и ряд других китайских компаний и учреждений в список контроля за экспортом Министерства торговли, а также в список иностранных активов Минфина – американские компании лишились права вести бизнес с этими организациями без специальной лицензии. В стратегии национальной безопасности США, опубликованной в декабре 2017 г. Китай и Россия были названы противниками Америки, а администрация Трампа расценила внешнеэкономическую политику Пекина как «хищническую»[2]. COVID-19 явно не улучшил отношения. Вместо того, чтобы сообща решать проблему, две страны обвиняли друг друга в пандемии и выясняли, какая политическая система лучше справляется с ситуацией.
Во второй половине 2020 г. в различных выступлениях, правительственных документах, статьях и твитах администрация Трампа практически объявила КНР холодную войну. Утверждалось, что Пекин пытается разрушить либеральный международный порядок и заменить его своей гегемонией. Администрация Трампа называла Китай экзистенциальной угрозой Америке и базовым свободам, которые традиционно защищал Вашингтон. Как и в случае с Советским Союзом, предлагалось единственное долгосрочное решение – Соединённые Штаты должны возглавить глобальную коалицию стран-единомышленниц, чтобы ослабить Китай за рубежом и содействовать фундаментальным политическим изменениям внутри страны.
Критики такой политики могут сказать, что США создают самореализующееся пророчество: объявив холодную войну, Вашингтон провоцирует её появление. Но ничего похожего на холодную войну с Советским Союзом или с тем же Китаем в 1950–1960-е гг. в перспективе не просматривается – независимо от декларируемых стратегий.
Холодная война – это сложный набор отношений со многими странами. Ни одна держава, даже очень мощная, не может в одиночку развязать холодную войну.
Не холодная война
Американо-китайское соперничество реально и несёт в себе опасности, но ему не хватает трёх ключевых элементов холодной войны США и СССР.
Америка и Китай не ведут идеологическую борьбу за сердца и умы третьих стран.
Сегодняшний глобализированный мир невозможно чётко поделить на два экономических блока.
Соединённые Штаты и Китай не возглавляют противоборствующие альянсы подобные тем, что вели кровопролитные опосредованные войны в середине XX века в Корее и Вьетнаме и создавали ракетные кризисы в Берлине и на Кубе.
Без любого из этих трёх факторов холодная война между США и Советским Союзом была бы менее ожесточённой и опасной. Поэтому, хотя подъём Китая связан с реальными вызовами для Соединённых Штатов, их союзников и партнёров, угрозу следует понимать правильно. Призывающие использовать против Китая стратегию сдерживания времён холодной войны, не понимают природу китайского вызова и поэтому предлагают ответные действия, которые лишь ослабят Америку.
Если Вашингтон в одностороннем порядке примет ушедшую в прошлое стратегию холодной войны в отношении Пекина, то оттолкнёт от себя союзников, которые слишком зависят от КНР. Хотя многие страны и разделяют обоснованную обеспокоенность Вашингтона по поводу политики Пекина, большинство американских союзников и партнёров не считают Китай экзистенциальной угрозой. Если президент Джо Байден продолжит политику своего рода холодной войны с Китаем, которую проводила администрация Трампа, Соединённые Штаты ослабят собственные позиции, лишившись одного из главных конкурентных преимуществ – альянсов и партнёрства с более чем шестьюдесятью странами, среди которых представлены и наиболее технологически развитые державы мира. Сравните с галереей партнёров Китая: в первую очередь в голову приходят Северная Корея, Иран, Пакистан, Судан и Зимбабве.
Кто-то может сказать, что реальное различие между холодной войной и нынешним стратегическим соперничеством Вашингтона и Пекина заключается в ограниченном значении КНР по сравнению с СССР в 1950–1960-е годы. США по-прежнему существенно опережают Китай по общей национальной мощи. Однако этот факт не должен успокаивать американцев. Ещё в 2001 г. я говорил, что Китай создаёт асимметричные угрозы войскам и базам США в Восточной Азии – регионе, имеющем геостратегическое значение. На региональном уровне Китай сегодня мощнее, чем тогда, мощнее, чем любой американский союзник в Азии[3].
Споры о морских границах между Китаем и Японией, Тайванем и несколькими государствами Юго-Восточной Азии (включая американского союзника Филиппины) несут серьёзный риск вовлечения США и КНР в прямой конфликт. К счастью, как отмечает норвежский профессор Эйстейн Тюншё[4], кризисы и даже конфликты за морские территории опасны, но более управляемы в сравнении, например, с обычным конфликтом между США и СССР за территорию в Центральной Европе в годы холодной войны. Государство не может просто захватить и удерживать контроль над морской территорией. Кроме того, за исключением Тайваня, спорные острова, скалы и рифы вблизи Китая – не очень привлекательные цели для захвата.
Помимо различий в силе и географии есть ещё три фактора, которые делают нынешнее американо-китайское стратегическое соперничество менее опасным, чем холодная война Соединённых Штатов и Советского Союза. Если бы США и КНР возглавляли противоборствующие и экономически независимые блоки, основанные на фундаментально противоположных идеологиях, их стратегическое соперничество быстро вышло бы на сушу и из Восточной Азии распространилось на всю планету. Даже если бы Китай не был в состоянии проецировать военную мощь таким образом, чтобы бросить вызов Америке в отдалённых районах мира, он мог бы снабжать, готовить и поддерживать идеологически близкие пропекинские государства, которые, в свою очередь, атаковали бы американских союзников и партнёров в регионах. Иными словами, нынешнее региональное соперничество в Восточной Азии могло бы перерасти в глобальное. И это больше бы напоминало холодную войну, поскольку за локальными конфликтами между американскими и китайскими марионетками стояли бы США и КНР с их ядерным и обычным наступательным вооружением дальнего радиуса действия.
К счастью, пока всё это политическая научная фантастика. Нет фактов, подтверждающих, что Китай пытается распространить свою идеологию в мире или что идеология является лакмусовой бумажкой отношений КНР с другими странами. Некоторые эксперты подняли шумиху после заявления председателя КНР Си Цзиньпина на XIX партийном съезде в ноябре 2017 г., где он сказал, что китайский путь может стать альтернативой так называемому вашингтонскому консенсусу. «Путь, теория, система и культура социализма с китайской спецификой продолжает развиваться, прокладывая новую дорогу для других развивающихся стран, стремящихся к модернизации. Это новый вариант для стран и народов, которые хотят ускорить своё развитие, сохранив при этом независимость», – сказал Си Цзиньпин[5]. Его заявление скорее выглядело как обоснование правления и экономической политики Компартии Китая (КПК), чем как призыв к экспорту «китайской модели».
Последующие заявления Си Цзиньпина говорят в пользу такой интерпретации. В декабре 2017 г. в Пекине состоялся Диалог КПК с политическими партиями мира, на котором присутствовали представители 300 политических партий из 120 стран. Выступая на мероприятии, Си Цзиньпин отверг утверждения о том, что Китай экспортирует свою идеологическую модель: «Мы не импортируем иностранные модели и не экспортируем китайскую модель, мы не можем требовать от других стран повторять китайский подход к жизни»[6]. А ведь этот форум мог бы быть подходящим местом для пропаганды китайской модели. В период реформ КПК добавляла термин «с китайской спецификой» для описания своего бренда так называемого социализма, который опирается на рыночные принципы ценообразования и страдает от большего неравенства, чем многие капиталистические страны, включая США.
Трудно экспортировать модель, если даже её апологеты говорят, что она должна быть глубоко укоренена в китайской истории и культуре.
Менять сердца и умы?
Пекин авторитарно и часто пугающе репрессивно действует дома, создавая «лагеря перевоспитания» в Синьцзяне, подавляя протесты тибетцев и голоса политических диссидентов, журналистов и правозащитников. Однако в отличие от России, которая активно пытается подорвать демократию в Восточной Европе и других странах, Китай индифферентно относится к внутриполитическим структурам других стран. Пекин гораздо больше заботит отношение этих стран к внутренней политике КПК, территориальным спорам Китая и экономическому сотрудничеству с КНР – именно в таком порядке. Доклад RAND метко упрекнул администрацию Трампа в том, что она объединила Россию и Китай в списке угроз: «Россия – изгой, но не соперник; Китай – соперник, но не изгой»[7]. Бывший китайский дипломат Ши Цзэ, работавший в России, говоря о различиях Москвы и Пекина, резюмирует: «У Китая и России разные подходы. Россия хочет разрушить нынешний мировой порядок. Россия считает себя жертвой нынешней международной системы, в которой её экономика и общество не развиваются. А Китай получает пользу от нынешней международной системы. Мы хотим улучшить и модифицировать её, но не разрушать»[8].
Тем не менее, как и Москва, Пекин использует нелиберальные методы влияния на общественное мнение в мире. Лора Розенбергер, американский чиновник с большим опытом, отмечает, что Пекин перенял российскую тактику интернет-атак для подрыва доверия к демократии. Её статья касается примеров кампаний по дезинформации в Гонконге, но выводы справедливы и для Тайваня[9]. Однако поведение Китая в регионах, которые он считает своими, не стоит экстраполировать на внешнюю политику Пекина в целом. Попытки Китая оказывать влияние в других странах – в частности, в Австралии, Новой Зеландии и даже США – называют примерами идеологического ревизионизма. Да, они вызывают обеспокоенность, но кардинально отличаются от атак на демократию в Гонконге и на Тайване. В период коронакризиса китайские дипломаты и СМИ ополчились на иностранные правительства и экспертов, которые критиковали Пекин за действия на начальном этапе пандемии, отсутствие прозрачности и свободы слова. То же самое касается критики репрессий против уйгуров в Синьцзяне и подавления протестов китайских интеллектуалов, юристов, журналистов и правозащитников. Но вместо того, чтобы пытаться подорвать либеральную демократию в критикующих его странах, Пекин сосредоточил усилия на изменении их отношения к правлению КПК и предотвращении поддержки оппонентов Китая, в том числе в Тайваньском проливе.
В докладе Института Гувера (Стэнфордский университет) содержится, пожалуй, наиболее резкая критика попыток Китая влиять на другие страны. Однако даже там отмечается, что главная цель Пекина – защитить правление КПК от зарубежной критики, а не экспортировать китайскую авторитарную модель в другие государства[10]. Китайский подход, по сути, не нацелен против иностранных демократий и очень далёк от поддержки коммунистических революций во времена Сталина и Мао Цзэдуна.
Попытки Пекина оказывать влияние всё же представляют серьёзную проблему, хотя и не являются основой для новой холодной войны. Используя деньги, чтобы повлиять на исход выборов или освещение в СМИ тех или иных событий, а также заставляя представителей научного сообщества и студентов занимать выгодную Пекину позицию по вышеперечисленным вопросам, КПК наносит ущерб важнейшим институтам свободного общества, хотя и не подрывает основы либеральной демократии в ярко выраженной форме. Потенциально ущерб может быть достаточно серьёзным и поэтому должен вызывать обеспокоенность в экспертном и журналистском сообществе.
Китаевед Элизабет Экономи отмечает, что региональные власти в Китае проводят для иностранцев курсы по эффективному госуправлению. Среди обучающихся есть исследователи, эксперты и чиновники из соседних государств. Китай предлагает обучающие программы по госуправлению и экономическому развитию авторитарным государствам, например Камбодже и Судану. Данную практику можно считать максимально приближенной к пропаганде авторитаризма со стороны КПК. Но было бы гораздо опаснее и могло бы создать условия для новой холодной войны, если бы Китай обучал проавторитарные партии и группировки в демократических странах, как захватить власть и уничтожить демократию[11]. Это напоминало бы поддержку Советским Союзом и КНР международных коммунистических организаций в начале холодной войны. Нынешние китайские обучающие программы стоит рассматривать как усилия общественной дипломатии – они призваны показать, что китайская модель управления работает и является легитимной, несмотря на критику со стороны США и других демократий по поводу отсутствия гражданских свобод и демократических выборов в КНР.
До того, как президентом стал Трамп, американская внешняя политика, возможно, была более идеологизированной, чем в Китае.
При администрации Байдена тенденция возродится. США приветствовали демократизацию и поддерживали прореформистские «цветные революции» в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Центральной Европе и Центральной Азии. Трамп, однако, выдвинув лозунг «Америка прежде всего», отказался от традиционной формы идеологического ревизионизма, присущей обеим партиям. Он также отверг усилия по проведению либеральных институциональных реформ, например, в рамках Транстихоокеанского партнёрства, и подвергал нападкам многосторонние экономические соглашения, в том числе ВТО. Наконец, Трампу было вполне комфортно общаться с диктаторами, и он мог в равной мере критиковать и либеральные демократии, и авторитарные государства. В результате за президентский срок Трампа Америка и Китай оказались ещё дальше от идеологической холодной войны 1950–1960-х годов. Китай не экспортировал свою идеологию, как при Мао, а Соединённые Штаты при Трампе больше не экспортировали свою.
При администрации Трампа наиболее идеологической была кампания «Свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион» с участием четырёх ведущих демократий: США, Японии, Австралии и Индии. Эта «четвёрка», или «бриллиант безопасности», – концепция японского премьер-министра Синдзо Абэ – гипотетически могла создать некий географический и политический сдерживающий свод над Китаем. Взаимодействие четырёх стран в сфере безопасности совершенствуется, но пока далеко от многосторонних альянсов холодной войны, особенно с учётом присутствия традиционно неприсоединяющейся Индии и при наличии прочных экономических связей всей «четвёрки» с КНР. Другие ключевые демократические союзники Соединённых Штатов в Азии, включая Южную Корею и Филиппины, по-видимому, не хотят участвовать в многосторонних (тем более идеологических) блоках, направленных против Китая. Фактические и потенциальные американские региональные партнёры, например, Таиланд после переворота и коммунистический Вьетнам, не подходят для идеологических альянсов и не хотят делать выбор между США и Китаем.
Реализация собственных целей
Подход Байдена к Китаю увязывается с необходимостью восстановить испорченные отношения с американскими союзниками и партнёрами. Многие из них разделяют обеспокоенность США по поводу агрессивного поведения Китая на международной арене и несправедливых экономических условиях дома. Сосредоточиться на укреплении коалиций – разумное решение администрации Байдена, но было бы ошибкой строить альянсы и партнёрства исключительно на общей идеологии или заставлять союзников и партнёров выбирать между Соединёнными Штатами и КНР.
Китайские эксперты убеждены, что Пекин в состоянии предотвратить формирование альянса холодной войны в Индо-Тихоокеанском регионе. Они подчеркивают: Китай – а не США – является крупнейшим экономическим партнёром многих ключевых американских союзников в АТР, включая Японию, Южную Корею и Австралию. Ян Цземянь, брат высокопоставленного китайского дипломата Ян Цзечи, считает, что холодная война нарушит транснациональные производственные цепочки и окажется слишком затратной для американских союзников в Европе и Азии, поэтому им будет проще договориться с Китаем независимо от Вашингтона[12].
Несмотря на территориальные споры с КНР, десять стран – членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) также экономически зависят от Китая. Китайские аналитики убеждены: эти государства – плохие кандидаты для американской коалиции против Китая. Эксперты отмечают подозрительность, с которой друг к другу относятся Япония и Южная Корея. Все эти трения усугубляет печальная история японского империализма в Восточной Азии и то, как нынешние политические акторы манипулируют исторической памятью, скрывают или искажают факты в политических целях, в том числе на выборах.
Администрация Трампа создала два новых источника напряжённости с партнёрами: торговые споры, инициированные Соединёнными Штатами против своих давних союзников – Японии, Кореи и Евросоюза, и требования – нередко публичные – разделить с США бремя затрат на альянсы. После введения Соединёнными Штатами пошлин для Японии и Китая в 2018 г., произошло потепление в отношениях Токио и Пекина. Введение пошлин навредило Токио, как и выход администрации Трампа из Транстихоокеанского партнёрства. При этом немногие признают, что пошлины против КНР ударили по японским и американским компаниям, которые завершают производство в Китае или продают комплектующие для цепочки поставок, конечной точкой которых является Китай, а основным целевым рынком – США[13]. В октябре 2018 г. Абэ стал первым за несколько лет японским премьером, посетившим Китай. В целом дипломатические и экономические отношения между двумя самыми мощными государствами Азии улучшились. То же относится и к Южной Корее, где после начала американо-китайского торгового конфликта зафиксировано падение экспорта полупроводников, ключевой отрасли корейской экономики.
Команда Байдена понимает, что альянсы и партнёрства – главная сила США в соперничестве с Китаем. Отказаться от идеи Трампа ослабить эти отношения будет разумно и относительно несложно. Однако было бы ошибкой считать, что американские партнёры и союзники хотят выступить единым фронтом с Америкой против Китая или что они готовы способствовать замедлению экономического роста и ограничению международного влияния КНР, как это делала американская система альянсов против Советского Союза в период холодной войны.
Также было бы ошибкой сконцентрировать американскую политику альянсов или многостороннюю дипломатию на идеологической борьбе с Пекином. Многие важные потенциальные партнёры США, в частности – Вьетнам или Таиланд, не являются государствами-единомышленниками, а либеральные страны-партнёры – Индия и Южная Корея – не хотят, чтобы стратегическое сотрудничество с Америкой означало подход с нулевой суммой в отношении Пекина. То же можно сказать о многих странах Евросоюза. ЕС разделяет опасения Вашингтона по поводу грубой дипломатии и агрессивности Китая после финансового кризиса 2008 года. Он работает над улучшением защиты от краж интеллектуальной собственности и шпионажа. В марте 2019 г. в документе, касающемся безопасности, Еврокомиссия даже назвала Китай «системным соперником, продвигающим альтернативные формы госуправления». Но в стратегических документах той же Еврокомиссии подчёркивается необходимость сотрудничества и экономической интеграции с Пекином и даже «стратегического партнёрства». В конце декабря 2020 г. Евросоюз заключил двустороннее соглашение об инвестициях, которое призвано ещё прочнее связать европейские экономики с Китаем в будущем. Вряд ли это можно назвать холодной войной.
Пределы влияния Китая
Перспектив формирования альянса холодной войны на другой стороне американо-китайского противостояния ещё меньше. У Китая есть формальный союз только с Северной Кореей и прочное партнёрство в сфере безопасности с Пакистаном. Кроме того, выстроены тесные связи с некоторыми членами АСЕАН, прежде всего с Лаосом и Камбоджей. Эти отношения помешали АСЕАН сформировать единую позицию по территориальным спорам в Южно-Китайском море. Но они не укрепили способность Китая проецировать мощь или противодействовать американской системе альянсов в Восточной Азии. Исключением можно считать только Камбоджу, где Китай получил особые портовые права, которые могут облегчить постоянное присутствие китайских ВМС. Но даже там постколониальный национализм препятствует такому развитию событий.
С помощью инициативы «Пояс и путь», запущенной в 2013 г., Пекин сможет выстроить особые отношения с большим числом азиатских и африканских государств, соответственно, будет расти и глобальное влияние Китая. Такие особые отношения скорее помешают этим странам проводить политику, противоречащую интересам Китая, но не заставят их объединиться в альянс, чтобы навредить США и их союзникам. Тем не менее это может стать вызовом для дипломатических усилий Вашингтона и его партнёров. Например, член НАТО Греция блокировала резолюцию ЕС по правам человека в Китае после того, как китайский гигант морских грузоперевозок COSCO инвестировал огромные средства в греческий порт Пирей в рамках проекта «Пояс и путь». Но даже в этом случае Пекин использовал особые отношения для защиты собственной политической системы и не собирался превращать Грецию в платформу для наступления против интересов безопасности НАТО.
С точки зрения Соединённых Штатов, самые важные отношения Китая в сфере безопасности – партнёрство с Россией, ещё одной великой державой со значительным военным потенциалом. Сотрудничество предусматривает совместные военные учения, продажу оружия и дипломатическое взаимодействие в ООН с целью блокировать усилия США и их союзников по оказанию давления или свержению лидеров, подобных сирийскому президенту Башару Асаду. Но китайско-российские отношения не достигают уровня реального альянса. Трудно себе представить, что Китай принимает прямое участие вместе с Россией в событиях вокруг Грузии, Украины или в потенциальном конфликте на Балтике. Точно так же сложно представить, чтобы российские военные участвовали в конфликте в Тайваньском проливе или в морских спорах со странами Восточной Азии. Россия, кстати, продаёт усовершенствованные системы вооружений Вьетнаму и Индии, соперникам Китая в территориальных спорах.
Самая мощная сила, подталкивающая Россию и Китай друг к другу, – это их общее недовольство стремлением предыдущих американских администраций к смене репрессивных режимов и «цветным революциям».
Китай не пытался подрывать демократии, как это делала Россия, но на международных форумах Пекин не раз выступал вместе с Москвой против давления США и либеральных демократий на другие страны из-за их внутренней политики и гуманитарных преступлений. Особенно ярко такое сотрудничество проявилось в случае с Сирией – Москва и Пекин накладывали вето на многочисленные проекты резолюций, подвергавшие критике режим Асада, а также в случае с Венесуэлой, где Америка стремилась свергнуть президента Николаса Мадуро.
Китай известен инвестициями в ресурсы и инфраструктуру в регионах с явным дефицитом демократии. Не менее важно, что Китай экспортирует технологии наблюдения (в том числе камеры высокого разрешения и ПО для распознавания лиц) ради прибыли, потенциально укрепляя наиболее репрессивные режимы мира. Если администрация Байдена откажется от слогана «Америка прежде всего» и вернётся к традиционному продвижению демократии за рубежом, эта практика станет серьёзной проблемой. Тем не менее Китай продаёт такое оборудование любому желающему, независимо от режима, поэтому было бы преувеличением говорить, что китайская политика экспорта направлена на распространение авторитаризма и подрыв демократии. Китай гораздо больше ведёт бизнес с развитыми экономиками мира, в том числе со многими либеральными демократиями, которые являются союзниками или партнёрами Америки в Азии и Европе. Согласно статистике КНР за 2016 г., США и семь их союзников вошли в десятку ведущих торговых партнёров Китая. Поскольку легитимность КПК внутри страны базируется на экономических показателях, будет глупо, если Пекин оттолкнёт от себя развитые либеральные демократии, которые загружают его производство, содействуют технологическому развитию и обеспечивают рынки сбыта для произведённых в КНР товаров. Китай и Россия продолжат сопротивляться попыткам США поддерживать «цветные революции», но только Россия, менее интегрированная в глобальные производственные цепочки, будет стремиться к распространению нелиберальных форм госуправления в мире.
Поучительная история
Глобализация, взаимозависимость и транснациональное производство – безусловно, улица с двусторонним движением, и благополучие многих развитых экономик с либеральной идеологией зависит от Китая. КНР – крупнейший торговый партнёр ключевых союзников США и цель их прямых инвестиций. И хотя многие из них были обеспокоены, когда Пекин отошёл от умеренной внешней и экономической политики после финансового кризиса 2008 г., они разделяют позицию Вашингтона, который всё чаще называет КНР главной угрозой безопасности и идеологической угрозой. Поэтому призывы отделиться от китайской экономики, как во времена холодной войны, не только нереалистичны, но и неразумны. Американская сеть из более чем шестидесяти союзников и партнёров включает самые развитые и высокотехнологичные экономики мира, в том числе Австралию, Францию, Германию, Израиль, Японию, Сингапур, Южную Корею и Великобританию. Эта система безопасности позволяет Соединённым Штатам проецировать мощь по-настоящему глобальной супердержавы. У Китая такой сети альянсов нет, что серьёзно ограничивает проецирование его мощи. Многие американские партнёры скорее станут на сторону США, если Китай перейдёт к агрессивным и экспансионистским действиям.
Китайские элиты, безусловно, об этом знают. Это одна из причин, почему поведение поднимающегося Китая до сих пор остаётся относительно благоразумным. КНР не вела открытых конфликтов с 1988 г. и не участвовала в полномасштабной войне с 1979 года. Сдерживание работает и продолжит работать при соблюдении определённых военных и дипломатических условий. Если Китай не ввяжется в агрессивные военные авантюры, ни один американский союзник не подпишется под жёсткой политикой сдерживания КНР, подобной холодной войне. Даже внутри администрации Трампа не было согласия по поводу таких инициатив, как торговая война с Китаем. Существовал ли план создания рычагов, чтобы сделать китайскую экономику более открытой и углубить интеграцию США и КНР? Американские союзники, сталкивавшиеся с закрытием рынков, госсубсидиями и нарушением прав интеллектуальной собственности, могли бы его поддержать. Но если введение пошлин и других ограничений было призвано замедлить экономический рост Китая, то предложения, напоминающие стратегию холодной войны, могут лишить Вашингтон поддержки союзников.
Однако в период правления Трампа сформировался консенсус, что в некоторых высокотехнологичных сферах, например пятого поколения мобильной связи (5G), Соединённым Штатам и их союзникам лучше избегать интеграции с такими китайскими провайдерами, как Huawei. В этом вопросе администрация Трампа получила мощную поддержку обеих партий – США и их партнёры не должны полагаться на китайские системы. Борьба за внедрение стандартов 5G во всём мире повлияет на будущие бизнес-транзакции, развитие индустрий с использованием искусственного интеллекта и разработку автоматизированных систем вооружений.
В некоторых особо значимых секторах экономики соперничество с Китаем может выглядеть как игра с нулевой суммой по образцу холодной войны. Высокотехнологичная сфера напоминает военную отрасль после введения оружейного эмбарго в 1989 г., а Соединённые Штаты попытаются замедлить прогресс КНР в развитии 5G и искусственного интеллекта. Но даже борьба за 5G демонстрирует низкую вероятность того, что мир будет чётко разделён на два экономических блока. Большинство друзей и союзников США осознают риски вовлечения компаний вроде Huawei в свою коммуникационную инфраструктуру, но американцам пришлось серьёзно потрудиться, чтобы заставить, например, Великобританию и Германию полностью отказаться от продуктов и услуг Huawei. Способность Вашингтона убеждать единомышленников в том, чтобы они избегали китайских продуктов, быстро уменьшится, если речь пойдёт о бойкоте не телекоммуникационных технологий, явно связанных с национальной безопасностью, а более широкого набора продуктов и технологий.
Любая попытка просто навредить экономике Китая или заставить других отделить свою экономику от китайской в XXI веке обречена на провал.
Такую же поучительную историю можно рассказать об отношении правительства США практически к любой внешнеэкономической деятельности Китая, включая инфраструктурные инвестиции, которые в стратегии национальной обороны 2018 г. названы «хищническими»[14]. Такое огульное осуждение звучит неубедительно в Восточной Азии, Центральной Азии и Южной Азии, где Всемирный банк определил более значительные инфраструктурные потребности, чем могут быть удовлетворены даже в рамках масштабной инициативы «Пояс и путь». Вместо того, чтобы жаловаться на китайские кредиты, США и их союзникам следует конкурировать с КНР в экономической дипломатии. Администрация Трампа получила от Конгресса (по Закону о лучшем использовании инвестиций, ведущих к развитию, BUILD Act) 60 млрд долларов для Международной корпорации финансирования развития. Но называя американские деньги «хорошими», а китайские – «хищническими», Соединённые Штаты рискуют проиграть конкуренцию в этой сфере. Большинство стран по-прежнему будут приветствовать китайские инвестиции и ноу-хау в инфраструктурные проекты и не поймут, если американцы назовут их наивными дураками.
Вашингтон также утверждает, что Пекин практикует дипломатию «долговой ловушки», создавая неприемлемый уровень задолженности в определённых странах. Но в Азии эти заявления не услышали. Единственный пример прямой замены долговых обязательств инвестициями – аренда Китаем ланкийского порта Хамбантота на 99 лет. Но это скорее исключение, а не правило. И даже в этом случае вряд ли Пекин изначально хотел спровоцировать долговой кризис и потом этим воспользоваться. Более того, если никто не готов финансировать новые проекты прямыми грантами вместо кредитов – ЕС и США такую готовность не демонстрируют – любой новый проект неизбежно повлечёт за собой рост долгов страны независимо от источника кредитования. А поскольку рыночных стимулов недостаточно, чтобы европейские и американские банки инвестировали в инфраструктуру Азии, деньги Китая часто являются единственной возможностью. Япония, ближайший союзник Соединённых Штатов в Азии, понимает это лучше, чем американцы. Токио не только увеличил собственную инфраструктурную помощь и инвестиции в Азии, но и выразил готовность совместно с Пекином работать по проекту «Пояс и путь» в таких странах, как Индия.
Чего ожидать?
Ключевая позиция Китая в глобальной производственной цепочке и отсутствие борьбы за идеологическое господство между авторитаризмом и либеральной демократией означают, что новая холодная война маловероятна. Должны измениться два фактора, чтобы повторилось нечто похожее на противостояние США и СССР. Если Китай осознанно начнёт кампанию по укреплению авторитаризма и подрыву демократии в мире, тогда американские и китайские союзники будут постоянно сталкиваться друг с другом. Если Пекин решит заменить определённые звенья глобальной производственной цепочки китайскими компаниями вместо иностранных и будет меньше полагаться на глобальные рынки, тогда Китай, возможно, окажется готов принять издержки идеологической борьбы. Подобное развитие вероятно и в том случае, если некоторые страны слишком резко отреагируют на пандемию COVID-19 и станут жертвами национализма и антиглобализации – тогда произойдёт отказ от глобальных экономических трендов, которые связывают Китай и другие крупные экономики в транснациональные цепочки поставок.
Соединённым Штатам и их международным партнёрам необходимо изучить результаты пекинской экономической модели «двойной циркуляции». По крайней мере судя по риторике, этот подход призван отдавать предпочтение внутреннему спросу и производству вместо международных контактов, хотя пространство для последних, безусловно, сохраняется. Движение в противоположном направлении – недавнее открытие Китаем своего финансового сектора для американских инвестиционных банков и двустороннее соглашение об инвестициях между КНР и ЕС, подписанное в декабре 2020 года.
Если политиков и экспертов беспокоит перспектива новой холодной войны, им нужно проанализировать последствия интеграции Китая в глобализированную экономику и отделения от неё. Надо также последить за изменениями в китайской внешней политике в отношении международных конфликтов и гражданских войн, где сталкиваются либеральные и авторитарные политические силы. Пока Китай кардинально не изменит свою позицию по обоим аспектам, холодной войны между США и КНР не будет.
Опубликовано на сайте журнала Foreign Affairs в марте 2021 года. © Council on foreign relations, Inc.
--
СНОСКИ
[1] Zoellick R. “Whither China? From Membership to Responsibility.” a speech to the annual gala of the National Committee on US-China Relations. September 21, 2005. URL: https://2001- 2009.state.gov/s/d/former/zoellick/rem/53682.htm.
[2] See The National Security Strategy of the United States, The White House, December 2017. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf.
[3] Christensen Th.J. “Posing Problems without Catching Up.” International Security 25, No. 4 (2001): 5-40; and The China Challenge, chapter. 4.
[4] Tunsjo O. The Return of Bipolarity in World Politics: China, the United States, and Geostructural Realism. New York: Columbia University Press, 2018.
[5] See Full Text of Xi Jinping’s Report to the 19th CPC National Congress, Xinhua, November 3, 2017. URL: http://www.xinhuanet.com/english/download/Xi_Jinping’s_report_at_19th_CPC_National_ Congress.pdf.
[6] Ў°эНвўЛп设МЪКҐЪёыїоЬб¦НЈЎЄЎЄо¤сй国Нм产党与б¦НЈпЩ党Н‘层对话会ЯѕоЬс«т©讲话.Ў±[CooperationinBuilding a More Beautiful World: The Keynote Speech at the Dialogue of the CCP and World Political Parties]. Xinhua, December 1, 2017. URL: http://www.xinhuanet.com//politics/leaders/2017-12/01/ c_1122045658.htm.
[7] Dobbins J., Shatz H., Wyne A. “Russia Is a Rogue, Not a Peer; China Is a Peer, Not a Rogue: Different Challenges, Different Responses” Rand Corporation PE-310-A, 2019. URL: https:// www.rand.org/pubs/perspectives/PE310.html.
[8] Trofimov Y. “The New Beijing-Moscow Axis.” The Wall Street Journal/ February 1, 2019. URL: https://www.wsj.com/articles/the-new-beijing-moscow-axis-11549036661?emailToken=a611 4fbfd51b469e6df782cf715bfcfcAP9uXXksXFWULgQXn73dxERuZagXDtlN3jwDQ1TJd8fs0541 bVJ0KtgTCScVMH6FR/2mICf+bPZkntPeQMYWyA%3D%3D&reflink=article_email_share
[9] Rosenberger L. “Making Cyberspace Safe for Democracy.” Foreign Affairs, May/June 2020. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2020-04-13/making-cyberspace-safe- democracy.
[10] Hoover Institution. “Chinese Influence Activities in Select Countries.” URL: www.hoover.org/sites/ default/files/research/docs/13_diamond-schell_app2_web.pdf.
[11] Economy E. “Yes, Virginia, China is Exporting Its Model.” Council on Foreign Relations Blog. July 10, 2020. URL: https://www.cfr.org/blog/yes-virginia-china-exporting-its-model
[12] Yang J. “Bu Hui you Xin de Lengzhan,” “There Cannot Be a New Cold War,” Shanghai Institute of International Studies. November 22, 2018. Supporting Yang’s view is Scott, Christopher Scott, “China Hysteria Falls on Deaf Ears in Europe,” Asia Times, March 22, 2019. URL: https://www. asiatimes.com/2019/03/article/in-europe-us-china-hysteria-falls-on-deaf-ears/.
[13] See the Bloomberg video on this topic, entitled “A Third of Japan Inc Hurt by US-Chins Trade War-Reuters Poll.” October 16, 2018. URL: https://www.reuters.com/video/2018/10/16/a-third-of- japan-inc-hurt-by-us-china-tr?videoId=473938099.
[14] Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America: Sharpening the American Military’s Competitive Edge, US Department of Defense. URL: https://dod.defense.gov/ Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf.

НА ГРАНИ ВОЙНЫ
КЕВИН РАДД
Бывший премьер-министр Австралии, президент Института политики Азиатского общества в Нью-Йорке.
КАК НЕ ДОПУСТИТЬ КАТАСТРОФЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОНФРОНТАЦИИ МЕЖДУ США И КИТАЕМ
У официальных лиц в Вашингтоне и Пекине хватает разногласий по многим вопросам, но есть нечто, в чём они полностью солидарны: в 2020-е гг. соперничество между двумя странами вступит в решающую фазу. Это опасное десятилетие.
Независимо от того, какую стратегию выберут стороны или какие события развернутся на наших глазах, напряжённость между США и Китаем будет нарастать, а конкуренция – обостряться. Это неотвратимо, хотя войну нельзя считать неизбежной. Остаётся возможность договориться о защитных механизмах для предотвращения катастрофы. Я называю это «управляемой стратегической конкуренцией», способной снизить риск эскалации соперничества и её перехода в фазу открытого конфликта.
Компартия Китая всё более уверена в том, что к концу десятилетия китайская экономика, наконец, превзойдёт американскую в номинальном выражении по рыночному обменному курсу и станет крупнейшей в мире. Западные элиты могут недооценивать значение этой вехи, но Политбюро ЦК КПК относится к ней очень серьёзно. Для Китая размер всегда имел значение. Первая позиция в мировой табели о рангах даст Пекину новый рычаг влияния в отношениях с Вашингтоном, резко повысит его уверенность в себе и увеличит вероятность того, что Центральный банк Китая отпустит юань в свободное плавание, откроет счёт движения капитала и бросит вызов доллару как мировой резервной валюте. Тем временем КНР продолжает наступать и на других фронтах. Согласно новому плану, объявленному прошлой осенью, к 2035 г. китайцы собираются доминировать во всех новых технологиях, включая искусственный интеллект. А к 2027 г. Пекин намерен завершить программу военной модернизации (на семь лет раньше прежнего графика). Главная цель такой спешки – обеспечить решающее преимущество во всех возможных сценариях вооружённого столкновения с Соединёнными Штатами по поводу Тайваня. Победа в этом конфликте позволила бы президенту Си Цзиньпину осуществить принудительное воссоединение с Тайванем до ухода из власти. Это достижение обеспечило бы ему место в пантеоне КПК наравне с Мао Цзэдуном.
Вашингтон должен быстро решить, как реагировать на самонадеянные планы Пекина.
Если США склонятся к экономическому разъединению и открытой конфронтации, все страны мира будут вынуждены выбирать, на чью сторону встать, и риск эскалации только возрастёт.
Среди политиков и экспертов бытует понятный и объяснимый скепсис по поводу способности Вашингтона и Пекина избежать такого исхода. Многие сомневаются, что американские и китайские лидеры смогут установить определённые рамки в дипломатических отношениях, военных операциях и деятельности в киберпространстве, чтобы обеспечить стабильность, избежать случайной, непреднамеренной эскалации и при этом сохранить пространство для конкуренции и сотрудничества в двусторонних отношениях. Нужно подумать о процедурах и механизмах сродни тем, что выработали США и СССР для управления отношениями после кубинского ракетного кризиса 1962 г., но в данном случае без обретения опыта игры со смертью, когда сверхдержавам с трудом удалось избежать большой войны.
Управляемая стратегическая конкуренция включала бы жёсткие ограничения на проведение политики в сфере безопасности каждой из сторон, но допускала бы полноценную и открытую конкуренцию на дипломатическом, экономическом и идеологическом фронтах. Она бы также давала Вашингтону и Пекину возможность сотрудничать в некоторых областях посредством двусторонних договорённостей, а также многосторонних форумов. Хотя такое соглашение выработать трудно, это всё же возможно, тем более что любые альтернативы с большой долей вероятности приведут к катастрофе.
Отдалённая перспектива Пекина
В Соединённых Штатах мало кто всерьёз анализирует внутриполитические и экономические движущие силы большой стратегии Китая, её содержание или способы реализации в последние десятилетия. В Вашингтоне обсуждают то, что необходимо делать Соединённым Штатам, но совершенно не задумываются о том, приведёт ли тот или иной курс к реальным переменам в стратегии Китая. Яркий пример подобной внешнеполитической близорукости – речь госсекретаря Майка Помпео, произнесённая в июле прошлого года, когда он призвал к свержению КПК. «Мы, свободолюбивые страны мира, должны убедить Китай в необходимости перемен», – заявил он. В том числе за счёт «наделения китайского народа полномочиями». Однако единственное, что может заставить китайцев восстать против партийного государства – это разочарование в связи с неубедительными итогами правления КПК, её неспособностью решить проблему безработицы или проблему национальной катастрофы (например, пандемии) либо широкомасштабное ужесточение и без того значительного политического гнёта. Стимулирование такого недовольства извне, особенно со стороны Вашингтона, вряд ли поможет. Скорее наоборот – лишь затормозит любые перемены. Кроме того, союзники США никогда не поддержат подобный подход, поскольку в последние десятилетия стратегия смены режимов не приносила желаемых результатов. Наконец, высокопарные заявления наподобие тех, с которыми выступил Помпео, полностью контрпродуктивны, потому что укрепляют позиции Си внутри страны, позволяя ему указывать на угрозу внешних диверсий и подрывной деятельности в качестве оправдания дальнейшего ужесточения мер внутренней безопасности. И, в случае чего, ему будет легче сплотить недовольные элиты КПК на борьбу с внешней угрозой.
Последний фактор особенно важен для Си, потому что одна из его целей – остаться у власти до 2035 г., когда ему исполнится 82 года. Это возраст, в котором умер Мао. Решимость Си отражается в отмене ограничений по срокам пребывания на высшем посту и недавнем объявлении плана экономического развития до 2035 года. Кроме того, Си даже не намекал на возможного преемника, хотя формально до окончания срока его пребывания на посту руководителя КПК остаётся всего два года. Си пережил трудные месяцы в начале 2020 г. из-за замедления экономики и пандемии COVID-19, китайское происхождение которой вынудило КПК обороняться. Но к концу года официальные средства массовой информации Китая приветствовали Си как нового «великого кормчего и штурмана», победившего в героической «народной войне» с коронавирусом. Действительно, сумбурные и беспорядочные действия Соединённых Штатов и ряда других западных стран, не знавших, как быстро и эффективно обуздать пандемию, во многом помогли Си. КПК указывала на эти действия как на доказательство превосходства китайской авторитарной системы. На тот случай, если какие-либо честолюбивые партийные функционеры решат подумать об альтернативном кандидате, который смог бы возглавить партию после окончания срока пребывания Си у руля в 2022 г., он устроил крупную чистку партийных рядов для избавления от недостаточно лояльных ему членов – «кампанию исправления», согласно терминологии КПК.
Между делом Си осуществил широкомасштабную кампанию подавления уйгурского меньшинства в Синьцзяне, кампанию удушения гражданского общества в Гонконге, усмирения Внутренней Монголии и Тибета, а также травли диссидентов в среде интеллектуалов, юристов, артистов и религиозных деятелей во всём Китае. Си уверовал, что КНР не следует больше бояться санкций, которые США могли бы ввести против его страны или отдельных официальных лиц в ответ на нарушение прав человека. С его точки зрения, экономика Китая сегодня достаточно сильна, чтобы пережить подобные санкции, и партия сможет защитить своих функционеров от любых неприятностей. Кроме того, другие страны вряд ли примут односторонние санкции США из-за опасения ответных действий Пекина. Тем не менее КПК не может игнорировать урон, который способны нанести глобальному бренду Китая сообщения о жестоком обращении с меньшинствами. Именно поэтому Пекин в последнее время активизировался на международных форумах, включая Совет ООН по правам человека, где заручился поддержкой своей кампании противодействия давно устоявшимся универсальным нормам в области прав человека и регулярно критикует американцев за мнимое нарушение этих самых норм.
Си также намерен добиваться самодостаточности Китая для противодействия любым попыткам Вашингтона отделить экономику Соединённых Штатов от китайской или использовать свой контроль над мировой финансовой системой, чтобы помешать дальнейшему подъёму КНР. Эти усилия составляют сердцевину того, что Си называет экономикой двойного обращения (или двойной циркуляции): сдвиг от экспортной зависимости к внутреннему потреблению в качестве долгосрочного драйвера экономического роста и опора на гравитационную силу крупнейшего потребительского рынка мира для привлечения иностранных инвесторов и поставщиков на условиях Пекина. Недавно Си объявил о новой стратегии в области промышленного производства, а также технологических исследований и разработок для снижения зависимости от импорта некоторых ключевых технологий (полупроводников).
Проблема в том, что предпочтение отдаётся партийному контролю и государственным предприятиям вместо поощрения инновационного, предприимчивого и без устали работающего частного сектора, благодаря которому и стал возможен выдающийся экономический успех страны в течение двух последних десятилетий. Чтобы справиться с внешней экономической угрозой, исходящей, по мнению КПК, от Вашингтона, и с внутренней политической угрозой со стороны частных предпринимателей, долгосрочное влияние которых угрожает власти КПК, Си предстоит решить дилемму, хорошо знакомую всем авторитарным режимам: как ужесточить центральный политический контроль, не снижая уверенности и динамики в деловом секторе.
С аналогичной дилеммой Си сталкивается и тогда, когда речь заходит о цели первостепенной важности: установление контроля над Тайванем. Похоже, Си пришёл к выводу, что Китай и Тайвань сегодня дальше от мирного воссоединения, чем когда-либо за семьдесят последних лет. Вероятно, такое предположение справедливо. Но Китай недооценивает собственную роль в расширении этой пропасти. Многие из тех, кто верил, будто политическая система Китая будет становиться более либеральной по мере открытия его экономики, теснее переплетённой с остальным миром, надеялись, что этот процесс в итоге позволит Тайваню более терпимо относиться к воссоединению. Вместо этого Китай при Си стал более авторитарным, и надежда на воссоединение по формуле «одна страна, две системы» испарилась. Жители Тайваня внимательно наблюдают за Гонконгом, где Пекин ввёл новый жёсткий закон о национальной безопасности, арестовал оппозиционных политиков и ограничил свободу средств массовой информации.
Поскольку мирное воссоединение больше не стоит на повестке дня, стратегия Си предельно ясна: резко увеличить военную мощь в Тайваньском проливе до такой степени, чтобы отбить у Соединённых Штатов охоту ввязываться в войну, которая, по оценке американских экспертов, может закончиться поражением Вашингтона. Си считает, что без поддержки США Тайвань либо капитулирует, либо попытается сражаться в одиночку и потерпит поражение. Однако при таком подходе игнорируются три фактора. Во-первых, сложность оккупации острова размером с Нидерланды и с рельефом Норвегии, имеющим хорошо вооружённое 25-миллионное население. Во-вторых, грубое применение военной силы нанесёт непоправимый урон политической легитимности Китая на мировой арене. В-третьих, непредсказуемость внутриполитической ситуации в Америке, от которой будет зависеть характер реакции в случае возникновения такого кризиса.
Проецируя на Вашингтон свой глубокий стратегический реализм, Пекин заключил, что США никогда не ввяжутся в войну, в которой не могут победить, потому что это было бы смертельно для будущего американской мощи, престижа и положения в мире.
Однако в своих расчётах китайские стратеги не учитывают обратную динамику при таком выборе американского руководства: отказ сражаться за родственную демократию, которую Соединённые Штаты поддерживали на протяжении всей послевоенной истории, был бы такой же катастрофой для Вашингтона, особенно если подумать о том, как это будет воспринято его союзниками в Азии. Последние могут заключить, что американские гарантии безопасности, на которые они так долго полагались, на самом деле бесполезны, поэтому им нужно заключать пакты о ненападении с Китаем.
Что касается притязаний Китая на морскую акваторию и территории в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, Си не уступит здесь ни пяди. Пекин продолжит оказывать давление на соседние страны Юго-Восточной Азии в Южно-Китайском море, активно оспаривая принцип свободы навигации, прощупывая слабые стороны в коллективной готовности защищать общее благо и решимость отдельных стран. Вместе с тем Китай воздержится от провокаций, которые могли бы привести к прямой военной конфронтации с Вашингтоном, потому что на данном этапе не вполне уверен в своей победе. На продолжающихся переговорах со странами Юго-Восточной Азии, которые претендуют на совместное использование энергетических ресурсов и рыбных промыслов в Южно-Китайском море, Пекин попытается заставить их считаться со своими интересами. С этой целью Китай, как всегда, станет в полной мере использовать экономические рычаги в надежде добиться нейтралитета от государств региона в случае военного инцидента либо кризиса с участием США или их союзников. В Восточно-Китайском море КНР продолжит наращивать военное давление на Японию вокруг спорных островов Сенкаку/Дяоюйдао, но, как и в Юго-Восточной Азии, маловероятно, что Пекин пойдёт на риск вооружённого конфликта, особенно с учётом однозначного характера гарантий безопасности, которые США предоставили Японии. Любой риск поражения в этом конфликте, каким бы малым он ни был, политически неприемлем для Пекина, поскольку будет иметь самые серьёзные внутриполитические последствия.
Америка глазами Си
За всеми этими стратегическими раскладами стоит уверенность Си, отражённая в официальных заявлениях Китая и литературе КПК, что Соединённые Штаты переживают неуклонный и необратимый структурный упадок. Сегодня это убеждение опирается на массив доказательств. Расколотое американское правительство не сумело выработать национальную стратегию долгосрочных инвестиций в инфраструктуру, образование, фундаментальную науку и технологии. Администрация Трампа нанесла урон американским альянсам, отказалась от либерализации торговли, освободила США от бремени лидерства в послевоенном мировом порядке и подорвала дипломатические возможности Америки. Республиканская партия отдана на откуп крайне правым, а политический класс и электорат настолько глубоко поляризованы, что любому президенту будет трудно добиться поддержки долгосрочной двухпартийной стратегии по Китаю. Си считает маловероятным, что Вашингтону удастся восстановить доверие к себе как к региональному и мировому лидеру. И он делает ставку на то, что в середине и конце нынешнего десятилетия такую точку зрения начнут разделять другие мировые лидеры, которые скорректируют стратегические расчёты и планы, постепенно переходя от игры на стороне Вашингтона против Пекина к хеджированию рисков между двумя сверхдержавами, а затем к солидаризации с КНР.
Но Китай беспокоится, что Вашингтон сможет доставить Пекину много неприятностей до тех пор, пока мощь США не сойдёт на нет окончательно. Си тревожит не только возможное военное столкновение, но также быстрое и радикальное экономическое разъединение. Более того, дипломатический истеблишмент КПК опасается: администрация Байдена, понимая, что США в скором времени будут не способны в одиночку противостоять растущей мощи Китая, сформирует действенную коалицию стран демократического капиталистического мира с целью коллективного противостояния ему. В частности, лидеры КПК полагают, что предложение президента Джо Байдена провести саммит крупных демократий мира может стать первым шагом на этом пути. Потому Китай и взялся в ускоренном порядке подписывать новые соглашения в сфере торговли и инвестиций со странами Европы и Азии до того, как новая администрация пришла в Белый дом.
Памятуя о сочетании рисков ближайшего времени и долгосрочного усиления Китая, Си предпочитает играть вдолгую.
Поначалу общая дипломатическая стратегия Пекина в отношении администрации Байдена сведётся к снижению напряжённости и скорейшей стабилизации двусторонних отношений для предотвращения любых кризисов в сфере безопасности. С этой целью Пекин будет стремиться восстановить с Вашингтоном полномасштабные военные контакты на высшем уровне, по большому счёту прерванные при администрации Трампа. Си может также попробовать начать постоянный политический диалог на высшем уровне. Вашингтон, правда, не демонстрирует интереса к возобновлению стратегического и экономического диалога между США и Китаем, служившего основным каналом взаимодействия между двумя странами, пока он не был свёрнут в разгар торговой войны 2018–2019 годов. Наконец, Пекин может в ближайшее время умерить военную активность на тех территориях, где Народная освободительная армия Китая непосредственно соприкасается с вооружёнными силами США – в частности, в Южно-Китайском море и вокруг Тайваня. КПК при этом исходит из того, что администрация Байдена откажется от политических визитов в Тайбэй на высоком уровне, которые стали определяющей чертой последнего года пребывания администрации Трампа в Белом доме. Однако для Пекина это тактические, но не стратегические перемены.
Поскольку Си пытается снять напряжённость в ближайшей перспективе, ему придётся решать, стоит ли продолжать жёсткую стратегию против Австралии, Канады и Индии – друзей или союзников США – либо смягчить политику в отношении этих стран. Неуступчивая линия Пекина выражалась в глубоком замораживании дипломатических контактов и экономическом принуждении, а в случае Индии – в прямой военной конфронтации. Си будет ждать ясного сигнала от Вашингтона, что, если Китай хочет стабилизации отношений, ему придётся положить конец таким принудительным мерам против партнёров Америки. Если таких сигналов не поступит – а при президенте Трампе их не было – то Пекин возобновит свою обычную практику.
Си также склонен объединить усилия с Байденом в противодействии изменениям климата. Этому способствует растущая уязвимость его страны перед экстремальными погодными явлениями. Он понимает, что у Байдена есть возможность завоевать престиж на международной арене, если Пекин будет сотрудничать с Вашингтоном в борьбе с изменением климата, учитывая обязательства Белого дома вплотную заняться этой проблематикой. Си знает, что Байден захочет продемонстрировать: его взаимодействие с Пекином привело к ограничению углеродных выбросов в китайское небо. По мнению Китая, эти факторы дадут Си рычаг в выстраивании отношений. И Си надеется, что сотрудничество в области климата поможет стабилизировать американо-китайские отношения в целом.
Однако корректировка китайской политики в этой сфере всё же будет скорее тактическим, нежели стратегическим ходом. На самом деле, с момента прихода Си к власти в 2013 г., китайская стратегия в отношении США отличается выдающейся последовательностью, и Пекин был удивлён сравнительно вялой и ограниченной реакцией Вашингтона на его действия – по крайней мере, до недавнего времени. Си, вдохновляемый марксистско-ленинским детерминизмом, также полагает, что история – на его стороне. Как и Мао, он стал грозным стратегическим конкурентом для Соединённых Штатов.
При новом управлении
Пожалуй, китайские лидеры предпочли бы увидеть переизбрание Трампа на прошлогодних президентских выборах. Нельзя сказать, что Си усматривал стратегическую ценность во всех элементах внешней политики Трампа. КПК находила торговую войну администрации Трампа унизительной, её шаги к разъединению двух экономик – тревожными, её критику положения дел с правами человека в Китае – оскорбительной, а формальное объявление Китая «стратегическим конкурентом» – отрезвляющим. Но большинство стратегов во внешнеполитическом истеблишменте КПК считают недавний сдвиг в позиции США относительно Китая структурным, то есть неизбежным побочным продуктом меняющегося баланса сил между двумя странами. Ряд китайских экспертов вздохнули с облегчением, когда на смену притворному двустороннему сотрудничеству пришла открытая стратегическая конкуренция.
По этой логике теперь, когда Вашингтон скинул маски, Китай сможет быстрее двигаться вперёд – в некоторых случаях открыто – к реализации своих стратегических целей, в то же время претендуя на роль обиженной и огорчённой стороны с учётом воинственного американского настроя.
Однако самым большим подарком, который Трамп преподнёс Пекину, был воцарившийся в годы его президентства хаос внутри Соединённых Штатов, а также в отношениях Вашингтона и его союзников. Китай смог эксплуатировать трещины в отношениях между либеральными демократиями, пытавшимися как-то сориентироваться в условиях протекционистской политики Трампа, выхода США из соглашения о климате, отрицания других международных соглашений, ярого национализма и презрения ко всем формам многосторонних отношений. В годы президентства Трампа Пекин выиграл не только от того, что он предлагал миру, но и благодаря тому, что Вашингтон перестал предлагать многие блага. В итоге Китай одержал яркие победы – это, в частности, подписание широкомасштабного соглашения о свободной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе, известного как Региональное всеобъемлющее экономическое партнёрство, а также Всеобъемлющего соглашения об инвестициях с ЕС, по которому китайская и европейская экономики будут переплетены гораздо теснее, чем того хотелось бы Вашингтону.
Китай опасается, что администрация Байдена поможет Америке оправиться от этих ран, которые она сама же себе и нанесла. Пекин уже видел, как быстро Вашингтон может восстанавливаться после политических, экономических и военных катастроф. Тем не менее КПК сохраняет уверенность в том, что внутриполитический раскол не позволит недавно заступившей администрации добиться поддержки новой последовательной стратегии в отношении Китая.
Байден намерен доказать, что Пекин не прав, думая, будто США вступили в эпоху необратимого упадка. Он попытается использовать свой обширный опыт на Капитолийском холме для выработки внутренней экономической стратегии, которая позволит восстановить американскую мощь в мире после окончания пандемии. Вероятно, он продолжит укреплять военный потенциал и делать всё необходимое для сохранения американского мирового лидерства в сфере новых технологий. Байден собрал команду экономических, внешнеполитических советников, а также экспертов в области национальной безопасности. Это опытные профессионалы, хорошо знающие Китай. Их предшественники за исключением пары экспертов среднего звена, плохо разбирались в Китае и ещё хуже понимали, как действовать Вашингтону. Советники Байдена также понимают, что для возрождения мощи США за рубежом нужно прежде восстановить экономику страны, сократить пугающую пропасть между богатыми и бедными и резко увеличить экономические возможности для всех американцев. Это поможет Байдену сохранить политические рычаги, необходимые для выработки долгосрочной стратегии в отношении Китая при поддержке обеих партий. Принятие такой стратегии будет нетривиальным достижением в условиях, когда у его оппонентов-конъюнктурщиков, например, Помпео, имеется достаточно стимулов, чтобы опорочить любой план, представив его попыткой умиротворения Пекина.
Чтобы стратегия вызывала доверие внутри страны, армия США должна на несколько шагов опережать Китай с его бурно развивающимися военными возможностями, о чём Байдену тоже следует позаботиться. Выполнение этой задачи затруднено бюджетными ограничениями и давлением некоторых фракций внутри Демократической партии, требующих снижения военных расходов для поддержки программ соцобеспечения. Чтобы стратегия Байдена выглядела убедительной в глазах Пекина, администрации нужно наращивать оборонный бюджет и покрывать растущие расходы в Индо-Тихоокеанском регионе за счёт перенаправления военных ресурсов с менее напряжённых театров военного противостояния (из Европы).
По мере укрепления Китая крупнейшие и ближайшие союзники США будут становиться для Вашингтона всё важнее. Впервые за много десятилетий Соединённым Штатам понадобится совокупный вес и влияние союзников для поддержания общего баланса сил против главного противника. Китай попытается ослабить связь Америки с такими странами, как Австралия, Канада, Франция, Германия, Япония, Южная Корея и Великобритания, используя комбинацию экономического кнута и пряника. Чтобы не допустить успеха КНР на этом направлении, администрации Байдена нужно полностью открыть экономику для главных стратегических партнёров. Американцы гордятся тем, что у них одна из самых открытых экономик мира, но это не соответствовало действительности ещё до того, как Трамп взял курс на протекционизм. Вашингтон давно уже ставит даже перед самыми близкими союзниками устрашающие пошлинные и беспошлинные барьеры, от чего страдает торговля, инвестиции, финансовый и человеческий капитал, сфера высоких технологий.
Если США желают и дальше оставаться центром того, что до недавних пор называли «свободным миром», им нужно создать беспрепятственную трансграничную экономику, которая объединит азиатских, европейских и североамериканских партнёров и союзников.
Для этого Байдену необходимо поддержать новые торговые соглашения и открыть рынки, преодолев протекционистский соблазн, которому поддался Трамп. Чтобы снять опасения скептически настроенного электората, придётся доказать американцам, что подобные соглашения, в конце концов, приведут к снижению цен, повышению заработных плат, увеличению возможностей для промышленности, более надёжным мерам по защите окружающей среды. Ему необходимо заверить земляков, что выгоды от либерализации торговли повысят качество образования, здравоохранения и ухода за детьми.
Администрация Байдена будет также стремиться восстановить лидерство США в таких многосторонних организациях, как ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд и Всемирная торговая организация. Большая часть мира приветствует возвращение Соединённых Штатов после четырёх лет саботажа институтов послевоенного устройства мира со стороны администрации Трампа. Но за пару дней причинённый урон не восполнить. Наиболее безотлагательные задачи – исправление нарушенной процедуры оспаривания-разрешения спора в ВТО, возвращение в Парижское соглашение по изменению климата, повышение капитализации Всемирного банка и Международного валютного фонда (в качестве заслуживающих доверия альтернатив Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций Китая и его инициативе «Пояс и путь»). Не менее важно восстановление финансирования критически важных агентств ООН. Эти организации не только были инструментами мягкой силы США, содействовавших их созданию после последней мировой войны – их деятельность существенно влияет на жёсткую американскую силу в таких областях, как нераспространение ядерных вооружений и контроль над вооружениями. Если Вашингтон не возобновит активное участие в этих организациях, они ускоренными темпами начнут превращаться в китайские сатрапии вследствие получения финансирования и квалифицированных кадров из Китая, а также усиления влияния быстро растущей азиатской сверхдержавы.
Управляемая стратегическая конкуренция
Глубоко противоречивая суть стратегических целей США и Китая и конкурентный характер их взаимоотношений может сделать вооружённый конфликт и даже войну между ними почти неизбежными, даже если ни одна из сторон не желает такого исхода. Китай будет стремиться к достижению глобального экономического доминирования и регионального военного превосходства над США, не провоцируя прямой конфликт с Вашингтоном и его союзниками. Добившись превосходства, Китай постепенно изменит отношение к другим странам, особенно если их политика входит в противоречие с постоянно меняющимся в Пекине определением ключевых национальных интересов. Помимо всего прочего, Китай уже стремится постепенно подчинить систему многосторонних связей своим национальным интересам и ценностям.
Однако поэтапный, мирный переход к международному порядку, устраивающему китайское руководство, сегодня кажется менее вероятным, чем несколько лет назад. Несмотря на все причуды Трампа и изъяны его администрации, решение объявить Китай стратегическим конкурентом, формально положить конец доктрине стратегического взаимодействия и начать торговую войну с Пекином дало ясно понять китайским лидерам, что Вашингтон готов к большому сражению. А план администрации Байдена возродить основы национальной мощи США внутри страны, восстановить союзнические отношения с зарубежными партнёрами и отказаться от упрощенческого возврата к более ранним формам стратегического взаимодействия с Китаем сигнализирует о продолжении соперничества, которое, правда, будет сглаживаться сотрудничеством в ряде областей.
Следовательно, главный вопрос для Вашингтона и Пекина состоит в том, смогут ли они продолжать стратегическую конкуренцию на высоком уровне в рамках согласованных параметров, снижающих риск кризиса, вооружённого конфликта и войны. Теоретически это возможно, но практически почти полное размывание доверия резко увеличивает сложность реализации такого сценария. На самом деле, многие в американском сообществе национальной безопасности считают, что КПК всегда лгала или скрывала истинные намерения без малейших угрызений совести, чтобы вводить в заблуждение противников. По их мнению, китайская дипломатия нацелена на то, чтобы связать противнику руки и выгадать время для достижения превосходства в военной сфере, а также в области безопасности и разведки, чтобы затем уже закрепить новый расклад сил на земле. Следовательно, для получения широкой поддержки внешнеполитических элит США, разработчикам любой доктрины управляемой стратегической конкуренции нужно будет включить в неё положение о том, что в новой дорожной карте обе стороны должны опираться на практику «доверяй, но проверяй».
Идея управляемой стратегической конкуренции основывается на глубоко реалистичном представлении о мировом порядке. Она исходит из того, что страны и дальше будут стремиться к безопасности за счёт смещения баланса сил в свою пользу, признавая при этом, что тем самым создают дилеммы в сфере безопасности для других стран, фундаментальные интересы которых могут пострадать от их действий. Весь фокус в том, чтобы снизить риски для обеих сторон по мере развёртывания конкуренции между ними посредством разработки ограниченного числа строгих правил в рамках дорожной карты для недопущения войны. Эти правила позволят каждой из сторон энергично конкурировать друг с другом по всему политическому и региональному спектру.
Но если одна из сторон нарушит эти правила, положение кардинально изменится, и вернётся опасная неопределённость закона джунглей.
Перед созданием такого механизма следует, прежде всего, определить несколько ближайших шагов, которые необходимо сделать каждой из сторон для начала диалога по существу, а также ввести немногочисленные жёсткие ограничения, которые обеим сторонам (и союзникам США) нужно соблюдать. Например, воздерживаться от кибератак, нацеленных на критически важную инфраструктуру. Вашингтон должен вернуться к неукоснительному проведению политики «одного Китая», положив конец провокационным и ненужным визитам в Тайбэй на высоком уровне, которые осуществляла администрация Трампа. Со своей стороны, Пекину надо отказаться от провокационных военных учений, развёртывания воинского контингента и манёвров в Тайваньском проливе. КНР не должна заявлять свои права на новые острова в Южно-Китайском море или милитаризировать их. Необходимо также принять на себя обязательство уважать свободу навигации и воздушных полётов. Со своей стороны, Соединённые Штаты смогут в этом случае (и только в этом) сократить число операций, проводимых в данной акватории. Аналогичным образом Китай и Япония могли бы со временем по взаимному согласию сократить воинские контингенты в Восточно-Китайском море.
Если обе стороны согласятся с такими условиями, каждой из них придётся смириться с тем, что другая сторона всё же будет стараться максимально нарастить преимущества в рамках принятых ограничений. Вашингтон и Пекин продолжат конкурировать за стратегическое и экономическое влияние в разных регионах мира. Они не перестанут искать взаимный доступ на рынки друг друга и принимать ответные меры, если в таком доступе им откажут. Они и дальше будут конкурировать на рынках зарубежных инвестиций, технологий, капитала и на валютном рынке. И они, вероятно, активизируют борьбу за умы и сердца жителей всей планеты. При этом Вашингтон не прекратит подчёркивать важность демократии, открытой экономики и прав человека, а Пекин – доказывать преимущества авторитарного капитализма и того, что он называет «китайской моделью развития».
Но, несмотря на эскалацию конкуренции, в ряде важных областей появится место для сотрудничества. Оно имелось даже между США и СССР в разгар холодной войны и, конечно, возможно сейчас между США и КНР, ведь ставки далеко не так высоки, как тогда. Помимо сотрудничества в области противодействия изменению климата, две страны могли бы проводить двусторонние переговоры по контролю над ядерными вооружениями, в том числе по взаимной ратификации Всеобъемлющего договора о запрете ядерных испытаний. Они способны взаимодействовать по вопросу ядерного разоружения Северной Кореи и недопущения превращения Ирана в ядерную державу, а также принять ряд мер по укреплению доверия в Индо-Тихоокеанском регионе в части координации действий в случае природной катастрофы и совместных гуманитарных миссий. Вместе можно работать над повышением мировой финансовой стабильности – в том числе согласившись реструктурировать долги развивающихся стран, пострадавших от пандемии. И совместными усилиями выстроить более эффективную систему распределения вакцины от COVID-19 в развивающемся мире.
Это далеко не исчерпывающий перечень, но стратегическое обоснование всех инициатив одно и то же: обеим странам лучше действовать в рамках согласованного механизма управляемой конкуренции, чем не придерживаться никаких правил. Параметры новых договорённостей должны согласовать назначенный и доверенный высокопоставленный представитель Байдена и его китайский партнёр, близкий к Си. Только прямой канал такого рода для обмена мнениями на высоком уровне способен обеспечить понимание обеими сторонами жёстких ограничений и согласие с ними. Эти высокопоставленные представители обязаны поддерживать тесное общение, чтобы в случае нарушения договорённостей была возможность предотвратить обострение отношений. Со временем есть шанс добиться минимального уровня стратегического доверия. И, возможно, обе стороны обнаружат, что выгоды от сотрудничества для совместного поиска ответов на глобальные вызовы, в частности – изменение климата, оказывают влияние на другие конкурентные и даже конфликтные сферы взаимоотношений. Многие станут критиковать такой подход как наивный. Однако никто не мешает предложить что-то лучшее. И Соединённые Штаты, и Китай нуждаются в формуле управления двусторонними отношениями в предстоящее опасное десятилетие.
Суровая правда жизни в том, что невозможно эффективно управлять взаимоотношениями между странами без подписания фундаментального соглашения об условиях управления двусторонними отношениями.
Игра начинается!
Если США и Китай договорятся о таком стратегическом соглашении, что станет мерилом его успешности? Одним из признаков было бы избегание вооружённого конфликта или кризиса в Тайваньском проливе, отсутствие кибератак, выводящих из строя критически важную инфраструктуру. Конвенция о запрещении различных форм роботизированных военных действий стала бы очевидной победой, как и незамедлительное объединение усилий по борьбе со следующей пандемией вместе с Всемирной организацией здравоохранения. Но, наверное, самым важным признаком успеха была бы ситуация, в которой обе страны конкурировали, проводя открытую и энергичную кампанию для привлечения глобальной поддержки идей, ценностей и подходов к решению проблем.
Конечно, у успеха тысяча отцов, а неудача всегда остаётся сиротой. Но наиболее явной иллюстрацией провального подхода к управляемой стратегической конкуренции мог бы стать Тайвань и события вокруг этого острова. Если Си решит обмануть Вашингтон путём одностороннего выхода из всех ранее достигнутых с ним соглашений, мир окажется в устрашающей ситуации. Кризис такого масштаба одним махом переписал бы будущее мирового порядка.
За несколько дней до инаугурации Байдена генеральный секретарь Центральной комиссии КПК по политическим и правовым вопросам Чэнь Исинь заявил, что «подъём Востока и упадок Запада – это общемировая тенденция, и мировой ландшафт меняется в нашу пользу». Доверенное лицо Си и ключевая фигура в китайском истеблишменте национальной безопасности, Чэнь известен осторожностью в высказываниях. Так что высокомерие его слов особенно примечательно. Впереди длительная гонка. Внутриполитическая уязвимость Китая может быть вызвана разными причинами, которые редко обсуждаются в СМИ. С другой стороны, слабости США всегда на виду у общественности; однако эта страна не раз демонстрировала способность к возрождению подобно птице феникс. Управляемая стратегическая конкуренция обнажит сильные и слабые стороны обеих великих держав, и пусть победит наилучшая система!

Интервью заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина информационному агентству ТАСС, 2 апреля 2021 года
Вопрос: На днях в Женеве завершила свою работу 46-я сессия Совета ООН по правам человека. После четырехлетнего перерыва Российская Федерация вновь участвовала в работе этого правозащитного органа ООН в статусе его полноправного члена. Как Вы оцениваете завершившуюся сессию?
Ответ: Действительно, после избрания России на 75-й сессии Генассамблеи ООН в октябре 2020 г. абсолютным большинством голосов государств - членов ООН мы вернулись с нынешнего года в Совет и приняли полноценное участие в его мартовской сессии. Ожидали от наших коллег по cовету открытого и взаимоуважительного диалога, конструктивного настроя на работу, но, к сожалению, возвращение к активной работе в СПЧ подтвердило наши самые худшие прогнозы и опасения.
Завершившаяся сессия рельефно продемонстрировала, что Совет стал для отдельных государств инструментом для реализации своих конъюнктурных целей и задач.
Правозащитный диалог, по сути, трансформировался в монолог одной группы государств, которые позиционируют себя в качестве избранных и «правильных».
Они используют дебаты в СПЧ исключительно для очернения, дискредитации, делегитимизации законных правительств, оправдания введения в нарушение международного права односторонних принудительных мер с прицелом на изоляцию отдельных государств, раскачивание в них внутреннего недовольства и смещение правительств. При этом они не гнушаются голословными и ничем не подкрепленными обвинениями, вплоть до откровенной лжи. Реальное же положение дел, интересы и чаяния простых людей игнорируются. Как показывает практика, мишенями таких псевдоборцов за права человека становятся правительства, имеющие смелость осуществлять самостоятельный и независимый политический и экономический курс. Результат такой «заботы» о правах человека налицо: дестабилизация внутренней обстановки вплоть до разжигания вооруженного противостояния, разрушение государственных институтов, жертвы среди мирных жителей, потерянные поколения.
46-я сессия СПЧ оказалась богатой на политизированные решения, среди которых - резолюции по Белоруссии, Шри-Ланке, Никарагуа, Сирии.
Вопрос: Не могли бы Вы подробнее рассказать о резолюции по Белоруссии?
Ответ: То политическое шоу, которое устроил Европейский союз по ситуации в Белоруссии, вообще трудно комментировать. Представьте себе, что по инициативе ЕС Совет создал в рамках Управления Верховного комиссара ООН по правам человека своего рода миссию по расследованию нарушений прав человека в Белоруссии в составе 11 следователей. На работу такой команды из регулярного бюджета ООН планируется выделить около 2,6 млн долл. И это тогда, когда всемирная организация вот уже несколько лет испытывает серьезные проблемы с финансированием, когда многие действительно нуждающиеся государства стоят в очереди за гуманитарной помощью к ООН. Цель абсурдной антибелорусской затеи очевидна - смена действующего руководства страны, «режима», как некоторые теперь называют законные власти. Убеждены, что Совет ООН по правам человека дискредитирует себя такими решениями, которые не имеют ничего общего с заботой о правах простых людей, да и вдобавок принимаются меньшинством государств - членов СПЧ.
Вопрос: А что Россия смогла противопоставить таким тенденциям на сессии Совета?
Ответ: Как Вы знаете, главной целью своего избрания в Совет Россия определила формирование у международных партнеров понимания важности налаживания конструктивного международного диалога по вопросам поощрения и защиты прав человека, недопустимости применения пресловутой политики двойных стандартов, уважения национальных, исторических и культурных особенностей каждого государства в процессе демократических преобразований без навязывания кому-либо заимствованных систем ценностей. Такими установками и руководствовалась российская делегация на 46-й сессии Совета.
Мы вновь пытались достучаться до наших западных коллег, но нас по-прежнему отказываются услышать.
В этой связи Россия присоединилась к ряду совместных заявлений заинтересованных стран, например, о нарушениях прав человека в Евросоюзе и Великобритании, а также о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств под предлогом защиты прав человека, в том числе в контексте ситуаций в китайских Синьцзян-Уйгурском автономном районе и специальном административном районе Гонконг.
Российская сторона по-прежнему отстаивала недопустимость использования площадки СПЧ не по назначению, то есть не для обсуждения правозащитных вопросов. В этой связи вынуждены были поставить на голосование инициативу Грузии об оказании ей технического содействия со стороны ООН. Такой шаг был обусловлен не тем, что мы против помощи Тбилиси в вопросах укрепления его национального правозащитного потенциала, а тем, что истинной целью данной резолюции было подтверждение притязаний Грузии на территории независимых республик Южной Осетии и Абхазии.
Вопрос: Поднимала ли российская сторона на сессии вопросы, связанные с соблюдением прав человека, в частности в Прибалтике и на Украине?
Ответ: Не могли мы, безусловно, не привлечь внимание Совета к недопустимой в XXI веке ситуации, когда страны Европы, пострадавшие от идеологии фашизма, закрывают глаза на позорную политику, по сути, открытой сегрегации по принципу этнической и религиозной принадлежности, проводимую странами Прибалтики и Украиной. Совместно с государствами - участниками Движения неприсоединения остро ставили перед СПЧ вопрос о незаконности и негативном влиянии на права человека односторонних принудительных мер, в том числе в контексте водной блокады Крыма со стороны Украины.
Несмотря на такие в целом не очень позитивные оценки итогов завершившейся сессии, мы тем не менее не перестаем надеяться и рассчитываем на то, что конструктивный настрой и диалог станут неотъемлемыми принципами работы СПЧ. Будем этого и дальше добиваться.

НОВЫЙ КОНЦЕРТ ДЕРЖАВ
РИЧАРД ХААС
Президент Совета по международным отношениям.
ЧАРЛЬЗ КАПЧАН
Профессор международных отношений Джорджтаунского университета, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям.
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ КАТАСТРОФУ И ОБЕСПЕЧИТЬ СТАБИЛЬНОСТЬ В МНОГОПОЛЯРНОМ МИРЕ
Вызвавшая некоторый ажиотаж в России статья двух весьма видных американских международников. На общем фоне, к которому мы уже привыкли, – неожиданный подход. Правда, у нас о чём-то подобном пишут уже минимум лет двадцать, но для США – просто-таки озарение.
Международная система находится в точке исторических изменений. Азия продолжает экономическое восхождение, в то время как два столетия западного доминирования в мире – сначала Pax Britannica, а потом Pax Americana – подходят к концу. Запад теряет не только материальное доминирование, но и идеологическое господство. Демократии по всему миру становятся жертвой антилиберализма и популистского недовольства, а поднимающийся Китай при содействии агрессивной России бросает вызов авторитету Запада и республиканским подходам к внутреннему и международному управлению.
Президент США Джо Байден обещает восстановить американскую демократию, вернуть стране лидерство в мире и обуздать пандемию, оказавшую разрушительное гуманитарное и экономическое воздействие. Но Байден одержал победу с минимальным перевесом, и по обе стороны Атлантики гневный популизм и антилиберальные соблазны так просто не отступят. Более того, даже если западные демократии преодолеют поляризацию, подавят антилиберализм и перезапустят экономику, им не удастся предотвратить формирование мира, который будет многополярным и идеологически разнообразным.
История знает, что периоды бурных изменений таят в себе огромную опасность. Соперничество великих держав за иерархию и идеологию часто ведёт к крупным войнам. Чтобы избежать такого развития событий, нужно признать: западный либеральный порядок, возникший после Второй мировой войны, не может обеспечивать глобальную стабильность в XXI веке. Необходимо искать жизнеспособный, эффективный путь вперёд.
Лучшее средство продвижения стабильности в XXI веке – это глобальный концерт крупных держав.
Как показала история Европейского концерта XIX века (в него входили Великобритания, Франция, Россия, Пруссия и Австрия), находящаяся у руля группа ведущих стран в состоянии сдерживать геополитическое и идеологическое соперничество, которое характерно для многополярности.
Концерты имеют две особенности, которые делают их оптимальным вариантом для формирующегося глобального ландшафта: политическая инклюзивность и неформальность процедур. Инклюзивность означает, что за стол переговоров садятся страны, обладающие наибольшим геополитическим влиянием, которые и должны там быть, независимо от типа режима. Таким образом, идеологические разногласия по поводу внутреннего управления фактически отделяются от вопросов международного сотрудничества. Неформальность концерта означает, что он воздерживается от обязывающих процедур, соглашений и принуждения к их исполнению, что явно отличает его от Совета Безопасности ООН. Совбез часто служит площадкой для игры на публику, а его работу парализуют споры между постоянными членами, обладающими правом вето. Концерт, напротив, предлагает приватную площадку, где поиск консенсуса сочетается с уговорами и маневрированием, потому что у участников есть как общие, так и личные интересы. Обеспечив площадку для постоянного стратегического диалога, глобальный концерт действительно способен заглушить неизбежные геополитические и идеологические разногласия и преодолеть их.
Глобальный концерт стал бы консультативным, а не принимающим решения органом. Он разрешал бы кризисы, но так, чтобы насущные проблемы не заслоняли важное, а также занялся бы реформированием существующих норм и институтов. Эта руководящая группа помогла бы сформулировать новые правила игры и выстроить фундамент для коллективных инициатив, а оперативные вопросы – размещение миротворческих миссий, оказание помощи в условиях пандемии, заключение новых соглашений по климату – остались бы в ведении ООН и других существующих институтов. Таким образом, концерт занялся бы разработкой решений, которые потом можно применять более широко. Он находился бы над нынешней международной архитектурой и служил бы её опорой, при этом никого не вытесняя, а обеспечивая диалог, которого сейчас нет. ООН – слишком большая, бюрократическая и формалистская структура. Периодические саммиты G7 и G20 могут быть полезны, но даже в лучшем варианте они удручающе неэффективны – отчасти потому, что слишком много сил уходит на согласование детальных, однако в основном успокаивающих деклараций. Телефонные переговоры глав государств, министров иностранных дел и советников по национальной безопасности происходят эпизодически и обычно посвящены конкретным вопросам.
Формирование консенсуса ведущих держав по международным нормам, которые определяют политику государств, признание либеральных и нелиберальных правительств легитимными и авторитетными, продвижение общих подходов к кризисам – именно на этих инновационных принципах строилась работа Европейского концерта по сохранению мира в условиях многополярности. Изучив опыт своего предшественника из XIX века, глобальный концерт XXI столетия мог бы делать то же самое. Концертам не хватает определённости, предсказуемости и обязывающего характера альянсов и других формализованных групп. Но при разработке механизмов поддержания мира в условиях геополитической нестабильности политикам стоит стремиться к эффективному и достижимому, а не к желаемому, но невозможному.
Глобальный концерт XXI века
В глобальный концерт могут войти шесть участников: Китай, Евросоюз, Индия, Япония, Россия и США. Демократии и недемократии будут обладать равным статусом, а включение в концерт станет следствием мощи и влияния государства, а не ценностей и типа режима. На долю предполагаемых участников концерта приходится около 70 процентов глобального ВВП и мировых военных расходов. Включение в концерт этих шести тяжеловесов придаст ему геополитический авторитет и не позволит превратиться в слишком громоздкий дискуссионный клуб.
Участники направят постоянных представителей высшего дипломатического ранга в штаб-квартиру концерта. Хотя формально они не будут участниками концерта, четыре организации – Африканский союз, Лига арабских государств, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Организация американских государств (ОАГ) – отправят свои постоянные делегации в штаб-квартиру концерта. Эти организации обеспечат своим регионам представительство и возможность участия в формировании повестки концерта. Обсуждая вопросы, касающиеся этих регионов, участники концерта смогут приглашать делегатов этих организаций или представителей конкретных стран на заседания. Например, если концерт займётся урегулированием на Ближнем Востоке, к участию в дискуссии можно пригласить ЛАГ, её наиболее влиятельных членов, а также Израиль и Турцию.
Глобальный концерт сможет отказаться от кодифицированных правил, опираясь на диалог как способ достижения консенсуса. Как и «Европейский концерт», он будет отдавать приоритет территориальному статус-кво и суверенитету, если международный консенсус по поводу применения силы и других инструментов принуждения в целях изменения границ или свержения режима не будет достигнут. Этот относительно консервативный подход будет способствовать вовлечению всех участников. В то же время концерт станет идеальной площадкой для обсуждения влияния глобализации на суверенитет и обретёт потенциальную возможность лишать суверенного иммунитета государства, занимающиеся преступной деятельностью. К такой деятельности относятся геноцид, предоставление убежища и спонсирование террористов или уничтожение лесов, которое ведёт к катастрофическим изменениям климата.
Иными словами, глобальный концерт будет отдавать предпочтение диалогу и консенсусу. Однако эта ведущая группа должна признать: в многополярном мире великие державы руководствуются реалистскими представлениями об иерархии, безопасности и преемственности режимов, поэтому разногласия неизбежны. Участники концерта сохранят право предпринимать односторонние действия – в одиночку или в составе коалиции, если считают, что под угрозой находятся их жизненно важные интересы. Благодаря прямому диалогу неожиданные шаги будут менее распространены и – в идеале – односторонние действия станут редкими. Регулярные открытые консультации между Москвой и Вашингтоном, например, могли бы ослабить напряжённость по поводу расширения НАТО. А Китаю и США было бы удобнее напрямую обсуждать проблему Тайваня без риска военных инцидентов в Тайваньском проливе или провокаций, которые могут привести к эскалации конфликта.
Глобальный концерт сделает односторонние действия менее разрушительными. Конфликты интересов не исчезнут, но новый механизм дипломатии великих держав позволит управлять этими конфликтами. Участники концерта в принципе одобрят основанный на нормах международный порядок, но одновременно будут придерживаться реалистичных представлений о пределах сотрудничества, оставляя в стороне свои разногласия. В XIX веке участники концерта нередко яростно спорили о том, как реагировать на либеральные восстания в Греции, Неаполе и Испании. Но благодаря диалогу и компромиссам им удавалось преодолеть разногласия. Они перешли к боевым действиям только в Крымскую войну в 1853 г., когда на фоне революций 1848 г. на континенте стали распространяться дестабилизирующие волны национализма.
Глобальный концерт предоставит участникам пространство для манёвра во внутренней политике. Они, по сути, смогут не соглашаться по вопросам демократии и политических прав, но эти разногласия не будут препятствовать международному сотрудничеству. США и их демократические союзники не перестанут критиковать нелиберализм в Китае, России и других странах и не откажутся от усилий по продвижению демократических ценностей и практик. Напротив, они по-прежнему будут выступать в защиту универсальных политических прав и прав человека. Китай и Россия, в свою очередь, смогут критиковать внутреннюю политику демократических участников концерта и публично пропагандировать собственные взгляды на государственное управление. В то же время концерт выработает единое понимание, что такое недопустимое вмешательство во внутренние дела других стран, которого следует избегать.
Наша главная надежда
Создание глобального концерта, безусловно, станет отступлением от проекта либерализации, запущенного мировыми демократиями после Второй мировой войны. Но цели этой ведущей группы – незначительное препятствие по сравнению с давними амбициями Запада распространить республиканскую форму правления и глобализировать либеральный международный порядок. Однако это отступление неизбежно, учитывая геополитические реалии XXI века.
Международная система станет одновременно демонстрировать черты биполярности и многополярности. Будет два равных соперника – США и Китай. Но в отличие от периода холодной войны идеологическое и геополитическое соперничество между ними не охватит весь мир. ЕС, Россия и Индия, а также другие крупные государства – Бразилия, Индонезия, Нигерия, Турция и ЮАР – скорее всего, будут натравливать две супердержавы друг на друга и пытаться сохранить определённую степень автономности. Китай и США, в свою очередь, постараются ограничить свою вовлечённость в нестабильных зонах, не представляющих стратегический интерес, и разрешать потенциальные конфликты придётся другим – или делать это будет просто некому. Китай уже давно сохраняет политическую дистанцированность от отдалённых зон конфликта, а США учились на собственных ошибках и теперь уходят с Ближнего Востока и из Африки.
Поэтому международная система XXI века будет напоминать Европу XIX столетия, где было две основные державы – Великобритания и Россия, и три с меньшим влиянием – Франция, Пруссия и Австрия. Главной целью Европейского концерта было сохранение мира между его участниками посредством выполнения взаимных обязательств придерживаться территориального урегулирования, достигнутого на Венском конгрессе 1815 года. Пакт базировался на доброй воле и чувстве долга, а не на формальном договоре. Любые действия по выполнению взаимных обязательств, согласно Британскому меморандуму, «определялись обстоятельствами времени и дела». Участники концерта признавали несовпадение своих интересов, особенно когда речь шла о периферии Европы, но старались урегулировать разногласия, чтобы не подрывать солидарность группы. Великобритания, например, выступила против предложенного Австрией подавления либерального восстания в Неаполе в 1820 году. Но британский министр иностранных дел лорд Каслри в итоге согласился с планами Австрии при условии, что Вена предоставит любые заверения, что её взгляды никак не связаны со стремлением подорвать европейскую территориальную систему.
Глобальный концерт, подобный европейскому предшественнику, соответствует целям поддержания стабильности в условиях многополярности. Размер концерта ограничен для обеспечения эффективной работы. Неформальность позволяет адаптироваться к меняющимся условиям и не даёт запугивать страны, которые не готовы выполнять обязательства. На фоне роста популизма и национализма – и в XIX веке, и сегодня – влиятельные державы предпочитают более свободные объединения и дипломатическую гибкость фиксированным форматам и обязательствам. Неслучайно государства уже используют подобные концерту объединения, так называемые контактные группы, для противодействия серьёзным вызовам. В качестве примеров можно назвать шестисторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи, коалицию «5+1», которая добилась иранской сделки в 2015 г., а также «нормандскую четвёрку», которая ищет пути дипломатического урегулирования конфликта на востоке Украины. Концерт можно считать постоянной контактной группой глобального охвата.
XXI век будет политически и идеологически разнообразным. В зависимости от траектории популистских настроений на Западе либеральные демократии вполне способны сопротивляться. Как и нелиберальные режимы. Москва и Пекин ужесточают внутреннюю политику, не открываясь миру. На Ближнем Востоке и в Африке трудно найти стабильную демократию. Фактически во всём мире демократия отступает, и этот тренд вполне может сохраниться.
Грядущий международный порядок должен оставить пространство для идеологического разнообразия.
Концерт обладает необходимыми для этого неформальностью и гибкостью, он разделяет вопросы внутреннего правления и командную работу на международной арене. В XIX веке именно подход «руки прочь» в отношении типа режима позволил двум либеральным державам – Великобритании и Франции – сотрудничать с Россией, Пруссией и Австрией – тремя государствами, защищавшими абсолютную монархию.
Наконец, нынешняя международная архитектура из-за своей неадекватности недооценивает потребность в глобальном концерте. Соперничество США и Китая очень быстро накаляется, мир страдает от разрушительной пандемии, изменения климата усугубляются, эволюция киберпространства представляет новые угрозы. Эти и другие вызовы позволяют говорить о том, что полагаться на статус-кво и существующие международные нормы и институты не просто наивно, но и опасно. «Европейский концерт» был создан в 1815 г. после длительного периода катастрофических наполеоновских войн. Однако отсутствие войны между великими державами сегодня не должно нас успокаивать. Мир уже переживал в прошлом периоды многополярности, но прогресс глобализации повышает потребность в новых подходах к глобальному управлению и их значимость. Глобализация началась в период Pax Britannica, и Лондон контролировал её до Первой мировой войны. После мрачного межвоенного разрыва США взяли на себя глобальное лидерство – с момента окончания Второй мировой и до вступления в XXI век.
Сегодня Pax Americana уже на последнем издыхании. У США и их традиционных демократических партнеров нет ни возможностей, ни желания поддерживать взаимозависимую международную систему и универсализировать либеральный порядок, выстроенный после Второй мировой.
Отсутствие американского лидерства во время коронакризиса проявилось особенно ярко: странам пришлось полагаться только на себя. Президент Байден хочет возродить роль Соединённых Штатов как командного игрока, но внутриполитические проблемы и развитие многополярности лишили Вашингтон прежнего влияния. Позволить миру скатиться к региональным блокам или двухблоковой системе времён холодной войны – это путь в никуда. США, Китай и остальной мир не могут полностью разъединиться, пока национальные экономики, финансовые рынки и цепочки поставок так тесно переплетены. Руководящая группа великих держав – лучший вариант для управления интегрированным миром, где больше нет гегемона. Глобальный концерт – как раз то, что надо.
Без вариантов
Альтернативы глобального концерта имеют дисквалифицирующие их слабости. ООН останется ключевым глобальным форумом, но опыт организации демонстрирует пределы её деятельности. Из-за разногласий, ведущих к применению права вето, Совет Безопасности нередко выглядит беспомощным. Состав его постоянных членов отражает мир 1945 г., а не сегодняшние реалии. Увеличение количества членов Совбеза, возможно, поспособствует его адаптации к новому распределению сил, но одновременно орган станет ещё более громоздким и неэффективным. ООН должна продолжать выполнять свои полезные функции, включая оказание гуманитарной помощи и миротворчество, но она не в состоянии поддерживать глобальную стабильность в XXI веке.
Ожидать глобализации западного порядка и возникновения мира, состоящего преимущественно из демократий-приверженцев либеральной, основанной на правилах международной системы, уже не имеет смысла. Однополярный период закончился, и оглядываясь назад, можно сказать, что разговоры о «конце истории» – триумфалистский нонсенс. Политическое единство Запада нельзя воспринимать как должное. Даже если западные демократии будут придерживаться обязательств по продвижению республиканских идеалов, у них просто нет необходимых материальных ресурсов и политических возможностей, чтобы универсализировать либеральный международный порядок.
Кондоминиум США и Китая – своеобразная G2, которая будет контролировать приемлемый для обеих сторон международный порядок, – тоже имеет недостатки. Даже если два равных конкурента смогут обуздать соперничество, в основном мир останётся за пределами сферы их прямых интересов. Кроме того, увязывать глобальную стабильность с сотрудничеством Вашингтона и Пекина – рискованная идея. У них и так будет достаточно проблем с урегулированием своих взаимоотношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. К тому же нужна поддержка и участие других стран. Американо-китайский кондоминиум – это мир, поделённый на сферы влияния, Вашингтон и Пекин договорятся распределить своё господство по географическим линиям и пропорционально разделят права и ответственность за страны второго эшелона в своих регионах. Но если предоставить Китаю, России или другой державе свободу действий в своём регионе, это стимулирует экспансионистские тенденции, ущемит автономию соседей или побудит их к ответным действиям. Что приведёт к дальнейшему распространению оружия и региональным конфликтам. Когда мы задумываемся о международном порядке XXI века, главная задача – избежать формирования мира, склонного к принуждению, соперничеству и экономическому расколу.
Pax Sinica тоже не вариант. В обозримом будущем у Китая не появится достаточно возможностей и амбиций, чтобы поддерживать глобальный порядок. По крайней мере пока его геополитические устремления ограничиваются Азиатско-Тихоокеанским регионом. Китай существенно расширил коммерческий охват, особенно благодаря проекту «Пояс и путь», который, безусловно, повысит его экономический и политический вес. Пекин пока не продемонстрировал готовности обеспечивать глобальные общественные блага, сосредоточившись на меркантилистских подходах. Он также не стремится экспортировать свои взгляды на внутреннюю политику или продвигать набор новых норм в целях поддержания глобальной стабильности. К тому же США, даже ступив на путь сокращения своей вовлечённости, останутся державой первого ранга на ближайшие десятилетия. Нелиберальный и меркантилистский Pax Sinica вряд ли будет приемлемым для американцев и других народов мира, которые по-прежнему придерживаются либеральных принципов.
Когда речь заходит об улучшении нынешней международной архитектуры, глобальный концерт выигрывает не из-за совершенства, а из-за отсутствия альтернатив. Это самый перспективный вариант. Другие неэффективны, нежизнеспособны или недостижимы. Если руководящая группа великих держав так и не материализуется, нас ждёт неуправляемый хаотичный мир.
Запустить движение
Глобальный концерт обеспечит глобальную стабильность посредством постоянных консультаций и переговоров. Представители участников концерта будут встречаться регулярно, их работу поддержит небольшой, но высококвалифицированный секретариат. Постоянными представителями должны стать самые опытные дипломаты, по статусу равные постпредам в ООН или даже выше. Такие же авторитетные фигуры будут направлять Африканский союз, ЛАГ, АСЕАН и ОАГ. Саммиты концерта будут проходить на регулярной основе. В случае кризисов будет созываться специальная встреча. Одним из самых эффективных механизмов «Европейского концерта» был созыв срочной встречи для урегулирования возникших разногласий. Если обсуждаются затрагивающие их вопросы, на саммитах концерта должны присутствовать руководители Африканского союза, ЛАГ, АСЕАН и ОАГ, а также главы заинтересованных государств. Председательство в концерте будет ротироваться ежегодно между шестью участниками. Штаб-квартира не должна располагаться в одной из стран-участниц, предпочтительнее Женева или Сингапур.
В отличие от Совбеза ООН, где игра на публику часто препятствует содержательным инициативам, постоянные представители концерта не будут использовать вето, проводить формальные голосования и принимать соглашения обязывающего характера. Дипломатия будет осуществляться за закрытыми дверями и должна быть направлена на достижение консенсуса. Участник, решивший действовать в одностороннем порядке, сначала должен обсудить альтернативные варианты с коллегами. Если один из участников нарушил достигнутый консенсус, остальные должны выработать скоординированные ответные шаги.
Предполагается, что среди участников концерта не будет ревизионистских держав, склонных к агрессии и завоеваниям. «Европейский концерт» функционировал эффективно во многом благодаря тому, что в его состав входили удовлетворённые державы, которые хотели сохранить, а не сломать территориальный статус-кво. В современном мире захват Россией территорий Грузии и Украины – это тревожное развитие событий, демонстрирующее готовность Кремля нарушить территориальную целостность своих соседей. То же самое можно сказать о претензиях Китая на спорные острова в Южно-Китайском море и строительстве там военных баз. Кроме того, Пекин нарушает собственные обещания уважать автономию Гонконга. Тем не менее ни Россию, ни Китай нельзя назвать непреклонно агрессивными государствами, стремящимися к масштабной территориальной экспансии. Глобальный концерт сделает такой вариант маловероятным, став площадкой, где участники смогут открыто обозначить ключевые интересы безопасности и стратегические «красные линии».
Но если появится государство-агрессор, регулярно угрожающее интересам других участников концерта, оно будет исключено из группы, а оставшиеся члены объединятся против него.
Чтобы поддерживать солидарность великих держав, концерт должен сосредоточиться на двух приоритетах. Первый – это уважение существующих границ и недопущение территориальных изменений посредством применения силы или принуждения. Да, это предвзятость по отношению к претензиям на самоопределение, но участники концерта сохранят возможность признавать новые государства, если посчитают это приемлемым. Хотя все страны получат свободу в вопросах внутреннего управления, концерт сможет рассматривать конкретные случаи систематического нарушения базовых прав человека или признанных норм международного права.
Вторым приоритетом концерта должна стать выработка коллективного ответа на глобальные вызовы. В момент кризиса концерт будет продвигать дипломатические методы и предлагать совместные инициативы, а затем передавать контроль за реализацией соответствующим институтам – ООН по миротворческой миссии, МВФ по срочному займу, ВОЗ по вопросам здравоохранения. Концерт также будет инвестировать в долгосрочную работу по адаптации существующих норм и институтов к глобальным изменениям. Даже защищая традиционный суверенитет в целях уменьшения конфликтов между государствами, концерт должен обсуждать, как лучше адаптировать международные правила и практики к современному взаимосвязанному миру. Если национальная политика оказывает негативное воздействие на международную обстановку, она немедленно становится делом концерта.
В этом отношении концерт поможет противодействовать распространению ядерного оружия и решить проблему ядерных программ КНДР и Ирана. Когда дело касается дипломатических шагов в отношении Пхеньяна и Тегерана, введения санкций или ответа на возможные провокации, в концерте собран нужный состав участников. Как постоянный орган концерт поспособствует прогрессу шестистороннего формата и формата «5+1», в которых ведутся переговоры с КНДР и Ираном.
Концерт также может стать площадкой для борьбы с изменениями климата. Лидеры по выбросам парниковых газов – Китай, США, ЕС, Индия, Россия и Япония. Суммарно на их долю приходится 65 процентов глобальных выбросов. Когда все они соберутся за одним столом, концерт сможет установить новые цели сокращения выбросов и выработать новые стандарты зелёного развития, а затем передать реализацию другим форумам. То же самое с пандемией COVID-19, которая продемонстрировала неэффективность ВОЗ, – концерт станет оптимальной площадкой для достижения консенсуса по реформе организации. Выработка правил игры в сфере технологических инноваций – цифровое регулирования и налогообложение, кибербезопасность, сети 5G, социальные медиа, виртуальные валюты, искусственный интеллект – также должна войти в повестку концерта. Эти важные вопросы выпадают из поля зрения из-за институциональных пробелов, концерт станет полезным механизмом международного мониторинга.
Если вернуться к опыту европейского предшественника, глобальный концерт должен признать: солидарность великих держав часто ведёт к бездействию, нейтралитету и сдерживанию вместо вмешательства. Европейский концерт полагался на буферные зоны, демилитаризованные районы и нейтральные участки, чтобы смягчить конфронтацию и затушить потенциальные конфликты. Участники концерта, возражавшие против инициатив других членов, просто отказывались участвовать, чтобы не нарушать единства. Так, Великобритания выступала против вмешательства и подавления революций в Неаполе и Испании в 1820-х гг., но предпочла сидеть сложа руки, не препятствуя действиям других участников концерта. Франция поступила точно так же в 1839 и 1840 гг., когда другие участники концерта вмешались в ситуацию в Египте, чтобы не допустить угроз османскому правлению.
Как глобальный концерт мог бы с пользой применить эти механизмы сегодня? В Сирии, например, он мог бы совершить скоординированную совместную интервенцию, чтобы остановить гражданскую войну, бушующую с 2011 г., или вытеснить из страны другие державы. Концерт мог бы стать площадкой для дипломатических усилий по созданию буферной или демилитаризованной зоны на севере Сирии, чтобы остановить боевые действия и гуманитарную катастрофу после спешного вывода американских войск и интенсивных атак правительственных сил в провинции Идлиб. Опосредованные войны, как в Йемене, Ливии и Дарфуре происходили бы реже, если бы глобальный концерт помог выработать единую позицию ведущих держав. Если бы руководящая группа великих держав сформировалась в момент окончания холодной войны, она могла бы предотвратить или хотя бы сделать менее кровопролитными гражданские войны в Югославии и Руанде. Конечно, такой исход не был гарантирован, но шансов на успех было бы больше.
Стоит ли игра свеч?
Предложение создать глобальный концерт может вызвать ряд возражений. В первую очередь – по составу. Почему не включить самые влиятельные европейские державы вместо ЕС, который управляется громоздкой структурой из Еврокомиссии и Евросовета? Дело в том, что геополитический вес Европы основывается на её совокупной мощи, а не показателях отдельных государств. ВВП Германии около 4 трлн долларов, её военный бюджет 40 млрд долларов, а совокупный ВВП ЕС 19 трлн долларов, суммарные военные расходы почти 300 млрд долларов. Ведущие европейские лидеры должны присутствовать на заседаниях концерта. Вместе с главами Еврокомиссии и Евросовета на саммитах концерта могут присутствовать лидеры Германии, Франции и других стран ЕС. Великобритания покинула ЕС, но пока выстраивает свои отношения с блоком. Участие ЕС в глобальном концерте стать стимулом для Лондона и Брюсселя действовать сообща, когда речь идёт о внешней политике и политике безопасности.
Кто-то может возразить против включения России, которая по объёму ВВП не входит в топ-10 и уступает Бразилии и Канаде. Но Россия – ядерная держава, и это закрепляет её вес на глобальной арене. Отношения России с Китаем, европейскими соседями и США будут оказывать значительное влияние на геополитику в XXI веке. Москва также начала восстанавливать свое влияние на Ближнем Востоке и в Африке. Кремль заслуживает места за столом переговоров.
Значительные части мира – Африка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и Латинская Америка – будут представлены региональными организациями, делегаты которых будут постоянно присутствовать в штаб-квартире концерта. Но они, как и лидеры отдельных государств, будут приглашаться на заседания концерта, только если обсуждаются вопросы, затрагивающие их напрямую. Такой формат усугубляет иерархию и неравенство международной системы. Но стимулировать сотрудничество можно, только ограничив участие в концерте самыми влиятельными акторами. Поэтому широкое представительство приносится в жертву ради эффективности. Более широкий доступ предоставляют другие международные институты. Страны, не включённые в концерт, по-прежнему смогут использовать своё влияние в ООН и на других международных площадках. А концерт будет иметь право изменить состав участников, если по этому поводу достигнут консенсус.
Ещё одно возможное возражение – с появлением глобального концерта мир будет поделён на сферы влияния великих держав. Европейский концерт предоставлял своим членам право надзора за сопредельными территориями. Однако концерт XXI века не разрешит деления на сферы влияния. Наоборот, он будет продвигать региональную интеграцию и в сотрудничестве с региональными институтами осуществлять сдерживание. В рамках концерта великие державы будут проводить консультации и предлагать пути решения ключевых региональных вопросов. Главная задача – способствовать глобальной координации, признавая при этом авторитет и ответственность региональных институтов.
Критики могут сказать, что концерт слишком государствоцентричный для сегодняшнего мира. «Европейский концерт» прекрасно подходил для суверенных и авторитарных национальных государств XIX века. Но социальные движения, неправительственные организации (НПО), корпорации, города и многие другие негосударственные акторы сегодня обладают политическим влиянием и должны участвовать в дискуссиях, особенно по социальной повестке. Тем не менее государства остаются главными и наиболее влиятельными акторами международной системы. Действительно, глобализация и вызванный ей подъём популизма, а также пандемия COVID-19 укрепили суверенитет и позиции национальных правительств в целом. Концерт может и должен привлечь НПО, корпорации и других негосударственных акторов к обсуждениям. Например, Фонд Билла и Мелинды Гейтс и крупные фармкомпании – при обсуждении вопросов здравоохранения, Google – когда речь идёт о цифровом управлении. Концерт дополнит, а не заменит участие негосударственных акторов в глобальном управлении.
Наконец, если жизнеспособность глобального концерта базируется на его гибкости и неформальности, критики могут задать вполне обоснованный вопрос: зачем его институционализировать? Почему нельзя позволить решать актуальные вопросы на шестисторонних переговорах, в формате «5+1» и других? Разве глобальный концерт не станет избыточным, если уже существуют G7 и G20?
Создание штаб-квартиры и секретариата глобального концерта укрепит его эффективность в сравнении с другими группами, собирающимися от случая к случаю. Регулярные встречи постпредов концерта, ежедневная работа секретариата, присутствие делегатов от регионов, плановые и чрезвычайные саммиты – всё это обеспечит устойчивость, авторитет и легитимность глобального концерта. Непрерывный диалог, личные отношения, взаимное воздействие в сочетании с дипломатическими приёмами будут способствовать сотрудничеству. Постоянное взаимодействие гораздо лучше эпизодических встреч.
Постоянный секретариат особенно пригодится для обеспечения экспертного диалога и в долгосрочной работе над решением нетривиальных проблем, в том числе в сфере кибербезопасности и глобального здравоохранения. Кроме того, он станет механизмом реагирования на непредвиденные кризисы. С пандемией коронавируса удалось бы справиться более эффективно, если бы глобальный концерт координировал усилия с первого дня. Критически важная информация из Китая поступала очень медленно, и только в середине марта 2020 г. – через несколько месяцев после начала кризиса – лидеры G7 провели видеоконференцию, на которой обсуждалось быстрое распространение заболевания.
Таким образом, концерт обладает потенциалом, чтобы заменить G7 и G20. США, ЕС и Япония скорее сосредоточат свою энергию на новой структуре, а G7 просто отомрёт. G20 стоит сохранить, учитывая широкое представительство стран. Такие страны, как Бразилия, Индонезия, Саудовская Аравия, ЮАР и Турция, не захотят терять площадку для высказывания своей позиции. Тем не менее если глобальный концерт реализует свой потенциал и превратится в ведущую площадку политической координации, в существовании G7 и G20 уже не будет смысла.
Не панацея, но альтернатив нет
Создание глобального концерта не является панацеей. Собрав мировых тяжеловесов за столом переговоров, невозможно гарантировать консенсус между ними. Действительно, Европейскому концерту удавалось поддерживать мир на протяжении нескольких десятилетий, но в итоге Франция и Великобритания были вынуждены противостоять России в Крымской войне. Россия вновь вступила в конфронтацию с европейскими соседями по поводу Крыма, недооценив фактор солидарности великих держав. В похожем на концерт формате – «нормандской четвёрке» в составе Франции, Германии, России и Украины – пока не удалось урегулировать противостояние по Крыму и Донбассу.
Но глобальный концерт – лучший и наиболее реалистичный способ добиться взаимодействия великих держав, обеспечить международную стабильность и продвигать основанный на правилах порядок. У США и их демократических партнёров есть причины стремиться к возрождению солидарности Запада. Но им пора перестать притворяться, что глобальный триумф порядка, созданного после Второй мировой войны, вот-вот наступит. Нужно осознать реальность: в случае потери лидера глобальная система погрузится в хаос и ничем не ограниченную конфронтацию. Глобальный концерт – это прагматичная середина между идеалистическими, но недостижимыми стремлениями и опасными альтернативами.
Статья подготовлена на основе работы исследовательской группы Ллойда Джорджа по мировому порядку. Опубликовано в журнале Foreign Affairs.

ПОЧЕМУ ГОНКОНГ ПРОИГРАЛ СЯНГАНУ? || РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
АНДРЕЙ КОРТУНОВ
Генеральный директор и член Президиума Российского совета по международным делам.
РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ || ЛИБЕРАЛЬНАЯ ШКОЛА
От редакции:
Журнал «Россия в глобальной политике» продолжает серию публикаций под рубрикой «Руководство к действию». В этой рубрике видные учёные-международники рассматривают текущие события с позиций одной из доминирующих школ международных отношений. У каждого своя линза и свой угол зрения. А нашим читателям мы предоставляем возможность выбирать, чья теория убедительнее интерпретирует события современной политики. Очередной взгляд на текущие события с либеральной башни из слоновой кости. Андрей Кортунов – о Гонконге.
↓ ↓ ↓
В середине марта в Китае произошло знаменательное событие, оставшееся почти незамеченным на фоне более ярких, масштабных и драматических явлений международной жизни. Четвёртая сессия Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва практически единогласно (2 895 «за» при одном воздержавшемся) приняла решение о реформе избирательной системы Гонконга (китайское название – Сянган). Опуская многочисленные технические детали, можно констатировать, что Пекин предпринял решительные шаги по усилению своего контроля над политическими процессами, протекающими на Цзюлунском полуострове.
Многие комментаторы сделали вывод, что длившийся уже почти 24 года исторический эксперимент «одна страна – две системы» вступил в свою завершающую фазу. Теперь политическая система Гонконга будет последовательно отстраиваться под стандарты материкового Китая. Британский Гонконг с его полуторавековой историй, уникальной системой политического самоуправления и гражданского общества окончательно и бесповоротно проиграл китайскому Сянгану.
Напомним, как складывался нынешний статус полуострова. В 1984 г., после многолетних напряжённых переговоров, британская колониальная администрация и власти Пекина достигли договорённости о возвращении территории Гонконга континентальному Китаю к 1997 г., о чём была подписана соответствующая двусторонняя декларация. Эта почётная, но, вероятно, не самая приятная функция выпала на долю тогдашнего премьера Маргарет Тэтчер. Надо отдать должное «железной леди»: она боролась за каждое слово, за каждую запятую соглашения, зафиксировав перспективу сохранения особого политического режима как минимум ещё на полвека после передачи территории Пекину – до 2047 года. Тогда, в далёком 1984 г., середина XXI столетия, наверное, представлялась как туманное будущее, выходящее далеко за рамки возможностей рационального политического планирования.
Находясь в статусе британской колонии, Гонконг, конечно, ни в коей мере не был полноценной либеральной демократией и управлялся назначаемым в Лондоне губернатором. Но за полтора столетия британской власти его жители привыкли к многочисленным политическим правам, о которых их менее удачливые соотечественники на континенте могли только мечтать, включая свободу слова, религии, собраний, митингов и демонстрацией. Уходя, британцы договорились с китайцами о включении в Основной закон Гонконга, принятый в 1990 г., прощального подарка в виде сложной, но в целом демократической избирательной системы – притом, что Пекин выторговал себе право вето на назначение высших должностных лиц полуострова. В целом, за исключением вопросов внешней политики и обороны, территория получила широкую автономию, с собственным законодательством, полицией, денежной системой, таможней, иммиграционной политикой и прочим.
В 1984 г., да и в 1997 г. тоже, предполагалось, что Гонконг станет своего рода политической лабораторией для остального Китая, где будут отрабатываться алгоритмы и практики, позволяющие сделать переход от дряхлеющего китайского коммунизма к либеральной демократии по возможности менее болезненным и затратным. Сомнений в общей траектории движения Китая в сторону от коммунистической системы к либеральной демократии ни в 1984 г., ни в 1997 г. ни у кого на Западе не было. Вероятно, такие сомнения присутствовали в Пекине, но кого тогда интересовала точка зрения уходящей с политической сцены старой коммунистической номенклатуры. Конечно, уже в 1997 г. легко было предвидеть неизбежные сложности и напряжения в отношениях между бывшей британской колонией и континентальным Китаем, но эти сложности воспринимались как сугубо временные на пути поступательного расширения демократических практик Гонконга и их де-факто распространения на всю территорию континентального Китая.
Сложности, действительно, не заставили себя ждать. Естественного движения в направлении постепенной конвергенции двух систем не получилось. Каждая из сторон хотела получить больше, чем была готова отдать сама: Гонконг требовал большей автономии, Пекин настаивал на большем контроле. Но, надо признать, на протяжении многих лет пекинские власти демонстрировали изрядное терпение и даже толерантность, более чем сдержанно реагируя на новые и новые демарши непоседливых гонконгских либералов. Со стороны КПК были предприняты немалые усилия для того, чтобы кооптировать деловые и политические правящие элиты Гонконга в национальное руководство континентального Китая. Даже когда ведущую местную газету South China Morning Post купил основатель Alibaba Джек Ма, она по-прежнему позволяла себе острые выпады в адрес Пекина.
Что же изменилось в марте 2021 года?
Некоторые считают, что главная причина резкого ужесточения подходов Пекина к Гонконгу – меняющаяся мировая геополитика, в первую очередь – обострение отношений с Соединёнными Штатами.
Гонконг сегодня объективно является одним из важнейших плацдармов информационного противостояния Вашингтона и Пекина.
Но когда за долгие десятилетия реализации принципа «одна страна – две системы» было по-другому? Когда Запад отказывался использовать Гонконг в качестве ахиллесовой пяты пекинского режима? Когда гонконгские оппозиционеры давали мало поводов Пекину «закрутить гайки» и «навести порядок» на полуострове? Вообще говоря, готовность «бомбить Воронеж» в ответ на происки Запада никогда не входила в число традиционных китайских добродетелей.
Более важно, на наш взгляд, то, что за последние десятилетия радикально изменилось место Гонконга в китайской экономике. Гонконг уже не нужен Пекину так, как он был нужен в 1984 г. или даже в 1997 году. Сорок лет назад экономика полуострова составляла почти одну треть от экономики КНР, двадцать лет назад – уже менее одной пятой, а в прошлом году – не более 3 процентов.
Уже в предпоследнем десятилетии прошлого века Гонконг теряет былую роль «сборочной мастерской» Восточной Азии; основные производственные мощности перемещаются в соседние регионы континентального Китая. Затем наступает закат былого неоспоримого лидерства гонконгского порта, который пропускает вперед портовую инфраструктуру сначала Шанхая, а затем – Шэньчжэня и Нинбо. Менее стремительно, но столь же неуклонно снижается роль полуострова в финансовом секторе: в 1997 г. здесь было сосредоточено две трети всех резервов иностранной валюты Китая, а через двадцать лет – не более одной восьмой.
Зачем же бесконечно терпеть надоедливое кудахтанье либеральной курицы, давно переставшей нести золотые яйца? Гонконг уже много лет не выполняет былой функции главного окна Китая во внешней мир; он всё более воспринимается Пекином как Сянган – одна из многочисленных провинций Поднебесной с населением около 0,5 процента от общекитайского. Накопленный на полуострое опыт развития уже не считается настолько важным и уникальным, чтобы ради его сохранения и развития идти на нелёгкие для китайского руководства политические компромиссы.
Этим, по всей видимости, и объясняются недавние решения Всекитайского собрания народных представителей. Исторический эксперимент сворачивается, хотя особенности территории сохранятся ещё долго. Дальше процесс интеграции полуострова будет только ускоряться. В том числе и за счёт демографии – ежегодно на полуостров переселяется около 50 тысяч человек с материка, а сами коренные гонконгцы всё чаще задумываются о переезде в Сингапур, в Австралию, США или в Великобританию. Каждый год новый Сягнан будет физически замещать часть старого Гонконга.
Ставки в этой игре – не только о будущее полуострова, но и будущее Китая в целом.
Сворачивая гонконгский проект, Пекин посылает сигнал urbi et orbi – либерально-демократическая модель развития уже не рассматривается в качестве одного из вариантов для самого Китая – пусть даже и в середине XXI века.
В этой модели руководство КНР больше не видит ничего, чего оно не могло бы построить на собственных экспериментальных площадках, не отходя слишком далеко от основ китайского коммунизма. Ни городское самоуправление, ни независимая судебная система, ни автономная полиция, ни свободная пресса – ни одна из этих либеральных гонконгских «фишек» уже не считается необходимым условием для будущего процветания Поднебесной – ни сегодня, ни через несколько десятилетий. В этом смысле в Пекине действительно сделали исторический выбор.
За своё политическое решение Пекину придётся заплатить. Новые законы аукнутся в первую очередь на Тайване – число сторонников использовать формулу «одна страна – две системы» на острове явно уменьшится. Солидарность с «борющимся Гонконгом» при каждом удобном случае будет демонстрировать Запад – от бывшей британской метрополии до администрации Байдена в Соединённых Штатах. Но всё это в конечном счёте арьергардный бой, не отменяющий факта исторической победы китайского коммунизма над западным либерализмом. Если западный либерализм всё же вернётся в Китай, то очень нескоро и в какой-то новой форме, мало похожей на гонконгскую модель прошлого века.

Интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова программе «Большая игра» на «Первом канале», Москва, 1 апреля 2021 года
В.А.Никонов: В последнее время все чаще звучит слово «война». Оно с легкостью вылетает из уст американских, натовских политиков, еще легче – из уст украинских военных. Вам когда-нибудь было более тревожно, чем сейчас?
С.В.Лавров: И да, и нет. С одной стороны, конфронтация достигла «дна». С другой стороны, в глубине души есть надежда, что все люди взрослые и понимают риски, которые сопряжены с нагнетанием дальнейшей напряженности. Но слово «война» в дипломатический, международный обиход ввели наши западные коллеги. «Гибридная война, развязанная Россией» – очень популярное сейчас описание того, что Запад воспринимает в качестве главного события международной жизни. Я все-таки считаю, что благоразумие возобладает.
В.А.Никонов: США в последнее время действительно «взвинтили» градус конфронтации как никогда. Президент США Дж.Байден объявил, что Президент Российской Федерации В.В.Путин – «убийца». Мы отозвали Посла России в США А.И.Антонова.
С.В.Лавров: Пригласили для консультаций.
В.А.Никонов: Возникает вопрос: как дальше развивать отношения? Как долго продлится «пауза»? Когда А.И.Антонов вернется в Вашингтон?
С.В.Лавров: То, что прозвучало в интервью Президента США Дж.Байдена каналу «Эй-би-си», – возмутительная, беспрецедентная риторика. Но за риторикой всегда нужно видеть реальные дела, а они начались задолго до этого интервью, еще при Администрации Б.Обамы. Они продолжились при Администрации Д.Трампа, несмотря на то, что 45-й Президент США публично высказывался за хорошие отношения с Россией, с которой он готов «ладить», но «ему не давали». Имею в виду последовательное разрушение всей инфраструктуры сдерживания в военно-политической и стратегической сфере.
Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) «почил в бозе» достаточно давно. Президент В.В.Путин не раз вспоминал, как в ответ на его слова о том, что Дж.Буш делает ошибку и незачем обострять отношения, тогдашний Президент США ответил, что это не направлено против России. Якобы мы можем делать любые шаги, которые считаем необходимыми, в ответ на выход США из Договора по ПРО. Якобы американцы также не будут это воспринимать как нацеленные против них действия. Но потом противоракетные системы стали сооружаться в Европе – третий позиционный район ПРО. Было однозначно объявлено, что это исключительно против Ирана. Наши попытки договориться о формате транспарентности, которые были поддержаны в ходе визита в Москву Госсекретаря США К.Райс и Министра обороны США Р.Гейтса, затем были отвергнуты. Сейчас мы имеем противоракетный район в Европе. Никто уже не говорит, что это против Ирана. Это однозначно анонсируется как глобальный проект, призванный сдерживать Россию и Китай. Те же самые процессы идут в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Никто не пытается делать вид, что это против Северной Кореи.
Это глобальная система, призванная подкрепить претензии США на абсолютное доминирование, в том числе в военно-стратегической, ядерной сфере.
Д.Саймс тоже может поделиться своими оценками того, что говорят и пишут в Соединенных Штатах. Сейчас однозначно взят курс на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был разрушен американцами под надуманными предлогами. Это был не наш выбор. Президент России В.В.Путин в своих специальных посланиях предложил даже в отсутствие ДРСМД на добровольной основе договориться о взаимном моратории с сопутствующими мерами верификации и в Калининградской области, где американцы подозревали нас в том, что «Искандеры» нарушали ограничения, установленные ушедшим в историю Договором, и на базах США в Польше и Румынии, где установки «МК-41» рекламируются компанией-разработчиком «Локхид Мартин» однозначно как имеющие двойное назначение.
Эта риторика – хочу подчеркнуть еще раз – возмутительна и неприемлема. Но Президент России В.В.Путин отреагировал на нее дипломатично и вежливо. К сожалению, ответа на предложение поговорить в прямом эфире и расставить все точки над разными буквами русского и английского алфавитов не последовало. Все это давно уже сопровождается материальным наращиванием инфраструктуры конфронтации, куда надо записать и безоглядное продвижение военных объектов НАТО на Восток, превращение ротационного присутствия в постоянное на наших границах, в Прибалтике, Норвегии, Польше. Так что все гораздо серьезнее, чем просто слова.
В.А.Никонов: Когда Посол России А.И.Антонов возвращается в Вашингтон?
С.В.Лавров: Это будет решать Президент России В.В.Путин. Посол А.И.Антонов сейчас проводит консультации в Министерстве иностранных дел России. Он встречался с комитетами по международным делам Государственной думы, Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. У него были беседы в Администрации Президента.
Нам важно проанализировать нынешнюю стадию наших отношений, которая создалась не за один день, не в момент того самого интервью, а формировалась в течение лет. Обостренное вбрасывание неприемлемой лексики в ходе интервью Президента США Дж.Байдена телеканалу «Эй-би-си» показало неотложность такого крупного анализа. Это не значит, что все эти годы мы просто наблюдали и не делали выводы. Но сейчас пришло время обобщений.
Д.Саймс: Когда я нахожусь в Москве после того, как провел год в Вашингтоне, бросается в глаза контраст между тем, как говорят руководители двух стран. Думаю, Вы согласитесь, что когда в Вашингтоне говорят об отношениях с Россией, там это достаточно простая и понятная схема: «Россия является противником». Иногда в Конгрессе говорят и более резко – «врагом». Но политические руководители из Администрации все-таки говорят «противником». Допускают сотрудничество с Россией в отдельных вопросах, которые важны для США. Но в целом подчеркивается, что в военном плане Россия – «противник номер один», а в политическом измерении – это не просто страна, с которой не соглашаются, а государство, «стремящееся распространять авторитарные режимы по всему миру», «выступающее против демократии», «подрывающее основы основ самих Соединенных Штатов».
Когда я слушаю Вас, Президента России В.В.Путина, создается впечатление, что в Москве картина более сложная и с большим количеством нюансов. С Вашей точки зрения, США сегодня являются противником России?
С.В.Лавров: Я бы не вдавался в анализ лексики – «противник», «враг», «конкурент», «соперник». Все эти слова используются в жонглировании в официальных и неофициальных заявлениях. На днях я читал, как Госсекретарь Э.Блинкен сказал, что при всех разногласиях с Россией и Китаем Соединенные Штаты не испытывают ничего против этих стран. А то, чем США занимаются, – это просто «демократия» и «отстаивание прав человека». Не знаю, насколько можно воспринимать всерьез такого рода описание американской политики по отношению к Москве и Пекину. Но если они занимаются продвижением демократии, практика должна доказывать обоснованность теории.
Дж.Буш-младший объявил демократию установленной в Ираке в мае 2003 г.. На борту авианосца он провозгласил завершение освобождения Ирака от тоталитарного режима и установление демократии в стране. Думаю, дальше можно не продолжать, если только сослаться на количество жертв войны, развязанной американцами. Это сотни тысяч людей. Можно также вспомнить, что итогом «правления» печально известного П.Бремера в Ираке стало создание «Исламского государства», куда мгновенно переметнулись потерявшие работу члены партии «Баас», сотрудники спецслужб С.Хусейна. Им просто нужно было кормить семьи. ИГИЛ возник далеко не по причинам идеологических разногласий. Это активно использовали радикалы, опираясь на ошибки США. Такова «демократия» в Ираке.
«Демократию» в Ливии устанавливали бомбами, ударами, убийством М.Каддафи под восторженные возгласы Х.Клинтон. Результат: Ливия – «черная дыра», на север идут потоки беженцев, от которых страдает Евросоюз и не знает, как с этим быть, а на юг через страну идут потоки незаконных поставок оружия, террористов, от которых страдает Сахаро-Сахельский регион.
Мне бы не хотелось каким-то образом описывать то, что американцы испытывают к Российской Федерации. Если за их заявлениями о том, что мы – «противник», «враг», «соперник» или «конкурент», – кроется желание обвинить нас в последствиях их безрассудной политики, то серьезный разговор едва ли может состояться.
Д.Саймс: Когда в Вашингтоне, в Администрации Дж.Байдена или в Конгрессе говорят, что Россия – это противник, и они это подчёркивают, я думаю, они не согласятся, что это просто риторика, как и не согласятся с тем, что это делается для внутреннего потребления. Администрация Дж.Байдена говорит о другом, что у США не было цельной линии в отношении России, и бывший Президент США Д.Трамп позволял России «делать всё, что Правительство Президента Российской Федерации В.В.Путина хотело». Сейчас пришёл новый «шериф», который готов говорить так, как он считает нужным, не обращая большого внимания на то, как это будет интерпретировано в Москве. И наоборот, если в Москве этим будут недовольны, так это хорошо, не ради того, чтобы вызвать недовольство, конечно, а потому что это показывает, что Россия наконец-то осознает, что так себя больше вести нельзя. Есть какие-то шансы, что эта новая линия Администрации Дж.Байдена приведёт к какой-то новой российской гибкости?
С.В.Лавров: Упомянутая Вами линия, продвигаемая в тех формах, которые мы сейчас наблюдаем, не имеет никакого шанса на успех. Это отнюдь не какая-то новелла: пришёл Дж.Байден, стал применять против России санкции, ужесточать риторику и вообще оказывать давление по всем фронтам. Это продолжается много лет. Санкции начались с Администрации Б.Обамы, но, если исторически брать, то ещё раньше. Как и многие другие ограничения они просто приобрели гипертрофированный, идеологизированный вид начиная с 2013 г., ещё до Украины.
Д.Саймс: Они Вам скажут, и Вы это знаете лучше меня, что эта линия проводилась недостаточно последовательно, без должной энергии, и что сейчас они вместе с союзниками по НАТО всерьёз займутся Россией, чтобы показать нам, что мы должны принципиально изменить свою линию поведения не только во внешней политике, но и во внутренней.
С.В.Лавров: Дмитрий, Вы опытный человек, знаете Соединённые Штаты лучше нас с В.А.Никоновым. Что ещё они могут сделать? Кто из аналитиков вызвался доказывать перспективность дальнейшего давления на Россию? И насколько хорошо они изучали историю? Вот вопрос к Вам.
Д.Саймс: Г-н Министр, как Вы, наверное, догадываетесь, я не большой сторонник линии Администрации Дж.Байдена.
С.В.Лавров: Я Вас как наблюдателя и независимого эксперта спрашиваю.
Д.Саймс: С моей точки зрения у Администрации Дж.Байдена есть ещё серьезный арсенал средств, которые могут быть применены в отношении России: и новые дополнительные санкции, и продвижение инфраструктуры НАТО в Европе, и более «гармоничное» давление на Россию вместе с союзниками, и продвижение американской политики ближе не к традиционной старой Европе, (я имею в виду ту же Великобританию, особенно Францию и Германию) а к Польше и, наконец, поставки летального оружия Украине. В Вашингтоне сейчас считается очень важным продемонстрировать России, что её нынешний курс на Украине, – это бесперспективно, и в общем-то, если Россия не изменит своё поведение – ей придется «платить большую цену».
С.В.Лавров: Диапазон моих оценок происходящего – от «упражнения в бессмысленности» до «опаснейшей игры со спичками». Вы знаете, сейчас модно жизненными образами описывать происходящее. Все мы в детстве играли во дворе. Из подъездов выбегали ребятишки разных возрастов, разных школ воспитания (тогда жили все вместе, скопом). И всегда во дворе были 2-3 главных хулигана, которые всех строили, наказывали, заставляли чистить ботинки, отнимали деньги, (какие-то копейки, которые мама давала на пирожки, на завтраки). Но проходило 2-3-4 года, и эти маленькие пацаны подрастали и становились способными отвечать. Нам даже подрастать не надо. Мы не ищем никакой конфронтации.
Президент Российской Федерации В.В.Путин многократно, в т.ч. после этого печального интервью Дж.Байдена телеканалу «Эй-Би-Си» говорил о нашей готовности работать с Соединёнными Штатами в интересах народов двух стран и в интересах международной безопасности. Если США хочется поставить под угрозу интересы глобальной стабильности и глобального (пока ещё мирного) сосуществования человечества, я не думаю, что у них будет много сторонников. Да, Евросоюз очень быстро встал в строй, присягнул на верность. Заявления, звучавшие в ходе виртуального саммита ЕС с Дж.Байденом, для меня беспрецедентны. Я такого «принесения присяги на верность» не припомню. Причём публично озвучивались речи, которые показывали абсолютное незнание истории создания ООН и многое другое. Я уверен, что серьёзные политики – они в США ещё сохранились – понимают не просто бесперспективность, а бессмысленность этой линии. Как я понимаю на днях 27 политических организаций в США опубликовали публичный призыв к Администрации Дж.Байдена о том, что необходимо изменить и риторику и суть подхода к выстраиванию отношений между США и Россией.
В.А.Никонов: Вряд ли на это можно рассчитывать. Считаю, что Ваша аналогия с дворовым хулиганом даже слегка мягкая. Соединённые Штаты ведут себя просто выходя уже за рамки приличия, не говоря о дворовых понятиях, которые всегда всё-таки существовали. Мы это хорошо видим, например, на Украине. Президент США Дж.Байден всё-таки является одним из творцов современной Украины, украинской политики, войны на Донбассе. Я так понимаю, что он очень близко к сердцу принимает эту ситуацию и будет её продолжать поддерживать в напряжённом, горячем состоянии. Насколько Вы оцениваете опасной ситуацию на Украине с учётом американских поставок вооружений, которые уже пошли, тех решений, которые во вторник приняла украинская Рада и заявлений украинских военных, которые уже реально говорят о войне? Где мы находимся на украинском фронте?
С.В.Лавров: Сейчас идёт много спекуляций на тему тех документов, которые Рада одобрила, а Президент Украины В.А.Зеленский подписал. Насколько это отражает реальную политику? И насколько это преследует цель решения проблем В.А.Зеленского внутри страны с падением рейтинга? Я не знаю, блеф это или конкретные планы. По информации, которая в т.ч. в СМИ публикуется, военные в большинстве своём понимают пагубность любых действий по развязыванию горячего конфликта. Я очень надеюсь, что их не будут «подзуживать» политики, которым в свою очередь будет «подзуживать» Запад во главе с США. В очередной раз подтверждается истина излагавшаяся не раз многими аналитиками и политологами, включая З.Бжезинского, что они рассматривают Украину в геополитическом разрезе: близкая России Украина делает Россию великой; Россия, от которой оторвана Украина, не представляет какого-то глобального значения. Оставляю это на совести тех, кто исповедует эти идеи, их справедливость и способность оценить современную Россию. Президент Российской Федерации В.В.Путин сказал не так давно, но это высказывание актуально и сегодня, что те, кто будут пытаться развязать новую войну в Донбассе, – разрушат Украину.
В.А.Никонов: Чего точно добилась американская и западная дипломатия, – она «посадила» Россию и Китай в одну лодку. Мы действительно уже стали стратегическими партнёрами не на словах, а на деле. Вы только что вернулись из Китая, Вы бываете там чаще чем раз в год точно. Во время нынешней поездки, что нового Вы почувствовали в настроении китайского руководства, в отношении которого американцы сейчас хамят абсолютно беспрецедентно? Насколько прочны те связи, которые устанавливаются между Россией и Китаем? И где та планка, на которую мы можем выйти или уже вышли в наших отношениях?
С.В.Лавров: Китайцы, как и россияне – очень гордая нация. Наверное, они исторически более терпеливы. В национальном коде, в генетическом коде китайской нации присутствует нацеленность вперёд в историческую перспективу. У них никогда нет ограничений 4-5 летними электоральными циклами. Они смотрят вперёд: «большое путешествие начинается с маленького шага» и многие другие афоризмы китайских руководителей говорят о том, что им важна цель, которая не просто на горизонте, а за горизонтом. Это касается и воссоединения всех китайских земель – последовательно, без спешки, но целеустремлённо и настойчиво. Те, кто с Китаем, как и с Россией ведёт разговор «через губу», как у нас принято говорить, свысока, с оскорблениями, – они никудышные политики и стратеги. Если им это нужно для того, чтобы через пару лет на очередных парламентских выборах показать свою «крутизну», значит так тому и быть.
У.Черчилль сказал, что «демократия – наихудшая форма правления, если не считать всех остальных». Идет большой спор, кто более эффективен. Коронавирусная инфекция дала новый толчок дискуссиям: насколько демократии, прежде всего западные, показали себя способными противостоять этому абсолютному злу и насколько страны с централизованной, сильной, «авторитарной» властью оказались успешными. История рассудит. Здесь надо дождаться результатов. Мы хотим сотрудничать, никогда никого ни в чем не обвиняли, не организовывали против кого бы то ни было какие-то медийные кампании, хотя нас именно в этом обвиняют. Президент России В.В.Путин с первых дней, как только объявил о создании вакцины, предложил международное сотрудничество. Вы помните, как «выстраивалось» отношение к «Спутнику V». Сначала сказали, что это неправда, потом, что это пропаганда, сделано с единственной целью – продвигать российский политический интерес в мире. Слышим отголоски всего этого. 30 марта с.г. состоялись переговоры В.В.Путина с Канцлером ФРГ А.Меркель и Президентом Франции Э.Макроном. Почувствовали более реалистичный настрой на то, чтобы все-таки сотрудничать, а не пытаться заниматься «вакцинной дискриминацией» или «вакцинной пропагандой».
Возвращаясь к сути вопроса. По большому счету, никому нельзя хамить. А с такими великими цивилизациями, как Россия и Китай, разговор идет свысока, нам указывают, что делать. Если же мы хотим что-то сказать, то нас просят «отстать». Так было в Анкоридже, когда зашла речь о правах человека. Э.Блинкен сказал, что в США много нарушений, но подтекст был ясен – они сами разберутся и уже разбираются. А в Синьцзян-Уйгурском округе, в Гонконге, в Тибете и т.д. надо сделать по-другому. Это не просто отсутствие навыков дипломатии. Это гораздо глубже. В Китае я почувствовал, что эту терпеливую нацию, которая всегда отстаивает свои интересы, одновременно продвигая готовность к компромиссам, поставили в безвыходное положение. На днях официальный представитель МИД Китая делал комментарий, не припомню такого.
Насчет того, толкают ли нас в объятия Китая или его в наши. Все помнят постулат Г.Киссинджера, что США должны иметь отношения с Китаем, которые будут лучше, чем отношения Китая с Россией, и наоборот. Он видел этот исторический процесс и понимал, как он может эволюционировать. Многие сейчас пишут, что США стратегически делают огромную ошибку, предпринимая усилия одновременно против России и Китая, тем самым форсируя наше дальнейшее сближение. Москва и Пекин не дружит против кого бы то ни было. Во время моего визита в Китай, мы с Министром иностранных дел Ван И приняли Совместное заявление о некоторых проблемах глобального управления, где подчеркнули неприемлемость нарушения международного права, его подмены некими келейно вырабатываемыми правилами, вмешательства во внутренние дела и в принципе всего того, что противоречит Уставу ООН. Там нет никаких угроз. В документах, подписываемых лидерами России и Китая, всегда подчеркивается, что двустороннее стратегическое взаимодействие и многогранное партнерство существует не против кого бы то ни было, а исключительно в интересах наших народов и стран. Оно развивается на четкой, объективной основе совпадения интересов. Мы ищем баланс интересов, у нас много направлений, где он найден и реализуется с пользой для всех нас.
В.А.Никонов: Почувствовали ли Вы какое-то изменение китайской позиции? Понятно, что Пекин поставлен в очень сложное положение. Насколько далеко Китай готов зайти в конфронтации с США? Ясно, что сейчас они отвечают жестко. Против Пекина вводятся санкции, он отвечает жесткими контрсанкциями, причем не только против США, но и против их союзников, которые тоже вводят эти санкции. Европа подключилась к этой конфронтации. Готовы ли мы синхронизировать с Китаем, например, свою политику контрсанкций, как мы это делали с Белоруссией? У нас есть общая стратегия противодействия этому давлению, которое наращивается со стороны т.н. «альянса демократий»?
С.В.Лавров: Общая стратегия есть, только что о ней упомянул. Наряду с Заявлением, подписанным во время визита в Китай, в прошлом году было принято развернутое Заявление лидеров. Сейчас готовим очередной документ, который будет подписан Президентом России В.В.Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином, посвященный 20-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Наш стратегический договор будет продлен.
Эти документы излагают линию нашего поведения. Конкретных «козней» в ответ на то, что делается в отношении нас, не планируем и не будем. Не думаю, что будем синхронизировать наши ответы на санкционные «выходки», предпринимаемые в отношении Китая и России.
Уровень нашего сотрудничества продолжает качественно укрепляться.
Вы упомянули военные союзы. Часто спекулируют насчет того, что Россия и Китай могут заключить военный союз. Во-первых, в одном из документов на высшем уровне подчеркнуто, что наши отношения не являют собой военный союз, эту цель мы не преследуем. Военный союз в его классическом понимании мы видим на примере НАТО, такого союза нам не надо. В НАТО, особенно после того, как Администрация Дж.Байдена сменила Д.Трампа, раздался «вздох облегчения». Все возрадовались – хорошо, что теперь есть хозяин, который нам объяснит, как дальше поступать. Э.Макрон еще пытается иногда «всуе» упоминать инициативу о стратегической автономии Евросоюза, но никто больше в Европе это не хочет даже обсуждать. Все, «приехал барин».
Такой союз – это союз эпохи «холодной войны». Я бы сейчас мыслил категориями современной эпохи, когда формируется многополярность. В этом смысле наши отношения с Китаем совсем другие, нежели отношения классического военного союза. Может быть, они даже более близкие в определенном смысле.
В.А.Никонов: «Альянс демократий» будет создаваться. Это очевидно. Хотя в России уже все меньше людей, которые верят, что там действительно речь идет о демократии. США своими выборами, отношением к свободе СМИ, возможностями для выражения оппозиционных взглядов не оставили больших сомнений, что с демократией там большие проблемы. Европа тоже дает примеры, заставляющие сомневаться, что они продвигают сильный демократический проект. И она все-таки заявляет о себе как об игроке, ориентирующемся на «барина».
30 марта с.г. был разговор между В.В.Путиным, Э.Макроном и А.Меркель. Кстати, без В.А.Зеленского. Это «нормандский формат» минус Украина, на что Киев болезненно отреагировал. Был обсужден широкий круг вопросов. При этом Вы уже не раз говорили, что наши отношения с ЕС находятся на точке «замерзания» или вообще отсутствуют. Значит ли это, что мы поддерживаем контакты и они возможны в отношениях с различными участниками Евросоюза, но контакта с ЕС у нас нет.
С.В.Лавров: Так и есть. Это тоже упоминалось в ходе переговоров 30 марта с.г., как и в разговоре В.В.Путина с Председателем Евросовета Ш.Мишелем. Мы удивляемся, что ЕС с обидой воспринимает эти оценки. Это просто констатация объективной данности.
Отношения Москвой с ЕС как организацией выстраивались не один год. На момент, когда произошел госпереворот на Украине, они включали в себя: саммиты дважды в год; ежегодную встречу полного состава российского Правительства с Еврокомиссией тоже полном составе; около 17 секторальных диалогов от энергетики до прав человека; четыре общих «пространства», выстраиваемых на основе решений саммитов Россия-Евросоюз, по каждому из них была своя «дорожная карта».
Шли переговоры над соглашением о переходе к безвизовому режиму. Очень показательно, что еще в 2013 г., задолго до украинского кризиса, Евросоюз их прервал. Как нам рассказали некоторые коллеги, когда дело дошло уже до принятия решения о подписании соглашения, агрессивное русофобское меньшинство выступило категорически против: нельзя допустить, чтобы Россия получила безвизовый режим с ЕС до того, как он будет предоставлен Грузии, Украине и Молдавии. Вот вся подоплека. То, что потом ЕС сделал, разрывая все имевшиеся каналы системного диалога, это так «прорвало». Они срывали на нас свою злость, т.к. «путчисты» их оскорбили – на утро разорвали документ, подписанный накануне В.Ф.Януковичем и оппозицией. А он был «завизирован», подтвержден Германией, Францией и Польшей. Первые действия новой власти – убирать русский язык из обихода, выгонять русских из Крыма. Когда русскоязычное и русское население Украины восстало против этого, попросило оставить их в покое, против них пошла т.н. «антитеррористическая операция».
ЕС, по сути дела, ввел против нас санкции и разорвал все каналы общения за то, что мы возвысили голос в защиту россиян и русских на Украине, в Донбассе и в Крыму. Мы пытаемся обсуждать с ними, когда они начинают предъявлять нам претензии. Наверное, они понимают. Надеюсь, они все-таки опытные политики. Но если они понимают и не хотят учесть это в своей практической политике, то значит они «заряжены» на русофобию либо ничего не могут поделать с русофобским агрессивными меньшинством в ЕС.
Д.Саймс: Мне кажется, когда мы говорим о ЕС, важно посмотреть на то, что представляет собой ЕС, и до какой степени он изменился по сравнению с тем, что было, и с тем, что предполагалось, когда его основывали. ЕС должен быть, в первую очередь, организацией экономического сотрудничества.
Первоначально «политическая компонента» даже не предполагалась. Тогда говорили о том, что ЕС будет способствовать европейской экономической интеграции. Даже ставился вопрос о том, как Россия могла бы играть какую-то ассоциированную роль в этом процессе. Потом сказали, что ЕС должен иметь еще и общие ценности. Сначала говорили о том, что общие ценности – цемент самого ЕС. Потом появилась идея, рождённая в Варшаве, что неплохо было бы, чтобы эти европейские ценности (поскольку они являются универсальными) распространялись и на другие регионы, а также чтобы Россия стала считаться с ними, если хотите – даже подчиняться. Когда смотрю на подход ЕС к Украине, конфликту в Донбассе с требованием вернуть Киеву Крым, то, мне кажется, что ЕС становится миссионерской организацией. Если вы имеете дело с крестоносцами, то пытаться поговорить с ними по-хорошему и апеллировать к их логике и совести, наверное, бесполезно. Вам не кажется, что то, где сегодня находится ЕС, открывает ограниченные возможности для партнёрства и большой потенциал для противостояния? Я слишком пессимистичен?
С.В.Лавров: Нет, я абсолютно с Вами согласен. Это миссионерство – манера читать лекции, ощущение собственно превосходства. Важно видеть эту тенденцию, не раз доводившую Европу до беды.
На самом деле это так. Он создавался как Сообщество угля и стали, потом Европейское экономическое сообщество и так далее. Если вы сейчас посмотрите на ЕС и на то, как у них обстоят дела с ценностями, то они уже набрасываются на своих членов – Польшу, Венгрию – только за то, что эти страны исповедуют несколько другие культурные и религиозные традиции. Вы сказали, что начала Польша. Не помню, кто начинал эту тему...
Д.Саймс: Я впервые услышал на конференции от польских делегатов.
С.В.Лавров: Сейчас Польша сама сталкивается с последствиями своих идей только уже не вовне ЕС, а внутри организации.
Когда России навязывают ценности, связанные, как они считают, с демократией и правами человека, мы отвечаем конкретно: универсальные ценности содержатся во Всеобщей декларации прав человека 1948 года, под которыми все подписались. Ценности, которые сейчас изобретаются и в которые пытаются загнать нас и все другие страны, не являются универсальными, не носят характера договорённостей всего мирового сообщества. Даже в ЕС, посмотрите, какие были демонстрации! Во Франции пару лет назад проходили демонстрации в защиту традиционных семей, понятий «мать», «отец» и «дети». Это сидит глубоко. Играть с традиционными ценностями опасно.
Насчет того, что ЕС приглашал нас в ассоциированные члены. Мы никогда не соглашались на то, чтобы подписать документ об ассоциации. Сейчас это делается со странами Восточного партнерства – Армения, Украина, Молдавия. Но от отношений с ЕС, которые разрушал Брюссель, осталось только одно – базовый документ об условиях торговли и инвестиций. Он действительно был предметом переговоров между брюссельской комиссией и Российской Федерацией. Это документ, сохраняющий свою силу. Мы сотрудничаем с отдельными странами, но не с ЕС, потому что условия были зафиксированы, а их практическая реализация идет по двусторонним каналам. Единственное, чем ЕС сейчас отличается на этой ниве, это введением санкций, запретом своим членам выполнять это соглашение в той или иной части, поскольку они хотят «наказать Россию». Всё, других отношений не существует. Нам говорят, что мы сознательно разрываем отношения (хотя факты просто вопиющие), пытаемся перекинуть свои связи с Европой на двусторонние каналы, хотим «расколоть» Евросоюз. Мы никого не хотим раскалывать. Мы всегда говорим, что заинтересованы в сильном и самостоятельном Евросоюзе. Если ЕС выбирает несамостоятельную позицию на международной арене, о чем мы только что говорили, это их право. Мы ничего не можем с этим поделать. Всегда выступали за его самостоятельность и единство. Но в нынешней ситуации, когда Брюссель разорвал все отношения и когда к нам обращаются (мы никого к себе не зазываем) отдельные страны Европы с предложением пообщаться, приехать к ним или к нам, обсудить какие-то перспективные проекты в двусторонних связях, как мы можем этим партнерам отказывать? Нечестно (даже немного стыдно) пытаться позиционировать такие контакты как нашу линию на внесение раскола в ЕС. У них своих расколов хватает.
Д.Саймс: Философский вопрос в отношениях России с ЕС. Сейчас, когда ЕС ввел санкции против Китая, Китай ответил достаточно жестко. В ЕС, что называется, неприятно удивились и возмутились. А вот от России такого ответа не ожидают, потому что сложилось убеждение, что у России нет экономических рычагов противостоять давлению ЕС. Россия никаких серьёзных санкций против ЕС, как мне кажется, не принимала.
Интересная ситуация. Россия поставляет 33 процента газа, которым пользуются в Европе. Примерно такие же цифры в отношении нефти. Россия на протяжении всего этого времени, как мне кажется, достаточно эффективно доказывала, что не будет пользоваться энергией как рычагом политического давления в Европе. Понятно, что это было в интересах России, особенно когда речь заходит о завершении строительства «Северного потока – 2». Мне кажется, что многие в Европе забыли, что если Россия чего-то не делает, то это не значит, что она не может и не будет вынуждена сделать, если давление ЕС на Россию перейдет «красную черту». Скажите, теоретически, это возможно? Или Россия принципиально исключает подобного рода действия?
С.В.Лавров: Вы хотите сказать (если образно), что они либо не читали (что скорее всего), либо забыли былину об Илье Муромце, который спал на печке, и никто не обращал на это внимание? Это не угроза. Мы никогда (это принципиальная позиция независимо ни от чего) не будем использовать энергоносители, наши маршруты нефти и газа в Европе.
Д.Саймс: Даже сели вас отключат от СВИФТа и всего чего угодно?
С.В.Лавров: Мы не будем этого делать. Это принципиальная позиция Президента России В.В.Путина. Не будем «вставать» в ситуацию, когда нам придется «заморозить» граждан Евросоюза. Мы никогда не будем этого делать. Мы не киевский режим, перекрывший канал, который поставляет воду в Крым, и радующийся этому. Это позорная позиция на международной арене. Запад, достаточно часто делающий восклицания насчет того, что мы используем энергоносители как инструмент влияния, как оружие, вообще помалкивает о том, что делает Киев с поставками воды в Крым. Считаю, что предоставление базовых нужд, от которых зависит повседневная жизнь простых граждан, никогда не может быть предметом санкций.
Д.Саймс: Что Вы тогда имеете в виду, когда говорите про «феномен» Ильи Муромца?
С.В.Лавров: Можно же по-разному отреагировать. Всегда предупреждали, что будем готовы отвечать. На любые злостные действия в наш адрес, мы будем отвечать необязательно симметрично. Кстати, насчет того, как санкции влияют на гражданское население, посмотрите, что происходит в Сирии в результате «Акта Цезаря». Мои собеседники в Европе и, кстати, в регионе шепотом говорят, что они в ужасе от того, что этот «акт» перекрыл любые возможности хоть как-то вести экономические дела с Сирией. Цель провозглашена: задушить сирийский народ, чтобы он восстал и сверг Б.Асада.
Насчет нашего и китайского ответов на европейские санкции. Китай ведь тоже ответил не прекращением экономической активности. Он просто поставил под санкции физических лиц и организации, которые слишком активно выступали с антикитайских позиций. Мы поступаем примерно также.
В.А.Никонов: Как известно, Илья Муромец не перекрывал нефть и газ. Он действовал другими методами, часто симметричными. Думаю, у нас тоже достаточно серьезный набор инструментов.
Не преувеличиваем ли мы значение ЕС в современном мире? У него есть субъектность. Все-таки если мы говорим о европейских ценностях, я много лет общаюсь с европейцами на разных уровнях – на парламентском, экспертном.
Но у меня такое ощущение, что есть две основные ценности: первая – это евро, а вторая – это ЛГБТ и ещё 60 букв, которые расшифровывают это понятие, связанное с сексуальными ориентациями, их наличием, отсутствием или смешением.
Евросоюз переживает кризис – Брекзит. Великобритания ушла из Европейского союза. Экономический кризис очень тяжёлый. В Европе, наверное, тяжелее чем где бы то ни было. Наблюдается падение до 10 % экономики во многих странах. Кризис, связанный с вакцинами показал, что Европа не может противостоять вирусу и выработать единую политику, причём сталкивается с этим на всех уровнях. Не может выработать единую экономическую политику, договориться по миграционным правилам и т.д. Может действительно мы слишком много внимания уделяем Европе? Может быть мы можем действовать уже без оглядки на эту «падающую» структуру?
С.В.Лавров: Ну а где мы сейчас уделяем чрезмерное внимание Европе? У нас очень простая позиция, Президент Российской Федерации В.В.Путин её излагал неоднократно: мы ни на кого не обижаемся. «На обиженных воду возят», которой в Крыму не хватает. Мы всегда будем готовы отношения наши возрождать, чтобы они восстали практически из пепла, но для это мы должны понимать в чём заинтересован Евросоюз. Мы не будем стучаться в закрытую дверь. Они прекрасно знают о нашем предложении, так же как американцы знают о наших предложениях по стратегической стабильности, по кибербезопасности и многому другому. Мы всем сказали: «Дорогие друзья, дорогие коллеги, мы готовы вот на это. Понимаем, что у вас будут какие-то встречные идеи, но мы их пока не видим. Как только вы будете готовы, давайте садиться, обсуждать, искать баланс интересов». Нас же сейчас обвиняют в том, что мы как раз забросили политику на направлении ЕС, поэтому я не думаю, что мы слишком обхаживаем эту структуру и приподнимаем её значение. Она сама место своё в мире определяет. Мы уже об этом сегодня говорили.
А насчёт европейских ценностей. У нас идёт много дискуссий. Есть те, кому нужны не столько европейские ценности, сколько европейские ценники: съездить на шопинг, отдохнуть, какую-то собственность приобрести и вернуться домой. Ценности наши совместные, как я уже сказал, в нашей истории, во взаимовлиянии культур, литературы, живописи, музыки. Они огромны.
В.А.Никонов: А что в современной европейской культуре, живописи может действительно нас как-то…
С.В.Лавров: Я сказал исторические корни.
В.А.Никонов: Потому что современная Европа, по моему мнению, представляет из себя в культурном отношении такое достаточно пустое пространство.
С.В.Лавров: Есть какие-то весёлые песенки, можно иногда в машине послушать.
Д.Саймс: Когда мы говорим об отношениях с Соединёнными Штатами мне хочется задать Вам личный вопрос, потому что Вы долго жили и работали в США, когда были Постоянным представителем России при ООН, и, конечно, Вы много занимались Соединёнными Штатами уже как Министр иностранных дел Российской Федерации. Я жил в США почти 50 лет.
С.В.Лавров: Почему в прошедшем времени?
Д.Саймс: Сейчас нахожусь в Москве. Когда я смотрю сегодня на США, у меня ощущение, что там происходит культурная революция. Я думаю, что если сказать об этом многим людям в Администрации Дж.Байдена, демократам в Конгрессе, они никак не оскорбятся. Они скажут, что эта культурная революция давно назрела, что нужно наконец искоренять расизм, давать равные и не очень равные преобладающие возможности сексуальным меньшинствам, потому что они тоже подвергались дискриминации и развивать настоящую демократию, которая требует, чтобы все, кто хочет голосовать – могли голосовать. А на практике это означает, что миллионы людей будут иметь возможность голосовать, которые совершенно не обязательно являются гражданами США. Вот почему демократы так настаивают, чтобы в штате Джорджия не запрещали голосование по воскресеньям. В США, как Вы знаете, по воскресеньям никогда не голосовали. Воскресенье ещё называют днём общения с Богом. Так вот демократы так настаивали на голосовании в воскресенье для того, чтобы можно было подавать к афроамериканским церквям автобусы и на этих автобусах везти людей прямо на избирательные участки.
В.А.Никонов: А зачем возить? Можно по почте проголосовать.
Д.Саймс: Можно сделать и то, и другое.
С.В.Лавров: А можно прямо в церкви поставить урну избирательную.
Д.Саймс: Совершенно верно. Кажется ли Вам, что США становятся во многом другой страной, что это необязательно необратимый процесс, но процесс достаточно серьезный, и что этот процесс не чисто американское дело, потому что он сопровождается рождением новой революционной идеологии, требующей распространения американских ценностей в мире, и чтобы эти американские модели не встречали того сопротивления, которое они встречают со стороны России и Китая? Не есть ли здесь возможность экзистенционального конфликта?
С.В.Лавров: Об этом сейчас поговорим. Но сперва закончу мысль об европейской культуре. Вот, по-моему, ярчайший пример того, что она из себя сейчас представляет. Говоря о революциях, включая культурную, очень показателен конкурс «Евровидение». То, что они сейчас вытворяют с белорусами – это отвратительно. То есть это цензура чистейшей воды: эта песня, поскольку мы, непонятно какие, какие-то анонимные люди в этой песне усматриваем какие-то намёки мы вас не пускаем, давайте другую. Дают другую песню, и то же самое. Ну, что это за искусство, что это за культура, что это за демократия.
На счёт культурной революции в США. Да, я чувствую, что там происходят процессы, которые вполне заслуживают быть описанными таким образом. Наверное, все хотят избавиться от расизма, и у нас это никогда не вызывало сомнений. Мы были пионерами движения за равные права людей любого цвета кожи. Но как бы не перейти в другую крайность, что мы наблюдали во время событий с «БЛМ» и той агрессией, которая проявлялась в отношении белых людей, белых граждан США.
На днях был какой-то очередной международный день, посвящённый этой проблеме, и Генеральный секретарь ООН А.Гуттереш, выступая на Генассамблее сказал, что минувший год был годом самых серьезных и многочисленных проявлений белого «превосходства». Я попросил, чтобы мне прислали полный текст его речи. Хочу понять, что конкретно он имел в виду. Если это улавливание тенденций, о которых Вы сказали, и желание быть в «тренде» – это печально. Это всё-таки Организация Объединённых Наций, а не продвижения американских концепций, каких-то американских веяний.
На счёт того, зачем это нужно. Да, они хотят это распространить по всему миру. У них для этого есть колоссальные возможности. Голливуд теперь тоже меняет свои правила, чтобы всё отражало многообразие современного общества, что тоже является формой цензуры, зажима искусства, навязывания каких-то искусственных ограничений, требований. Я видел, как чернокожие теперь играют в комедиях Шекспира. Только не знаю, когда будет белый Отелло. Понимаете, это абсурд. Политическая корректность, доведённая до этого абсурда, добром не кончится.
Второй «инструмент» – это социальные сети, Интернет-платформы, серверы, находящиеся в США. Соединённые Штаты категорически отказываются обсуждать демократизацию управления Интернетом и какие-то общие правила, которые будут регулировать социальные сети, чтобы не было как с Тик-Током и другими социальными сетями в ходе недавних акций в России, когда распространялась отвратительная информация: личные оскорбления, педофилия и многое другое. Мы уже договариваемся и с Тик-Током, и с другими социальными сетями о том, что нужны элементарные правила уважения, приличий, но американцы не хотят это делать в универсальном масштабе.
В Анкоридже помощник Президента США по национальной безопасности Дж.Салливан и Госсекретарь США Э.Блинкен китайцам читали свои «лекции» про права человека, нацменьшинства, демократию в Китае. Да, Э.Блинкен сказал, что у них тоже есть задачи в этой области, но они сами с ними разберутся. Но как только вы на переговорах с американцами, да и с европейцами, предлагаете поговорить о демократизации международных отношений, о верховенстве права в международном масштабе, – они уходят от этих разговоров. Они хотят установить вместо международного права свои «правила», которые ничего не имеют общего с верховенством права в глобальном, универсальном масштабе. Я уже говорил, как во Франции были серьёзные демонстрации в защиту традиционных семейных ценностей. Получается, для того, чтобы обеспечить права одной группы, надо ущемить права другой группы. То есть продвижение этих ценностей по всему миру это не самоцель – это инструмент обеспечения своего доминирования.
Д.Саймс: Р.Никсон в свое время сказал Н.С.Хрущеву, что не будет подлинной гармонии, подлинного партнерства между Советским Союзом и Америкой, пока Советский Союз не откажется от распространения своей идеологии. И надо сказать, что в брежневскую эпоху это было большой проблемой, потому что говорили о «разрядке», но одновременно о продолжении международной классовой борьбы. Мне кажется, что Л.И.Брежнев делал это без большого убеждения. И вот сейчас все перевернулось. Сейчас свою идеологию и ценности хочет распространять коллективный Запад. И, как мне кажется, с большим убеждением и настойчивостью, чем хотел делать Советский Союз при Л.И.Брежневе. Это не создает опасность столкновения?
С.В.Лавров: При Л.И.Брежневе Советский Союз не ощущал угроз своему существованию. Можно спорить, дальновидно это было или нет, но было так. А Запад сейчас ощущает угрозу своему доминированию. Это факт. И вот эти вот все «телодвижения», включая изобретение «правил, на которых должен основываться миропорядок» - не Устав ООН, а «правила», которые Запад придумывает – они отражают ровно эту тенденцию.
Согласен насчет того, что мы сейчас поменялись местами, вернее Советский Союз и современный Запад. Думаю, что никто на меня не обидится, это не большой секрет. Когда Р.Тиллерсон был Государственным секретарем США, мы с ним беседовали. Он вдумчивый опытный политик, дипломат. С ним было хорошо работать. Мы по большинству вещей не соглашались, но всегда хотели продолжать диалог, чтобы как-то сближать позиции, хотя бы по чуть-чуть. Когда он стал мне говорить, что они очень волнуются из-за того, что мы «вмешиваемся» в одни выборы, в другие выборы, я ему говорил, что они нам еще ничего не доказали ни разу, мы слышали только обвинения. Когда нас стали обвинять во вмешательстве в их выборы, мы многократно предлагали задействовать специальный канал, существующий у нас для обмена информацией об угрозе информационным сетям и структурам. Они отказывались. Еще при Б.Обаме с октября 2016 года до инаугурации Д.Трампа (январь 2017 года) многократно предлагали диалог. Они отказывались.
Я сказал Р.Тиллерсону, что они без всяких подозрений, в открытую, в своих законах (например «О поддержке демократии на Украине»), прямо записали, что Госдепартамент США должен тратить 20 млн долларов в год на поддержку российского гражданского общества и продвижение демократии. Тут даже доказывать нечего, просто объявили, что будете вмешиваться. Он сказал, что это разные вещи. На вопрос почему, он ответил, что мы «несем авторитаризм», а они – демократию». Всё!
Д.Саймс: И это говорится с искренним убеждением, правда?
С.В.Лавров: Да.
В.А.Никонов: Сергей Викторович, естественно, эта политика приводит к очень серьезной поляризации. Поляризация международных отношений – опасная вещь. Мы помним начало 19 века, начало 20 века. Это всё заканчивалось войнами. Американцы, теряющие глобальное доминирование, будут создавать (уже заявляют об этом) «союз демократий». Имею в виду просто американские и проамериканские альянсы, заставляя всех других определяться. Эта поляризация будет нарастать. Что это будет означать для мира и союзов, в которые входит Россия? Имею в виду БРИКС (который, думаю, постараются расколоть), Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), Содружество независимых государств (СНГ). Насколько далеко это может зайти? Насколько это опасно?
С.В.Лавров: Это осознанная политика, продолжение того, о чем мы говорим – США «несут демократию, несут благо». Очень активно работают американцы и Европа (но американцы особенно активно) в Центральной Азии. Пытаются создавать свои форматы - «С5+1». У России тоже есть в Центральной Азии, в дополнении к ШОС, СНГ, ЕврАзЕС, ОДКБ, формат «5+1» - пять министров иностранных дел центрально-азиатских стран и ваш покорный слуга. Формат полезный. Объем экономических связей, выстраивающихся сейчас у США и ЕС с Центральной Азией, не сопоставим с нашим экономическим взаимопроникновением, но поставленная цель, однозначно – всячески ослаблять наши связи со своими союзниками и стратегическими партнерами.
Многочисленные инициативы вокруг афганского урегулирования, вокруг Индо-Тихоокеанского региона предполагают переориентацию Центральной Азии с нынешнего направления на Юг – помогать восстанавливать Афганистан и одновременно ослаблять свои связи с Российской Федерацией.
Про Индо-Тихоокеанский регион, Индо-Тихоокеанскую концепцию можно говорить долго. Это многослойная инициатива призванная сдерживать китайский проект «Один пояс, один путь», сдерживать китайское влияние в регионе в целом, создавать постоянные раздражители для КНР. Уже проскальзывает тема создания «азиатского НАТО». Хотя в презентации США Индо-Тихоокеанский регион называется «свободным и открытым», там едва ли будет равноправный процесс выработки позиций. То, что он не «открытый» – это очевидно. Туда не приглашают Китай. КНР объявляется объектом приложения усилий для сдерживания. Нас туда никто не зовет, что означает примерно то же самое в отношении России. Мне кажется, эти тенденции надолго. Мы с нашими соседями – ближайшими союзниками говорим об этом откровенно. Убежден, что они понимают все эти угрозы. Никто не ставит вопрос о том, что им кто-то должен запретить с кем-то общаться. Выбирать себе партнеров – это их суверенное право. Многовекторность стала полуругательным словом, но мы сами никогда не отказываемся от многовекторности. Мы открыты к сотрудничеству, дружбе со всеми, кто готов на это на условиях равноправия, взаимного уважения, поиска компромиссов и баланса интересов. То, что наши западные коллеги явно злоупотребляют этим подходом, особенно на постсоветском пространстве – это очевидный факт.
В.А.Никонов: Можно ли избежать в этих условиях реального военного развития событий? Не пора ли с учетом инверсии наших ролей в современном мире создавать альянс свободных стран – альянс, может быть, настоящих демократий, которые будут противостоять этому тотальному наступлению?
С.В.Лавров: Мы таким политическим инжинирингом не будем заниматься. Россия привержена Организации Объединенных Наций. Когда Франция и Германия выдвинули концепцию эффективного мультилатерализма, мы у них спросили, что это такое? Ответа не последовало, но потом были совместные статьи министров иностранных дел Франции и Германии, в которых говорилось, что пример эффективного мультилатерализма – это Евросоюз. И всем надо подстраиваться под эти европейские процессы. На вопрос, почему очевидная и универсальная многосторонняя площадка ООН для этого не подходит, ответа не последовало. Но он заключается в том, о чем мы не раз уже сегодня говорили – они выдумывают правила, на которых должен основываться миропорядок.
Д.Саймс: Г-н Министр, мы заняли очень много Вашего времени и очень Вам благодарны. Но не можем Вас отпустить, не задав Вам еще один личный вопрос. Каково быть Министром иностранных дел России в этом быстроменяющемся мире?
Вы работаете в нескольких, совершенно разных эпохах. Когда Вы были Постоянным представителем России при ООН в Нью-Йорке, был период «романтического увлечения» России в Соединенных Штатах, хотя, может быть, совсем не на тех условиях, которые были выгодны для России. Потом, в начале нынешнего века, были поиски партнерства. Ну и потом у нас появилось то, что мы видим сейчас. Как Вам, тому, который во многом стал архитектором этой эпохи, свидетелем и одновременно участником этого процесса, работается в этой очень сложной роли?
С.В.Лавров: Если коротко – не скучно. Это если говорить об эпохах, через которые я прохожу в своей карьере. Все мы в этих эпохах существовали, видели все эти переходы. Вы меня ранее спросили, изменились ли США. Они изменились очень серьезно.
Д.Саймс: А Вы изменились?
С.В.Лавров: Наверное. Это не мне судить. Человек воспринимает окружающее как постоянно развивающийся процесс. Ты сам взрослеешь, умнеешь или глупеешь, но этого не замечаешь.
Д.Саймс: У Вас нет ощущения, что мы все во многом разочарованы, но во многом выросли в результате этого опыта, и, конечно, в первую очередь человек, занимающий такие посты, как Вы?
С.В.Лавров: Это, конечно, так. Как это может не влиять на формирование человека? Формирование личности происходит, я уверен, постоянно, до конца дней. Все эти революционные события очень сильно повлияли. Переломный момент (с моей точки зрения) в отношении того, как американцы живут, был 11 сентября 2001 г.. Я был в Нью-Йорке, на Манхэттене, ощущал этот запах, пытался дозвониться, потому что телефоны все выключились. С тех пор Нью-Йорк стал другим. Этот свободный, живущий круглые сутки своей жизнью, получающий от этого удовольствие город как-то насторожился, стал оглядываться через плечо – нет ли рядом кого-то, кто может принести беду.
Эта подозрительность затем глубоко стала проникать в американское общество. Наверное, причины тому были, причины серьезные. Честь и хвала спецслужбам США, потому что с тех пор, кроме Бостонского марафона, о чем мы их предупреждали, других терактов не было. Но эта подозрительность, какая-то замкнутость ощущается до сих пор. Наверное, есть люди, которые хотят это использовать для того, о чем Вы сказали. Если 11 миллионов американцев получат право голосовать, то добро пожаловать в однопартийную систему – Back to the USSR.
В.А.Никонов: Сергей Викторович, спасибо Вам огромное за это интервью. В этих исторических стенах Особняка МИД России на Спиридоновке, где творилась история и большая дипломатия, в том числе дипломатия великих держав, хотелось бы нам всем пожелать, чтобы дипломатия вернулась. Если она вернется, как предлагает Президент России В.В.Путин Президенту США Дж.Байдену, в диалоге в прямом эфире, то «Большая игра» к Вашим услугам, к услугам двух президентов.
С.В.Лавров: Спасибо. Дж.Байден уже сказал, что дипломатия вернулась во внешнюю политику Америки. Ваши мечты сбываются.

Ось Москва — Пекин
...и угроза "цветной революции" в Китае
Николай Вавилов
Сегодня вполне можно говорить о новой странице международных отношений, связанной с возможностью военного союза России и Китая и, что довольно неожиданно, с вероятным признанием воссоединения Крыма с Россией со стороны КНР, то есть страны — постоянного члена Совета безопасности ООН.
Казалось бы, после возвращения Крыма прошло уже семь лет, и позиция Китая все эти годы была достаточно ясной, а именно — нейтральной. Тем не менее, сейчас эта тема вновь возникла в медиапространстве и в заявлениях высоких китайских чиновников.
Ещё в начале февраля, за полтора месяца до важнейшего политического события в Китае — сессии Всекитайского собрания народных представителей, министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым выразил надежду, что летом 2021 года во время пролонгации Российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве этот договор будет не просто продлён, но и «наполнен эпохальным содержанием». То есть речь идёт о чём-то, кардинально отличающемся от нынешних условий сотрудничества в экономической, гуманитарной и других сферах.
По сути, китайская сторона форсирует создание военного союза с более глубокой интеграцией с Российской Федерацией по целому ряду направлений. Прозвучало весьма неожиданно, поскольку все эти годы, особенно с 2013-го, когда к власти пришёл Си Цзиньпин, интеграция углублялась, товарооборот достиг ста миллиардов долларов, но при этом стороны воздерживались от политического взаимодействия, хотя занимали во многом близкие позиции по тем или иным вопросам в Совете безопасности ООН.
Что же произошло? Почему Китай вдруг заговорил о военном союзе, пусть и языком намёков? Ещё в конце 2020 года президент России Владимир Путин, говоря о возможном военном союзе с Китаем, подчеркнул: "Мы всегда исходили из того, что наши отношения достигли такой степени взаимодействия и доверия, что мы, в общем, в этом не нуждаемся, но теоретически вполне можно себе такое представить". Китайская же сторона устами Ван И предлагает от теории перейти к практике, подчеркивая, что стратегическое сотрудничество России и Китая "не имеет верхнего предела".
Итак, и российская сторона, и китайская рассматривают положительно возможность заключения военного союза. Против кого этот союз? Что он даёт? Выгоден ли он России? Но перед тем, как ответить на эти вопросы, стоит отметить, что в начале марта, в период сессий китайских органов власти — законосовещательного Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) и законодательного Всекитайского собрания народных представителей — министр Ван И в ходе общении с прессой сделал беспрецедентное заявление о том, что Россия и Китай являются опорой друг друга и должны совместно противостоять «цветным революциям» и защищать политический суверенитет и безопасность друг друга.
И если в России, к сожалению, некоторые СМИ и соцсети постоянно подогревают «оранжевые» настроения, то о какой «цветной революции» в Китае идёт речь? Разве кто-то подвергает сомнению суверенитет или политический строй КНР? Но у тех, кто внимательно следит за ситуацией в этой стране, нет никаких сомнений в том, что в Китае в 2020 году готовилась «цветная революция». Этому была посвящена моя большая статья "Китайское искусство войны с «демократической» оппозицией", опубликованная в "Завтра".
В статье говорилось о том, что в Китае ситуация с коронавирусом была политизирована, что проамериканская группа китайского комсомола (были названы конкретные региональные руководители) провела серию локдаунов, прибегнув к избыточным мерам для противодействия распространению вируса и вызвав тем самым протестные волнения.
И вот теперь уже сам министр иностранных дел КНР подтверждает наличие угрозы «цветной революции» и стремится опереться на Россию в деле защиты политического суверенитета Китая. По сути, Ван И говорит о том, что военно-политическому руководству Си Цзиньпина грозит ликвидация посредством «цветной революции». И Си Цзиньпин намерен предпринять такие меры, которые вызовут неоднозначную, мягко говоря, реакцию в мировом сообществе. Выдержать давление, защитить суверенитет, сохранить военно-политическое руководство партией, армией и страной ему может помочь только позиция России. Вот о чём говорит Ван И!
Подобных заявлений китайская сторона никогда раньше не делала. Но сейчас ситуация вокруг Китая, вокруг китайско-американских отношений настолько обострилась, что Ван И открыто говорит о проблеме, ранее привлекавшей внимание только специалистов-исследователей. Дискурс о возможной смене режима в Китае введён в область международной политики, то есть вопрос о борьбе проамериканского комсомола и проармейской группы Си Цзиньпина вышел за пределы закрытой внутрикитайской дискуссии. Напомню, что в проамериканскую группу входят руководители Всекитайского союза коммунистической молодёжи, в том числе премьер КНР Ли Кэцян, целый ряд вице-премьеров, членов Госсовета и так далее.
После заявлений Ван И посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй, большой друг России, знаток русского языка, делающий максимальные усилия для сближения двух стран, сказал о том, что Россия и Китай будут совместно участвовать в сооружении лунной базы и сотрудничать в создании вакцины, что также беспрецедентно. Высокие показатели российской вакцины "Спутник V" и китайские производственные мощности могут дать синергетический эффект.
Более того, Чжан Ханьхуэй сообщил о том, что Россия и Китай будут вырабатывать единую позицию по отношению к США. Этого никогда не было ранее в российско-китайских отношениях, за исключением согласовательного процесса в Совете безопасности ООН. Теперь двусторонний блок будет оказывать колоссальное влияние, демонстрируя сплочённость. Это особенно важно на фоне того, что десятилетия наших взаимоотношений были омрачены в массовом сознании событиями на Даманском, разрывом дружбы и, по сути дела, уходом Китая в американский лагерь при антисоветчике Дэн Сяопине при негласной поддержке Мао Цзэдуна. Сейчас это преодолено в сознании, о чём и говорят нынешние двусторонние заявления.
К тому же Генеральный секретарь ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) Станислав Зась сделал заявление, которое по времени совпало с заявлением Ван И. Зась сообщил, что ОДКБ открыта для вступления новых членов. Кто же из соседей России или соседей стран ОДКБ может войти в состав этой организации? Кому нужна защита России? Все бывшие республики СССР, которые хотели её получить, уже получили. И если речь не о Китае, то это, может быть, Иран?
Но, скорее всего, речь шла о том, что именно Китай войдёт под зонтик обороны России. И это, так же как и в 1950-е годы, спасёт Китай от возможной прямой агрессии США. Да, это не спасёт от противостояния, в том числе гибридного, с союзниками США, но, тем не менее, гарантирует защиту КНР в случае её исключения из Совета безопасности ООН.
Сегодня, пережив 2020 год, мы понимаем, что мир никогда не станет прежним. Произошедшие геополитические изменения будут зафиксированы в ближайшие три года, и мир начнёт активно переформатироваться, готовясь к решающей схватке.
В этих условиях не только в ОДКБ заговорили о новых членах, но и в Крым неожиданно прибыла расширенная делегация китайских бизнесменов во главе с Чжао Кай — председателем совета директоров Пекинской импортно-экспортной компании — организации, аффилированной с государством и являющейся членом Торгово-промышленной палаты Пекина. Китайцы и раньше бывали в Крыму, развивали с ним торговые отношения, но негласно. А сейчас официально руководитель делегации дал интервью ТАСС, в котором отметил: «Мы приложим все усилия для развития и налаживания деловых отношений с местными предприятиями. Это будет вкладом в развитие дружественных отношений между двумя нашими странами». То есть Китай заявил всему миру, что готов начать активную фазу признания Крыма. Вначале путём усиления открытых деловых и гуманитарных контактов, работая с компаниями, зарегистрированными на территории Крыма и осуществляющими экспорт в Китай крымской продукции, в первую очередь сельскохозяйственной, а также направляя на территорию Крыма китайских туристов.
Это значит, что Китай медленно, постепенно, но неуклонно будет идти по пути признания Крыма в составе Российской Федерации, не взирая не только на позицию Украины, которая в данном случае никого не волнует, но и международного сообщества.
Всё это укладывается в линию на создание китайско-российского союза. Каким может быть этот союз? Разумеется, мы очень разные. Что бы нам ни говорили в официальных СМИ, как бы ни хлопали в ладоши ангажированные комментаторы, Россия и Китай – это не просто разные государства, это разные цивилизации, разные культуры. Но один мощный фактор сплотил нас, и не первый раз в истории. Этим фактором является коллективное давление Запада на наши страны с целью уничтожить политический режим и подчинить Россию и Китай. Этот фактор заставляет преодолевать культурные и иные глубокие различия.
Вспомним, что Си Цзинпинь пришёл к власти в 2013 году. В следующем, 2014 году, Россия вернула Крым. Эта новая страница в нашей геополитике стала возможной во многом благодаря тому, что высшее руководство России понимало, что оно не окажется в международной изоляции — рядом будет Си Цзиньпин, у которого есть собственный Крым — Тайвань.
Что бы ни говорили разные комментаторы, не понимающие внутреннего устройства китайской власти, Си Цзиньпин является суверенным, антиамериканским политиком. А специфика китайской внешней политики и, вообще, коммуникаций в целом — это не открытое отрицание чего бы то ни было, а создание иной, позитивной повестки. Китай и США в период руководства комсомольского генсека Ху Цзиньтао, которое длилось целых 10 лет, стали основными торговыми партнёрами. По сути дела, возник огромный экономический организм срощенных корпораций США и Китая, Демократической партии и китайского комсомола.
Си Цзиньпин, придя к власти и прекрасно понимая, что действует в проамериканском истеблишменте, заявил о создании Нового шёлкового пути. Этот проект должен избавить китайский экономический корабль от зависимости от американских рынков и развернуть его в сторону альтернативных рынков в Евразии и таким образом освободить Китай от мощного политического воздействия Соединённых Штатов. Не случайно свой первый государственный визит Си Цзиньпин (в качестве председателя КНР) совершил в Москву.
Проект Нового шёлкового пути де-факто демонстрирует отход Китая от поддержки на государственном уровне китайско-американских отношений. Апогеем противоречий в этих отношениях стал конец 2018 года, когда китайско-американская торговля сократилась сразу на 15%. Тогда с одной стороны активно действовал президент Трамп, изоляционист, представитель суверенных, антиглобалистских сил, а с другой стороны ему «помогал» Си Цзиньпин, и вместе они разрушали экономический союз двух государств. Параллельно глава китайского государства укреплял отношения с Россией.
Сейчас люди, которые не знают внутренней политики Китая, говорят, что Байден ориентирован на союз с Си Цзиньпином. А некоторые конспирологи договорились до того, что Си Цзиньпин сам устроил COVID и локдаун, чтобы убрать Трампа и привести к власти Байдена. То есть, по сути дела, устроил самострел, обрушил китайскую экономику, чтобы Байден стал президентом США? Абсурд, но, к сожалению, среди подобных комментаторов есть такие люди, как Дерипаска. Но он — не китаевед, а человек, который сотрудничал с угледобывающей компанией Шеньхуа, руководство которой было арестовано при Си Цзиньпине.
На самом деле, Си Цзиньпин не имел никакого отношения к локдауну и к тем проблемам, которые возникли по вине его политических оппонентов. По итогам этих локдаунов он полностью отстранил от власти руководство провинции Хубэй, города Ухань и многих из тех, кто был связан с этой провинцией и комсомолом. Заявления о тесных связях Байдена и Си Цзиньпина опровергаются самой реальностью. Начнём с того, что Си Цзиньпин последним из мировых лидеров поздравил Байдена с занятием поста президента США. К тому же китайские СМИ говорят о том, что инициатива телефонного звонка исходила от Байдена, и этот разговор состоялся в канун китайского Нового года, то есть спустя полтора месяца после того, как кандидатура Байдена всем мировым сообществом была признана как победившая на выборах. Говорить о том, что Байден является сторонником Си Цзиньпина, называя его головорезом, обвиняя в уйгурском геноциде, гонконгских проблемах и прочих грехах, никак нельзя.
Но кто является сторонником американцев среди китайцев? На этот вопрос легко ответить, если знать почти столетнюю историю взаимоотношений Демократической партии США с китайским комсомолом. Как только администрация Трампа начала передачу власти Байдену, в Китае сменился министр торговли. Пророссийский Чжун Шань был заменён на Ван Вентао, который когда-то возглавлял комитет комсомола Шанхайского аэрокосмического университета. Продвигаясь по карьерной лестнице, он достиг поста губернатора провинции Хэйлунцзян, где полностью обвалил российско-китайскую торговлю и устроил «ковидные» пробки. Как только он стал министром торговли, закупки китайских товаров Соединёнными Штатами увеличились на 90%. Это прямое свидетельство того, что китайский комсомол сотрудничает с Демократической партией США по экономической линии.
Си Цзиньпин же не только не сотрудничает с администрацией Байдена, но и испытывает критическое давление со стороны этой администрации. Именно с этим связаны заявления о «цветной революции». Можно сказать, что Китай никогда не был так близок к политическому коллапсу, а фигура Си Цзиньпина не находилась в такой опасности, как сейчас. Поэтому, в виду грядущих обострений, нужно заручиться поддержкой России.
Возвращаясь к Крыму, отметим, что после визита китайских предпринимателей МИД КНР сделал заявление о том, что не стоит политизировать этот визит. Украинские политики обрадовались, поскольку по итогам 2020 года Китай стал основным покупателем украинской продукции: торговля с Китаем в три раза превышает торговлю с Россией, примерно сопоставима с торговлей с Евросоюзом. Украина хочет видеть в этом заявлении МИД то, что это был просто визит предпринимателей. Но те, кто давно наблюдает за работой МИД КНР, сделали для себя другой вывод: МИД заявил об этом, а значит, подтвердил, что такой визит действительно был, что он был согласован, и «мы не видим в этом ничего плохого». Более того, МИД КНР предлагает не создавать ажиотаж вокруг визита китайских предпринимателей в Крым, не политизировать его, другими словами, призывает не волноваться по этому поводу, поскольку Китай продолжит действия в направлении вероятного признания Крыма российской территорией. Таким образом, заявление китайского МИД не опровергает, а укрепляет линию Китая в этом направлении.
Вполне возможно, что признание Крыма нужно Китаю не только в связи с укреплением союза с Россией, но и в связи с очень острой ситуацией вокруг Тайваня. Совсем недавно руководитель Министерства транспорта Ли Сяопэн заявил о том, что Китай до 2035 года построит тоннель на Тайвань. О чём это говорит? О том, что Китай до 2035 года запланировал присоединение Тайваня, поскольку тайваньские власти никогда не согласятся ни на тоннель, ни на мост, ни на какие-либо другие виды коммуникаций. Самый длинный тоннель в мире (более 130 километров) станет реальностью, только если Китай сделает Тайвань частью своей территории.
Синхронно заявлению Ли Сяопена было сделано заявление главы Индо-Тихоокеанского командования США адмирала Филиппа Дэвидсона, который на слушаниях в Сенате сообщил о возможном китайском вторжении на Тайвань в течение ближайших шести лет. Технически Китай к этому готов. Поэтому и состоялся визит китайских предпринимателей в Крым: Китай хочет не только позвать Россию в военный союз, причём на равноправных условиях, но и разменять признание Крыма на признание Тайваня частью китайской территории.
На Тайване это понимают и прилагают колоссальные усилия, чтобы добиться внешнеполитического признания как можно большим числом стран. Например, сейчас Тайвань вышел на официальный уровень переговоров с Литвой, которая собирается открыть у себя тайваньское представительство.
Ясно, что возможная операция Си Цзиньпина на Тайване будет сопровождаться масштабными санкциями США, всего мирового сообщества, гибридной войной Китая с союзниками США, поскольку доктрина Демократической партии предполагает сокращение собственных военных расходов и увеличение поддержки союзников: Японии, Южной Кореи, непосредственно самого Тайваня и других. Именно с этим связан визит госсекретаря Блинкена и министра обороны США Остина в Японию и Южную Корею, состоявшийся в середине марта этого года. Создание антикитайской коалиции сопровождается мощным давлением на сам Китай. Персональные санкции против китайских лиц и организаций, введённые Евросоюзом 22 марта 2021 года из-за так называемых нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, призваны ещё больше расколоть элиту Китая и заставить часть её действовать против верховного руководителя.
И если бы даже США захотели как-то наладить отношения с КНР, у них это не получится. Провалившиеся американо-китайские переговоры в Анкоридже — свидетельство тому, что популистская администрация Байдена находится в заложниках у американского электората, накачанного антикитайской пропагандой на волне коронавируса. 70% рядовых американцев против какого-либо взаимодействия с Китаем, а это значит, что антикитайская линия администрации Байдена будет продолжена. Си Цзиньпин получит очередные санкции, усилится давление на Китай на экономическом и технологическом уровнях, станет ещё более вероятным сценарий «цветной революции», который поддержат игроки китайского политического поля, связанные с комсомольской проамериканской оппозицией.
В этих условиях у Си Цзиньпина есть один большой козырь — присоединение Тайваня. Отсюда и несвойственные китайской стороне резкие заявления и желание как можно быстрее вовлечь Россию в военный союз. Об острой фазе внутриполитического противостояния в Китае говорит и возможная реформа Постоянного комитета парламента, которому могут передать полномочия менять вице-премьеров. Это значит, что Си Цзиньпин может в ближайшее время заменить комсомольский аппарат правительства.
Мне могут возразить, что военный союз России и Китая маловероятен. На это могу ответить, что в середине XIX века, когда против Китая велись Опиумные войны, когда Англия и Франция пытались уничтожить Цинскую империю, помогая Тайпинскому восстанию, именно поддержка России — военная, научно-техническая, организационная, материальная — спасла династию Цин от уничтожения, а Китай — от окончательного раздела англо-французскими войсками. За эту поддержку Китай заплатил очень дорого, признав за Россией территории нынешнего Приморского края, Хабаровского края и другие земли. Это была блестящая победа российской дипломатии, конкретно — графа Николая Павловича Игнатьева, русского посланника в Пекине.
Сейчас мы снова на пороге таких решений. Что готов дать России Китай за поддержку Си Цзиньпина? Это человек, лояльный к России, и, что очень важно, его отец был лоялен к СССР. Если союз двух государств состоится, Россия может получить очень большие преференции. Мы уже начали оттеснять американские газ и нефть, канадский лес, а в перспективе сможем выдавить из Китая и западную пищевую промышленность, и сельскохозяйственный экспорт. Со временем Россия, как в эпоху Советского Союза, начнёт вытеснять западные аналоги и из сферы услуг, кино, анимации (а это огромнейший рынок), и из сферы высокотехнологичной продукции, к примеру, в области химии, новых материалов, строительства и биотехнологий. Но, разумеется, нас смущает то, что такой союз может быть неравноправным. К сожалению, современное востоковедение не даёт ответа на вопрос, как дружить с Китаем и не стать его младшим братом. В своей новой книге я предлагаю концепцию «экологической утилизации китайского влияния», которая позволит работать с Китаем, не попадая в зависимость от него.

Тени с оркестром
Вадим Репин открывает Арт-фестиваль в Сибири
Текст: Светлана Мелентьева
Вадим Репин проведет свой фестиваль в международном формате, несмотря на сложную обстановку в концертном мире. В программе, которая состоится в Новосибирске, Красноярске, Москве, городах Новосибирской области и Красноярского края с 25 марта по 30 апреля, примут участие артисты из Японии, США, Франции, Латвии и известные российские музыканты. Традиционное украшение фестиваля - мировая и российская музыкальные премьеры. Накануне открытия художественный руководитель фестиваля, знаменитый российский скрипач Вадим Репин ответил на вопросы "РГ".
На каких условиях пройдет фестиваль в этом году?
Вадим Репин: Предыдущий год был невероятно сложным для фестиваля, но мы не опустили руки и не приняли самое простое решение - закрыть двери и ждать лучших времен - а боролись вплоть до декабря. Усилия, нервы, радость - все присутствовало на Седьмом фестивале, который нас, с одной стороны, опустошил, а с другой, мы чувствуем большое удовлетворение. С этим багажом мы практически без антракта рванули в 21-й год. Программа получилась красочная, замечательная. Будет звучать музыка, которую я мечтал сыграть. Для нас большая удача, что у Николая Луганского карт-бланш в этом году, и он сможет приехать: исполнит сольный концерт и выступит с Новосибирским симфоническим оркестром. Будет камерная программа, где я выступлю с виолончелистом Пабло Феррандесом и пианистом Денисом Кожухиным. В третий раз в Новосибирск приедет могучий дирижер, который руководил лучшими коллективами мира, Шарль Дютуа. Человек страшного любопытства к жизни и большой любознательности, он изъездил весь мир и совершенно особым образом знает планету Земля. Помню, в один из приездов в Новосибирск он настоял на поездке в Томск, потому что он про него много читал и захотел посмотреть зодчество, увидеть Томскую губернию. Мы организовали ему эту поездку, и он провел два дня в Томске. Кроме того, Валерий Абисалович Гергиев наконец приедет на Транссибирский фестиваль. Его приезд очень значим для меня, поскольку он - один из тех, с кем я разговаривал перед принятием решения о начале фестиваля в Новосибирске. И он, наряду со Светланой Захаровой, запустил для меня маятник в сторону положительного решения.
Традиция фестиваля - мировые премьеры. Что ждет слушателей в этом году?
Вадим Репин: В этом сезоне мы привезем "Shadow walker" Марка-Энтони Тёрниджа, концерт для двух скрипок с оркестром, который был написан пару лет назад для нашего фестиваля, но тогда у нас не было возможности собрать весь каст для премьеры. В этом году мы исполним концерт. Я его уже записал, мы сыграли его в других странах, и это будет российская премьера. Название произведения уже говорит о многом: это образ тени, которая переходит от одного солиста к другому в диалоге двух голосов, которые и подкалывают друг друга, и дополняют, и копируют друг друга, а где-то и конкретно борются. Также традиционно на фестивале новосибирские композиторы представляют свои произведения, оргкомитет их отбирает, и мы даем им сцену. В этом году будет мировая премьера композитора Елены Демидовой "Тобольские царевны". Дирижер Казуки Ямада, взглянув на партитуру этого оркестрового сочинения, дал свое согласие его исполнить. И это для композитора будет отдельная радость.
Как вы проводите этот концертный сезон?
Вадим Репин: Я поднакопил репертуара, выучил Сонату Равеля. Я всегда мечтал сыграть эту сонату, но почему-то были препятствия, чтобы ее исполнить. Вот пандемия помогла (смеется - прим. авт.)! Я наконец уже сконцентрировался и поставил для себя задачу, что это должно быть исполнено. Также я очень давно хотел сыграть Концерт Шоссона для фортепиано, скрипки и струнного квартета, и в пандемию выучил это потрясающее сочинение. Для меня большая радость, что это будет исполнено с легендарным французским пианистом Николасом Ангеличем. Кстати, этот концерт мы повторим в Москве в Концертном зале имени Чайковского с Николасом.
Что касается концертов вне Транссибирского, я уже сыграл Концерт Прокофьева на открытии Фестиваля у Юрия Башмета в Сочи, сейчас играл с Николаем Луганским долгожданный рецитал в Зарядье. А те планы, которые у меня были - Европа, Азия, Гонконг, Япония, Корея - все отменились. Позавчера, например, я должен был играть концерт в Париже. К сожалению, это все переносится на более располагающие времена, когда хотя бы билеты смогут продавать.
Формируется ли мировая концертная афиша на 2022 год?
Вадим Репин: Формируется, но как это будет, никто пока не знает. Россия сейчас единственная страна на планете, где я чувствую, будто пандемии не существует. Естественно, маски, перчатки, новые правила поведения - это уже на уровне рефлексов, делаю на автомате. Но психологически атмосферу не сравнить. Я разговариваю с коллегами, друзьями, которые находятся за границей: там действительно совершенно адская ситуация. Закрыты не только театры и организации, но и парикмахерские.
Вероятно, ваши зарубежные коллеги сейчас стремятся попасть в Россию?
Вадим Репин: Во многом так и происходит. Московская филармония, несмотря на 50% посадку зала, продолжает прекрасный сезон, в Зарядье замечательные концерты и по стране много прекрасных проектов. Артисты в мире всегда стремятся играть в Москве и Санкт-Петербурге - это общепризнанные культурные столицы на планете. Важно и то, что в регионах сейчас происходит много интересных музыкальных событий. Наш фестиваль - тому подтверждение.
Прошедший год многие из нас провели близко к семье. Как это время далось вашим близким?
Вадим Репин: У меня в принципе такое отношение к жизни: что ни делается, все к лучшему. Профессиональная деятельность на сцене была закрыта, но благодаря этому я выучил большое количество нового репертуара. Это был подарок для души. Каждому человеку нужен такой период, когда после 20-30 лет постоянного скитания по городам и континентам, возникает своего рода саббатикал. И процитирую Дениса Мацуева (он первый так красиво выразился) - "я узнал свою дочь, я с ней ближе познакомился". Вот у меня та же история. Это были потрясающие месяцы совершенно другого ритма, иного состояния души дома.
Ваша дочка легко справилась с дистанционным форматом образования?
Вадим Репин: Она даже выиграла несколько дистанционных турниров по гимнастике! Мы оборудовали на даче спортивный зал для балета и гимнастики, установили аппаратуру, чтобы Анечка и Светлана могли заниматься.
Светлана занимается балетом с дочкой?
Вадим Репин: Нет, Светлана занимается своей профессией, но они близки и много общаются. Аня часто бывает на спектаклях мамы, и я вижу, как она перенимает некоторые вещи. В гимнастике она очень органична и горит этим. Художественная гимнастика - сложная профессия и сложный путь в жизни. Все из нас проходили конкурсы: это те вещи, которые, когда мы о них вспоминаем, кажутся кромешным адом. Я помню свои конкурсы! В юном возрасте они давались легче, но Брюссельский конкурс я вспоминаю как один из страшных периодов в моей жизни - огромное непрерывное напряжение в течение 34 дней! А в гимнастике каждое выступление - такой стресс, поскольку все зависит от баллов. Каждый выход на сцену связан с оценками, и это совершенно особый психологический настрой. И тут я просто снимаю шляпу, как наша дочка с этим справляется! Были неоднократно очень интересные истории, когда я просто восхищался характером и образом мыслей.
Например, на одном из соревнований у нее в программе был сложный элемент, когда ногу нужно бросить назад, около уха ее нужно сзади поймать, при этом сделать двойной пируэт - движение, которое дает много баллов. И перед выходом это движение не получалось у Ани, не может сделать и все - раз, два, три, не идет! И тренер ей говорит: "ты вместо этого элемента сделай другой, который стоит меньше, но зато он у тебя получается на 100%, и ты не потеряешь баллы. Если же этот сложный элемент не получится - потеряешь намного больше". И она, скрипя зубами: "Я его сделаю!" И первый раз, когда этот элемент получился, был непосредственно на сцене, на ковре! Такая красивая история, которая мне дала, я бы сказал, жизненный опыт.
Справка "РГ"
Транссибирский Арт-Фестиваль основан в 2014 году знаменитым российским скрипачом Вадимом Репиным. Концерты фестиваля проходят в Новосибирске, Красноярске, Омске, Екатеринбурге, Самаре, Тюмени, Тобольске, Томске, Санкт-Петербурге и Москве, а также в Бельгии, США, Великобритании, Австрии, Франции, Германии, Южной Корее, Израиле и Японии. Ежегодно Фестиваль представляет премьеры сочинений современных композиторов: Б. Юсупова, Л. Ауэрбах, А. Райкопулу, Э. Шнайдера, С. Губайдулиной, А. Раскатова, А. Пярта. Среди участников Фестиваля дирижеры Кент Нагано, Шарль Дютуа, Леонард Слаткин, Жан-Клод Казадезюс, Владимир Федосеев, Владимир Спиваков, меццо-сопрано Ольга Бородина, пианисты Рудольф Бухбиндер, Жан-Ив Тибоде, Даниил Трифонов, скрипачи Пинхас Цукерман, Дидье Локвуд, Джулиано Карминьола, Клара-Джуми Кан, виолончелисты Марио Брунелло, Миша Майский и многие другие. Важнейшее направление - работа с начинающими и молодыми музыкантами. Транссибирский Арт-Фестиваль отмечен Правительством Российской Федерации, его программы включены в культурную презентацию страны на международном уровне.
Ближайшие концерты фестиваля:
25 марта. Концерт-открытие в Новосибирске. ГКЗ им. А.М. Каца. В программе: Вебер, Тернидж, Брамс. Новосибирский академический симфонический оркестр, В. Репин (скрипка), А. Конунова (скрипка), дирижер - А. Пога.
27 марта. Красноярск. Большой зал филармонии. "Звезды Большого в Красноярске". А. Никулина, А. Сташкевич, Ю. Степанова, Д. Родькин, В. Лопатин, А. Овчаренко и др.
31 марта. г.Искитим. Дворец культуры "Молодость". В программе: Равель, Танеев. Исполняют: В. Репин (скрипка), П. Феррандес (виолончель), Д. Кожухин (фортепиано).
P.S.
На концерте-открытии 25 марта в новосибирском Концертном зале им. А.М. Каца в исполнении Вадима Репина, Александры Конуновой (скрипка) и Новосибирского симфонического оркестра (дирижер Андрис Пога) прозвучат произведения Вебера, Тёрниджа, Брамса.

Дорогая наша нефть...
нефть подорожала: на каких условиях отдавать США часть сверхдоходов
Сергей Ануреев
Коротко о главном
Раздел рынков сбыта нефти между странами-экспортёрами зависит от оттока нефтедолларов из этих стран в США, а политические проблемы и санкции являются лишь инструментом изменения пропорций этих "откатов".
Страны, которые сокращают отток нефтедолларов в США, теряют часть рынков сбыта в пользу стран с большим оттоком либо даже получают от США запрет на экспорт нефти, как, например, Иран и Венесуэла.
Нефтедоллары можно вкладывать явно (через государственные фонды) в казначейские облигации США с шансом получить обратно малую величину, можно вкладывать неявно (по серым офшорным схемам) в американские рыночные финансовые инструменты и можно использовать путём привлечения американских компаний к разработке месторождений.
В досанкционные 2011-13 годы при высокой цене на нефть официальные российские вложения в американские облигации прирастали на 10-15 млрд долл. в год. Вывод денег из России по другим схемам достигал 100-120 млрд долл. Плюс неподдающиеся оценке на основе публичных данных доходы компаний США от работы в России.
Спор между нашими сторонниками бюджетного правила, нефтяниками, желающими оставлять себе больше выручки на расходы, и сторонниками свободы инвестиций — по сути лишь спор о различных маршрутах оттока нефтедолларов.
Вместо этого спора необходимо посчитать сумму оттока нефтедолларов в США по всем маршрутам и вычислить реальные доходы американского бюджета по фактическим или даже по анонсированным министром финансов США Джанет Йеллен повышенным ставкам налогов на международные операции их корпораций.
А далее подумать над вопросом: не лучше ли осуществлять прямой трансфер нефтедолларов из российского бюджета в американский? Этот трансфер позволит исключить транзитёров-посредников, резко уменьшить отток денег из России по серым схемам, и в итоге гораздо больше доходов от экспорта нефти останется на развитие нашей экономики.
США контролируют мировой рынок нефти
Нефтяной шок середины 1970-х годов явно продемонстрировал наличие жёсткого контроля над нефтяным рынком со стороны США. Чтобы не быть обвинённым в конспирологии, процитирую научную статью Бредфорда Де Лонга “Американская инфляция мирного времени в 1970-е”, опубликованную Национальным бюро экономических исследований США. Де Лонг ссылается на Вальтера Исааксона, который считается наиболее авторитетным биографом Генри Киссинджера.
Итак, “Администрация Никсона и госсекретарь Киссинджер задумали утроить мировые цены на нефть для субсидирования шахского Ирана. После Вьетнамской войны Киссинджер не верил в возможность США установить военный контроль над Персидским заливом, но считал необходимым защитить регион от советского влияния. Шах запрашивал у США поставки вооружений, и для этого ему были предоставлены доллары [через рост цен на нефть]. Киссинджер отказал саудовскому запросу по противодействию Ирану в росте цен на нефть в рамках конференции ОПЕК в 1973 году”.
У Западной Европы и Японии собственной нефти мало, и основным поставщиком для них были именно страны Персидского залива. США больше ориентированы на собственную нефть и на географически близкую нефть Мексики и Венесуэлы. Страны Персидского залива на полученные за нефть деньги покупали американское вооружение, наращивали резервы в долларах и инвестиции в американские бумаги, а у Японии и Западной Европы покупали на нефтяные деньги в несколько раз меньше. Дорожающая нефть увеличила инфляцию во всех западных странах, но США страдали от этого меньше, так как получали выгоды за счёт роста экспорта и большего привлечения инвестиций.
Со времен Никсона, Киссинджера и первого нефтяного шока американское влияние на мировой рынок нефти усложнилось. Теперь цены на нефть двигают с помощью нефтяных фьючерсов, в которых доминируют американские биржи, фонды и банки, а объёмы фьючерсов на порядок превышают торговлю реальной нефтью. Спекулянтам помогают крупнейшие деловые средства массовой информации, в основном американские, которые раздувают небольшие, локальные события в нефтяной отрасли до вселенских размеров, направляя в нужную сторону толпы рядовых инвесторов.
Ещё один инструмент изменения цен на нефть — это войны и перевороты, которые с 1973 года применялись неоднократно. Сам первый нефтяной шок был вызван якобы выходом стран ОПЕК из-под контроля США, но этот выход был срежиссирован Соединёнными Штатами. Исламская революция в Иране 1979 года была направлена против США, однако после неё американцы ввели против Ирана санкции, которые оказались самыми длительными и жёсткими. Две войны в Заливе 1991 и 2003 годов против Ирака стали важнейшими событиями для мирового рынка нефти, сильно повысив цены после их обвала в 1986-89 и в 1997-99 годах. Венесуэла в конце 2010-х годов повторила судьбу Ирана по части заморозки активов и запрещения закупок нефти.
Перечень военных и политических событий вокруг нефти можно продолжать долго. Много интересного связано с крупнейшими государственными нефтяными компаниями в Бразилии и Мексике, начиная от отдельных санкций и заканчивая отстранением от власти президентов этих стран. Наивно полагать, что история с "Юкосом" с её до сих пор тянущимися судами — это лишь спор хозяйствующих субъектов, что у США нет во всём этом своих специфических интересов.
Значительная часть денег стран-экспортёров нефти уходит в США
Теперь рассмотрим зависимость суверенных (то есть государственных) фондов стран-экспортёров нефти от объёмов их экспорта. Формально суверенные фонды создаются для сглаживания влияния среднесрочных циклов цен на нефть на бюджет и экономику стран-экспортёров: в годы дорогой нефти страны-экспортёры абсорбируют в эти фонды сверхдоходы, чтобы в годы низких цен поддерживать свою экономику за счёт этих резервов. Вроде чем больше экспорт нефти и сверхдоходы, чем более ответственную бюджетную политику проводит страна, тем больше у неё суверенные фонды.
Из 15 стран с крупнейшими суверенными фондами 10 являются экспортёрами нефти (по «доковидной» статистике). Объединённые Арабские Эмираты обладают суверенными фондами на 1,3 трлн долл., при том, что экспорт нефти этой страны в 2,3 раза меньше российского, а российский суверенный фонд в его ликвидной части равен 120 млрд долл. Маленькая по населению и объёмам экспорта нефти Норвегия обладает суверенным фондом в размере 1,1 трлн долл. Саудовская Аравия, как главный проводник американской политики на Ближнем Востоке и на рынке нефти, имеет в суверенных фондах 0,9 трлн долл. Казахстан аккумулировал в суверенных фондах 133 млрд долл. при меньшем в 4,3 раза экспорте нефти.
Зависимость между объёмом экспорта нефти и величиной суверенных фондов правильнее понимать как обратную. Чем большую долю доходов страна абсорбирует в суверенных фондах, тем большую долю мирового рынка нефти США предоставляют этой стране. По статистике, порядка 60-80% средств суверенных фондов экспортёры нефти вкладывают именно в американские бумаги. При этом они продают в США значительно меньше нефти, чем в третьи страны, поскольку у США много своей нефти.
В 2018 году против Катара были введены санкции соседних арабских стран за то, что Катар попробовал потратить часть своего суверенного фонда, опустив его до минимального уровня относительно размеров экспорта по сравнению с соседями. На Саудовскую Аравию США наложили санкции против ряда высших чиновников, просто за приостановку наращивания суверенного фонда, связав эти санкции с убийством в Турции журналиста. Проект нефтепровода из канадской провинции Альберта в США несколько раз пересматривался и откладывался, а ведь он мог бы удвоить поставки нефти из Канады. Даже «Бритиш Петролеум» попала под американские санкции в 2011 году на рекордные тогда 21 млрд долл. из-за утечки нефти всего из одной скважины.
Венесуэла ещё в 2000-е годы при Чавесе отказывалась вкладывать в американские бумаги и уже при Мадуро получила запрет со стороны США на экспорт нефти. Если в 2014 году Венесуэла экспортировала 2 млн бочек нефти в день, то в 2020 году её экспорт упал до 626 тыс. бочек. Иран в годы временного ослабления санкций в 2016-18 годах вывозил также порядка 2 млн бочек в день, а в ноябре 2020 года — лишь 585 тыс. бочек в день.
Крупнейшим покупателем почти вчетверо упавших объёмов экспорта Ирана и Венесуэлы остаётся Китай. Поэтому США ввели санкции против одной из крупнейших китайских нефтяных компаний CNOOC (China National Offshore Oil Corporation), которая также является одним из крупнейших покупателей российской нефти. Санкции были формально введены из-за нарушений технологии добычи нефти в Южно-Китайском море, однако американские деловые СМИ приурочивали к санкциям публикации о вывозе из Ирана в Китай чуть ли не по 500 или даже 800 тыс. бочек нефти в день.
Россия вынужденно теряет часть своих рынков сбыта нефти и газа, поскольку сократила свои вложения в американские бумаги. Было несколько угроз введения американских санкций против нефтяных трейдеров, работающих с Роснефтью, а американские СМИ заявляли об обсуждении ещё более жёстких ограничений. Турция сильно сократила закупки российского газа, хотя несколько лет назад была вторым по значимости покупателем после Германии. При этом Турция стала больше покупать нефти и газа у Казахстана и Азербайджана, которые продолжили свои вложения в американские бумаги. Польша заявляет о планах заместить российский газ норвежским трубопроводным и американским сжиженным, а российскую нефть — американской и саудовской нефтью, хотя никакой угрозы Польше со стороны России нет.
США зарабатывают и на странах-импортёрах нефти
От резких изменений цен на нефть могут пострадать и крупные развитые страны-импортёры нефти. Рост цен может пробить брешь в ВВП и торговом балансе даже страны с диверсифицированной экономикой и сильным промышленным экспортом, поскольку производители нефти просто не смогут покупать товары этой страны в прежних объёмах. Пусть брешь в ВВП или торговом балансе будет всего несколько процентных пунктов, но крупные деловые СМИ и спекулянты раздуют эти проблемы до полноценного финансового кризиса. Во избежание всех этих проблем таким странам и предлагается вкладываться через их суверенные фонды в американские бумаги.
Япония является крупнейшим держателем американских казначейских облигаций на 1,2 трлн долл. и наращивала эти вложения и в "потерянные десятилетия" 1990-2000-х годов, и даже после Фукусимы. Фукусима в 2011 году нанесла огромный удар по энергетическому балансу страны, поскольку на 54 остановленных на всякий случай реакторов приходилось 27% выработки электроэнергии. Фукусима также стала триггером высоких мировых цен на нефть, временно восстановившихся после падения 2008 года и перед падением 2014 года. Несмотря на явный внутренний экономический кризис, Япония в 2011 году нарастила вложения в американские бумаги с 886 до 1058 млрд долл.
США в 2011 году всё же помогли Японии, обеспечив ей в виде исключения санкционную иранскую нефть с большой скидкой в рамках программы “Нефть в обмен на продовольствие”. Под американские исключения в разные годы попадали Япония, Индия, Южная Корея и ещё несколько стран. Однако в 2015 и 2018 годах США, угрожая большими штрафами за нарушение санкций против Ирана, потребовали от этих стран сократить покупки иранской нефти. Франция, Германия и Великобритания тоже пытались в своё время добиться от США исключений, но им этого не удалось.
Южная Корея является двенадцатой экономикой мира по номинальному ВВП и одиннадцатой — по размеру своего суверенного фонда. По «доковидной» статистике суверенный фонд Кореи составлял порядка 160 млрд долл., из которых на казначейские облигации США приходилось 131 млрд долл, а на бумаги других стран — менее 30 млрд долл. Корея держит внушительный суверенный фонд, не являясь экспортёром нефти, поскольку руководство этой страны помнит механику азиатского финансового кризиса 1997 года. Тот кризис был вызван падением мировых цен на нефть и сокращением спроса на промышленные товары, а крупнейшей пострадавшей страной стала именно Корея.
Если руководство Кореи проявит забывчивость, то США могут повторить свержение или импичмент очередного президента. Последний такой импичмент был в 2016-17 годах, просто из-за особенностей документооборота между президентом и её ближайшей соратницей. Но пришёлся этот импичмент на предыдущий период падения мировых цен на нефть и сокращения экспорта самой Кореи. США также могут наложить санкции на одну из крупнейших корейских компаний, например, по образцу суда между Samsung и Apple на миллиард долларов — тогда, в 2018 году, сошлись на половине миллиарда.
Польша в вопросе Северного потока — 2 занимает определённую позицию в силу того, что она десятилетиями покупала газ почти полностью у России по ценам значительно выше, чем цены для Германии. Часть выручки Газпрома через российский бюджет и фонды инвестировалась в облигации Германии, которая была ключевым донором структурных программ в странах Восточной Европы — таким образом часть денег возвращалась Польше. В последние несколько лет речь идёт о прекращении субсидирования Восточной Европы за счёт Западной. Ещё и Северный поток — 2 обойдёт стороной Польшу, лишив её доходов от транзита российского газа.
В этой ситуации Польша готовится сократить свой огромный торговый дефицит с помощью США, поэтому санкции США против Северного потока — 2 сохраняют часть польского транзита российского газа. США также содействуют Польше в разработке газовых месторождений на территории Норвегии, плата за газ с которых существенно ниже мировых цен. Норвегия в последние годы почему-то активизировала допуск на шельф иностранных компаний и сокращает долю рынка некогда монопольного национального производителя Statoil. Совершенно случайно именно с Норвегией администрация Байдена провела одни из первых международных переговоров. В ответ Польша готовится размещать на своей территории часть войск США за свой же счёт, при том, что ранее США платили за такое размещение Германии. Также Польша декларирует готовность закупать сжиженный американский газ и американскую нефть.
Бюджет США испытывает системные проблемы
США живут с постоянно растущим бюджетным дефицитом с 1968 года. Исключением были буквально несколько лет открытой инфляции конца 1970-х и клинтоновского "пузыря" рынка акций конца 1990-х. С кризиса 2001 года через кризисы 2008 и 2020 годов бюджетный дефицит США вышел на ещё более впечатляющие величины. Любой американский президент в ближайшее десятилетие не сможет отказаться от развёрстки на крупные страны обязанностей поддерживать американскую долговую пирамиду.
У администрации США сейчас серьёзные проблемы со сбором налогов, поскольку многие временные антикризисные налоговые льготы стали постоянными. Федеральное правительство США в 2019 году собрало налогов относительно ВВП на четверть меньше по сравнению с 1999 годом (16% и 21% ВВП соответственно). Торговые войны с Китаем и другими странами не сильно повлияли на позиции американской промышленности, позволив лишь увеличить таможенные пошлины.
У бюджетного дефицита США есть вторая сторона медали — торговый дефицит. Это даёт другим странам возможность извлечь из оттока нефтедолларов в США что-то большее, чем просто строчку в рейтинге ключевых держателей американских облигаций. Нефтедоллары могут оказаться в США в счёт покупок американских товаров, программного обеспечения, финансовых услуг. Главное, чтобы деньги поступили резидентам США, а американское правительство само решит, какими налогами их обложить.
Хотя по официальным данным Конгресса США эффективная ставка внутри США составляет 27,1%, крупные корпорации платили по своим доходам 19,4%, поскольку по доходам от своей международной деятельности платили всего 12,6%. Не случайно Байден анонсировал увеличение номинальной ставки налога на прибыль крупных корпораций с 21% до 28%, но пока без перекрытия лазеек по уменьшению сумм этого налога.
У администрации США традиционно трудные отношения с финансовым сектором. Этот сектор нуждается в частых финансовых кризисах за рубежом, поскольку без кризисных сверхприбылей он выжить не может. После кризисов 1990-х годов многие страны научились противостоять международным спекулянтам, и пришлось уже организовывать крупные спекуляции в самих США в 2008 и 2020 годах. В каждом из этих кризисов именно финансовый сектор получал наибольшие вливания со стороны ФРС и Казначейства США.
Государственный долг США вырос на рекордные 3,8 трлн долл. за 2020 год и вырастет на похожую величину в 2021 году. А это значит, что США не могут себе позволить отдавать значимые деньги своим кредиторам, даже несмотря на резервный статус американских бумаг на случай кризиса и явное наличие этого кризиса. По данным Казначейства США, за 2020 год суммарные вложения других стран в американские бумаги даже выросли с 6,8 до 7,1 трлн долл. Из 20 крупнейших кредиторов США лишь семи странам (Саудовской Аравии, Бразилии, Гонконгу, Каймановым Островам, Канаде, Франции и Тайланду) позволили вынуть из американских бумаг порядка 10-15 млрд долл. на каждую, при этом выдачи были перекрыты ростом вложений других стран.
Выплаты США Саудовской Аравии и другим странам фактически профинансировала Япония, вложившая в американские бумаги за кризисный год порядка 100 млрд долл. Саудовская Аравия вынула из американских бумаг 44 млрд долл., что в разы больше других шести стран. Параллельно США впервые ввели санкции против группы саудовских должностных лиц. Япония же за 2020 год нарастила покупки саудовской нефти с 2% до 20% всего саудовского экспорта по низким «коронакризисным» ценам, сэкономив на этом до 16 млрд долл. Плюс Россия увеличила вложения своих валютных резервов в японские бумаги ориентировочно на 15 млрд долл.
Сейчас нефть подорожала уже до 65-70 долл. за бочку и может подорожать ещё больше, и это после апокалиптических прогнозов весны 2020 года и риторики "зелёной экономики". Мейнстримом является мнение о ведущей роли в такой ценовой динамике сделки ОПЕК+, убравшей с рынка лишнюю нефть. Это популярное мнение столь же упрощено, как и господствовавшее в середине 1970-х годов мнение о независимой политике арабских стран, опровергнутое в начале этой статьи.
Дорогая нефть в первую очередь нужна самим США, поскольку это подхлестнёт инфляцию, а именно инфляционный рост является наиболее вероятным для экономики США в начавшемся десятилетии. Дорогая нефть позволит развернуться американским нефтяникам и спекулянтам, как это было при Буше-младшем, когда капитализация нефтяных компаний и банков была сопоставима с нынешними рекордами IT-компаний. Дорогая нефть позволит увеличить вложения в американские государственные облигации со стороны стран-экспортёров нефти, заместить часть печатного станка ФРС и отойти от скатывания из умеренной инфляции в открытую.
На нефтедолларах, как на трубе, сидит много посредников
США лишь часть нефтедолларов забирает себе самым коротким маршрутом через суверенные фонды и казначейские облигации. Соответствующая пропорция записана в российском Бюджетном кодексе в виде цены отсечения 42 доллара за бочку нефти, а также в прогрессии ставок налогов на нефтяников. В разные годы при разной цене на нефть через этот маршрут уходило 10-30% выручки от экспорта нефти. До санкций больше половины средств российских суверенных фондов вкладывалось в облигации США и на депозиты в американские банки, малая часть — в странах Западной Европы.
Администрирование короткого маршрута стоит очень небольших издержек. Сбором налогов с нефтяников и газовиков занимается несколько тысяч налоговых инспекторов, вложения в американские облигации администрирует несколько десятков сотрудников Минфина, Казначейства и Банка России. У такого вложения нефтедолларов есть “бонус” в виде гипотетического использования этих резервов во время экономического кризиса. Отрицательной же стороной являются споры об этой кубышке, разъедающие российский властный и общественный консенсус.
Во времена Картера и Киссинджера страны-экспортёры на нефтедоллары покупали американское оружие. В 1990-е годы Япония пыталась диверсифицировать свои вложения в сторону небоскрёбов Нью-Йорка или киностудий Голливуда, а Южная Корея позволила американским инвестиционным банкам выиграть десятки миллиардов долларов на "пузырях" на своём рынке. Саудовская Аравия через свою государственную нефтяную компанию владеет крупнейшим НПЗ на территории США и сетью АЗС. Арабские инвесторы знамениты своими огромными вложениями в американские профессиональные спортивные клубы. Богатые выходцы из стран-экспортёров нефти покупают недвижимость в США, учат там своих детей.
Администрирование альтернативных маршрутов "отката" нефтедолларов в США куда сложнее маршрута через американские облигации. Во многих странах крупные “заработки” облагаются внушительными прогрессивными налогами, сопоставимыми с налогами на сверхдоходы нефтяных компаний, потому и оптимизируются с помощью сомнительных схем с применением офшоров, подставных лиц, посредников. Такие схемы выгодны и самим США, поскольку позволяют кормить внушительную армию американских юристов и лоббистов и при необходимости надавить на нужного политика или целую страну.
Среди деятелей на альтернативных маршрутах есть и относительно честные состоятельные люди, которые заплатали все налоги у себя на родине и потом прозрачно вложили деньги в американские активы. Подавляющая часть крупных корпоративных инвестиций Японии или Саудовской Аравии проходила легальными каналами с уплатой причитающихся налогов. Российские частные нефтяные и металлургические компании во второй половине 2000-х годов также инвестировали в реальные активы в США.
Но выиграть с крупными ставками на американском рынке недвижимости или рынке акций — это как по-крупному выиграть в казино. В США крупные доходы на рынке ценных бумаг или владение дорогой недвижимостью облагаются более чем внушительными налогами. Реальная отдача на инвестиции в спортивные клубы, голливудские студии или небоскрёбы не очень-то пиарится в деловых СМИ.
Оценить маршруты использования нефтедолларов можно по статистике российского платёжного баланса. В 2019 году от экспорта нефти, нефтепродуктов и газа Россия получила 239 млрд долл., федеральные органы власти перечислили за рубеж процентов по государственным облигациям на 4 млрд долл., “прочие секторы” (официальный термин) выплатили за рубеж процентов и дивидендов на 86 млрд долл., плюс федеральные органы инвестировали за рубежом 22 млрд долл., “прочие секторы” — 26 млрд долл. В 2020 «коронакризисном» году в Россию поступило нефтегазовых доходов на 112 млрд долл., федеральные власти перечислили за рубеж процентов на 3 млрд долл., “прочие секторы” — процентов и дивидендов на 41 млрд долл., плюс “прочие секторы” вложили за рубеж 14 млрд долл. при суммарно нулевых чистых вложениях государственного сектора.
Получается, что в относительно хорошем 2019 году через “прочие секторы” из России ушло в 4,3 раза больше денег, чем было размещено через государственный канал, а в кризисном 2020 году через “прочие секторы” утекло уже в 11 раз больше, чем через государственный. Во время очевидного кризиса отток денег через государственный сектор сократился в 9 раз до крайне минимальных значений, тогда как отток денег через “прочие секторы” сократился всего в 2 раза и всё равно составил внушительные 55 млрд долл. Представленные цифры по “прочим секторам” к тому же не включают схем вывода денег под предлогом лжеэкспорта и лжеимпорта, поскольку достаточно проблематично отделить эти схемы от цифр по реальным экспорту и импорту.
Короткий маршрут через бюджетный сектор стоит экономике России значительно меньше по сравнению с альтернативными маршрутами через “прочие секторы”. Продолжающийся отток капиталов через “прочие секторы” является одной из причин умеренности санкций против России, несмотря на прекращение вложений нефтедолларов в американские бумаги через суверенные фонды. Американский финансовый сектор так или иначе получает из России десятки миллиардов долларов, даже во время «коронакризиса» и невысоких цен на нефть. Проблема ещё и в том, что эти деньги от России почти не получает американский федеральный бюджет, который впадает во всё более тяжкий дефицит, становящийся самой большой угрозой мировой экономике.
Что будет, если не договариваться с США об "откате" нефтедолларов?
Для лучшего понимания стратегического выбора, стоящего перед руководством России, следует просто представить Россию под жёсткими санкциями типа иранских или венесуэльских. В 2000-е годы сверхдоходы от дорогой нефти почти полностью прошли мимо Ирана, поскольку против него действовали санкции различной степени тяжести, вплоть до запрета покупать у этой страны нефть. Умеренные доходы от экспорта нефти второй половины 2010-х годов прошли и мимо Венесуэлы, которая вела очень умеренную внешнюю политику и просто пыталась оставить себе все нефтяные доходы. Обе эти страны испытали сильнейшие экономические кризисы по образцу российского в 1990-х.
России и так было позволено использовать значительно больше нефтедолларов по своему усмотрению по сравнению с другими странами, поскольку ещё до санкционной риторики российский суверенный фонд был в разы меньше саудовского, а российские вложения в американские бумаги были меньше саудовских раз в пять (при похожих объёмах экспорта нефти). Более того, Россия смогла вывести из американских облигаций почти все средства, вложенные в предыдущий период дорогой нефти, и за это пока наложены лишь ограничительные санкции.
За свою умеренно независимую финансовую политику Россия пока заплатила лишь потерей 10% добычи и 15% экспорта по ограничениям сделки ОПЕК+, фактически в долгосрочной перспективе в пользу американской добычи. Были потеряны две трети рынка газа Турции, потенциально будет потерян рынок Польши и Прибалтики. Также России периодически напоминают о 20 млрд долл. вероятных выплат по делу "Юкоса" по суду в Нидерландах. Именно пока только напоминают, поскольку ряд крупнейших корпораций Западной Европы уже выплачивали огромные штрафы правительству США (British Petroleum, Volkswagen, UBS и др.).
Вполне возможно, что новая администрация США тайно торгуется с элитами стран-экспортёров нефти на предмет того, кто будет готов переводить в США больше нефтедолларов в будущий период вероятных высоких цен на нефть. Иран вполне может получить смягчение санкционного режима с сохранением американского контроля над экспортом нефти. В Венесуэле контроль за нефтедолларами может перейти от Мадуро к Гуайдо, даже с сохранением части полномочий первого. Саудитам могут пригрозить новыми санкциями.
Пока цены на нефть высоки из-за развёрстки сокращения добычи на участников сделки ОПЕК+, однако, неизвестно, сколько ещё удастся удерживать её участников от соблазна немного нарушить условия. Аналогичные картельные договорённости предыдущих десятилетий показывали шаткость добровольных ограничений, поэтому США своими санкциями играли и будут играть роль гаранта выполнения этого или даже концептуально иного соглашения. Наиболее действенным инструментом в предыдущие десятилетия была как раз полная блокировка или значительное сокращение американцами поставок нефти на мировой рынок от какого-либо крупного игрока.
Если Россия попадёт под жёсткие санкции иранского или венесуэльского типа, то мы потеряем 2/3 экспортных доходов в составе ВВП и 1/4 доходов федерального бюджета. Гипотетически можно вернуть структуру импорта и потребления в начало 2000-х годов, когда санкций не было, но нефть стоила очень дёшево. При этом следует особо подчеркнуть, что даже «ковидная» экономика 2020 года обеспечивала россиянам уровень потребления заметно выше условного 2000 года. Будет необходимо резко прекратить отток капитала, не помогать платить по псевдоиностранным долгам и позициям международных спекулянтов по образцу принятого в сентябре 1998 года решения В.В. Геращенко урегулировать валютные контракты по 7,5 рублей за доллар.
Что будет, если договориться с США об исключении из транзита нефтедолларов посредников и об отмене санкций?
Что если Россия предложит США модельную финансовую сделку, упрощающую маршруты нефтедолларов, то есть — прямой трансфер из федерального бюджета России в федеральный бюджет США? Этот трансфер можно назвать на русском языке и для россиян как российский вклад в дело восстановления американской и мировой экономики. Для американских обывателей можно придумать другое название этого трансфера сообразно их политической повестке дня, за исключением откровенно антироссийских названий.
Деньги по указанным принципам должны перечисляться без псевдовозвратных вложений в американские бумаги и оттока капитала из России через “прочие секторы”. Россия и США очень мало торгуют друг с другом реальными товарами, а вот финансовые операции и отток капитала из России в США более чем внушительные. Прямой трансфер избавит нас от финансовых посредников и финансовых санкций, при этом хотя бы частично решит проблемы бюджетного дефицита США и оставит внушительные средства для развития российской экономики и постсоветского пространства.
Такая сделка лишь на первый взгляд выглядит невероятной. Отдельные аспекты похожих решений пытались разрабатывать на встречах "Большой двадцатки", например, по борьбе с офшорами или девальвационными войнами. «Постковидная» экономика требует нетипичных действий, и многие организации в западных странах уже начинают их моделировать. Новый министр финансов США Джанет Йеллен, работавшая прежде руководителем ФРС, прорабатывает введение всеми развитыми странами налога на прибыль крупных международных корпораций по унифицированным принципам и повышенной ставке.
Основой расчёта суммы нефтегазового трансфера будет эффективная ставка налогов в США, то есть ставка фактических сборов налогов с учётом их схем и лазеек “оптимизации” налогов. Можно даже взять среднюю из представленных выше ставок 27%, 19% и 12,6%, округлить её до 20% (совершенно случайно до ставки российского налога на прибыль или НДС).
Из выведенных из России в 2019 году с помощью альтернативных маршрутов 112 млрд долл., с допущением, что 2/3 этой суммы осело в США, американский федеральный бюджет по ставке 12,6% получил лишь 9 млрд долл. Если пересчитать 2/3 выведенного из России по ставке 20%, то получится 14 млрд долл. Ещё до санкционной политики российские вложения в американские облигации, например, в 2011 году, при средней цене нефти сорта "Брент" в 111 долл. за бочку приросли на 10 млрд долл.
То есть, если нефть вырастет в ближайшие годы, скажем, до 100 долл. за бочку, прямой трансфер России в пользу США составит по предлагаемой логике 24 млрд долл. В эту гипотетическую сумму в 24 млрд долл. входят все возможные штрафы по делу "Юкоса" и по всем введённым или потенциальным санкциям, подлежащим как минимум заморозке, а ещё лучше — отмене. Сюда же входят и дивиденды, выплачиваемые крупными российскими корпорациями с государственным участием в пользу американских и офшорных акционеров.
Ещё одной частью моделируемого пакетного соглашения являются обязательства России не занимать новые деньги на мировом финансовом рынке. США не нужны даже умеренные конкуренты на рынке международных заимствований. Сейчас у России очень небольшой долг на фоне гигантских долгов западных стран, и именно из-за разного уровня государственных долгов постоянно звучат угрозы новых ограничений уже против российских гособлигаций. В случае пакетного соглашения Россия перестанет наращивать свой государственный и квазигосударственный долг госкорпораций, а США в ответ снимут часть санкций.
Пакетным соглашением российское руководство получает возможность перекрыть схемы оттока капитала и провести зачёт псевдоиностранных инвестиций. При этом ведущие американские деловые СМИ меняют риторику и будут писать о реальном прогрессивном обложении заработанного на «коронакризисе», об апробации Россией модельных решений для других крупных стран по «постковидному» совершенствованию налоговой системы.
Россия также ограничивает приток спекулятивного капитала, вплоть до запрета или заморозки крупных и средних транзакций с неясными или короткими сроками вложений денег, приходящих не от корпораций реального производственного сектора. Небольшие по суммам спекулятивные транзакции физических лиц (например, до 10 или даже 100 тыс. долл.) можно оставить, с условием их вложений только в ценные бумаги, котируемые на Московской бирже.
Под нефтедолларовый "откат" попадают только потенциальные сверхдоходы от высоких цен на нефть и не попадают доходы от российского экспорта других товаров. При этом никакого политического или тарифного навязывания импорта американских самолётов или семян, услуг американских консультантов, финансистов и прочего не допускается.

ОДОБРИВ САМОДОСТАТОЧНОСТЬ, ПЕКИН ПОВЫШАЕТ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ СТАВКИ
БЕЙТС ГИЛЛ
Американский эксперт по внешней политике Китая, профессор исследований проблем безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Университета Маккуори в Сиднее и старший научный сотрудник Королевского объединённого института оборонных исследований в Лондоне, бывший директор Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
СТРАТЕГИЯ «ДВОЙНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ», ПРЕДСТАВЛЕННАЯ НА СЕССИИ ВСЕКИТАЙСКОГО СОБРАНИЯ НАРОДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ПРИВЕДЁТ К СДВИГАМ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ И ПОЛИТИКЕ
Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), состоявшаяся на прошлой неделе в Пекине, привлекла больше внимания, чем обычно. В основном в заголовках фигурировали новые избирательные ограничения для Гонконга – ожидаемое, но неприятное решение, которое осложнит политическую жизнеспособность города.
Помимо новостей о Гонконге, целей экономического роста на 2021 г. и восхваления Китая, справившегося с пандемией COVID-19, ВСНП одобрило амбициозную экономическую повестку на ближайшие пятнадцать лет. В частности, делегаты единогласно приняли новую стратегию «двойной циркуляции», состоящую из циркуляции внутренней и международной. Термин впервые употребил Си Цзиньпин в прошлом году. Эта стратегия – не просто корректировка экономики, в случае успеха она окажет существенное воздействие на глобальную экономику и геополитику.
С одной стороны, стратегия позволит Китаю больше полагаться на огромный внутренний рынок («внутренняя циркуляция») для обеспечения роста и технологических инноваций вместо капиталоёмкого роста, дешёвого экспорта и импорта технологий, которые принесли стране экономические успехи в прошлом.
Вторая составляющая стратегии – «международная циркуляция» – продолжит давнюю инициативу КНР, известную как «Сделано в Китае – 2025». Цель – усовершенствовать производственную базу путём интеграции информационных технологий, чтобы повысить производительность, расширить линейку собственных передовых продуктов, снизить зависимость от импорта и обеспечить технологическую самодостаточность.
Вот что сказал премьер Госсовета Ли Кэцян, выступая с рабочим докладом на сессии ВСНП: «Мы отдаем приоритет внутренней циркуляции, будем работать над созданием мощного внутреннего рынка и превратим Китай в продавца качественного товара. Мы будем регулировать потоки внутренней экономики так, чтобы сделать Китай максимально привлекательным для глобального производства и ресурсов, продвигая таким образом позитивное взаимодействие между внутренней циркуляцией и международной».
Стратегия «двойной циркуляции» и особенно программа «Сделано в Китае – 2025» нацелены на то, чтобы позиционировать КНР как ведущий источник критически важных технологий и индустриального производства будущего во всей цепочке добавочной стоимости – дизайн, производственый процесс, технологии, материальные затраты и готовая продукции – в приоритетных секторах, включая информационные технологии следующего поколения, робототехнику, авиакосмическую отрасль, высокоскоростные железные дороги, зелёную энергетику биофармацевтику и новые материалы. По оценкам китайских аналитиков и их иностранных коллег, план охватит 40–80 процентов глобальных цепочек начисления стоимости в этих секторах в 2020–2030 годах.
В случае успеха воздействие стратегии будет огромным. Китай получит потенциал, чтобы выбраться из «ловушки среднего дохода», которая препятствовала дальнейшему росту многих развивающихся экономик в прошлом. Особенно важно, что стратегия «двойной циркуляции» поможет избежать последствий разъединения, нарушения цепочек поставок (угроза стала актуальной на фоне пандемии коронавируса) и активного протекционизма в свете ухудшения отношений США и Китая, прежде всего – в высокотехнологичных секторах и сфере доступа на финансовые рынки.
Пока КНР далека от технологической самодостаточности. Страна по-прежнему зависит от иностранных технологий и доступа на некоторые фундаментальные рынки, например, полупроводников, которые имеют ключевое значение для развития передовых индустриальных секторов. Си Цзиньпин уверен, что ситуацию нужно менять. В 2016 г. он предупреждал: «Наша зависимость по основным технологиям – главная скрытая проблема для нас». Он подчёркивал необходимость «усилить зависимость международных производственных цепочек от Китая, чтобы сформировать мощные контрмеры и рычаги сдерживания иностранцев, которые могут попытаться искусственно отрезать нас от поставок».
Такое развитие событий может затронуть Австралию. Экономические отношения Австралии и Китая уже выглядят блёкло. Если, как было заявлено на ВСНП, Китай продолжит замедлять капиталоемкую модель развития и расширять планы, основанные на увеличении потребления и зелёном росте, это негативно скажется на традиционном экспорте Австралии – железной руде и угле.
Если Китай совершит успешную трансформацию и в ближайшие десять лет обретёт статус государства с высоким уровнем дохода, это позитивно скажется на австралийском экспорте, ориентированном на состоятельных граждан, – высококачественные сельхозпродукты, образовательные услуги, туризм, медицинские товары, бренды определённого образа жизни и, возможно, финансовые технологии. Но для этого нужно кардинально улучшить состояние двусторонних отношений, а также не допустить, чтобы китайские потребители переключились на другие источники этой продукции – в ближайшее время и то и другое кажется маловероятным.
Кроме того, если Китай преуспеет и станет лидером в передовых технологических секторах к 2030 г., это сократит возможности Австралии как на китайском, так и на глобальном рынках. Стремление Си Цзиньпина получить рычаги экономического сдерживания иностранцев может затронуть Австралию и в некоторых технологических секторах. Технологическое соперничество США и Китая набирает силу, пострадать могут и многие другие страны.
Стремление Пекина к самодостаточности предполагает и геополитические амбиции. Понимая, что отстаивание контроля над Тайванем силовым способом может вызвать ответные экономические санкции США, Японии и других стран, Китай вынужден выстраивать прочную систему, чтобы выдержать этот удар. Если более самодостаточный и уверенный в себе Китай атакует Тайвань, пострадают безопасность и экономические интересы Австралии.
ВСНП – не совещательный орган, а скорее церемониальная политическая площадка для формализации решений, уже принятых партийным руководством. А значит, заявления, прозвучавшие в здании Всекитайского собрания на прошлой неделе, сигнализируют о глубинном пересмотре подходов в Пекине. Ставки высоки – не только для Китая, но и для глобальной экономики и политики на ближайшие годы.
The Interpreter

Попасть в камеру
Генерал-лейтенант полиции Юрий Жданов - о том, чего можно ждать от развития видеоконтроля на улицах
Текст: Михаил Фалалеев
Число видеокамер на улицах, в местах скопления людей и общественном транспорте увеличилось в несколько раз. Причем многие из них оборудованы системами распознавания лиц. Разрабатывается система, способная за пятьдесят метров идентифицировать человека по походке. Как к этому относиться? Как к заботе о безопасности граждан, борьбе с преступностью, стремлению заставить людей соблюдать правила карантина? Или как к ограничению личной свободы? О своем мнении на этот счет, а также о возможностях систем видеоконтроля рассказал в интервью "Российской газете" президент российской секции Международной полицейской ассоциации (МПА) генерал-лейтенант, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Юрий Жданов.
Юрий Николаевич, мы уже привыкли к видеокамерам на улицах. Они уже не просто снимают "кино", но и опознают человека. Насколько "поумнели" сегодня системы видеонаблюдения?
Юрий Жданов: Уже сейчас понятно, что возможности таких технологий беспредельны. Сегодня алгоритм искусственного интеллекта распознает лицо, даже если человек использует для маскировки очки, усы или бороду.
Известны случаи, когда распознавались люди в мотоциклетных шлемах. Медицинская маска тоже не сработает для защиты от алгоритма.
МВД России разрабатывает систему распознавания людей по татуировкам, по радужной оболочке глаз, по голосу и по движению тела. Система распознавания по походке способна определить человека на расстоянии 50 метров, даже если он не смотрит в камеру. Она анализирует походку по длине шага, уровню наклона ступни, движению рук. Ее довольно сложно "провести".
Поскольку все технологии слежения в своей основе упираются в базу данных, МВД России создает централизованный банк биометрических данных с отпечатками пальцев и изображениями лиц. В банке будет собрана информация как о российских гражданах, так и об иностранцах. Его планируется создать в течение трех лет.
Резкий рост числа видеокамер везде, где только можно, связан именно с пандемией?
Юрий Жданов: Не только. Но действительно, появилась так называемая "новая нормальность" эпохи пандемии, связанная с беспрецедентным расширением использования технологий видеонаблюдения, геолокации и Big Data - особой технологии обработки любых больших данных. Это заставляет переосмысливать привычную систему обеспечения прав человека.
Но ведь появились эти ноу-хау не сегодня?
Юрий Жданов: Считается, что современная система видеонаблюдения в рамках программы "Безопасный город" в Москве появилась в 2011-2012 годах. До этого она была довольно архаичной, многие камеры просто не работали.
В качестве ориентира и ролевой модели для Москвы был выбран Сингапур. В этом городе-государстве строилась система "умного города", которая была запущена в 2014 году. Она, например, включала в себя разветвленную сеть камер видеонаблюдения и установленные во все машины датчики, позволяющие оперативно собирать данные о пробках.
Власти Сингапура любили демонстрировать и другие чудеса новой системы. В 2013 году они показательно оштрафовали на 14 тысяч долларов человека, который выбрасывал окурки из окна квартиры. Его выявили вездесущие камеры наблюдения.
В нашей столице с начала реализации проекта количество видеокамер увеличивалось примерно на 7-10 тысяч в год. В мае 2019-го Сергей Собянин сказал, что в Москве их 167 тысяч. К началу 2021 года - уже около 200 тысяч. Мэр добавил, что видеозаписи используются при расследовании 70% всех совершенных преступлений.
Большинство камер установлены у подъездов жилых домов и административных зданий, в школах, вузах, торговых центрах. Не менее 2,5 тысячи установлены в местах массового скопления людей.
Мелькнет знакомое лицо
Эти устройства действительно эффективны или всего лишь жупел?
Юрий Жданов: Они весьма полезны. Чаще всего записи с видеокамер используются для расследования вандализма или краж - в 52% случаев, и для разбора ДТП - в 40% случаев.
Для Москвы была выбрана российская технология от компании NTechLab, которая позволяет обнаружить четырех из пяти разыскиваемых, лица которых хоть раз были зафиксированы хотя бы одной камерой, а время поиска человека в базе из 1 миллиарда снимков занимает не более 10 секунд.
Вот пример такой эффективности. В тестовом режиме система работала в 2017 и 2018 годах во время Кубка Конфедераций и чемпионата мира по футболу в Москве, чтобы выявлять болельщиков из черного списка, которым запрещен проход на стадионы. Тестирование системы распознавания лиц началось по всей Москве в августе 2017 года - для начала на 1500 камерах. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году только на входах на стадионы и фестиваль болельщиков работали уже более 450 специальных камер, которые автоматически сверяли лица всех заходящих с предварительно загруженной базой из 45 тысяч фотографий. За время чемпионата было задержано 19 человек, находившихся в федеральном розыске, и 49 человек, которых власти отнесли к опасным футбольным фанатам.
После нескольких лет испытаний Россия в январе 2020 года ввела в строй систему распознавания лиц. Эта технология установлена на более чем 100 000 камер в Москве.
В 2020 году было выделено на установку системы еще 2,7 миллиарда рублей. Большая часть этих средств - 1,4 миллиарда рублей - пошла на оснащение камерами с системой распознавания лиц в вагонах метро. В каждом вагоне должно быть по 8 таких камер, но пока это относится только к четверти эксплуатационного парка вагонов. Остальные средства пошли на установку камер в трамваях, электробусах и автобусах, на расширение системы хранения данных.
"Оруэлл" следит
В других странах тоже увлекаются видеонаблюдением?
Юрий Жданов: Разумеется, и мы в этой области далеко не пионеры и даже не лидеры. Россия по числу установленных камер для видеонаблюдения заняла третье место в мире, уступив Китаю и США. Курс Москвы на покрытие видеокамерами всего пространства города не является уникальным. По данным организации Caught on Camera, которая на протяжении 30 лет занимается разработкой систем видеонаблюдения по заказу государственных и коммерческих структур, в Лондоне и населенных пунктах вокруг него установлено 500 тысяч видеокамер.
Сегодня в России насчитывается около 13,5 миллиона камер, в то время как в Китае их 200 миллионов, в США - 50 миллионов. По числу камер на 1 тысячу человек при этом лидирует США - 152,8 камеры, следом идут Китай - 143,6 и Россия - 93,2.
Чем объясняется такой бум видеонаблюдения? Только лишь требованиями безопасности граждан?
Юрий Жданов: Больше половины камер в России - почти 8 миллионов - установлены коммерческими организациями с целью защиты собственности. Около трети - почти 4,5 миллиона - работают в школах, больницах, правительственных учреждениях и на улицах.
Именно эти камеры финансируются из государственного бюджета. Остальные - почти 1,1 миллиона - были установлены частными лицами. В июне 2020 года правительство России подписало контракт с "Ростехом" на установку системы распознавания лиц в школах на платформе с названием "Оруэлл". Ей планируется охватить более 43 000 школ. По заявлению министерства образования, это делается для того, чтобы мониторить движения и действия детей, а также выявлять посторонних в стенах школ.
Дополнительные системы распознавания лиц будут установлены по всей России. Помимо Москвы еще 10 городов будут располагать такими системами в общественных местах и даже у входов в подъезды многоквартирных домов. Например, в Нижнем Новгороде планируют установить около 3000 таких камер.
Власти многих стран полагают, что камеры видеонаблюдения помогают снизить преступность, повышают общественную безопасность и помогают в случае дорожных происшествий.
Какой же новый импульс этому явлению дала пандемия, если видеонаблюдение и без того столь бурно развивается?
Юрий Жданов: В 2020 году пандемия коронавируса открыла новую сторону использования камер. Некоторые страны стали применять высокотехнологичное слежение для того, чтобы убедиться, что люди, которых обязали соблюдать карантин, на самом деле оставались дома. Например, в Гонконге ввели в обиход "карантинный браслет", в Южной Корее и России отслеживали по геолокации в телефоне.
Поэтому к началу пандемии уже была система, которая позволяла отслеживать людей, которые должны были соблюдать карантинные меры. Людей засекали, даже если они выходили из дома всего на несколько минут выбросить мусор.
Секреты в доступе
Но, с другой стороны, не нарушается ли таким образом частное пространство человека?
Юрий Жданов: Такие опасения есть. Тем более что часто неизвестно, где и как хранится снятая с видеокамер информация. С самого начала установки системы распознавания лиц начали поступать сообщения об утечках данных.
Например, после несанкционированных акций 23 января в мессенджере Telegram появился канал, который собирал и публиковал персональные данные полицейских и росгвардейцев. Для поиска информации владельцы канала использовали программы для распознавания лиц по фотографии и уже утекшие в сеть базы данных. Публикация персональных данных может угрожать безопасности правоохранителей и их родственников.
В канале, аудитория которого составляет 8,5 тысячи человек, опубликованы имена силовиков, их фотографии, телефоны, ссылки на страницы в социальных сетях и данные о родственниках. В канал также встроен специальный поисковый механизм, в него можно анонимно загрузить данные, которые добавляются в отчет. Впрочем, Telegram использовался и для публикации персональных данных протестующих: 26 января мессенджер заблокировал канал "ОПППознание", где выкладывались их имена и фотографии. Об этом сообщало издание vc.ru.
Для опознания личности могут использоваться не только специальные программы с функцией распознавания лиц. Распознать человека по фотографии в сети могут и его знакомые, которые просто впишут в Telegram-канал любые данные о нем, по которым можно в открытых источниках найти недостающую информацию.
Город знает о каждом
Кстати, а что могут выяснить о человеке эти специальные программы?
Юрий Жданов: Да буквально все! С помощью этих систем можно следить и за любым конкретным человеком.
Естественно, что получение самих результатов видеонаблюдения - это только начало углубленной аналитической работы, основанной на технологии Big Data. Пол, возраст, уровень дохода, социальный статус, номер телефона пассажира в метро - все это уже сейчас можно практически мгновенно узнать благодаря системе персональных коммуникаций.
В общей картине люди - лишь часть огромного конгломерата данных, наряду с дорогами, автомобилями, зданиями, канализацией, торговыми палатками, детскими площадками и всем прочим, из чего состоит город.
Частично это обычная официальная информация, которой власти обладали и раньше, просто теперь она переведена в электронные базы данных. Данные о браках, разводах и детях хранятся в "едином информационно-телекоммуникационном пространстве" ЗАГС. Все обращения к врачам - в единой медицинской системе. В системе единого расчетного центра (ЕИРЦ), который отвечает за выставление коммунальных квитанций, есть данные о тех, кто зарегистрирован в квартире сейчас и о тех, кто давно выписался оттуда (так называемые "домовые книги").
Но теперь у городских властей есть и данные, которыми раньше они не обладали. Например, жители города массово живут не по месту официальной регистрации или вовсе без нее. Для получения достоверной информации о месте жительства и перемещениях жителей закупаются геоаналитические данные от сотовых операторов. По сути, это информация о том, к каким базовым станциям подключались телефоны и с каким интервалом каждый телефон переходил от одной вышки к другой.
То есть за человеком можно наблюдать в режиме онлайн?
Юрий Жданов: При желании - да. И это не сложно. По скорости переподключения абонента от одной вышки к другой понятно, идет он по улице пешком или едет на автомобиле, а по тому, к какой станции телефон чаще всего подключен в ночное время - где именно человек ночует, а значит, живет. Кстати, вы же, переезжая из одного региона в другой, получаете уведомление на мобильный телефон типа "вас приветствует станция такой-то области"? И что вас удивляет?
Что важно, все эти данные операторы передают мэрии не напрямую, а через посредника - например, через Аналитический центр при правительстве России.
Скорая по геолокации
А зачем это нужно городским властям? Они же - не спецслужба, а, по большому счету, - административно-хозяйственное предприятие.
Юрий Жданов: В том-то и дело. Например, с помощью данных сотовых операторов мэрия Москвы предупреждает о закрытиях станций метро всех, кто проживает вокруг них, а не только официально зарегистрированных. Такие сообщения от департамента транспорта столицы приходят не только тем, кто зарегистрирован в конкретном районе, но и тем, кто живет в нем без регистрации. Это помогает людям избежать последствий внезапного транспортного коллапса. И это только один пример.
Вот еще один. Геоаналитика используется и для расчета продовольственной обеспеченности районов: данные о реальных местах жительства людей накладываются на карту расположения торговых объектов, следует из отчетов Департамента информационных технологий (ДИТ). Кроме того, сотовые данные помогают понять, сколько людей на лето уезжают жить на свои подмосковные дачи или оценить туристический поток из других регионов России и зарубежных стран - в случае использования роуминга.
И это информация по каждому конкретному человеку?
Юрий Жданов: Нет, отчеты поступают в обезличенном и агрегированном виде, сразу по большим группам людей.
Данные о людях можно сегментировать по различным критериям - например, выделить абонентов определенного возраста. Благодаря этому, например, можно видеть, сколько пенсионеров на самом деле соблюдает рекомендованный им режим самоизоляции.
Однако в условиях эпидемии следят и за отдельными людьми - например, отправляя сообщения о необходимости самоизоляции пассажирам конкретного рейса. А по запросам МЧС они могут отправить жителям конкретного района предупреждение о шторме.
В начале апреля 2020 года министерство цифрового развития разработало порядок наблюдения за носителями коронавируса на основании данных геолокации сотовых телефонов, отчасти легализовав тем самым практику, которая сложилась в столице в течение последних нескольких лет.
В особых случаях сотовые операторы и раньше передавали властям данные о местонахождении отдельных людей, вне режима чрезвычайной ситуации и без привлечения полиции. С 2018 года действует правило: когда житель Москвы вызывает "скорую" с мобильного телефона, в систему обработки вызовов городской станции скорой помощи поступает информация с точными координатами его местоположения - правда, пока человек все равно должен назвать свой адрес оператору скорой. Это лишний шанс, что человеку помогут.
С момента вступления первых ограничений в Москве из-за коронавируса департамент транспорта ежедневно публикует статистику и аналитику по передвижениям горожан на метро, автобусах и трамваях. В рапорты о том, что все "сидят дома", входит и информация по использованию личных автомобилей, такси и каршеринга.
Не проедут мимо
Значит, контролируется и транспорт?
Юрий Жданов: Данные о трафике на улицах стекаются в Центр организации дорожного движения. Информация о передвижении автомобилей и каршеринга - это треки движения, которые не относятся к персональным данным. Однако ЦОДД получает агрегированные и обобщенные отчеты - об этом сообщили в "Яндекс.Такси" и "Яндекс.Драйве". А в "Ситимобиле" и "Везет" добавили, что информация передается в соответствии с двухсторонними соглашениями с мэрией.
Система дает возможность в режиме реального времени отслеживать местонахождение любого такси или взятого напрокат автомобиля, узнать всю историю его передвижений. Мэрия также может выгрузить последние фотографии любого транспортного средства, сделанные развешанными по городу камерами фото- и видеофиксации нарушений.
Данные о передвижениях легковых такси и каршеринга в интеллектуальной транспортной системе комбинируются с информацией с датчиков системы ГЛОНАСС, установленных на городском транспорте - автобусах, трамваях и троллейбусах "Мосгортранса", а также на уборочной технике.
Кроме того, например, еще в 2015 году мэрия договорилась с производителями противоугонных систем о предоставлении данных о передвижении автомобилей по городу.
Система отслеживает и личный автотранспорт, благодаря все той же системе фото- и видеофиксации.
Есть ли контроль за автовладельцами?
Юрий Жданов: Да, мэрия имеет доступ к информации о владельцах автомобилей. Совместно с ГИБДД столичное правительство разработало систему "Автокод", где можно проверить историю регистрации любого транспортного средства и наличие штрафов.
Свой среди чужих
Как на практике происходит контроль, когда это требуется, за гражданами?
Юрий Жданов: Допустим, известна фамилия пассажира и его телефон. Если человек живет в Москве, он не мог не использовать государственные сервисы, и там не могла не сохраниться фотография, пусть и старая. В ход идут не только фото из паспорта, но даже те, которые были сделаны когда-то для льготных проездных школьника или студента.
В случае с заболевшими коронавирусом искать старые фото не нужно: врачей обязали делать фотографии всех находящихся на карантине.
Поиск людей по фотографии-образцу идет внутри всей системы видеонаблюдения, человека можно поставить на контроль, даже если он не живет по адресу регистрации. Машина, ежедневно обрабатывая изображения москвичей, ранжирует их по принципу "свой - чужой": тех, кто входит и выходит из одного и того же подъезда постоянно, относит к "своим", новичков - к "чужим".
Пользователь системы может уточнять и детализировать поиск в системе - заставить ее искать человека только среди "своих", только среди "чужих", или искать похожие изображения. Можно указать, за какой период нужны снимки и даже выставить точность совпадения с образцом - от 50% до 100%.
Ключевой вопрос
Как защититься простому гражданину от злоупотреблений при видеонаблюдении?
Юрий Жданов: Откровенно признаю, что это не просто. Но - возможно. Есть зарубежный опыт. Например, в Великобритании с 2012 года действует строгое законодательство, регулирующее работу с камерами уличного наблюдения, а также хранение и доступ к информации. "Кодекс применения камер наблюдения" создан, по замыслу авторов, для того, чтобы соблюсти баланс между необходимостью вести наблюдение и невмешательством в частную жизнь.
Но не все заграничное применимо у нас.
Юрий Жданов: И все же. Для России крайне актуальна борьба с "утечками" персональных данных из государственных и частных банков информации: данные из некоторых систем можно купить на так называемом рынке "пробива". "Пробивом" на жаргоне называется покупка персональных данных, в основном на специализированных форумах в интернете с простой системой регистрации. Для покупки доступны информация из баз сотовых операторов, банков, МВД, ФНС и прочих государственных органов. Можно встретить предложения купить данные о парковочных сессиях, выписку из ЗАГСа или домовой книги, а также записи с любой видеокамеры.
Рецепт от этого, в принципе, очевиден - жесткое законодательство и не менее жесткое его соблюдение. По сути, необходима адаптация международно-правовых требований и рекомендаций в нормативном регулировании этих вопросов для российских государственных органов и частных компаний. Разумеется, потребуется и внесение изменений в российское законодательство, в том числе в Уголовно-процессуальный кодекс и в закон об оперативно-розыскной деятельности.

ГЕОПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО ЗЕЛЁНОГО КУРСА
МАРК ЛЕОНАРД
Один из основателей и директор Европейского совета по международным отношениям (ЕСМО).
ЖАН ПИЗАНИ-ФЕРРИ
Профессор Европейского университетского института во Флоренции, ведущий научный сотрудник аналитического центра Брейгеля, профессор экономики Sciences Po (Париж) и Школы госуправления Херти (Берлин).
ДЖЕРЕМИ ШАПИРО
Директор по исследованиям Европейского совета по международным делам (ECFR), ранее работал в Институте Брукингса и Государственном департаменте США, признанный специалист по трансатлантическим отношениям и стратегическим вопросам.
СИМОН ТАЛЬЯПЬЕТРА
Научный сотрудник центра Брейгеля, профессор Католического университета Сакре-Кер и Университета Джонса Хопкинса SAIS Europe. Сфера исследований – климат и энергетика. Занимается климатической и энергетической политикой ЕС, политэкономией декарбонизации, индустриальной политикой и глобальным климатическим управлением.
ГУНТРАМ ВОЛЬФ
Директор аналитического центра Брейгеля. Сфера исследований – европейская экономика и госуправление, бюджетная политика, глобальные финансы. Регулярно выступает на встречах министров финансов ЕС, в Европарламенте, Бундестаге, Национальном собрании, был советником помощника госсекретаря по Европе и Евразии Франции. С 2012 по 2016 гг. работал в Совете экономического анализа при премьер-министре Франции.
--
Европейский зелёный курс – это попытка изменить европейскую экономику и модели потребления. Но поскольку он предполагает фундаментальную реформу европейской энергетической системы и занимает центральное место в европейской повестке, то кардинально изменит и отношения ЕС с его соседями. Иными словами, это внешнеполитический курс с глубокими геополитическими последствиями.
Основные пункты
Европейский зелёный курс будет иметь ряд глубоких геополитических последствий, которые могут негативно сказаться на партнёрах ЕС.
Евросоюз должен подготовиться к преодолению этих последствий в отношениях со своими соседями – например, Россией и Алжиром, а также с глобальными игроками – США, Китаем и Саудовской Аравией.
Блок должен сотрудничать со странами-экспортёрами нефти и газа, чтобы содействовать диверсификации их экономик, включая переход на возобновляемые источники энергии и зелёный водород, которые могут быть экспортированы в Европу.
Евросоюзу необходимо повышать безопасность поставок критически важного сырья и ограничивать зависимость от других стран – в первую очередь от Китая.
Нужно взаимодействовать с США и другими партнёрами в целях создания климатического клуба, члены которого будут предпринимать схожие пограничные корректирующие углеродные меры.
ЕС должен установить глобальные стандарты трансформации энергетики, особенно в сфере использования водорода и зелёных облигаций.
Нужно интернационализировать Европейский зелёный курс, мобилизовав бюджет, специальные фонды и политику развития ЕС.
Евросоюзу следует продвигать глобальные коалиции по смягчению изменений климата, включая защиту вечной мерзлоты.
Блок должен создать глобальную платформу для новой экономики климатического действия, чтобы обмениваться опытом и лучшими практиками.
Введение
В декабре 2019 г. Еврокомиссия представила Европейский зелёный курс – амбициозный пакет мер, направленных на то, чтобы сделать экономику ЕС экологически устойчивой. Цель – достичь климатического нейтралитета к 2050 г. и превратить трансформацию в экономическое и индустриальное преимущество для Европы. Курс представляет собой широкий комплекс политических мер и субсидий, нацеленных на сокращение загрязнения окружающей среды и одновременно увеличение исследований и инвестиций в зелёные технологии.
Зелёный курс – это, по сути, попытка трансформировать европейскую экономику и модели потребления. Но поскольку он предполагает фундаментальную реформу европейской энергетической системы и занимает центральное место в европейской повестке, то изменит и отношения ЕС с его соседями – Европе придётся пересмотреть приоритеты в глобальной политике. Иными словами, это внешнеполитический курс с глубокими геополитическими последствиями.
Во-первых, кардинальная структурная реформа изменит европейскую модель торговли и инвестиций. Евросоюз импортировал энергоресурсов более чем на 320 млрд евро в 2019 г., более 60 процентов импорта из России составляли энергоресурсы. Масштабное сокращение этого потока приведёт к реструктуризации отношений ЕС с ключевыми поставщиками энергоресурсов. Такие страны, как Россия, Алжир и Норвегия, в итоге лишатся основного экспортного рынка. Выход ЕС из зависимости от ископаемых видов топлива неизбежно приведёт к негативным последствиям для ряда региональных партнёров и даже может дестабилизировать их экономически и политически.
Во-вторых, на Европу приходится около 20 процентов мирового импорта сырой нефти. Падение спроса на нефть из-за перехода Европы на возобновляемые источники энергии безусловно повлияет на глобальный рынок нефти – рухнут цены и доходы основных экспортёров, даже если они не торговали с ЕС.
В-третьих, зелёная Европа станет более зависимой от импорта продуктов и сырья, которые необходимы для экологически чистой энергетики и технологий. Например, крупнейшим поставщиком редкоземельных металлов, которые необходимы для производства батарей, является Китай. Кроме того, Европа может остаться крупным импортёром энергии, но эта энергия должна быть зелёной, как, например, зелёный водород, произведённый в солнечных регионах планеты.
В-четвёртых, Зелёный курс повлияет на международную конкурентоспособность Европы. Если европейские компании, в отличие от своих иностранных конкурентов, понесут регуляторные издержки, их продукция станет менее конкурентной как на внутреннем, так и на внешнем рынке. А если Евросоюз попытается уменьшить потери и избежать выбросов путём введения пошлин на импорт с высоким уровнем выбросов, он рискует столкнуться с обвинениями в нарушении правил международной торговли. За этим последуют трения с торговыми партнёрами, на долю которых приходится большой объём выбросов, особенно если они посчитают пограничный корректирующий углеродный механизм незаконным торговым барьером.
Но самое главное, Зелёный курс – это внешняя политика, потому что изменение климата является глобальной проблемой. Если отказ от углерода ограничится только Европой, он не сможет смягчить глобальное потепление, потому что на Европу приходится менее 10 процентов мировых выбросов парниковых газов. Что ещё хуже, в результате Зелёного курса выбросы парниковых газов Европы просто перейдут её торговым партнёрам, и повлиять на изменение климата не удастся. Хотя бы по этой причине Евросоюз должен активно продвигать идею амбициозных многосторонних соглашений по борьбе с глобальным потеплением и подчинить некоторые свои цели этому приоритету. Еврокомиссия уже признала необходимость либо экспортировать свои стандарты, либо создавать пограничный корректирующий механизм для обеспечения конкурентоспособности Европы и предотвращения выбросов углерода.
Все эти факторы подразумевают, что ЕС придётся разрабатывать новые торговые и инвестиционные соглашения, новые модели финансового и технического содействия и в целом новый подход к международной дипломатии, которая сможет обеспечить устойчивое развитие. Международная активность ЕС неизбежно затронет отношения с США и Китаем, у которых есть собственные взгляды на то, как обеспечить устойчивое развитие и вести переговоры по климату. Отношения со странами, экспортные интересы которых затронет Зелёный курс (государства Персидского залива, Россия), также будут трансформироваться.
Все эти внешнеполитические усилия спровоцируют геополитическую реакцию партнёров ЕС. Реакция будет варьироваться от сотрудничества в реализации климатической политики до попыток перенаправить торговые и инвестиционные потоки и прямых враждебных действий против последствий Зелёного курса.
В этом докладе мы попытаемся разобрать геополитические последствия Зелёного курса. Мы рассмотрим не только усилия по экспорту климатической политики, но и незапланированные побочные эффекты. Вторая часть касается последствий для торговли энергоресурсами, политики развития ЕС, подхода к переговорам по климату и неоднозначного пограничного корректирующего углеродного механизма. В третьей части мы рассмотрим, как другие страны (США, Китай, Россия, Алжир и Саудовская Аравия) могут отнестись к Зелёному курсу и как они на него отреагируют. В заключительной части предлагается план внешнеполитических действий как составляющей климатической стратегии ЕС. Чтобы добиться успеха, Евросоюз должен быть готов решать проблемы, которые Зелёный курс может создать в отношениях с экономическими партнёрами и соседями. Только проактивная позиция ЕС позволит превратить потенциальные трения в возможности для нового международного партнёрства. Поэтому мы предлагаем различные внешнеполитические действия для подкрепления курса. Для достижения результатов в реализации Зелёного курса Евросоюзу и его членам придётся мобилизовать все имеющиеся инструменты внешней политики.
Определение геополитических последствий Зелёного курса
Чтобы сделать Европу климатически нейтральной к 2050 г., Европейский зелёный курс долен преследовать одну главную цель: изменить производство и потребление энергии в ЕС. На производство и использование энергии в экономике приходится около 75 процентов выбросов парниковых газов в ЕС.
Три четверти энергетической системы ЕС – это ископаемые виды топлива. Доминирует нефть (34,8 процента), за ней следуют природный газ (23,8 процента) и уголь (13,6 процента). Доля возобновляемых видов энергии растёт, но пока их роль ограничена (13,9 процента) и аналогична атомной энергии (12,6 процента).
Ситуация полностью изменится к 2050 г., если Европейский зелёный курс будет реализован. Но изменения должны быть поступательными. По прогнозам Еврокомиссии, ископаемые виды топлива по-прежнему будут обеспечивать около половины энергии в ЕС в 2030 году. Однако интенсивность загрязнений от них различается. Использование угля – самого загрязняющего элемента энергетической системы – должно быть радикально сокращено к 2030 г., долю нефти и особенно природного газа можно снизить позже. Касательно нефти и газа изменения произойдут в период с 2030 по 2050 годы. В этих временных рамках от нефти удастся отказаться практически полностью, а доля природного газа будет составлять лишь десятую часть в энергетической системе ЕС в 2050 г. (см. диаграмму 1).
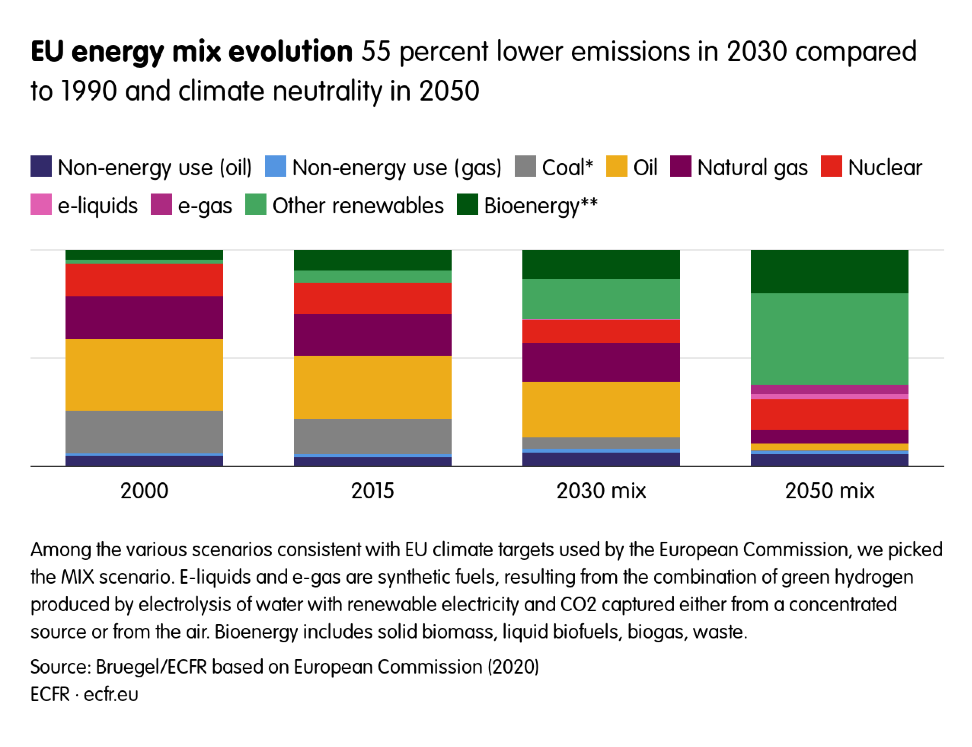
В зависимости от конкретного сценария импорт угля в ЕС упадёт на 71–77 процентов в 2015–2030 гг., импорт нефти – на 23–25 процентов, газа – на 13–19 процентов. После 2030 г. импорт нефти и природного газа резко сократится: импорт нефти упадёт на 78–79 процентов, а природного газа на 58–67 процентов по сравнению с 2015 г. (см. диаграмму 2).
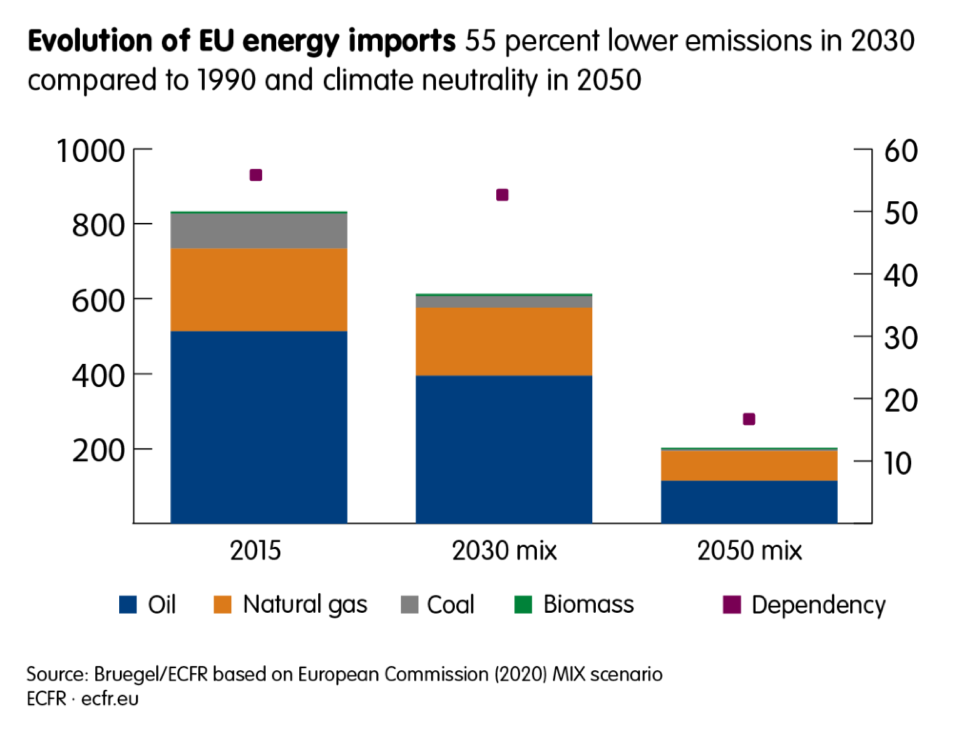
Такая кардинальная трансформация энергетической системы ЕС будет иметь ряд геополитических последствий. Их можно разделить на четыре категории: последствия для соседей ЕС – производителей нефти и газа, последствия для глобальных энергетических рынков, последствия для европейской энергетической безопасности и последствия для глобальной торговли вследствие введения пограничных корректирующих углеродных мер.
Последствия для соседей ЕС – производителей нефти и газа
Дискуссия о потенциальных последствиях глобальной декарбонизации естественно сфокусирована на том, как снижение потребности в нефти и газе на крупнейших рынках скажется на странах-производителях. В случае Европы это, прежде всего, касается её главного газового поставщика – России, а также стран Ближнего Востока, Северной Африки, Каспия и Центральной Азии, экономика которых строится на добыче ископаемых видов топлива, а основной экспорт идёт в Европу (см. диаграмму 3).
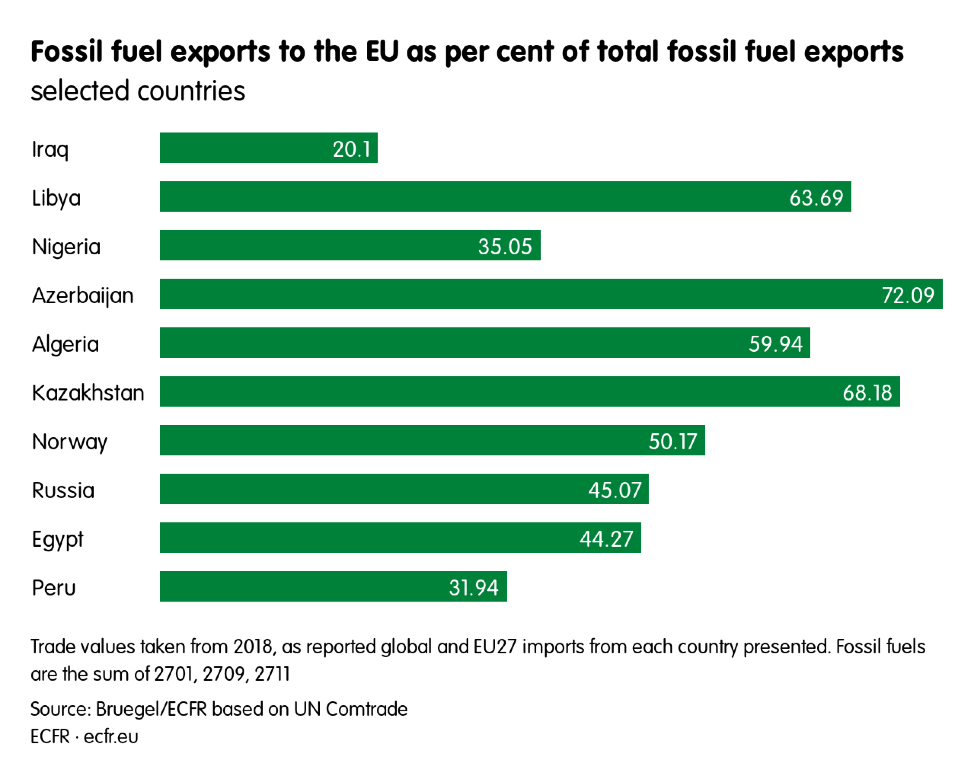
Предполагаемое падение импорта нефти и газа в ЕС немедленно отразится как на инвестициях в новую нефтегазовую инфраструктуру, так и на поддержании существующей. Это произойдёт, хотя, как отмечалось выше, ЕС планирует сохранить импорт нефти и газа на нынешнем уровне в ближайшие десять лет.
Важно отметить, что в случае с газом до 2030 г. Россия как главный поставщик энергоресурсов в Европу может даже получить выгоду от Зелёного курса, поскольку для ограничения выбросов в энергетическом секторе обязательно потребуется быстрый переход с угля на газ. Роль природного газа как транзитного топлива в ЕС, скорее всего, будет означать рост импорта.
Также важно отметить ещё одно потенциальное долгосрочное воздействие Зелёного курса на соседей Евросоюза: возможный рост торговли зелёным электричеством и зелёным водородом.
Один из главных драйверов реализации Зелёного курса – электрификация. Чтобы покрыть растущие потребности в возобновляемой электроэнергии, Европе в ближайшие десять лет, скорее всего, придётся полагаться на импорт солнечной и ветровой энергии из соседних регионов. Ближний Восток и Северная Африка получат выгоду от самого высокого уровня инсоляции в мире (от Сахары до Аравийского полуострова) и идеальной локации ветроэнергетических установок (от Атлантического побережья Марокко до берегов Красного моря в Египте). Эти возобновляемые ресурсы в первую очередь будут использоваться для удовлетворения собственных быстро растущих энергетических потребностей стран Ближнего Востока и Северной Африки, но в будущем возможен экспорт в Европу. Снижение затрат на генерацию электроэнергии и технологии транспортировки, возможно, сделает такую схему сотрудничества выгодной (в отличие от провалившегося проекта Desertec, Средиземноморского солнечного плана и других инициатив).
Возобновляемая электроэнергия позволит в значительной степени декарбонизировать европейскую энергетическую систему к 2050 г., а там, куда не доберётся электричество, поможет водород. Прежде всего – это промышленные процессы (производство стали и цемента), а также транспортный сектор (грузовики, суда и авиация). Поэтому Европейский зелёный курс включает водородную стратегию, предусматривающую установку к 2030 г. водородных электролизеров общей мощностью 40 ГВт. Учитывая энергетический потенциал Северной Африки и её географическую близость к Европе, регион может стать конкурентоспособным поставщиком зелёного водорода в Европу. ФРГ, например, в партнёрстве с Марокко строит первое в Африке промышленное предприятие по производству зелёного водорода с возможным экспортом в Германию в будущем.
Будущий импорт возобновляемой электроэнергии и зелёного водорода с Ближнего Востока и из Северной Африки (или из других стран-соседей, например с Украины) может вызвать новые вопросы, касающиеся энергетической безопасности, и решить их позволит грамотная диверсификация.
Последствия для глобальных энергетических рынков
Учитывая размер европейской экономики, Зелёный курс повлияет на глобальные энергетические рынки. Сегодня Европа – второй по величине импортёр нефти после Азиатско-Тихоокеанского региона (см. диаграмму 4).
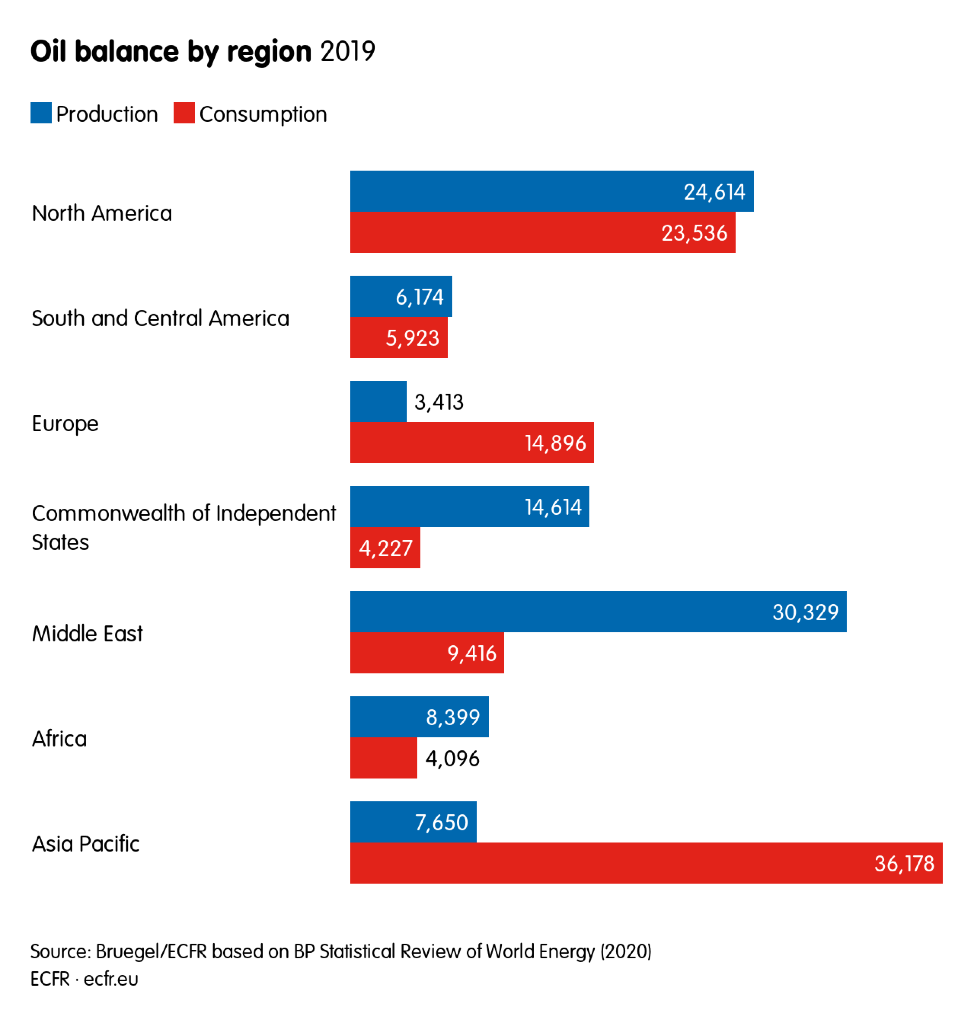
Падение мирового спроса на нефть из-за перехода Европы на чистую энергию повлияет на глобальный нефтяной рынок – цены устремятся вниз. Масштаб падения цен, конечно, будет зависеть от траектории декарбонизации других стран. Если только Европа существенно сократит потребление нефти, а другие экономики продолжат использовать ископаемые виды топлива для своего роста, рынки и спрос в Азии, Латинской Америке и Африке смогут частично – и временно – компенсировать уход Европы. Но в целом доля Европы в мировом импорте нефти настолько значительна, что попытки сбалансировать ситуацию приведут к существенному снижению стоимости нефтяных активов.
Производители нефти пострадают по-разному, в зависимости от того, насколько сконцентрирован их экспорт и какая цена на нефть позволяет им выйти в ноль.
Например, Саудовская Аравия и Ирак могут производить нефть достаточно дешёво, покрывая затраты при цене около 30 долларов за баррель или даже меньше, в то время как России, Венесуэле и Нигерии нужна более высокая цена, чтобы выйти в ноль (см. диаграмму 5).
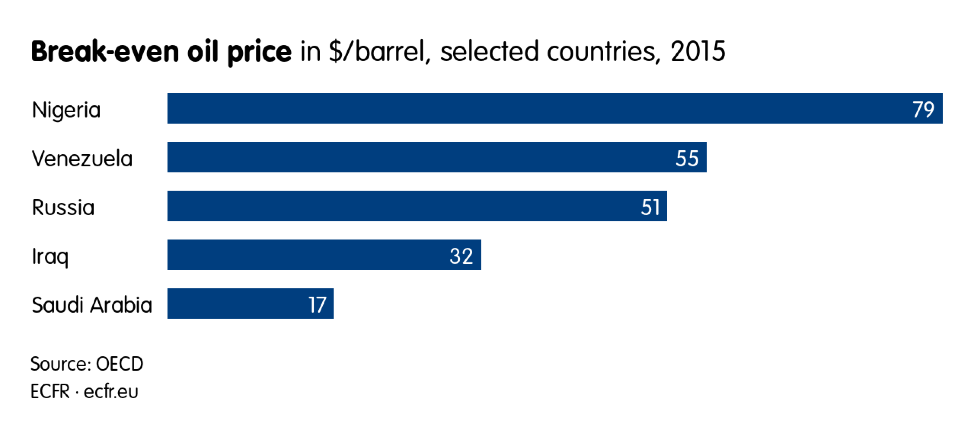
Производителям нефти с низкими затратами, как Саудовская Аравия, будет проще справиться с падением цен на нефть в результате воплощения Зелёного курса. В среднесрочной перспективе они могут даже увеличить долю рынка, поскольку производители с высокими затратами будут вытеснены.
Однако даже производители дешёвой нефти ощутят последствия падение цен. При нынешней цене 40 долларов за баррель дефицит бюджета Саудовской Аравии уже составляет 12 процентов ВВП. Это означает, что диверсификация экономики в той или иной степени необходима всем странам-экспортёрам.
Последствия для энергетической безопасности Европы
В Европе энергетическая безопасность традиционно ассоциируется с необходимостью обеспечить достаточные поставки нефти и газа. Не обладая внутренними ресурсами, Евросоюз вынужден импортировать 87 процентов нефти и 74 процента природного газа, которые он потребляет. Более того, зависимость от ограниченного количества поставщиков (см. диаграмму 6) влечёт за собой определённые проблемы. Особенно они проявляются в ситуации с природным газом, учитывая острую зависимость от трубопроводной инфраструктуры и долгосрочных контрактов. Таким образом, налицо контраст в сравнении с гибкостью глобального нефтяного рынка, где взаимозависимость ограничивается глобальной транспортной инфраструктурой (нефтяные танкеры).
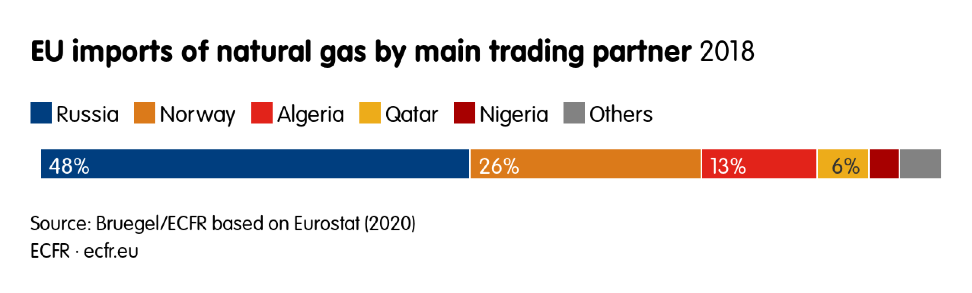
Главная проблема энергетической безопасности Европы – её зависимость от российского природного газа. После газовых кризисов 2006 и 2009 гг. Европа приступила к реализации стратегии диверсификации, затронувшей инфраструктуру (терминалы для сжиженного природного газа в Польше и на Балтике, «Южный газовый коридор») и законодательство (включая нормативы ЕС по безопасности поставок газа и готовности к рискам электроэнергетического сектора). Эти усилия уже в значительной степени укрепили безопасность поставок в сфере импорта газа в ЕС. Снизив требования по импорту газа на континенте в 2030–2050 гг., Европейский зелёный курс, безусловно, разрешит проблемы нефтегазовой безопасности, а также уменьшит расходы Европы на импорт нефти и газа, которые в 2018 г. оценивались в 296 млрд евро.
В то же время курс может создать новые риски энергетической безопасности, прежде всего связанные с импортом минералов и металлов, необходимых для производства солнечных панелей, ветровых турбин, литий-ионных аккумуляторов, топливных элементов и электромобилей. Эти минералы и металлы обладают особыми свойствами и практически не имеют аналогов.
Некоторые из них доступны и относительно легко извлекаемы, другие либо географически сконцентрированы в нескольких странах, либо обрабатываются лишь в некоторых государствах. В Европе нет значительных запасов и мощностей для производства этих сырьевых материалов. Например, в Европе производится лишь около 3 процентов сырья, необходимого для литий-ионных аккумуляторов и топливных элементов.
В 2011 г. Еврокомиссия опубликовала первый список важнейших сырьевых материалов, который обновляется каждые три года (такие страны, как США, Япония и Австралия публикуют аналогичные списки). На данный момент список включает 27 материалов, считающихся критически важными из-за их необходимости в высокотехнологичных и зелёных отраслях, их нехватки и риска нарушения поставок.
Китай – ведущий производитель и потребитель критически важных сырьевых материалов. Импорт редкоземельных элементов из Китая, возможно, самый актуальный вопрос в этой сфере, поскольку Европа практически не занимается добычей и производством этих минералов (см. диаграмму 7).
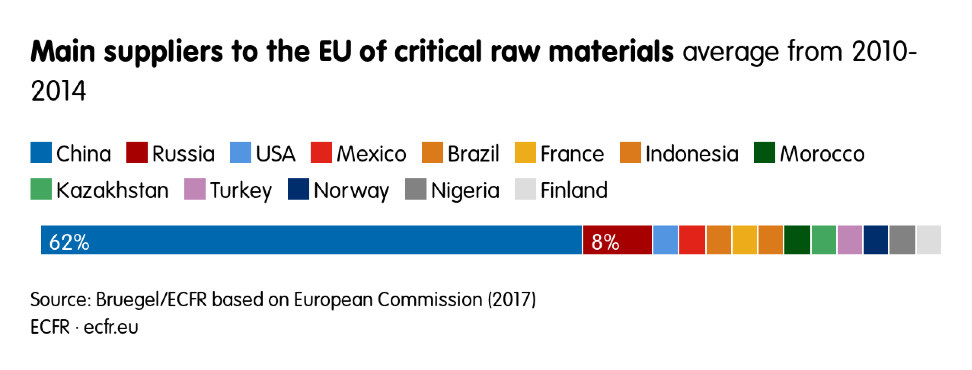
Зависимость Европы от Китая только увеличится с ростом спроса на «зелёные» технологии. По оценкам Joint Research Center, потребности ЕС в сырьевых материалах для ветровых турбин увеличатся в 2–15 раз в ближайшие тридцать лет. В целом Еврокомиссия ожидает удвоения потребностей в новых сырьевых материалах к 2050 году.
Последствия для глобальной торговли вследствие введения пограничных корректирующих углеродных мер
В принципе вводить налог на содержание углерода в собственной продукции, не затрагивая при этом импорт, означает ставить местных производителей в невыгодное положение. Потребители продолжат покупать те же товары, но перейдут на иностранных производителей. Поэтому Еврокомиссия объявила о намерении ввести пограничные корректирующие углеродные меры. Идея проста: если Европа запускают жёсткую климатическую политику, а другие страны нет, существует риск, что компании с высоким уровнем выбросов покинут ЕС и переедут в регионы, где нет углеродных сборов или они очень низкие. Проблема миграции углеродоёмких производств станет более актуальной с переходом Евросоюза к амбициозной климатической политике, даже если её масштабы будут неизвестны.
Углеродные сборы будут иметь двойную цель: не допустить миграции предприятий, так как сборами будут облагаться все товары – и импортные, и местные производства, а также стимулировать другие страны к декарбонизации. Налог или сбор будет основываться на уровне выбросов, заложенных в импортную продукцию. Кроме того, экспортёры смогут возвращать стоимость выбросов, заложенную в их продукцию, чтобы европейские компании не оказались в невыгодном положении на мировых рынках. Учитывая, что ЕС и так импортирует значительно больше углерода, чем экспортирует, вопрос углеродной миграции нельзя игнорировать.
Тем не менее введение углеродного сбора станет серьёзным практическим и политическим вызовом – пока ни одна страна в мире не принимала такие меры (система торговли выбросами в Калифорнии, где применялись пограничные корректировки на электроэнергию, импортируемую из других штатов, единственный пример). Инициатива столкнётся с двумя основными трудностями. Первая, техническая, связана со сложностью расчётов содержания выбросов в импорте, поскольку нужно учитывать выбросы по всей цепочке начисления стоимости. Вторая, геополитическая, касается рисков ответных мер со стороны торговых партнёров. Еврокомиссия чётко дала понять: углеродные сборы будут соответствовать правилам Всемирной торговой организации (ВТО), чтобы страны не пошли на ответные меры.
Но даже если углеродные сборы будут защищены от формальных возражений, торговые партнёры всё равно могут воспринять это как чрезмерный шаг и пригрозить ответными мерами. Нечто похожее происходило в 2012 г., когда вступила в силу директива ЕС об авиационных выбросах 2008/101/EC. Документ предусматривал некую форму пограничного корректирующего углеродного механизма, распространяя европейскую систему торговли выбросами на все рейсы в/из ЕС. Группа из 23 стран, включая США, Китай, Индию, Японию и Россию, раскритиковала ЕС и опубликовала список ответных мер, на которые они пойдут, если Евросоюз не изменит свои правила. В свете такой жёсткой реакции, а также учитывая международные переговоры по контролю выбросов, Евросоюз отказался от этой меры для межконтинентальных перелётов.
Международная реакция на введение Евросоюзом пограничного углеродного налога будет очень разной. Государства, декларирующие активные действия по борьбе с изменением климата, скорее всего, поддержат инициативу и последуют примеру ЕС. Страны, экспортирующие углеродоемкую продукцию в Европу (см. диаграмму 8) будут против.
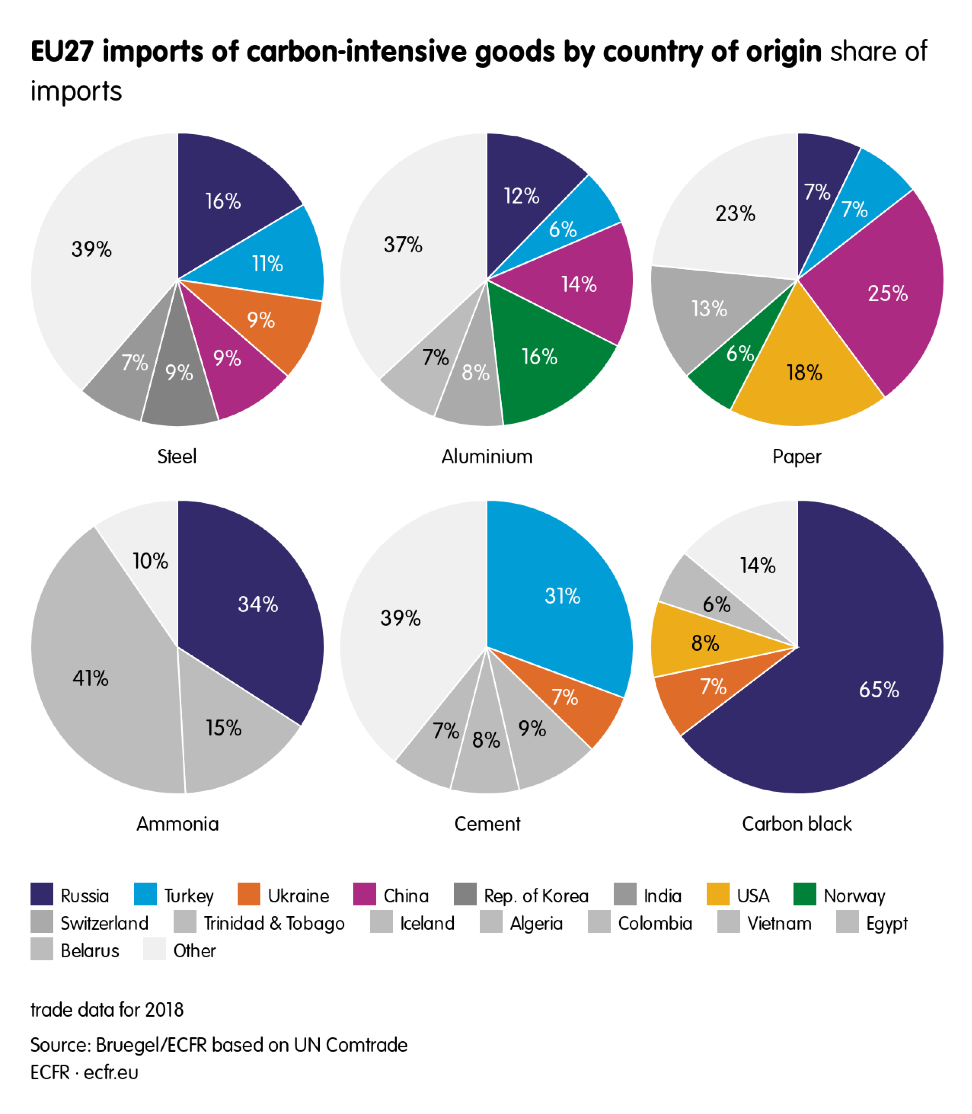
Анализ геополитического контекста
Четыре аспекта воздействия Зелёного курса по-разному отразятся на геополитических партнёрах ЕС. Соседние страны, например Россия и Алжир, в основном ощутят эффект изменений европейского энергетического рынка и подхода к энергетической безопасности. Глобальные игроки, включая США, Китай и Саудовскую Аравию, почувствуют влияние Зелёного курса на глобальные энергетические рынки и торговлю. В этом разделе мы проанализируем, как эти пять стран отнесутся к инициативе Евросоюза и какие шаги предпримут.
Соседние страны: Россия
Россия занимает четвёртое место в мире по выбросам парниковых газов и уже давно сопротивляется идеям экологической политики, которая приведёт к сокращению использования ископаемых видов топлива: экологическая доктрина страны и даже ратификация ею Парижского соглашения – скорее международный пиар. Документы по внутренней климатической политике – расплывчатые декларации, часто противоречащие реальным проектам. Кроме мониторинга объёма углеродных выбросов, все остальные нормы остаются добровольными.
Президент Владимир Путин продолжает отрицать, что изменение климата обусловлено деятельностью человека и настаивает, что у России «самая зелёная энергетическая система в мире». Россия по-прежнему зависит от углеводородов и не выполнила поставленную Путиным цель сократить долю ископаемых видов топлива в экономике страны на 40 процентов в 2007–2020 гг. (сокращение составило 12 процентов). Программа развития угольной отрасли до 2035 г. была пересмотрена в сторону повышения в 2019-м: производство угля должно вырасти на 10–20 процентов. В России существует мощная оппозиция любым попыткам ограничить выбросы парниковых газов, особенно со стороны Российского союза промышленников и предпринимателей.
В этом контексте Зелёный курс окажет серьёзное воздействие на Россию. В 2016 г. нефтегазовые доходы составили 36 процентов российского бюджета, а на Европу приходилось 75 процентов российского экспорта природного газа и 60 процентов экспорта нефти. В ближайшие десять лет торговля нефти и газа между Россией и ЕС не будет затронута, поскольку Европа планирует лишь незначительно сократить импорт нефти и газа к 2030 г., даже при 55-процентном уменьшении выбросов. Но после 2030 г. ситуация кардинально изменится: Европа существенно сократит импорт нефти и газа. Евросоюз может переключиться с поставщиков с углеродоемкими технологиями добычи, как в России, например, на Саудовскую Аравию, где уровень выбросов почти вполовину меньше.
Пограничный корректирующий углеродный механизм (на импортируемую в ЕС продукцию помимо нефти и газа) также сократит российский экспорт, опять же из-за углеродоемкости. Пока трудно сказать, насколько жёстко Россия будет сопротивляться этим мерам. Руслан Эдельгериев (советник Путина по климату) в феврале 2020 г. рекомендовал компаниям готовиться к введению Евросоюзом углеродного налога, отметив, что «ЕС продавливает эти меры не потому, что ему не нравятся наши компании, а чтобы европейские компании не превысили лимиты выбросов». Неэффективность российской энергетической системы позволяет предположить, что в экономике страны есть множество возможностей для сокращения выбросов.
Перед Европой открываются перспективы сотрудничества с Россией в сфере использования возобновляемых источников энергии, уменьшения утечек метана и повышения энергоэффективности.
Наиболее вероятной геополитической реакцией России станет попытка диверсифицировать базу потребителей энергоресурсов. Уже со времён финансового кризиса 2007–2009 гг. реализуется план по перенаправлению продаж в Китай, после украинского кризиса 2014 г., который привёл к ухудшению отношений с Европой, усилия активизировались. В 2016 г. Россия вытеснила Саудовскую Аравию с позиции крупнейшего поставщика нефти в Китай, а в 2018 г. РФ отправляла в КНР 1,4 млн баррелей нефти в сутки – более 25 процентов от общего объёма нефтяного экспорта. До недавнего времени Россия поставляла в Китай небольшие объёмы природного газа, но в декабре 2019-го был открыт трубопровод «Сила Сибири» и, по прогнозам, в 2024 г. поставки возрастут до 38 млрд кубометров в год, или до 15 процентов от объёма экспорта газа в 2018 году. Тем не менее Китай не хочет поддерживать российскую энергетическую систему по геополитическим причинам. В условиях падения цен на энергоресурсы КНР пользуется отсутствием выбора у России и добивается поставок по более низким ценам.
Долгосрочные риски для России заключаются в следующем: если переориентация на китайский рынок не будет подкреплена зелёной трансформацией энергетической системы, которая позволит обслуживать европейский рынок, зависимость России от Китая возрастёт.
Соседние страны: Алжир
Алжир можно считать тестовым полигоном для внешнеполитического аспекта зЗелёного курса. Энергетическая инфраструктура страны, третьего по величине поставщика природного газа в Европу, в основном ориентирована на европейский рынок, и доходы страны от продажи углеводородов зависят именно от Европы. А эти доходы составляют 95 процентов экспорта и 60 процентов национального бюджета.
Алжиру необходимо пересмотреть свою экономику и подготовиться к моменту, когда – возможно, после 2030 г. – спрос на поставки природного газа в Европу начнёт исчезать ускоренными темпами. Диверсификация алжирской экономики, то есть переход от углеводородов к развитию возобновляемых источников энергии, смягчит удар от Европейского зелёного курса. Основания для оптимизма есть. Во-первых, есть признаки международного сотрудничества. В соглашении 2017 г. отмечаются общие приоритеты Алжира и ЕС и «значительный потенциал» Алжира в секторе возобновляемой энергии. Кроме того, есть предложение по трансферу зелёных технологий в Средиземноморском регионе. Это не единственная попытка взаимодействия с европейскими партнёрами. В 2015 г. было создано энергетическое партнёрство Германии и Алжира, направленное на «разработку и реализацию национальной энергетической политики для экологически устойчивого энергоснабжения».
Тем не менее Алжир может столкнуться с трудностями. Власть в стране принадлежит геронтократии, которые ставят выживание режима выше любых экономических соображений. С падением цен на углеводороды страна будет всё больше нуждаться в диверсификации экономики и иностранных инвестициях, чтобы обеспечивать растущее население и развивать инфраструктуру.
Но теневые силы понимают, что именно жёсткий контроль государства над углеводородными ресурсами поддерживает устойчивость режима. Власти настороженно относятся к иностранной финансовой помощи. В 2020 г. правительство Алжира отказалось обращаться в МВФ за кредитами, несмотря на финансовый кризис из-за падения цен на нефть и коронавируса, опасаясь за свой «финансовый суверенитет».
Кроме того, Алжир и другие страны-экспортёры углеводородов страдают от так называемой голландской болезни: из-за больших объёмов экспорта углеводородов курс их национальной валюты повышается, другие сектора экономики не могут развиваться, и индустриализация замедляется. Конечно, это не единственная причина неразвитости сельского хозяйства, промышленности и сферы услуг в Алжире, но экспорт нефти развитию не способствовал.
Если говорить о трансформации энергетической системы Алжира, то генерирующие мощности ветровой и солнечной энергетики выросли с 1,1 МВт в 2014-м до 354,3 МВт к июню 2018-го, что составляет около 1,6 процента от запланированного к 2030 г. уровня в 22000 МВт. Но пока у страны нет альтернативных рынков для потенциального экспорта энергоресурсов. Алжир присоединился к китайской инициативе «Пояс и путь» в 2018 г., но возможности поставлять энергию на рынок КНР весьма ограничены. В любом случае даже правительство Алжира признаёт необходимость развития сектора возобновляемой энергии и более диверсифицированной экономики в нынешних условиях. Вместо конфронтации и сопротивления Алжир, скорее всего, будет стремиться проводить реформы обусловленные Зелёным курсом, чтобы он не затронула, а, наоборот, укрепил возможности жить на доходы от энергоресурсов.
Зелёный курс – ещё одна опция для ЕС, позволяющая использовать финансовые рычаги для продвижения политической и экономической либерализации в соседних странах.
До сих пор эти усилия давали неоднозначные результаты и практически не имели успеха в Алжире. Зелёный курс может атаковать основу контроля властей над обществом – построенную на доходах от углеводородов экономику, которая облегчает централизованный контроль, способствует коррупции во властных кругах и позволяет выделять субсидии, чтобы обеспечить режиму определённую поддержку населения. Поэтому вполне вероятно, что нынешнее руководство Алжира будет оттягивать диверсификацию и постарается максимально продлить контроль над углеводородными доходами.
В долгосрочной перспективе ЕС окажется перед дилеммой. Если власти Алжира, опасаясь утратить контроль, не будут отказываться от углеводородов, экономика страны скатится в необратимый упадок. Риск нестабильности вблизи границ ЕС может заставить европейцев смягчить условия и содействовать трансформации энергетической системы Алжира, которая обеспечивает устойчивость нынешнего режима.
Глобальные игроки: Саудовская Аравия
Саудовская Аравия – крупнейший экспортёр нефти в мире. Поставки нефти и газа составляли 80 процентов экспорта в 2018 г. и 67 процентов доходов страны в 2017-м. Давняя зависимость Саудовской Аравии от углеводородных доходов создала экономику, которая строится на занятости в госсекторе (30 процентов трудовых ресурсов) и дорогих и экономически неэффективных схемах субсидий (37 млрд долларов в 2017 г.), особенно на энергетическом рынке.
В отличие от Алжира, этой модели Европейский зелёный курс не угрожает напрямую. Саудовская Аравия поставляет в Европу менее 10 процентов своей нефти. Её основные рынки – сейчас и в обозримом будущем – находятся в Азии, на которую приходится 70 процентов экспорта нефти. Сам по себе переход Европы на возобновляемую энергию не станет проблемой для Саудовской Аравии. Зелёный курс скорее увеличит в краткосрочной перспективе спрос на саудовскую нефть, добыча которой менее углеродоёмкая, чем в России или США. Для Саудовской Аравии европейские углеродные сборы будут на 30–50 процентов ниже, чем для конкурентов.
Пока саудиты предпочитают молчать по поводу Зелёного курса, а в кулуарах поддерживают стремление европейцев развивать возобновляемую энергию и стараются сделать свои ископаемые виды топлива более чистыми. Например, своё председательство в G20 в 2020 г. Саудовская Аравия использовала для продвижения идеи экономики замкнутого цикла, чтобы нефть и газ не наносили ущерба климату.
Однако в целом переход с ископаемых видов топлива на возобновляемые, частью которого является Зелёный курс, представляет угрозу для саудовской модели в долгосрочной перспективе. Спрос и цены на углеводороды начнут падать, и Саудовская Аравия не сможет оплачивать труд многочисленных госслужащих и выделять субсидии на энергию, что поставит под угрозу внутреннюю стабильность в стране. Валютные резервы Саудовской Аравии снижаются следом за доходами от экспорта нефти с 2014 года.
Режим саудитов во главе с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом осознаёт угрозу и уже подготовил соответствующую стратегию. В 2016 г. была запущена программа «Видение-2030» – широкомасштабный план развития, включающий диверсификацию экономики, подъём малого и среднего бизнеса и создание ненефтяного экспортного сектора.
Идея скорого пика глобального спроса на нефть заставила Саудовскую Аравию увеличить экспортные мощности, чтобы производить как можно больше нефти и захватить максимальную долю рынка, прежде чем спрос начнёт падать (эта стратегия «зелёного парадокса» – одна из причин, почему стоимость углеродных квот должна быть увеличена, иначе не удастся остановить освоение новых нефтяных активов). Относительно дешёвое производство нефти в Саудовской Аравии позволит ей выдержать низкие цены, которые вытеснят с рынка конкурентов – Россию, Венесуэлу и Иран. Стратегия низких затрат ставит под угрозу все усилия по борьбе с изменением климата, предусмотренные в Парижском соглашении, потому что возобновляемые источники энергии не смогут конкурировать с углеводородами. Конечный результат зависит от эволюции зелёных технологий и способности Европейского зелёного курса убедить глобальных потребителей энергии в необходимости интернализировать стоимость углеродных выбросов.
В контексте долгосрочного падения спроса увеличенная доля рынка даже при низких ценах позволит Саудовской Аравии получить большую прибыль благодаря огромным запасам нефти. Эта логика обусловила ценовую войну саудитов с Россией в апреле 2020 г., когда из-за коронавируса цены на нефть рухнули. Тогда в США фьючерсы торговались ниже нуля (хранение обходилось дороже, чем сама нефть).
Всё это не мешает реализации Европейского зелёного курса. ЕС сможет содействовать диверсификации саудовской экономики, а отказ Эр-Рияда от нефти с высоким содержанием углерода в пользу других источников облегчит трансформацию энергетической системы Европы. Учитывая внушительный суверенный фонд благосостояния, Саудовская Аравия с удовольствием станет инвестором и покупателем технологий возобновляемой энергии, которые появятся в Европе.
Однако пока план «Видение-2030» не дал результатов в диверсификации экономики Саудовской Аравии. За четыре года непоследовательные действия режима и глубоко укоренившаяся зависимость от нефтяных доходов не убедили иностранных инвесторов в готовности властей принимать болезненные решения. Неспособность реализовать реформы в условиях, когда мир постепенно отказывается от ископаемых видов топлива, угрожает стабильности в регионе Персидского залива. В интересах Европы содействовать этим преобразованиям, но ситуация с правами человека в Саудовской Аравии затрудняет сотрудничество.
Значительные резервы Саудовской Аравии и тесные взаимоотношения с США означают, что у ЕС нет рычагов, чтобы продавить реформы.
Следовательно, эффективная стратегия, способствующая улучшению госуправления и диверсификации экономики Саудовской Аравии, потребует взаимодействия с США. И это возможно с приходом новой администрации, которая осознаёт необходимость энергетической трансформации.
Глобальные игроки: США
Соединённые Штаты периодически соперничали с ЕС за лидирующую роль в борьбе с изменением климата. Но администрация Трампа вышла из глобальных переговоров и отказалась брать на себя какую-либо ответственность за борьбу с изменениями климата.
Трамп вышел из Парижского соглашения по климату, отменил принятые при Обаме нормы, ограничивающие углеродные выбросы и назвал изменение климата придумкой Китая с целью сохранить торговые преимущества. Тем не менее почти две трети американцев верят в изменение климата. Они считают действия федерального правительства недостаточными и полагают, что защита окружающей среды должна стать приоритетом. В некоторых штатах продвигаются законодательные нормы, аналогичные или даже более жёсткие, чем Европе. Пожары и наводнения в США в 2020 г. обострили обеспокоенность по поводу климата.
Отчасти это объясняется тем, что тема климата вызвала серьёзные разногласия между двумя партиями. Демократы хотят что-то сделать с изменением климата. Поэтому при Байдене политика США может резко измениться. В ходе избирательной кампании Байден предложил шаги, аналогичные Европейскому зелёному курсу, включая нулевой уровень выбросов к 2050 г., полный переход энергетического сектора на возобновляемые источники к 2035 г., систему тарифов на выбросы и пограничные корректирующие механизмы.
Тем не менее пока не ясно будет ли гармонизирована американская и европейская политика по климату при Байдене. Европейский зелёный курс предполагает ряд геополитических вызовов даже для администрации Байдена. Например, более жёсткие стандарты по выбросам для американских автомобилей, чем действующие сейчас в США. Поскольку экспорт пассажирских автомобилей в Европу составляет 5,5 млрд евро (2018), эти меры повлияют на политически чувствительную отрасль. Кроме того, Зелёный курс предполагает более жёсткую сельскохозяйственную политику, основанную на природосберегающих практиках, что затронет американский сельхозэкспорт, 13 процентов которого идёт в страны ЕС.
Но наибольшую озабоченность в США вызывает пограничный корректирующий углеродный механизм. Углеродные сборы могут повлиять на американский экспорт угля, природного газа и многих промышленных товаров. США экспортировали в Европу более 1,5 млн баррелей нефтепродуктов в день в 2019 г., около 19 процентов от общего объёма экспорта. Администрация Трампа считала угрозу Зелёного курса для этой индустрии неприемлемым посягательством на американский суверенитет и чистым протекционизмом. Министр торговли США Уилбур Росс обещал ответные меры: «В зависимости от того, какую форму примут углеродные споры, мы будем реагировать, но если он будет протекционистским по своей сути, как цифровые налоги, мы ответим».
Администрация Байдена захочет предложить собственную версию Зелёного курса и тоже будет стремиться к климатическому нейтралитету к 2050 г., когда США вернутся в Парижское соглашение. Но из-за оппозиции в Конгрессе США, скорее всего, примут менее амбициозные целевые показатели и будут больше полагаться на развитие технологий. Это значит, что, по крайней мере, до 2030 г., когда у ЕС будут более агрессивные климатические цели, такие меры, как пограничный корректирующий углеродный механизм, могут вызвать торговые разногласия с США. Преодолеть эти разногласия будет непросто, особенно при администрации республиканцев.
Ближайшие несколько лет администрация Байдена, скорее всего, будет стремиться к сотрудничеству. Но желание демократов играть лидирующую роль в переговорах по климату может вступить в противоречие с аналогичными амбициями Европы, как нередко случалось при Обаме. Как и в ходе переговоров по климату в Копенгагене в 2009 г., США могут решить, что договориться с Китаем проще, чем с ЕС, а европейцы просто примут то, что предлагают США и Китай. На фоне нарастающей напряжённости в американо-китайских отношениях такое развитие событий маловероятно, но Байден видит пространство для сотрудничества с Китаем по климату.
Зелёный курс также предполагает новые экологические обоснования индустриальной политики. В документах Совета ЕС отмечается, что Евросоюзу нужны «лидеры для разработки коммерческого применения прорывных технологий» и «новые формы коллаборации с промышленностью и инвесторами по стратегическим цепочкам начисления стоимости» в таких отраслях, как аккумуляторные и цифровые технологии. Любая американская администрация расценит подобные субсидии как европейский протекционизм с целью захватить лидерство в секторе зелёных технологий.
Несмотря на эти вызовы, кооперационная реакция США на Зелёный курс возможна. Всё зависит от готовности Евросоюза идти на компромиссы и вести переговоры с США. Стороны должны осознать, что в реализации своих климатических амбиций они сталкиваются с одинаковыми вызовами.
Глобальные игроки: Китай
Сегодня, когда становится всё сложнее определить позитивные, конструктивные элементы в отношениях Европы и Китая, климат является одной из важнейших тем повестки сотрудничества с Пекином. Во время дебатов о пагубных практиках китайского государственного капитализма европейские политики постоянно упоминают вынужденный трансфер технологий, кражи интеллектуальной собственности и массовые нарушения прав человека в Синьцзяне и Гонконге, но все разговоры заканчиваются очевидной декларацией: нам нужен Китай для противодействия глобальным вызовам – таким, как изменение климата.
И это действительно так. Чтобы Европейский зелёный курс и Парижское соглашение по климату сработали, Пекин должен стать частью процесса. Китай – вторая по величине экономика мира, лидер по выбросам CO2 и крупнейший производственный хаб для европейских товаров. Чтобы европейская экономика стала зелёной, «озеленить» нужно и цепочки поставок, центральным элементом которых является Китай.
Несмотря на зелёную риторику руководства, Китай продолжает использовать 3000 угольных электростанций – больше, чем США, ЕС, Япония, Россия и Индия вместе взятые, ещё 2000 строятся. Выбросы парниковых газов ещё не достигли пика (Китай – развивающаяся страна по климатическим стандартам), а США, например, существенно сократили выбросы, несмотря на нежелание федерального правительства брать на себя обязательства по глобальным соглашениям. Эти факты, а также приход в Белый дом более экологически ориентированной администрации означают, что неформальный климатический альянс Китая и Европы может просуществовать недолго.
Тем не менее Китай тоже заинтересован в более устойчивом и эффективном пути к процветанию. Изменение климата оказывает всё более серьёзное влияние на сельское хозяйство, а также безопасность водных ресурсов и продовольствия в Китае. В сочетании с загрязнением воздуха и почвы это воздействие потенциально может нарушить хрупкий баланс принятия правления Компартии. Готовность Пекина выступать в роли конструктивной силы на глобальных переговорах по климату и поддержка Парижского соглашения были важны, но придерживаться соглашения, которое не заставляет Пекин сокращать выбросы, уже недостаточно, учитывая долю Китая в мировом объёме выбросов CO2.
Более амбициозные европейские цели по климату, биоразнообразию и устойчивости не проблема с точки зрения Пекина. Китай и сам претендует на ведущую роль в глобальной защите экологии и борьбе с изменением климата. Председатель КНР Си Цзиньпин предложил использовать термин «экологическая цивилизация» – экологическая устойчивость с китайскими особенностями. Правительство КНР, чтобы показать европейцам, что работает по климатической повестке, заявило в сентябре прошлого года о намерении «достичь пика выбросов CO2 до 2030 г. и выйти на углеродный нейтралитет к 2060-му. У Китая, безусловно, есть национальная стратегия, нацеленная на экологическую устойчивость экономики страны. Но реализовывать её он будет своими темпами с оглядкой на стабильность, а главным фокусом останется сохранение высокого экономического роста и предотвращение безработицы.
Энергетическая независимость Европы никак не отразится на отношениях с Пекином: Китай не экспортирует туда энергоресурсы. Сокращение потребностей в энергоресурсах в Европе может повлечь за собой снижение цен, что будет выгодно Китаю как крупнейшему мировому импортёру нефти и газа и позволит ему сократить затраты на стимулирование роста экономики.
Однако Китай – крупнейший поставщик минералов, редкоземельных металлов, которые необходимы для реализации Европейского зелёного курса, хотя его возможности использовать это в качестве стратегического рычага воздействия ограничены. Предыдущая попытка Китая использовать свою доминирующую позицию на рынке против Японии в 2010 г. заставила другие страны сделать запасы. Парадоксально, но редкоземельные элементы на самом деле не такие уж редкие. Китай доминировал на рынке из-за субсидий производителям, которые удерживали цены на низком уровне, чтобы не допустить конкурентов. Это затратная политика нанесла ущерб экологии в тех регионах, где перерабатываются эти минералы. Правительство Китая уже готово отказаться от неё, что позволит развиваться конкурентам в США и Малайзии.
Идея пограничного корректирующего углеродного механизма для углеродоёмких товаров, которые поставляются в ЕС, представляет более серьёзный вызов для Пекина. Особенно в низших звеньях цепочки начисления стоимости, где маржа не так высока. Китайские промышленные товары могут потерять конкурентное ценовое преимущество (и свою привлекательность), и тогда европейцы смогут делать закупки у более зелёных партнёров. Это вынудит Пекин пересмотреть свою политику и хотя бы временно станет рычагом воздействия на Китай, чтобы заставить его придерживаться более амбициозной повестки по климату и устойчивости. В противном случае нынешние тренды диверсификации глобальной системы поставок (поиск альтернатив Китаю), которые наметились на фоне китайско-американской торговой войны и обострились из-за коронакризиса, могут усугубиться. Дополнительные сборы с импортёров китайских товаров позволят выровнять площадку. Европейские компании уже задумываются о локализации цепочки начисления стоимости и производственных процессов. В итоге производство в Китае может ограничиться исключительно китайским рынком, а китайский бизнес европейских компаний будет отрезан от глобальной экономики.
С помощью Зелёного курса Евросоюз сможет продвигать амбициозную глобальную климатическую повестку в рамках Конвенции ООН об изменении климата. На 26-й конференции участников Конвенции в 2021 г. в Глазго Китай должен будет пояснить, как он собирается выйти на пик углеродных выбросов до 2030 г., а затем их сокращать. Чтобы достичь углеродного нейтралитета к 2060 г., меры должны быть существенными и начинать реализовывать их нужно уже сейчас.
Китай приближается к европейскому подходу по своим обязательствам, но пытается максимально тянуть время, прежде чем инвестировать в зелёную трансформацию и чистые технологии.
Он уже лидирует по электромобилям, активно занимается солнечной и ветровой энергетикой. Зелёные технологии – растущий рынок с огромным потенциалом не только для китайско-европейского сотрудничества, но и для вытеснения европейских компаний и китайского технологического доминирования.
Из-за COVID-19 Китай столкнулся с отрицательным ростом в первом квартале 2020 г. – впервые после окончания культурной революции в конце 1970-х. Выбросы упали, и Пекин явно намерен использовать пакет стимулирующих мер, чтобы перезапустить экономику. Акцент, вероятно, будет сделан на цифровую экономику и технологии возобновляемой энергии. Но в основном стимулирующие меры предусматривают масштабные инвестиции в угольные теплоэлектростанции ради создания новых рабочих мест.
Изменение климата – одна из сфер, где Китай по-прежнему придерживается логики развивающейся страны. Он сохраняет мощные переговорные возможности благодаря прочным альянсам с Бразилией и Саудовской Аравией (участие обеих необходимо, чтобы международная повестка сработала) и G77 в целом, куда входит большинство стран, наиболее пострадавших от глобального потепления и подъёма Мирового океана. Европа может предложить этим странам совместные шаги в рамках Европейского зелёного курса и конкурировать с китайской инициативой «Пояс и путь», которая уже вызывает недовольство некоторых государств-реципиентов. Откликнутся ли развивающиеся страны на предложение ЕС – зависит от условий по кредитам и инвестициям. Но в соседних с Евросоюзом странах финансовая помощь в рамках Зелёного курса помешает Китаю инвестировать в угольную отрасль и экологически опасное извлечение ресурсов.
План внешнеполитических действий в рамках Европейского зелёного курса
Как Евросоюз может смягчить геополитические последствия Зелёного курса и возможную реакцию других стран, включая Алжир, Китай, Россию, Саудовскую Аравию и США? С концептуальной точки зрения для ответа на этот вопрос нужно выйти за рамки традиционной геополитики и соображений безопасности и обратить внимание на мягкую силу. Евросоюз может укрепить свои позиции, устанавливая стандарты и нормы глобальной энергетической трансформации и продвигая прозрачное сотрудничество по техническим и регуляторным вопросам в других сферах. И это нужно считать частью плана внешнеполитических действий в рамках Зелёного курса Европы.
С политической точки зрения необходимы чёткая стратегия и план внешнеполитических действий. Мы предлагаем подход из двух составляющих: действия по смягчению прямых геополитических последствий реализации Зелёного курса и шаги по укреплению глобального лидерства ЕС.
Действия по смягчению прямых геополитических последствий Европейского зелёного курса
Помочь соседним странам-экспортёрам нефти и газа справиться с последствиями реализации Зелёного курса
Евросоюз стратегически заинтересован в поддержании стабильности в соседних странах по целому ряду причин – от миграции до торговли. В этом контексте помочь странам-экспортёрам нефти и газа справиться с последствиями реализации Зелёного курса – ключевой вопрос внешнеполитической повестки.
Универсальная политика здесь не сработает. Нужен подход, отвечающий реалиям конкретной страны и сфокусированный на наиболее перспективных конкурентных преимуществах. Не хотелось бы повторить предыдущий опыт продвижения Европой абстрактных региональных энергетических проектов.
У ЕС и его соседей – экспортёров нефти и газа есть время, чтобы спланировать эту трансформацию. До 2030 г. Евросоюз продолжит импортировать углеводороды, резкое сокращение произойдёт позже. Нынешнее десятилетие нужно использовать для подготовки. Страны-экспортёры могут задействовать свои нефтегазовые доходы для диверсификации экономики, в том числе инвестируя в возобновляемую энергию и зелёный водород, который они в будущем смогут поставлять в Европу. ЕС стоит поддерживать эти инициативы, используя более последовательный подход к финансовой помощи.
Повысить безопасность поставок критически важных сырьевых материалов и уменьшить зависимость от Китая
Безопасный доступ к сырьевым материалам, которые требуются для зелёных технологий, необходим для реализации Зелёного курса и обеспечения устойчивого индустриального развития Европы. Это позволит поддерживать «стратегическую автономность» Европы.
Решить эту проблему поможет диверсификация поставок, повышение объёмов переработки отходов и поиск альтернативных материалов. По возможности нужно увеличивать внутреннее производство критически важного сырья, чтобы снизить зависимость от импорта. Также следует диверсифицировать импорт во избежание гиперзависимости от одного поставщика. Торговые соглашения и контракты с разными странами уменьшат риск нехватки поставок. Помимо диверсификации Европе следует развивать переработку отходов и поиск материалов-заменителей. Некоторые критически важные сырьевые материалы имеют высокий потенциал переработки, но их фактическая переработка остаётся низкой. Приоритетом должны стать конкурентоспособность затрат и повышение эффективности технологий сортировки и переработки. В этой сфере Евросоюз может поддерживать исследования и инновации (через программу Horizon Europe) и демонстрацию технологий (через Innovation Fund).
Сотрудничать с США в создании единого пограничного корректирующего углеродного механизма
Как отмечалось выше, даже если пограничный корректирующий механизм будет введён таким образом, что это не вызовет возражений ВТО, торговые партнеры всё равно будут считать это протекционистской мерой и могут пригрозить ответными действиями. Евросоюзу нужно проработать пограничный углеродный сбор так, чтобы «минимизировать издержки для международной системы и при этом добиться максимального снижения глобальных углеродных выбросов».
Планы Байдена по климату обещают аналогичные пограничные корректирующие углеродные меры, открывая путь для совместного подхода ЕС и США. Евросоюз должен воспользоваться возможностью и предложить президенту США создание климатического клуба, члены которого будут применять единый пограничный корректирующий углеродный механизм. Клуб будет функционировать как открытое партнёрство, членство будет определяться критериями уровня выбросов и мерами по их сокращению. Будет приветствоваться присоединение всех стран, включая Китай, если они придерживаются целей и правил клуба.
Создание климатического клуба должна инициировать группа стран, которые придерживаются плана по сокращению выбросов, сопоставимого с целями Парижского соглашения и при этом обладают экономической значимостью, чтобы привлечь другие государства. Поэтому совместная инициатива США и Евросоюза, возможно, в партнёрстве с развивающимися странами, станет стимулом для дальнейших действий по климату.
Вместе две экономики составляют более 40 процентов мирового ВВП и почти 30 процентов импорта. Размеры трансатлантической экономики означают, что если пограничный углеродный механизм будет построен в соответствии с правилами ВТО, торговые отношения с третьими странами станут невозможными. Климатический клуб позволит огромной трансатлантической экономике стать центром глобальных усилий по сокращению парниковых газов в рамках Конвенции ООН.
В период президентства Трампа сотрудничество между Евросоюзом и Китаем позволило избежать краха Парижского соглашения. Хотя бы по этой причине ЕС должен параллельно активизировать диалог с Китаем по климатическим действиям, что позволит Пекину присоединиться к климатическому клубу максимально быстро.
Действия по укреплению глобального лидерства ЕС
Установить глобальные стандарты энергетической трансформации
Евросоюз может взять на себя роль учредителя глобальных стандартов энергетической трансформации. Одно из преимуществ ЕС – внутренний рынок с 450 млн потребителей. Требование следовать экологическим нормам как условие доступа на европейский рынок станет мощным стимулом для стран-экспортёров и заставит их перейти на зелёные технологии в производственном процессе.
Кроме того, Евросоюз может установить стандарты для зарождающегося водородного рынка. Разработав систему торговли водородом в евро, ЕС создаст основы для международного рынка по своим стандартам. Также можно консолидировать роль евро в торговле устойчивыми видами энергии.
Наконец, Евросоюз может установить стандарты для зелёных облигаций. Глобальный рынок зелёных, социальных и ориентированных на устойчивое развитие ценных бумаг достиг 270 млрд евро в 2019 году. Пока на этот сектор приходится 5 процентов глобального рынка облигаций. Но он быстро растёт. С 2018 по 2019 гг. он увеличился на 50 процентов и, как ожидается, в 2020 достигнет 338 млрд. евро Евросоюз не только крупнейший игрок на этом рынке, так как является эмитентом 45 процентов бумаг, но и самый быстрорастущий сегмент – в 2018–2019 гг. скачок составил 74 процента. В одном из исследований 67 процентов респондентов отметили нехватку зелёных облигаций. Респонденты считают, что регулирование – самый эффективный способ увеличить рынок зелёных облигаций, а приоритетом должна стать чёткая классификация. Учитывая относительно небольшой размер рынка зелёных облигаций, его ожидаемый быстрый рост и существенную долю ЕС, а также необходимость стандартизации, европейцы вполне могут заняться разработкой правил.
Интернализировать Европейский зелёный курс
На Евросоюз приходится менее 10 процентов глобальных выбросов парниковых газов. Это означает, что для существенного воздействия на глобальное потепление ЕС нужно распространять зелёную трансформацию на другие регионы. Инструментов для этого два: бюджет ЕС и бюджет фонда «Следующее поколение ЕС», а также политика развития.
В 2020 г. Евросоюз принял бюджет – официально многолетнюю программу финансового развития на 2021–2027 гг., общим объёмом 1074,3 млрд евро. Был также учреждён постковидный восстановительный фонд, получивший название «Следующее поколение ЕС» (Next Generation EU) на 2021–2023 годы. Это дополнительно 750 млрд. евро Таким образом, весь финансовый пакет составляет около 1,8 трлн евро. 30 процентов бюджета и 37 процентов восстановительного фонда Евросоюз пообещал выделить на действия по климату. То есть с 2021 по 2027 гг. около 600 млрд евро пойдёт на зелёную трансформацию. Конечно, нужд очень много, но ЕС может выделить 10 процентов от этих ресурсов – 60 млрд евро – на интернализацию Зелёного курса.
Такой подход – предоставление грантов, кредитов и гарантий для проектов устойчивой энергетики в странах-партнёрах – поможет ЕС добиться своих целей по климату с большей эффективностью, потому что и в соседних странах, и в развивающемся мире затраты на борьбу с загрязнениями ниже. Так европейская промышленность может выйти на новый быстро растущий рынок, а у блока появится инструмент зелёной индустриальной политики. Это поспособствует развитию и диверсификации стран-партнёров (прежде всего, экспортёров нефти и газа) и принесёт бесценные внешнеполитические дивиденды Брюсселю.
Евросоюз и его члены занимают ведущие позиции в мире по оказанию помощи на развитие. В 2019 г. было выделено 75,2 млрд евро, или 55 процентов от общемирового объёма помощи. В бюджете на 2021–2027 гг. предусмотрен новый инструмент, объединяющий ресурсы для зарубежной деятельности – инструмент добрососедства, развития и международного сотрудничества (NDICI). Благодаря его средствам – 79,5 млрд на 2021–2027 гг. – Евросоюз сможет играть более заметную роль в развивающихся странах. Одна из проблем политики развития ЕС заключалась в раздробленности её инструментов, из-за чего возникали пересечения, провалы и общая неэффективность. Следующим шагом в консолидации европейской политики развития должно стать создание единого органа, например Европейского банка климата и устойчивого развития. NDICI и новый климатический банк станут основными инструментами для экспортирования Европейского зелёного курса в страны развивающегося мира, начиная с Африки.
Продвигать глобальные коалиции по смягчению изменений климата: коалиция по защите вечной мерзлоты
Почти четверть территории Северного полушария – это зона вечной мерзлоты. В результате повышения температур арктические льды тают не постепенно, как ранее предполагали учёные, а с беспрецедентной скоростью. Это главная климатическая проблема, потому что вечная мерзлота – это огромный резервуар парниковых газов. Начав таять, почва будет выпускать древние органические материалы и огромные массы парниковых газов, тысячелетиями находившиеся в замерзшем состоянии под землей. В настоящее время до 1600 гигатонн диоксида углерода находится в зоне вечной мерзлоты, почти вдвое больше, чем в атмосфере. Учёные предупреждают: нужно приложить максимум усилий, чтобы не допустить дальнейшего глобального потепления и таяния вечной мерзлоты. Евросоюз может предложить инициативу и возглавить глобальную коалицию по защите вечной мерзлоты, включая финансирование исследований нынешней ситуации и поиск путей решения проблемы – например, путём восстановления пастбищ и увеличения выпаса скота. Это пойдёт на благо всему миру и, следовательно, потребует международного сотрудничества.
Продвигать глобальные коалиции по смягчению изменений климата: коалиция по удалению выбросов CO2
Ещё одна глобальная задача, требующая международного сотрудничества, – это удаление углерода из атмосферы. Оно необходимо для достижения климатического нейтралитета к середине нынешнего столетия, поэтому нужно выйти на отрицательный уровень выбросов.
CO2 можно удалить из атмосферы с помощью природных и технологических решений. Природные решения – это лесопосадки и восстановление лесов. Технологические – улавливание и хранение углерода, а также геоинженерные методы, например прямое улавливание в воздухе.
Евросоюз должен создать глобальную коалицию по удалению выбросов CO2, которая будет продвигать международное сотрудничество в этой сфере. В коалицию должны войти страны, компании и международные организации, готовые инвестировать ресурсы в лесопосадки и восстановление лесов по всему миру, а также вкладывать средства в исследования, инновации и демонстрационные проекты технологических решений. Важно сохранить тропические леса, которые поглощают CO2. Пока система углеродных квот не даёт нужного сигнала инвесторам, нет стимула заниматься поиском решений. Поэтому особенно важно международное сотрудничество.
Евросоюз должен задействовать торговлю, финансы и политику развития для продвижения этой повестки.
Продвигать глобальную платформу новой экономики климатических действий
Евросоюз должен стать глобальной референтной точкой социально-экономических последствий декарбонизации. Находясь в авангарде этих усилий, Евросоюз одним из первых ощутит социально-экономическое воздействие. Цель Европейского зелёного курса – разумно продвигать декарбонизацию, решая проблемы экономической и индустриальной трансформации и обеспечивая социальную инклюзивность всего процесса. Такие вопросы, как справедливая трансформация и распределение воздействия климатической политики, – ключ к успеху процесса декарбонизации. Точно так же зелёная индустриальная политика и зелёные инвестиции дадут шанс воспользоваться новыми возможностями, создать рабочие места и стимулировать экономический рост. Евросоюз сможет проводить многосторонние форумы по обмену опытом и лучшими практиками со своими международными партнёрами. Такой подход поможет перенести практику углеродного рынка на другие страны, как, например, произошло с Китаем, где была запущена национальная система торговли выбросами.
В совокупности эти действия обеспечат внешнеполитическую поддержку Европейского зелёного курса. Они станут ответом на геополитические вызовы, которые ощутят другие страны из-за запуска Зелёного курса и дальнейшего глобального потепления. С их помощью европейцы найдут способы распространить декарбонизацию за пределами ЕС, а это ключ к успеху всей идеи.
European Council on Foreign Relations

Уничтожить мир и построить его заново: англосаксы хотят объединяться
Дмитрий Косырев
Заметили и осмеяли: такой оказалась реакция "Востока" на пулеметную очередь публикаций "Запада" о том, что англоговорящие страны должны объединиться в нечто мощное и противостоящее врагам. Неважно, как оно будет называться, — важно, что это Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия плюс большой знак вопроса в виде США. Все это страны, где английский — родной и первый язык, они особые, и им надо сейчас держаться вместе.
"Восток" — это, например, обозреватель South China Morning Post Алекс Ло. Китаец, конечно, но человек не совсем пекинский, мог бы со своими взглядами жить где угодно и оставаться патриотом Китая как древней и уважаемой цивилизации.
Кто продвигает идею обновленной конфигурации Запада: речь о двух ставших знаменитыми комментариях — в августе в The Wall Street Journal (США) и на днях в Financial Times (Великобритания). Последнюю стали массово перепечатывать, а дальше пошло множество комментариев на комментарии.
Конкретные предложения в двух упомянутых флагманских публикациях весьма расплывчаты — речь о том, что, кроме языка, у этих стран общие парламентские традиции, общий глава государства — королева Елизавета II, еще фактически общая разведка (альянс по обмену информацией "Пять глаз")… Но вот как именно объединяться — неясно, да и какая разница. Еще труднее понять, что значит — США в роли якоря этой как бы уже почти существующей "англосферы". Но это все пустяки, главное — что все они в последние годы ужесточили свое отношение к Китаю (не только к Китаю, добавим), это и есть основной сближающий фактор.
Перед нами — обрывки идущей без особого шума дискуссии насчет, представьте, полной переделки мира. И тут не разберешь, курица или яйцо было первым. То ли давайте уж переделаем мир начисто, если он все равно рушится по поводу вируса, то ли вирус успешно подвернулся как раз под руку, когда пошли всерьез разговоры насчет того, что этот мир не получился, надо его уничтожить и построить заново.
Вообще-то, мы и так давно замечали, что "англосфера" — или англосаксы — это что-то отдельное и особенное. Отдельное от чего? А от того, что мы долгое время называли Западом. Вот и Алекс Ло из своего Гонконга замечает: никакого вечного и дружного Запада никогда и не было, эту штуку придумали относительно недавно, когда требовалось противостоять СССР. И тогда записали в "Запад" (чтобы нам было страшнее) множество стран с самых разных континентов, получивших поощрительный титул "демократов".
Если Запада не было, то что было? Вот то самое, что хотят возродить. Сверхдержава под названием Британская империя, в которую входили доминионы, нынешние Канада, Австралия и Новая Зеландия. Собственно, если бы не маленькие неприятности 1776 года, когда против налогов Лондона взбунтовались какие-то скандальные персонажи из Бостона и Филадельфии, то и сегодня оставалась бы сверхсверхдержава, вся сплошь англоязычная — и с особой традицией выстраивания прочего мира.
Традиция эта заключалась в том, чтобы в превентивном порядке вредить любым другим державам того самого как бы Запада — чтобы никто из них не имел физической возможности противостоять империи. Эта традиция, кстати, была унаследована и отпочковавшимися США в момент, когда уже они оказались сверхдержавой.
Вообще-то, мы и так давно замечали, что "англосфера" — или англосаксы — это что-то отдельное и особенное. Отдельное от чего? А от того, что мы долгое время называли Западом. Вот и Алекс Ло из своего Гонконга замечает: никакого вечного и дружного Запада никогда и не было, эту штуку придумали относительно недавно, когда требовалось противостоять СССР. И тогда записали в "Запад" (чтобы нам было страшнее) множество стран с самых разных континентов, получивших поощрительный титул "демократов".
Если Запада не было, то что было? Вот то самое, что хотят возродить. Сверхдержава под названием Британская империя, в которую входили доминионы, нынешние Канада, Австралия и Новая Зеландия. Собственно, если бы не маленькие неприятности 1776 года, когда против налогов Лондона взбунтовались какие-то скандальные персонажи из Бостона и Филадельфии, то и сегодня оставалась бы сверхсверхдержава, вся сплошь англоязычная — и с особой традицией выстраивания прочего мира.
Традиция эта заключалась в том, чтобы в превентивном порядке вредить любым другим державам того самого как бы Запада — чтобы никто из них не имел физической возможности противостоять империи. Эта традиция, кстати, была унаследована и отпочковавшимися США в момент, когда уже они оказались сверхдержавой.
Но как же бывший Запад, то есть прочая Европа? А никак. Она блистательно отсутствует в планах создания "англосферы", потому что не желает подчиняться англосаксонскому диктату и хочет иметь дело с Китаем, балансируя этим связи с англосаксами. А раз так, то ждите продолжения традиционной политики англосаксов — стравливать одних европейцев с другими, особенно восточных с западными, не говоря об украинцах.
Что же касается США, то тут недосказанности еще больше, но можно предположить, что единая англосаксонская команда имела бы более сильные переговорные позиции в общении с Вашингтоном, чем просто Лондон. Однако… мы забыли про Алекса Ло. Он говорит: раньше США столько раз — в чисто англосаксонском духе — гнобили лучших друзей и союзников, что тут задумаешься, прежде чем будешь предлагать им новые альянсы. А сейчас мы и вообще говорим "об упадке все более опасных, напористых и безответственных Соединенных Штатов". Его общий итоговый диагноз всем этим вдруг ставшим модными разговорам об "англосфере" таков: это демонстрация общей слабости того, что мы считали единым Западом.
Но вообще-то тут у нас демонстрация не только слабости. А еще и масштаба происходящих перемен — если какая-то группа идеологов хочет возродить англосаксонскую империю, отшвырнув на обочину европейцев, то это не значит, что нет других похожих групп, обсуждающих совсем другие планы без лишней гласности. И главное, что в этих обсуждениях интересно, — это масштабы желаемого погрома всей международной системы: им кажется, что хотя бы теоретически сегодня все возможно и так и надо.

ВОЙНА С КИТАЕМ ИЗ-ЗА ТАЙВАНЯ?
ЧЕЗ ФРИМАН
Старший научный советник Института мировой и публичной политики имени Уотсона в Университете Брауна, в прошлом – высокопоставленный дипломат и сотрудник Пентагона, переводчик.
Тайвань – известная история американского внешнеполитического успеха, срок годности которой, похоже, приближается к концу. Управление тайваньским вопросом всегда было ключом к войне, даже ядерной войне, или миру между Соединёнными Штатами и Китаем. Теперь дверь для мирного исхода может захлопнуться.
Суть тайваньского вопроса в том, какие политические отношения две стороны, разделённые Тайваньским проливом, должны и могут иметь друг с другом? Этот вопрос – наследие Китайской гражданской войны, холодной войны, сближения между Вашингтоном и Пекином, продиктованным стратегическими соображениями; привычной для США подмены дипломатии военным сдерживанием, а также приверженности Америки внешней политике на основе ценностей при отсутствии какой-либо стратегии. Поскольку ставки для американцев высоки, вопрос о том, как лучше всего сбалансировать отношения между Тайванем и требованиями материкового Китая, влиял на наши суждения и государственное строительство.
Однако история вопроса, по большому счёту, забыта или превратно истолковывается, а дилеммы, которые в нём сокрыты, почти не привлекают внимания. Похоже, что у американцев развился коллективный иммунитет и к ситуационной осведомленности, и к стратегической логике. США рискуют незаметно для самих себя вступить в войну с Китаем, которой не хотят и в которой теперь уже не могут победить. Такая война, вероятно, положила бы конец американскому превосходству в Восточной Азии. Она, конечно, подорвала бы перспективы сотрудничества между великими державами с целью решения планетарных проблем мирными средствами.
Тайвань – это остров, площадь которого лишь немного превышает площадь штата Мэриленд, хотя живёт там в четыре раза больше людей. Когда Япония захватила его в 1895 г., он был провинцией Китая в эпоху династии Цин. Китайская Республика Чан Кайши отобрала остров у Японии в 1945 году. Потерпев поражение в Китайской гражданской войне 1949 г., Чан убежал в Тайвань и перенес столицу китайского правительства из Нанкина в Тайбэй.
Когда в 1950 г. разразилась Корейская война, Соединённые Штаты осуществили военную интервенцию, чтобы не позволить Чану или его коммунистическим противникам в материковом Китае нападать друг на друга, пересекая Тайваньский пролив. Идея была в том, чтобы не допустить выхода конфликта за пределы Корейского полуострова. Наша интервенция помешала немедленному вторжению коммунистов на остров, но не положила конец Китайской гражданской войне, поскольку военно-политическое противостояние длилось ещё очень долго.
Пекин по-прежнему смотрит на Тайвань через призму этой неоконченной гражданской войны.
В течение двух десятилетий Соединённые Штаты поддерживали Чан Кайши, выступали за смену режима в материковой части Китая и настаивали на том, что не Пекин, а Тайбэй является законной столицей Китая, имеющей право представлять страну на международной арене. То, что это искажённое представление действительности сохранялось так долго, свидетельствует как о престиже США в годы холодной войны, так и об искусстве американских дипломатов. В 1971 г. мир восстал против этого абсурда, преодолев противодействие Америки, не желавшей признавать Пекин вместо Тайбэя в качестве представителя Китая в Совете Безопасности ООН и других международных организациях. В 1972 г. президент Никсон попытался сделать Пекин партнёром Америки в сдерживании Советского Союза.
Именно с этой целью в 1979 г. США последовали примеру союзников, перенеся дипломатическое признание с Тайбэя на Пекин. Для осуществления такого манёвра мы пошли на условия Пекина вывести американские войска и военные объекты с территории Тайваня, а также расторгнуть наш оборонный договор с этим островом. Однако при неохотном согласии материкового Китая мы сохранили все другие «неформальные» отношения с Тайванем, не предавая их широкой огласке. Одновременно Пекин отказался от своей громко провозглашённой решимости «освободить» Тайвань силой и стал прилагать последовательные усилия, чтобы положить конец разделению Китая мирным путем.
Долгосрочные последствия этих тонких и изящных дипломатических сделок между Китаем и Америкой были поистине удивительными, хотя успех, как всегда, породил новые проблемы. Солидарность Пекина с Вашингтоном помогла последнему низложить советскую империю и систему. Китай открыл себя для Америки и для мира. Спустя какое-то время он стал главным локомотивом роста мировой экономики.
Обеспокоенность по поводу бедности и слабости Китая сменились тревогой о том, что он переигрывает нас на нашем же капиталистическом поле.
Тем временем ослабление напряжённости в американо-китайских отношениях дало возможность Тайваню развиваться политически и экономически, вследствие чего это островное государство стало самым свободным и процветающим китайским обществом за долгую историю Китая, а также единственной демократией, когда-либо пускавшей корни на китайской земле.
Этот выдающийся успех был построен на целом ряде дипломатических фикций. Юристы в нашей аудитории знакомы с понятием «правовая фикция». Это средство недопущения споров или их разрешения, когда стороны договариваются, что нечто заведомо неверное с фактической точки зрения следует считать неопровержимой истиной в каких-то целях. Наглядный пример – это усыновление или удочерение ребёнка. Закон в данном случае ставится выше биологии, делая приёмных родителей ребенка его законными родителями в правовом отношении. В то же время биологическая мать и отец объявляются чужими людьми для этого ребёнка. Так и дипломатическая фикция способна устранить проблему, объявляя нечто фактически не соответствующее действительности неопровержимой «истиной». Такого рода уловки не ограничиваются судами или дипломатией; они могут также использоваться в эмоционально заряженном социальном контексте.
Например, когда корреспондент Time Тедди Уайт, работавший в Чунцине военного времени, наконец-то, получил приглашение на обед от Чжоу Эньлая, о чём давно мечтал, то обнаружил, что Чжоу приготовил банкет с запечённым молочным поросёнком в качестве главного блюда. Будучи ортодоксальным иудеем, Тедди чувствовал, что ему придётся сказать хозяину пира, что по религиозным убеждениям он не употребляет в пищу свинину. В ответ на его извинения Чжоу сказал ему: «Это не свинина, это утка. Ведь вы едите утку, не так ли?». Как только все решили, что поросёнка на столе нет, Уайт смог по достоинству оценить гостеприимство хозяина и насладиться трапезой без угрызений совести.
Но я уклонился от главной темы. Поддержка Америкой Чан Кайши в годы холодной войны в качестве законного правителя всего Китая, включая внешнюю Монголию, была чрезвычайно полезной дипломатической фикцией для Соединённых Штатов, когда мы пытались изолировать фактических правителей Китая – коммунистов, победивших в гражданской войне, и помочь Чану удержать контроль над Тайванем в качестве бастиона против них. Однако для патриотов в материковом Китае политика Вашингтона была унизительным продолжением иностранного угнетения прошлых лет, когда стремление китайского народа к национальному единству решительно подавлялось. С их точки зрения, часть Китая была насильственно отсечена Седьмым флотом США, включена в американскую сферу влияния и взята под охрану американским воинским гарнизоном. Что ещё хуже – в 1950-е гг. американские официальные лица, например, Джон Фостер Даллес, открыто заигрывали с идеей постоянного отделения Тайваня от материкового Китая. Чан Кайши заблокировал этот политический манёвр и отправил письмо Чжоу Эньлаю, приписав себе заслугу сохранения единого Китая.
В итоге дипломатическая фикция о том, что Тайбэй – столица Китая, уступила место неумолимому реализму международного сообщества.
Нам нужен был новый механизм, чтобы не допустить возобновления Китайской гражданской войны. Де-факто Китай был разделён между Тайбэем и Пекином, но обе стороны твёрдо настаивали на том, что должен и может быть только один Китай, частью которого является Тайвань. В начале 1970-х гг. этот консенсус был переработан американской дипломатией в положение об «одном Китае». Когда президент Никсон посетил Пекин с официальным визитом в 1972 г., он торжественно заявил в письменном виде, что США не «оспаривают» консенсус в этом вопросе, сложившийся по обе стороны Тайваньского пролива.
Пекин принял заявление Никсона как отказ от любых намерений в будущем разделить Китай с помощью таких схем, как «один Китай, один Тайвань», «один Китай, два правительства», «два Китая», «независимый Тайвань», или же путём отстаивания мнения, согласно которому «статус Тайваня ещё только предстоит определить». Спустя почти семь лет, в конце 1978 г., подтверждённая приверженность Соединённых Штатов принципу единого Китая, сопровождавшаяся признанием очевидного факта, что столица его находится в Пекине, а не Тайбэе, позволила нам заключить соглашение о нормализации отношений между США и Китаем и в то же время сохранять неформальные, но полноценные отношения с Тайванем.
Отказ американцев де-юре от попыток расчленить Китай дала КПК возможность переключить внимание с противодействия американскому вмешательству во внутренние дела Китая к исследованию возможности мирных переговоров с главным противником времён гражданской войны – Китайской националистической партией Чан Кайши, по-китайски Гоминьдан.
Условие «одного Китая» и единого «китайского» суверенитета, принятое по обе стороны пролива, сняло безотлагательность решения тайваньского вопроса. Оно позволило Пекину вести себя так, как будто воссоединение Китая неизбежно, а Тайбэю делать вид, будто он либо согласен с этим тезисом, либо его можно будет рано или поздно склонить к воссоединению. Как и ожидалось, Пекин отложил решительные действия, а Тайбэй выиграл нужное ему время.
Тот факт, что Соединённые Штаты официально исключили действия по «расчленению Китая», снизило опасения Пекина, что ему, возможно, придётся воевать, чтобы не допустить подобное расчленение. В свою очередь, это уменьшило для США необходимость сдерживания нападения материкового Китая на Тайвань. Несмотря на пару недоразумений, напряжённость в Тайваньском проливе сошла на нет. Дипломатическая фикция «одного Китая», в конце концов, позволила двум сторонам избежать споров о суверенитете и в то же время облегчила торговые отношения, путешествия и другие связи Китая с Тайванем.
В 2005 г., опираясь на прецедент переговоров до бегства Чана в Тайвань, председатели Компартии и Националистической партии встретились в Пекине. Они согласились с принципом «одного Китая» и договорились о широком круге практических связей между двумя сторонами, разделёнными Тайваньским проливом. К 2009 г. авиакомпании двух стран совершали 370 регулярных рейсов в неделю между городами в Тайване и материковым Китаем, хотя всего пятьдесят лет назад в этом же воздушном пространстве между ними шли авиабои. В 2015 г. тогдашний президент Тайваня Ма Ин-цзю встретился в Сингапуре со своим коллегой из материкового Китая Си Цзиньпином. Печально, что та встреча, похоже, стала кульминацией разрядки между двумя сторонами.
На протяжении почти пятидесяти лет с тех пор, как администрация Никсона впервые приняла идею «одного Китая», эта концепция была важным фундаментом мира между КНР и Америкой и предпосылкой для отсутствия вооружённого конфликта в Тайваньском проливе. Однако этот фундамент постоянно подтачивался и размывался противниками нормализации китайско-американских отношений, сторонниками самоопределения Тайваня, американскими активистами решения одной проблемы; чиновниками и бюрократами – сторонниками нечистоплотных и непорядочных договорённостей за спиной у китайцев, антикоммунистами, а в последнее время – сторонниками теории соперничества великих держав и конфронтации с Китаем. От изначальной конструкции и договорённостей мало что осталось. Трудно понять, как эта гениальная уловка сможет и дальше поддерживать построенные на ней многочисленные полезные сделки и компромиссы.
Существует, по меньшей мере, три причины «усыхания» ключевой договорённости об «одном Китае». Каждая из них понятна, но они опираются на всё более сомнительные предпосылки.
Во-первых, большинство жителей Тайваня решили, что не хотят политически ассоциировать себя с коммунистическим режимом по другую сторону пролива и предпочли бы либо длительную автономию, либо полную независимость. Материковый Китай не предлагает им привлекательного представления об общем будущем. Какой бы вдохновляющей ни была поначалу мысль о связи с остальным Китаем, она становится всё более отталкивающей и неприятной по мере того, как материковый Китай ускоренно превращается в жестокое, полицейское государство. Подобно митингующим в Гонконге, приверженцы независимости Тайваня воображают, будто сочувствие всего мирового сообщества и его солидарность с их правым делом гарантирует интервенцию Запада, который поможет им реализовать свою мечту, несмотря на неистовое противодействие со стороны материкового Китая. С их стороны это, по меньшей мере, крайне рискованная ставка в затеянной ими азартной игре.
Во-вторых, большинство американцев находят устремления к самоопределению привлекательными и не сознают или не обращают должного внимания на риски, с которыми связана попытка Тайваня обрести эту независимость. Как явствует из нашей собственной истории и войны за независимость, народы редко добиваются отделения от более крупного государства без упорной борьбы за неё. И очень часто их усилия оказываются бесплодными. Спросите об этом конфедератов американского Юга, басков, чеченцев, представителей народности Игбо из непризнанной республики Биафра, курдов, палестинцев или жителей Тибета.
В стремлении жителей Тайваня к самоопределению нет ничего удивительного: оно вполне естественно. В 1895 г. Китай, как ни в чем не бывало, передал эту провинцию Японской империи. На протяжении пятидесяти лет японцы жестоко обращались с тайваньцами и частично ассимилировали их. Когда Чан Кайши и его двухмиллионный контингент рекрутов и пришлых варягов укрылись на Тайване, они стали жестоко угнетать жителей острова, подвергнув их процессу китаизации, которая проходила ненамного мягче, чем то, что сегодня испытывают в Синьцзяне угнетаемые уйгуры. Коренные китайцы Тайваня были задействованы в качестве участников американской политики сдерживания Китая и Советского Союза на передовом рубеже, но затем США отреклись от них в дипломатическом отношении.
Жители Тайваня установили у себя в стране власть закона и демократию, которой они сегодня наслаждаются сами по себе, хотя и при тихом признании и поддержке американцев. Они знают, что такое контроль со стороны чужестранцев, и у них нет ни малейшего желания снова его испытать. С другой стороны, они могли бы долгие десятилетия осуществлять стратегию сближения с материковым Китаем, который сохранял бы их автономию без военной поддержки со стороны Америки. Но они этого не сделали. Вместо того, чтобы смотреть в лицо неотвратимой реальности своей неразрешимой дилеммы, они рассчитывают на спасение в голливудском стиле от военно-морского эквивалента кавалерии США.
Сепаратисты Тайваня знают, что им не удастся убедить материковый Китай предоставить им независимость и не удастся победить в войне за отделение от него. Поэтому они убедили себя, что могут положиться на Соединённые Штаты, которые вмешаются, чтобы защитить их дерзкий вызов принципу «единого Китая» или помочь им легализовать разделение на два государства, которое имеет место де-факто. Эта убеждённость позволяет Тайваню сохранять расходы на оборону на низком уровне и переносить риски провоцирования кровавого рандеву с китайским национализмом на Соединённые Штаты. Однако Китай – великая держава, и в Тайване Пекин будет воевать за то, что весь мир, включая Вашингтон, формально признает его китайской территорией, а не в какой-то третьей стороне типа Кореи или Вьетнама.
Американцы могли бы дважды подумать, прежде чем ввязываться в войну с ядерным Китаем для отторжения его законной территории.
В-третьих, способность материкового Китая силой принудить Тайвань к воссоединению всегда была ограничена его собственной военной недееспособностью, убедительными возможностями сдерживания, которыми обладает Америка, а также готовностью Тайваня организовать действенное сопротивление вторжению и оккупации. Однако, начиная с 1995 года, всё более решительное самоутверждение со стороны лидеров Тайваня, заявляющих о своём стремлении отделиться от Китая, а также сочувствие к этим устремлениям со стороны американских политиков дали старт серьёзной программе модернизации Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с прицелом на завоевание острова, несмотря на военное противодействие Америки.
По оценкам некоторых экспертов из армии и разведывательного сообщества США, НОАК могла бы сегодня уничтожить Тайвань по своему желанию и захватить весь остров за три дня. Чтобы отвоевать остров, если это вообще возможно, придётся пожертвовать многими десятками тысяч американских солдат и офицеров. Это также потребовало бы ракетных и бомбовых ударов с воздуха по китайским целям на материке, что оправдало бы контрудары Китая по нашим целям. Если Соединённым Штатам удастся отвоевать Тайвань, материковый Китай будет просто выжидать благоприятного момента и укреплять свою военную машину, чтобы предпринять вторую попытку. Как и в случае с Ханоем, Пекин – решительно настроенный противник с националистическими устремлениями, сдерживающий свой пыл и рвение в борьбе за то, чтобы положить конец разделению своей страны, которое американцы негласно поддерживают.
Для нормализации отношений с Пекином сменявшие друг друга президенты США дали конкретные обещания в трёх тщательно согласованных совместных коммюнике. Эти документы, изданные в 1972, 1979 и 1982 гг., служат фундаментом китайско-американских отношений. В них Вашингтон обещал, что больше не будет поддерживать официальных отношений с Тайбэем, что на острове не будет американских войск и военных сооружений и что он будет продавать Тайваню лишь тщательное отобранное оборонительное оружие, притом в ограниченных объёмах. В третьем коммюнике содержалось согласие ограничить качество и уменьшить количество продаваемых Тайваню вооружений.
На протяжении последующих десятилетий Вашингтон последовательно размывал суть этих строгих ограничений или вовсе от них отказывался. Официальные лица из правительства США сегодня встречаются с официальными представителями Тайваня и совершают поездки в Тайвань. Там им оказывает поддержку недавно построенное за 250 миллионов долларов «как бы» посольство под охраной морских пехотинцев. Соединённые Штаты снова поддерживают установление Тайбэем дипломатических отношений с третьими странами, наказывая тех, кто переключается на отношения с Пекином. Появились сообщения о возвращении на Тайвань американского воинского контингента, обучающего местные вооруженные силы проведению операций против материкового Китая. Тайвань снова стал одним из главных покупателей американского оружия. А 12 ноября 2020 г. (через девять дней после того, как президентские выборы сделали его босса хромой уткой) госсекретарь Майк Помпео завершил выбрасывание на помойку истории условие о едином Китае, заявив (ошибочно), что Тайвань «никогда не был частью Китая».
В 1979 г., как отмечалось в Законе об отношениях с Тайванем (ЗОТ), США «прекратили отношения с властями Тайваня на государственном уровне». ЗОТ был принят для того, чтобы американцы поддерживали связи с народом Тайваня, не устанавливая с островом «межправительственных отношений». Но трудно оспаривать тот факт, что во многих аспектах такие отношения сегодня восстановлены.
Политика, закреплённая в ЗОТ, сводилась к гарантиям того, что «будущее Тайваня будет определяться мирным путём». Однако, уклонившись от достигнутого взаимопонимания, которое было ключевым для достижения этой задачи, Соединённые Штаты всё делают для того, чтобы никто в материковом Китае не верил в осуществимость исключительно мирного решения.
В ЗОТ говорится, что США должны предоставлять Тайваню «оружие оборонительного характера». Однако вооружения, продаваемые сегодня острову, не проходят через такой фильтр. ЗОТ, принятый как внутренний закон, а не договор между сторонами, призывает сохранять способность сдерживать «обращение к силе или другим формам принуждения», которые «ставят под угрозу безопасность жителей Тайваня». Однако у Соединённых Штатов больше нет стопроцентной уверенности в своём огневом превосходстве для защиты Тайваня против применения силы материковым Китаем, и военный баланс всё больше смещается в сторону коммунистического Китая.
КНР, Тайвань и США обрекли себя на непрерывную демонстрацию военных возможностей и политической воли.
Логика складывающейся ситуации подразумевает готовность к эскалации – от демонстрации силы к отдельным столкновениям, а затем и к крупномасштабному сражению. Давно уже опасность войны за Тайвань не была столь высока.
Ирония в том, что договорённости между Вашингтоном и Пекином, достигнутые в 1979 г. с целью сохранения мира, включая одностороннее принятие Соединёнными Штатами ЗОТ, сработали гораздо лучше, чем на это могли надеяться их авторы. После переключения тумблера в дипломатических отношениях напряжённость в отношениях с материковым Китаем уменьшилась, а безопасность Тайваня повысилась. Остров смог покончить с законами военного времени и демократизировать политическую жизнь. Тайвань стал одним из самых процветающих обществ на нашей планете. ВВП на душу населения у них чуть меньше нашего, но медианное богатство на 4 тысячи долларов с лишним выше, чем у нас – 70 191 доллар против наших 65 904 долларов. Схема единого Китая, позволившая добиться столь выдающихся успехов, не была полностью «сломана»; однако сменявшие друг друга администрации в Тайбэе и Вашингтоне, тем не менее, «поправляли» её, и сегодня по ней нет консенсуса.
Последовательно отказываясь от своих слов и обещаний, Вашингтон создал себе в Китае репутацию вероломного переговорщика, поэтому там никто больше не доверяет американским обещаниям. Формальные возражения, что США, мол, по-прежнему уважают принципы, изложенные в «трёх совместных коммюнике», сегодня уже не могут одурачить никого, кроме американцев, страдающих амнезией. Возникающее в результате недоверие не позволяет выйти на новый уровень взаимопонимания по поводу того, как управлять своими разногласиями по Тайваню. Но без такого взаимопонимания нарастающие противоречия между китайским национализмом и политикой идентичности и самоопределения Тайваня ведут нас к конфликту.
Все три стороны – Пекин, Тайбэй и Вашингтон – приближаются к той точке, в которой избежать очень неприятного выбора нам больше не удастся. Сегодня Пекин не видит реальной перспективы разрешения проблемы выстраивания отношений между Тайванем и материковым Китаем мирными средствами без элементов военного принуждения, к которому ему рано или поздно придётся прибегнуть. Военный баланс в Тайваньском проливе всё больше складывается в пользу НОАК, что сдерживает вмешательство со стороны США. Но даже при этом перед китайским политическим руководством стоит непростой выбор между применением силы и отказом от вековой мечты о едином Китае, свободном от иностранных сфер влияния. Принимая решение, Пекин должен будет взвесить риски дорогостоящей войны с Соединёнными Штатами, в которую может втянуться Япония, с её возможной эскалацией до обмена ядерными ударами. Положив высокую вероятность такого развития событий на одну чашу весов, Пекин неизбежно положит на другую чашу внутриполитические последствия молчаливого согласия с унижением по стержневому вопросу китайского национализма.
До тех пор, пока жители Тайваня будут верить, что Вашингтон даёт им карт-бланш или чек на предъявителя, который можно заполнить кровью американских солдат, они будут чувствовать себя вправе занимать выжидательную позицию. Устранение двусмысленности в приверженности США идее защиты свободы островитян просто поощрило бы их к ещё большему превышению своих реальных возможностей, чем они это уже делают. Между тем военный баланс в регионе всё больше смещается не в их пользу, какой бы выбор они ни сделали.
Поэтому Тайбэю необходимо решить, стоит ли стремиться к примирению с китайцами по другую сторону пролива на переговорах или идти на риск войны, которая, даже при поддержке со стороны Америки, уничтожила бы демократию и процветание на острове, но не дала бы ему гарантий независимости.
Делая ставку исключительно на военное сдерживание без дипломатических усилий для достижения разрядки, сближения и примирения сторон по обе стороны Тайваньского пролива, США делегируют выбор войны и мира Пекину и Тайбэю. Никогда не было полной ясности, блефует ли Вашингтон или он всерьёз намерен вступать в войну с Китаем из-за Тайваня. Оказавшись перед выбором между потенциально губительным противостоянием с КНР и молчаливым наблюдением за тем, как демократический противник авторитарного Китая, теперь уже официально объявленного нашим противником, становится жертвой агрессии, что предпочтут сделать Соединённые Штаты?
Если заявить о нашем намерении воевать, это побудит Тайбэй идти на неоправданный риск. Но если мы скажем о нежелании воевать, это поощрит Пекин к авантюрному поведению. Поэтому никаких выгод избавление от нынешней двусмысленности не сулит. Однако, вне всякого сомнения, мы должны управлять тайваньской ситуацией на основе взвешенного суждения о том, на что мы готовы, а на что нет для снижения опасности войны за остров, даже если мы оставим это суждение при себе.
Смещающийся баланс сил, упёртый национализм в Пекине, иллюзии безопасности и защищённости в Тайбэе, странная смесь бравады и беспечности в Вашингтоне – всё это предвестники трагедии. Я не вижу лёгких ответов для участников этой игры на вопрос о том, как остановить их неумолимое приближение к катастрофе. А тех, кто принимает ответственные решения в этой сфере, прошу лишь об одном: прежде чем предлагать какие-то действия, задайте себе вопрос, который дипломатов и профессионалов в военном искусстве учат задавать: «И что тогда?».

Способствовать великому возрождению китайской нации
О ключевых задачах, принципах и методах работы китайской дипломатии на современном этапе
Ван И, Член Госсовета, министр иностранных дел КНР
2020 год оказался весьма и весьма непростым для всего мира, в том числе Китая. Наслаивались друг на друга беспрецедентные потрясения и последствия глобальной пандемии.
В прошедшем году человечество столкнулось с новыми вызовами и оказалось перед выбором. Внезапная вспышка коронавирусной инфекции и ее распространение по всей планете угрожали жизни и здоровью человека. Падение экономики сильно ударило по благосостоянию населения разных стран. Вновь безумствуют политика силы и мышление холодной войны, бушуют односторонность и протекционизм, весь мир ввергнут в потрясения и острые перемены. Но одновременно стремительно меняется международная архитектура, набирает обороты новый виток научно-технической революции и промышленных преобразований. Народы мира стали еще глубже понимать значимость сообщества единой судьбы человечества. На историческом перепутье подавляющее большинство членов международного сообщества выступают за солидарность, открытость и сотрудничество, против раскола, изоляции и конфронтации.
В прошедшем году мы, преодолев различные трудности, положили новое начало делу Коммунистической партии Китая и всей страны. Перед лицом серьезных испытаний пандемии и непростой внешней обстановки китайский народ под твердым руководством ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, в едином порыве первым в мире купировал эпидемию и развернул противоэпидемическое сотрудничество. Удалось восстановить деловую активность и рост экономики. Выполнена историческая задача полного искоренения бедности в установленный срок. Достигнуты определяющие успехи в деле всестороннего построения среднезажиточного общества, уже близка победа в достижении поставленных целей одного из «двух столетий» — столетнего юбилея образования Компартии Китая. На пятом пленуме ЦК КПК 19-го созыва выработан план национального развития на следующие пять лет и более долгий период, дан уверенный старт всестороннему построению социалистического модернизированного государства. Китайская нация сделала большой шаг вперед на пути к великому возрождению.
В прошедшем году дипломатия с китайской спецификой дала хорошие результаты. Руководствуясь идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской специ-фикой в новую эпоху, а также о внешней политике, ориентируясь на внешнеполитическую деятельность главы государства и преодолевая трудности, мы на дипломатическом фронте решительно и инициативно вели борьбу с коронавирусом и политическим вирусом, практическими шагами претворили в жизнь концепцию сообщества единой судьбы человечества, продемонстрировали ответственное поведение Китая как большой страны, создали благоприятные внешние условия для развития страны и возрождения нации, внесли новый весомый вклад в укрепление мира и развитие.
II
Внешнеполитическая деятельность главы государства определила высокую цель — бороться с пандемией единым фронтом. Важно быть стойким к испытаниям. Как отметил генеральный секретарь Си Цзиньпин, история человеческой цивилизации — эпопея борьбы с заболеваниями и катастрофами. Вирус не знает границ, эпидемия не выбирает национальность. Человечество объединяется общей судьбой. Сплоченность и сотрудничество — мощнейшее оружие для победы над эпидемией. Председатель Си Цзиньпин с большим воодушевлением и чувством долга поддерживает тесные контакты со своими иностранными коллегами. Он провел 88 встреч и телефонных разговоров с главами иностранных государств и руководителями международных организаций, принял участие в 23 важных международных мероприятиях, в том числе экстренном саммите «группы двадцати», 20-м заседании Совета глав государств — членов ШОС, 12-м саммите БРИКС, 27-й неформальной встрече руководителей экономик — членов АТЭС, 73-й сессии ВАЗ. Озвученная идея о создании сообщества здравоохранения человечества и другие важные инициативы, такие как объединение усилий в совместной борьбе с эпидемией, эффективное международное сотрудничество по профилактике и контролю, поддержка роли профильных международных организаций в лице ВОЗ, усиление координации макроэкономической политики, служат для нас инструкцией во внешнеполитической работе по борьбе с коронавирусом, придают новый импульс развитию отношений Китая с другими странами, максимально объединяют силы всего мира в борьбе с COVID-19, пользуются широким одобрением в международном сообществе.
Дипломатическая работа во имя победы над эпидемией осуществилась на основе гуманности и чувства ответственности. На пути к великому делу хватает единомышленников, готовых к бескорыстной помощи. С самого начала Китай с открытым, транспарентным, научным и ответственным подходом сотрудничает с ВОЗ и международным сообществом. Мы первыми заявили об эпидемии, первыми расшифровали генетическую последовательность коронавируса нового типа, незамедлительно обнародовали способы диагностики и лечения, рекомендации профилактики и контроля. Нами организовано более 100 международных видеоконференций с участием медицинских экспертов, открыта доступная всем онлайновая база данных COVID-19, бескорыстно проведен обмен противоэпидемическим опытом со всеми странами. Китай твердо поддерживает руководящую роль ВОЗ, оказал финансовую помощь Глобальному плану ВОЗ и ООН по гуманитарному реагированию на пандемию COVID-19. Несмотря на непростую ситуацию в стране, мы развернули крупнейшую со дня образования нового Китая глобальную гуманитарную кампанию, в рамках которой противоэпидемическую помощь получили более 150 стран и 10 международных организаций, было отправлено 36 групп медицинских экспертов в 34 страны. Задействуя преимущество крупнейшего в мире производителя медицинских средств, Китай поставил более 220 млрд штук масок, 2,3 млрд защитных костюмов и 1 млрд тест-приборов, активно продвигая сотрудничество по разработке медикаментов и вакцин, международной профилактике и контролю. В этих практических шагах находит отражение искренний настрой Китая на формирование сообщества единой судьбы человечества.
Упорная борьба на дипломатическом поприще и защита национальных интересов. Интересы отечества превыше всего — незыблемый принцип для всех китайских дипломатов. Мы категорически против попыток США политизировать тему пандемии и стигматизировать COVID-19, не допустили разгула политического вируса. Давая самый решительный отпор клевете и нападкам в отношении государственного строя и пути развития Китая, мы твердо стоим на страже политической безопасности КПК и КНР. Разбив замыслы вмешаться во внутренние дела Китая под предлогом вопросов Тайваня, Сянгана, Синьцзяна и Тибета, мы надежно защищаем не только государственный суверенитет и независимость, но и нормы и принципы международных отношений. Мы привержены надлежащему урегулированию территориальных споров и споров по морскому праву, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность. Для сохранения исторической правды мы убедительно и обоснованно отвергаем всяческую дезинформацию, разоблачаем самые разные попытки перекладывать с больной головы на здоровую. Мы решительно боремся против нелегальной односторонней рестрикции и экстерриториального применения национального законодательства под предлогом нацбезопасности, не допуская ущемления национального достоинства, закономерных интересов своих компаний и граждан.
Взаимная выгода стала лейтмотивом углубления сотрудничества и расширения открытости. Полным ходом продвигаются реформы и открытость. С вступлением в силу обновленного Закона об иностранных инвестициях негативный список доступа сократился до 33 пунктов. Двери открытости внешнему миру Китая распахиваются все шире и шире. Поставлена задача формировать новую архитектонику развития, которая отличается взаимодействием внутреннего и внешнего рынков с акцентом на внутреннюю циркуляцию. Для мира рост внутреннего спроса Китая будет означать широкие возможности в торговле и сотрудничестве. Растущее в условиях пандемии взаимовыгодное сотрудничество Китая со странами мира служит надежной опорой выхода мирового хозяйства из кризиса. Инициатива «Один пояс, один путь» показывает свою востребованность и жизнеспособность. Экспресс Китай — Европа, как «караван железных верблюдов», вышел на новый уровень по количеству поездов и объему загрузки контейнеров, играя важную роль в борьбе с эпидемией. По итогам видеоконференции на высоком уровне по международному сотрудничеству в рамках «Одного пояса, одного пути» была достигнута договоренность о формировании Шелкового пути в области здравоохранения, что придало дополнительный импульс совместной реализации инициативы. Более 3,6 тысячи компаний из 150 стран приняли участие в 3-й международной импортной выставке в Шанхае, на полях которой были заключены предварительные договоры по приобретению товаров и услуг на общую сумму 72,62 млрд долларов США. Китайский рынок станет доступен всему миру.
Комплексное выстраивание отношений с крупными государствами вписывается в общую задачу сохранения стратегической стабильности. Взаимоотношения крупных держав основаны на взаимодоверии, о чем ярко свидетельствует китайско-российская связка, которая отличается своей незыблемостью и нерушимостью. У руля растущих по восходящей линии отношений всеобъемлющего парт-нерства и стратегического взаимодействия стоят генеральный секретарь Си Цзиньпин и президент РФ В.В. Путин, которые провели пять телефонных разговоров за минувший, 2020 год. Плотное взаимодействие двух стран как стабилизирующих факторов мировой турбулентности находит свое отражение не только в антиковидной и практической сферах, но и в совместной защите итогов Второй мировой войны и принципов международной справедливости и равенства. В контексте 45-летия установления дипломатических отношений активизируются координация и сотрудничество Китая с ЕС, укрепляется взаимное доверие, наращиваются совместные усилия в отстаивании многосторонности и противодействии глобальным вызовам. Соглашение о географических указаниях, развитие «зеленого» и цифрового партнерства, завершение переговоров по инвестиционному соглашению стали содержательным наполнением китайско-европейских отношений всестороннего стратегического партнерства. Китайско-американские отношения оказались чуть ли не в самом трудном за последние 40 лет положении. На разворачивающуюся в США антикитайскую кампанию мы реагируем адекватно, справедливо и сдержанно, твердо стоим на страже государственного суверенитета, национальной безопасности и интересов развития, отстаивая нормы международных отношений и международную справедливость, защищая законные права всех членов мирового сообщества, прежде всего развивающихся стран. Тем временем политика Китая в отношении США остается стабильной и последовательной. Мы готовы непоколебимо и трезво добиваться конструктивного урегулирования и контроля над имеющимися разногласиями в пользу глобальной стратегической стабильности.
Всестороннее развитие партнерских отношений приобретает глобальный масштаб. В духе солидарности и сопереживания формируется сообщество единой судьбы с соседними странами. В наших отношениях с Японией мы добились плавного перехода. Наблюдается устойчивая динамика в китайско-индийских отношениях. Благополучно развертывается взаимовыгодное сотрудничество с Республикой Корея, в частности в сфере восстановления производств в условиях пандемии. Визит генерального секретаря Си Цзиньпина в Мьянму открыл новую страницу в истории двусторонних отношений. Интегрированное развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе находит широкое понимание. Укрепляют уверенность сторон в перспективе зоны свободной торговли в АТР соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве, а также позитивный подход Китая к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихо-океанском партнерстве. Премьер Госсовета Ли Кэцян принял участие в серии встреч в рамках ВАС. Китай и АСЕАН совершили исторический прорыв, став друг для друга крупнейшими торговыми партнерами. Успешно запущен механизм встреч министров иностранных дел «Китай — Центральная Азия». Расширяются горизонты взаимовыгодного сотрудничества с развивающимися странами. Состоялся саммит «Китай — Африка» на тему совместной борьбы с COVID-19. Плацдарм коллективного диалога стал охватывать все страны Латинской Америки и арабского мира. Китай доставлял необходимые противоэпидемические средства и гуманитарные грузы развивающимся странам, стремясь к обеспечению доступности вакцин против коронавируса. Китай является одним из активных участников инициативы «группы двадцати» о предоставлении отсрочки по обслуживанию долга для стран с низким уровнем дохода. Во взаимодействии с ООН Китай провел встречу высокого уровня по сокращению бедности и сотрудничеству Юг — Юг. В совместном преодолении пандемии и восстановлении экономики узы традиционной дружбы Китая с соседними и развивающимися странами только укрепляются.
Реформирование систем глобального управления способствует развитию мультилатерализма. Несмотря на возникшие серьезные вызовы и сложности в глобальном управлении, генеральный секретарь Си Цзиньпин на разных международных трибунах подробно разъяснял приверженность КНР многосторонним подходам, принципам «совместного обсуждения, совместной реализации и совместного пользования» и концепцию о формировании сообщества единой судьбы человечества, указав верное направление реформирования системы глобального управления. Вместе с мировым сообществом Китай решительно отстаивал ооноцентричную международную систему и миропорядок, основанный на верховенстве международного права, а также многостороннюю торговую систему под эгидой ВТО, поддержал дальнейшую демократизацию международных отношений и трансформацию экономической глобализации в более открытом, толерантном, общедоступном, сбалансированном и взаимовыгодном русле. В полном соответствии с императивами времени Китай с чувством ответственности присоединился к международному сотрудничеству по противодействию изменению климата, поставил цели по достижению к 2030 году пика выбросов углекислого газа и к 2060 году — углеродной нейтральности, тем самым внес свой вклад в глобальное дело экологии. Для формирования мирного, защищенного, открытого и совместного международного киберпространства выдвинута «Инициатива по глобальной безопасности цифровых данных». В защиту международной справедливости, выступая одним из решительных сторонников сохранения СВПД, Китай представил конструктивную идею создания многосторонней диалоговой площадки в зоне Персидского залива. Мы за поэтапное и параллельное выполнение двух главных задач на Корейском полуострове, речь идет о денуклеа-ризации и создании механизма по поддержанию мира. В поиске китайского рецепта урегулирования в горячих точках наши усилия нацелены на содействие межафганским переговорам и посредничество в отношениях между Бангладеш и Мьянмой.
Беззаветный труд на дипломатическом поприще служит развитию страны и интересам народа. Китайские дипломаты идут туда, куда зовет народ. В первые дни после вспышки коронавирусной инфекции МИД развернул глобальную кампанию по сбору медицинских средств, чтобы покрыть острый дефицит в стране. На фоне затяжной пандемии мы, объединив усилия всех соотечественников как в стране, так и за ее пределами, старались максимально перекрыть каналы завоза вируса для достижения победы над недугом. С момента начала восстановления производства и деловой активности по нашей инициативе запущены «экспресс-коридоры» для поездок людей и «зеленые коридоры» для грузоперевозок, обеспечено устойчивое и бесперебойное функционирование производственно-логистических цепочек для возобновления социально-экономического развития. Народ в центре нашего внимания, нашей заботой окружен каждый находящийся за границей соотечественник. Специальные операции по консульской защите охватывают все уголки мира. Наши диппредставительства в тесном взаимодействии с правительствами стран пребывания уделяют должное внимание решению проблем, с которыми сталкиваются находящиеся на их территории китайские граждане. Функционирует дистанционная онлайн-площадка для своевременного оказания медицинской помощи заразившимся соотечественникам. Розданы порядка 1,2 млн «посылок здоровья», доставлены в более чем 100 стран разные виды противоэпидемических средств зарубежным соотечественникам, организованы более 350 чартерных рейсов для вывоза граждан. Круглосуточно работает горячая линия по оказанию консульских услуг по номеру 12308. Мост любви, связывающий Родину и зарубежных сограждан, тянется до любой точки земного шара и передает теп-лую заботу ЦК КПК и Госсовета каждому китайцу.
III
2021 год имеет историческое значение на пути великого возрождения китайской нации. В этом году отмечается 100-летие со дня образования КПК и стартует реализация 14-й пятилетки. Китай отправляется в новый поход всестороннего построения социалистического модернизированного государства и уверенными шагами двигается к достижению цели «второго столетия». Руководствуясь идеями Си Цзиньпина о внешней политике, мы будем на основе достигнутого активно продвигать всю работу, превращать кризис в возможность, открывать новые горизонты в изменчивом мире во имя осуществления китайской мечты — великого возрождения китайской нации и формирования сообщества единой судьбы человечества.
Твердо следовать заданному курсу дипломатической работы. Твердо ориентироваться на руководство КПК и социализм с китайской спецификой — вот суть и отличительная черта китайской дипломатии. Важно непоколебимо укреплять единое централизованное руководство КПК в дипломатической работе, всемерно служить дипломатической деятельности главы государства, демонстрировать уникальность дипломатии с китайской спецификой в новую эпоху. В честь 100-летнего юбилея КПК мы готовы активно претворять курс государственного управления КПК, воплощать историю усердной борьбы народа и линию Китая на мирное развитие, чтобы мир стал лучше понимать исходную цель и миссию КПК и социализм с китайской спецификой. Будем активизировать дружеские связи со всеми партнерами в интересах укрепления взаимопонимания и взаимодоверия между народами.
Всесторонне служить стратегии национального развития. На новом этапе развития страны необходимо широко освещать новую концепцию развития, способствовать взаимосвязанности внутреннего и международного рынков, продвигать сопряжение внутренних и глобальных ресурсов, создавать благоприятные внешние условия как для формирования новой архитектоники развития, так и для запуска 14-й пятилетки. В контексте постоянного продвижения противоэпидемической работы и социально-экономического развития мы готовы на основе достигнутых результатов создать с большим числом стран «экспресс-коридор», «зеленый коридор» и механизм совместной профилактики и контроля эпидемии, развернуть международное сотрудничество по вакцинам. Для расширения открытости и развития планируется прерванная из-за пандемии мидовская презентация китайских провинций и районов. Будем совершенствовать сеть консульской защиты в интересах гарантии безопасности, законных прав и интересов китайских граждан и учреждений за рубежом.
Продолжать активно выстраивать международные отношения нового типа. Будем углублять китайско-российское всеобъемлющее стратегическое взаимодействие, чтобы создать опору для мира и безопасности в мире, а также глобальной стратегической стабильности. Готовы укреплять взаимодоверие с ЕС в целях укрепления консенсуса и практического сотрудничества, повышать уровень и качество китайско-европейских отношений. Будем стремиться к тому, чтобы политика Вашингтона на китайском направлении смогла перейти в разумное русло — двигаться навстречу друг другу, извлечь опыт и уроки, возобновить диалог, сотрудничество и взаимодоверие, определить стратегически важные рамки для здорового и стабильного развития китайско-американских отношений, найти путь мирного сосуществования государств с разным социальным строем.
Надежно продвигать международное и региональное сотрудничество. Будем содействовать скорейшему вступлению в силу соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнерстве, активизировать создание зоны свободной торговли Китая, Японии и Республики Корея, продвигать формирование пояса экономического развития в бассейне реки Меконг-Ланьцанцзян, чтобы концепция сообщества единой судьбы АТР получила реальное воплощение. Важно укреплять узы сообщества единой судьбы с африканскими, арабскими и латиноамериканскими странами, углублять солидарность и дружбу с широкими кругами развивающихся государств. Китай будет оказывать содействие развивающимся странам в ликвидации бедности и последствий стихийных бедствий, в сокращении долгов и повышении потенциала самостоятельного развития. Будем выполнять обещание о том, что китайская вакцина от коронавируса после завершения испытаний станет международным общественным достоянием.
Неустанно повышать уровень открытости и сотрудничества. Китай будет неуклонно создавать новую экономическую систему с более высоким уровнем открытости, использовать преимущество огромного объема китайского рынка, раскрывать потенциал внутреннего спроса, за счет своего развития стимулировать восстановление мировой экономики на благо всех стран мира. Китай категорически против протекционизма во всех его проявлениях, готов обеспечивать стабильное и бесперебойное функционирование глобальных цепочек производства и поставок, сообща формировать открытую мировую экономику. Будем всемерно и качественно продвигать совместное строительство «Одного пояса, одного пути», ускорять создание Шелкового пути здравоохранения, цифрового и зеленого Шелкового пути в интересах всех стран мира и их народов.
Активно участвовать в реформировании глобального управления. В 2021 году исполнится 50 лет со дня восстановления полноправного членства КНР в ООН и 20 лет с момента вхождения Китая в ВТО. Китай, оставаясь приверженным мультилатерализму, открытости, инклюзивности, взаимовыгодному сотрудничеству, идя в ногу со временем, выступает за укрепление центральной и координирующей роли ООН в международных делах. В контексте проведения 15-й конференции участников Конвенции о биологическом разнообразии готовы согласовать новую стратегию по управлению в области биоразнообразия и создать сообщество жизни на Земле. Будем активизировать сотрудничество в рамках «группы 20», АТЭС, ШОС и БРИКС для оперативного реагирования на глобальные вызовы в области изменений климата, кибербезопасности и общественного здравоохранения, объединять усилия в выработке правил глобального управления цифровыми данными и формировании более справедливой и рациональной системы глобального управления.
Всесторонне формировать сообщество единой судьбы человечества. Со дня выдвижения генеральным секретарем Си Цзиньпином важной инициативы о формировании сообщества единой судьбы человечества непрерывно обогащается и совершенствуется ее теоретическое содержание и практика реализации в дипломатической работе. Эта инициатива постоянно получает углубление и расширение как в двусторонней, так и в многосторонней повестке дня, находит все больше понимания и поддержки не только у традиционно дружественных стран, но и среди новых партнеров — от близких соседей вплоть до стран Азии, Африки и Латинской Америки. Китай будет и впредь способствовать тому, чтобы страны вне зависимости от социальных систем, этапов развития и идеологических разногласий твердо стояли на страже общих ценностей человечества во имя мира, развития, равенства, справедливости, демократии и свободы. Будем вместе стремиться к построению мира, где царит долгосрочный мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость, инклюзивность, чистая и красивая окружающая среда.
В преддверии столетия КПК оставаться преданными первоначальной цели и нести свою славную миссию. Будем теснее сплачиваться вокруг ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, непрерывно укреплять политическое сознание, сознание интересов целого, сознание ядра и сознание равнения, твердо укреплять уверенность в правоте выбранного пути, теории, строе и культуре, твердо отстаивать ключевое место генерального секретаря Си Цзиньпина как ядра ЦК КПК и всей партии, твердо отстаивать авторитет и единое централизованное руководство ЦК КПК. Были и остаемся преданными первоначальной цели и миссии, а именно — стремлению к счастью народа Китая и внесению вклада в прогресс человечества. Будем достойно выполнять свою миссию, нести ответственность перед отечеством и миром, на великом пути дипломатии с китайской спецификой вносить новый вклад в великое возрождение китайской нации!

Deep state в Поднебесной
Конфликт элит современного Китая
Николай Вавилов
Несостоявшийся левый крен
Основатель "династии" комсомольских генсеков Ху Яобан отличался, что естественно для всех деятелей комсомола, сверхпопулистскими решениями в стремлении нравиться массам. Политическую базу для своего будущего рывка Ху заработал через процесс массовой реабилитации жертв Культурной революции, что и стало одной из социальных основ и поддержки Ху, и Тяньаньмэнь-1989: политические активисты жили только одним желанием — сломать шею ненавистному режиму Народной Республики. "Есть у революции начало, нет у революции конца". К началу 1980-х годов были реабилитированы три миллиона человек.
Вторым и заметным инструментом политической работы для Ху Яобана была бесконечная "работа с населением": за пять лет своего руководства Компартией и, по сути, государством комсомольский трибун Ху Яобан посетил 1600 районов Китая или, по большому счёту, по одному уезду каждый день своей работы, что практически невозможно совмещать с регулярной деятельностью главы страны. Можно сказать, что Ху Яобан не вылезал из поездок и вряд ли вообще занимался хоть одним процессом государственного управления.
Двигателем политических процессов китайской перестройки стала научно-техническая интеллигенция провинции Аньхой — Политехнический университет смело поддержал масштабное движение студентов, перекинувшееся на Шанхай и Пекин. Именно с аньхойской региональной элитой тесно связан глава комсомола Ху Цзиньтао — следующий в "комсомольской династии Ху", о котором речь пойдёт позже.
Когда ситуация со студенческими протестами и их поддержкой со стороны Ху Яобана накалилась до предела, в январе 1987 года расширенное заседание Политбюро ЦК КПК фактически принуждает Ху Яобана к отставке. Главной силой в этом процессе выступает глава Центрального военного комитета ЦК сычуанец Дэн Сяопин, при этом силы армии и комсомола были равны. В ноябре 1987 года Ху Яобан вновь избирается членом Политбюро, а его место занимает участник пары Ху Яобана — премьер Чжао Цзыян. Ху Яобан умирает в Пекине от инфаркта миокарда 15 апреля 1989 года, за два месяца до подавления студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь 6 июня. Смерть Ху Яобана дала импульс масштабным митингам, которые впоследствии переросли в противостояние с частями НОАК в Пекине. Фигура Ху Яобана была табуирована до 2005 года, до первого года обретения Ху Цзиньтао полноты власти, когда на мероприятии, посвященном 90-летию Ху Яобана, выступил комсомольский премьер Вэнь Цзябао.
Интересно, что Ху Яобан похоронен не на Бабаошань, центральном кладбище для всех китайских политических лидеров, а в провинции Цзянси, в городе Гунцинчэн. Гунцинчэн — коммуна, основанная шанхайскими комсомольцами в 1955 году. Это единственный город в Китае, который назван по созвучию с комсомолом. Статус города Гунцинчэн получил в 2010 году. Здесь, в глухих районах Цзянси, располагается всекитайская база обучения молодёжи. Комсомольский город расположен на берегу живописного озера Поянху, в честь которого названы провинции Хунань (переводится как "к югу от озера") и Хубэй ("к северу от озера"), в удобной близости от города Ухань, столицы провинции Хубэй, и города Наньчан, столицы провинции Цзянси, недалеко от центров восточной части провинции Аньхой. Таким образом, Комсомольск — фактически ритуальная столица комсомольского движения.
Такая даже ритуальная оппозиция революционному кладбищу Бабаошань прослеживается и в символике комсомола: на его гербе пятиконечная звезда изображена перевёрнутым образом, "рогами вверх", в то время как на символе китайской армии это стандартное изображение пятиконечной звезды, которое и перешло на флаг КНР. На флаге Компартии Китая вообще отсутствует изображение пятиконечной звезды, только серп и молот, в то время как на флаге комсомола — регулярно расположенная пятиконечная звезда взята "для усиления" в окружность.
Эпидемия SARS как способ трансфера власти
Первым симптомом политической эпидемии, которая совпала с переходом высших государственных постов от шанхайского генерального секретаря Цзян Цзэминя к "комсомольцу" Ху Цзиньтао, стала фиксация первого случая странного респираторного заболевания на следующий день после избрания Ху Цзиньтао генеральным секретарем Компартии — 14 ноября 2002 года на 16-м съезде КПК.
Основная проблема передачи власти от Цзян Цзэминя к Ху Цзиньтао на 16-м съезде Компартии заключалась в том, что по итогам съезда Ху Цзиньтао возглавил Компартию, однако в его руки не была передана верховная военная власть: Цзян Цзэминь оставался как на посту председателя Центрального военного комитета ЦК, так и на посту председателя Центрального военного комитета КНР. Таким образом, в стране значительная часть военного руководства была против возвращения полноты власти к комсомолу, понимая его глубоко антиармейскую направленность.
Внешнеполитический фон трансфера власти усугублялся тем, что возвышение комсомола в Компартии и государственном аппарате страны пришлось на период правления президента-демократа У. Клинтона, срок полномочий которого завершился 20 января 2001 года. На пост президента был избран республиканец Дж. Бушмладший. Республиканцы традиционно имели отношения с "шанхайской группой" Цзян Цзэминя, поэтому в руководстве Китая сложился баланс сил, чреватый простым повторением сценария Тяньаньмэнь. Тем не менее начавшийся мировой кризис 2001 года (КНР потеряла за год 18% внешней торговли), эпидемия SARS, связанное с ней международное давление на руководство Китая привели к масштабной деинсталляции ряда ключевых лидеров "шанхайской группы", дискредитации руководства Цзян Цзэминя на мировой арене и в конечном счёте — передаче верховных военных постов в руки "комсомольца" Ху Цзиньтао. Хотя и с большой задержкой, председателем ЦВК ЦК наследник комсомольской династии Ху становится в сентябре 2004 года, председателем ЦВК КНР — в марте 2005 года. Заместителями комсомольского председателя ЦВК становятся тыловики Го Босюн и Сюй Цайхоу, уже при Си Цзиньпине они подвергаются чистке. (Сам Си Цзиньпин, к слову, становится заместителем председателя ЦВК уже в 2010 году — это стопроцентный маркер его будущего лидерства.) Ху Цзиньтао получает формальный полный контроль над армией лишь на пять лет.
Хронология политической эпидемии начинается в Гуандуне, который на тот момент возглавляет лояльный группе Цзян Цзэминя Ли Чанчунь, — именно здесь фиксируется первый случай, и именно на Гуандун приходится максимум случаев заболевания и смертей, в целом ничтожный для огромного населения Китая (общее число заболевших во всем мире — свыше 8 тыс., летальных исходов — 774; максимум заболевших за пределами КНР приходится на Гонконг, Тайвань, Канаду, Сингапур; в США — 27 случаев, в России — 1 (по состоянию на конец 2003 года)), однако сопровождающийся колоссальным психологическим давлением со стороны органов здравоохранения, СМИ, в том числе западных. Каждый случай громко освещается в прессе, каждого больного под не умолкающие ни днём ни ночью звуки медицинских сирен доставляют на экстренное лечение. Именно с эпидемии SARS в Китае начинается ежегодная медиакампания по масштабному освещению каждого нового штамма респираторных заболеваний, после чего у населения формируется устойчивое восприятие каждой новой такой медиаэпидемии как естественной части жизни. В декабре 2002 года в руководство парткома Гуандуна приходит бывший комсомольский руководитель Чжан Дэцзян, и "шанхайская группа" теряет контроль над важнейшим экспортным регионом страны. 20 января 2003 года губернатором Гуандуна на весь период правления Ху Цзиньтао становится Хуан Хуахуа, замсекретаря комсомола Гуандуна, которого также сменяет "комсомолец" — бывший секретарь горкома комсомола Гуанчжоу Чжу Сяодань (губернатор до 2016 года).
Именно в Гуандуне, где зафиксирована вспышка, с февраля 2003 года (два летальных исхода и свыше 100 заразившихся на 15 млн. Гуанчжоу) начинает работать будущий глава Комитета здравоохранения, а тогда лишь заместитель Ма Сяовэй, основной борец с аналогичной эпидемией в I квартале 2020 года. При этом правительство города спустя две недели выступило с вполне рациональным заявлением, что 300 заболевших на огромное население — это весьма незначительное количество, однако паника в городе уже была запущена. Именно тогда же представитель Китайской академии наук шанхаец Чжун Наньшань выступил с заявлением о том, что при необходимых стандартных мерах предосторожности болезнь не представляет серьёзной угрозы. С такой же повесткой Чжун Наньшань будет выступать и в I квартале 2020 года. Ни одно мероприятие в Гуанчжоу — центре китайского экспорта и международной конгрессной деятельности — не было отменено, в том числе футбольный матч КитайБразилия, собравший на стадионе Тяньхэ более 50 тыс. болельщиков, а также иные масштабные мероприятия в городе. Такой же тактики город придерживался и в период фиксации даже случаев лихорадки Эбола в 2014 году, когда проходила гигантская торговая Кантонская ярмарка. Власти Гуанчжоу и далее всеми своими действиями демонстрировали контроль над эпидемией. Так же мировой центр торговли повёл себя и в первые месяцы вспышки респираторного заболевания 2020 года, несмотря на тотальную панику в городе Ухань.
На новый уровень тревоги ситуацию вывели события в Пекине, сопровождавшиеся с появлением заболевания у нескольких жителей Гонконга и масштабным международным освещением эпидемии с подключением Всемирной организации здравоохранения.
После срыва передачи полномочий Центрального военного комитета в руки Ху Цзиньтао в марте 2003 года — на сессии ВСНП, когда стало очевидно, что военная власть остаётся в руках бывшего генсека Цзян Цзэминя, — Ху Цзиньтао 17 апреля проводит экстренное заседание Постоянного комитета Политбюро. По итогам заседания:
1) от руководителей регионов Китая требуют не скрывать случаи заражения (по сути, объявляют гонку за увеличением статистики), число случаев заражения в столице официально резко возрастает с 37 до 339 (за сутки);
2) отстраняется шанхайский глава парткома Министерства здравоохранения генерал-майор медицинской службы НОАК, выходец из шанхайской системы здравоохранения Чжан Вэнькан, до Минздрава занимавший пост заместителя начальника департамента медицинской службы Управления тыла НОАК и заявлявший о безопасности посещения Китая и проведения массовых мероприятий;
3) на место данных руководителей назначается по совмещению хубэйская вице-премьер У И. После завершения карьеры продолжила возглавлять Китайское общество по борьбе с ВИЧ;
4) смещается мэр Пекина — шаньдунский "комсомолец" Мэн Сюэнун, руководитель комитета комсомола города, долгое время вице-мэр города. Вероятно, за недостаточное рвение в выявлении заболевания. Однако позже он перемещается на проект переброски вод юга на север;
5) на его место в качестве мэра Пекина приходит шаньдунец Ван Цишань, который разворачивает масштабную активность по борьбе с респираторным заболеванием. Находится на посту мэра до 2007 года, затем перебирается в Политбюро ЦК и на должность вице-премьера Госсовета КНР. Ван Цишань является активным участником кампании по борьбе с эпидемией SARS и практически самоустраняется от вспышки респираторного заболевания в начале 2020 года;
6) после занятия Ху Цзиньтао должности председателя ЦВК ЦК в сентябре 2004 года на его место заместителя руководителя военного органа приходит Сюй Цайхоу, который был арестован после прихода к власти Си Цзиньпина и умер в 2015 году;
7) в сентябре 2006 года деинсталляция "шанхайской группы" завершается арестом преемника Цзян Цзэминя, который должен был прийти на замену Ху Цзиньтао в 2012 году, главы горкома Шанхая Чэнь Лянъюя. В результате этой борьбы главой горкома стал Си Цзиньпин, впоследствии новый лидер Китая. По непроверенным данным, Чэнь Лянъюй выпущен из тюрьмы досрочно в мае 2020 года;
8) к началу трансфера в ЦВК присутствуют два заместителя председателя ЦВК, выходцы из Шаньдуна, — министр обороны (19932003) Чи Хаотянь и Чжан Ваньнянь. При них могла сформироваться и выйти на передний план современная "шаньдунская группа", которая также стала "третьей силой" в период конфронтации комсомола и Шанхая и в конечном счёте выдвинулась на 18-м съезде в лице Ван Цишаня.

ФИНАНСОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – ТРОЯНСКИЙ КОНЬ КИТАЯ
НАДЯ ШЭДЛОУ
Научный сотрудник Гудзоновского института и корпорации MITRE, геостратегический директор компании Prism Global Management. В 2018 г. была заместителем помощника по национальной безопасности президента США по стратегическим вопросам.
РИЧАРД КАНГ
Основатель и генеральный директор компании Prism Global Management.
ПОПУЛЯРНЫЕ КИТАЙСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ – ЛИШЬ ОСТРИЕ КОПЬЯ
Показательный текст американских специалистов в сфере финтеха, который хорошо иллюстрирует одно из главных направлений глобального соперничества США и Китая на предстоящие годы.
В одном из последних указов на президентском посту Дональд Трамп запретил восемь китайских программных приложений, в том числе Alipay – крупнейшее в мире приложение для осуществления мобильных платежей. Жители Китая и жители других стран всё чаще совершают всевозможные транзакции с помощью приложений Alipay и WeChat Pay – ещё одного приложения, запрещённого указом Трампа. Посредством этих приложений люди делают буквально всё: оплачивают счета за электричество, покупают продукты питания в частных лавочках и тратятся в шикарных бутиках.
Этот запрет, изданный 5 января, был попыткой Трампа отреагировать на озабоченность по поводу того, что популярные китайские приложения могут предоставить Пекину доступ к конфиденциальным данным об американцах. Однако более фундаментальную проблему для Соединённых Штатов представляет формирующееся доминирование Китая в финансовой технологии, известной также под названием «финтех». Вашингтон не может полагаться на то, что Компартия Китая использует своё растущее влияние на финансовых рынках во благо всех жителей планеты. Куда более вероятно, что Пекин использует финтех, чтобы занять господствующую высоту в мировой торговле, укрепить своё полицейское государство и создать потенциал для оспаривания статуса доллара США как мировой резервной валюты.
Троянский конь в твоём смартфоне
Приложения для мобильных платежей в Китае начинались как забава и лёгкий способ отправления праздничных подарков в «красных конвертах» родным и друзьям на Лунный новый год, но они быстро развились в гигантскую индустрию. Миллионы китайских потребителей используют технологии цифровой оплаты для совершения каждодневных транзакций. Растущий средний класс Китая быстро проскочил стадию кредитных карт, сразу перейдя к цифровым платежам, ежегодный объём которых в Китае сегодня превышает 42 трлн долларов. Это почти в 150 раз больше объёма транзакций в США с помощью таких приложений как PayPal и Venmo.
Подъём китайских компаний в сфере финтеха грозит укреплением самого масштабного и вездесущего полицейского государства в мире.
Так называемый выхлоп данных от миллиардов цифровых транзакций дополняет имеющиеся данные распознавания лиц, поисковые истории, контакты в социальных сетях, так что в распоряжении КПК оказывается время и место поездок людей с их навигаторов, использующих спутниковую связь, истории транзакций, журналы регистрации поездок, банковские реквизиты и не только. Вся эта информация в совокупности позволяет китайским властям внимательно отслеживать перемещение и контролировать конкретных лиц и сообщества, ограничивая или отменяя их доступ к банковским счетам, препятствуя их свободному передвижению и отказывая им в доступе к конкретным объектам. Не так давно финансовые власти Гонконга стали просить банки сообщать о транзакциях, чтобы помочь официальным властям в выявлении активистов демократизации общества, и это зловещий знак.
Понятно, что официальные лица разных стран обеспокоены тем, как китайские власти могут использовать данные, генерируемые пользователями в их странах. Приложение Alipay используется гражданами более 110 стран. Индийский парламентарий Нарендра Джадхав предупреждал в 2018 г.: если китайские компании финтеха получат доступ к финансовым данным миллионов индусов и компаний Индии, это подвергнет его страну «серьёзным геополитическим рискам». Аналогичные опасения мотивировали Трампа издать исполнительное распоряжение в январе, запрещающее использование китайских приложений Alipay, WeChat Pay и других программных продуктов из Китая.
Доминирование Китая в финансовых технологиях также сулит поддержку экспансионистским устремлениям КПК другого рода с учётом того, что многие страны оказываются жёстко привязанными к экономике Китая. Китайские компании в сфере финансовых технологий действуют подобно геоэкономическому троянскому коню. Alipay и WeChat Pay – компании, контролирующие до 95 процентов рынка мобильных платежей в Китае – вторгаются в повседневную экономическую жизнь граждан другой страны. Затем, пристраиваясь к этой финансовой инфраструктуре, они и другие китайские компании приобретают лицензии на оказание цифровых банковских услуг и быстро проникают в другие отрасли, включая цифровые услуги страхования, потребительские кредиты, денежные переводы и кредитование. Вскоре эти компании настолько органично встраиваются в экономику той или иной страны, где начинают свою операционную деятельность, что их становится невозможно полностью устранить. Например, в начале декабря три из четырёх победителей (выбранных из числа 21 компании, подавших заявки), которые получили лицензии на оказание цифровых банковских услуг в Сингапуре, были китайскими инвесторами или получателями поддержки от китайских инвесторов. Западных и американских компаний даже близко не было видно, то есть у Китая появилось открытое игровое поле в Сингапуре.
Заявка Китая на гегемонию в финансово-технологической сфере Азии – шаг к достижению ещё более важной цели: доминирующего положения в сфере мировых резервных валют. Прошлой осенью аналитики из американской компании Morgan Stanley, оказывающей финансовые услуги, спрогнозировали, что юань может превзойти японскую иену и британский фунт стерлингов, став третьей по величине активов мировой резервной валютой к 2030 году. На долю юаня будет приходиться 5–10 процентов мировых валютно-финансовых резервных активов. Пекин бросает вызов доминированию американского доллара в Юго-Восточной Азии и некоторых африканских странах, поскольку готовится запустить в обращение суверенный цифровой юань. Скорее всего, это произойдёт в течение следующего года. Подобная мера облегчит транзакции и позволит Китаю лучше отслеживать использование его валюты.
Юань для всех
Потребители и коммерсанты в Юго-Восточной Азии вскоре смогут пользоваться цифровым юанем в приложениях Alipay и WeChat Pay. Впоследствии приложения будут служить дистрибьюторами цифрового юаня по мере того, как местным компаниям и предприятиям будет всё удобнее пользоваться не долларом, а юанем при совершении транзакций с китайскими компаниями. Затем КПК начнёт добиваться того, чтобы цифровой юань использовался вместо американского доллара более серьёзными организациями и предприятиями, совершающими крупные транзакции, такие как выплаты процентов и финансирование цепочек поставок.
Этот сдвиг уже начался – ещё до выпуска в обращение новой суверенной цифровой валюты Китая. По мере разрастания двусторонней торговли между Китаем и странами Юго-Восточной Азии росла и доля торговых операций с расчётом в китайских юанях. Соответственно, это продолжает снижать долю американского доллара в двусторонней торговле. Дино Джалал, бывший посол Индонезии в США, указывает, что двусторонняя торговля Индонезии с Китаем в 2019 г. оценивалась в 79,4 млрд долларов. Это в десять раз превышает торговый оборот между этими странами в 2000 г., что делает юань «привлекательнее» для индонезийских компаний при их расчётах с китайскими партнёрами. Доля юаня в двусторонней торговле между Китаем и Индонезией выросла в четыре раза за последние четыре года.
Страны региона могут вскоре начать увеличивать долю юаня в своих международных валютных резервах.
Пример России в этом отношении, вполне возможно, предвосхищает будущую ситуацию, которая может сложиться в Юго-Восточной Азии.
Россия резко увеличила долю юаня в своих резервах с чуть более 2 процентов в 2018 г. до более 14 процентов в 2019 году. За тот же период она снизила долю американских долларов в своих резервах с 30 процентов до 10 процентов. С 2016 года доля американского доллара в торговле между Китаем и Россией упала с 90 до 46 процентов.
Цифровой юань Китая может выкачивать транзакции с платформ денежного обмена, где доминирует Запад, таких как SWIFT – ключевой механизм, поддерживающий доминирование американского доллара в мировой торговле. Официальные лица КПК говорят о платформе SWIFT как об инструменте Соединённых Штатов, посредством которого они сохраняют «мировую гегемонию» и получают «гигантские прибыли через эту монопольную платформу». Официальные лица США должны серьёзно отнестись к действиям Китая в этой области. Макс Левчин, один из основателей PayPal, полагает: если Соединённые Штаты не возьмут ситуацию под контроль и не сделают цифровую версию доллара более доступной, они «рискуют позволить китайскому юаню стать главной цифровой резервной валютой мира». США утратят рычаги влияния на многие страны, если последние будут предпочитать доллару юань.
Предложить альтернативу
Соединённым Штатам необходимо всерьёз задуматься над тем, чтобы предложить другим странам альтернативы финансово-технологическим компаниям Китая за счёт мощи американских технологических компаний. Однако же эти технологические гиганты США не спешат втягиваться в усиливающуюся конкуренцию с Китаем. Либо Alibaba, либо Tencent инвестировали в каждую из тринадцати стартапов-«единорогов» Юго-Восточной Азии, стоимость которых превышает миллиард долларов. В отличие от них Facebook и PayPal инвестировали в первого игрока на финансово-технологическом рынке Юго-Восточной Азии, компанию Gojek, лишь в марте прошлого года. Такие американские компании как Facebook, Google и PayPal не должны допустить, чтобы их вышибли с самых быстрорастущих рынков мира, которые преимущественно расположены в Индо-Тихоокеанском регионе. Тем временем американскому правительству нужно найти способы подтолкнуть своих технологических гигантов к партнёрству с некитайскими финансово-технологическими компаниями всего мира. Ему следует также мотивировать венчурных капиталистов из США инвестировать в технологии, служащие государственным интересам, как это делает Китай. Соединённым Штатам нужно предложить странам жизнеспособную альтернативу технологическому подчинению КНР.
Популярные и удобные цифровые системы оплаты в торговле, которыми китайские потребители пользуются ежедневно, являются важной частью автократического полицейского государства Китая, локомотивом которого выступают передовые технологии. Это то, что мы называем «Китайской операционной системой». С помощью финтеха КНР твердо намерена ещё решительнее заявлять о своих притязаниях на лидерство в мировой экономике и добиться ещё большего контроля над мировой финансовой системой. У Соединённых Штатов пока есть время, чтобы одержать верх в этой конкурентной борьбе. Но если они не начнут действовать незамедлительно, им придётся играть потом в непростую игру в догонялки.
Foreign Affairs

Чанпэн Чжао: криптореволюция только начинается
Мировой интерес к криптовалютам как новому децентрализованному виду активов заставил многие страны принять специальное законодательство в этой сфере. В период пандемии спрос на криптовалюты резко вырос, а цена самой популярной из них – биткоина – на крупнейшей по объему торгов криптобирже Binance подпрыгнула более чем вдвое. Какие изменения вызвал COVID-19 на криптовалютном и традиционном финансовом рынках, каким может быть регулирование цифровых валют в России, и почему криптовалюты манят мошенников, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор и основатель Binance Чанпэн Чжао. Беседовала Мариам Багдасарян.
– Пандемия коронавируса сильно ударила по мировой экономике. Какое влияние, на ваш взгляд, она оказала на крипторынок? К каким неожиданным изменениям она привела?
– В 2020 году мировые рынки столкнулись с беспрецедентной волатильностью и нестабильностью и в без того уязвимых экономиках многих странах. В условиях глобальной экономической неопределенности, вызванной COVID-19, инфляции и страдающих из-за макроэкономического шока традиционных активов, люди во всем мире все стали чаще обращаться к биткоинам и криптовалютам как к альтернативным активам и способам перевода денег. Это вывело крипторынок на новый уровень.
COVID-19 очень четко подсветил проблемы, с которыми сталкивается мировая экономика, в результате этого люди стали лучше разбираться в природе инфляции и понимать, как она может повлиять на бизнес-сегмент и на частную жизнь.
– То есть, по вашему мнению, инвесторы воспринимают биткоин как средство защиты от инфляции?
– Если говорить о бизнесе, в этом году мы увидели несколько громких историй, связанных с институциональными инвесторами и их интересом к биткоину. В августе 2020 года первой стала компания Microstrategy, акции которой размещены на бирже Nasdaq. Она стала первой публичной компанией, которая внесла биткоин в свой портфель. Они обнародовали, что сейчас у них 70 470 BTC на сумму более 1,596 миллиарда долларов.
Платежная компания Square, основанная генеральным директором Twitter Джеком Дорси, недавно объявила, что приобрела биткоины на сумму 50 миллионов долларов. Стратеги JP Morgan опубликовали отчет, в котором указывалось, что инвестиции Square приведут к тому, что "другие платежные компании обратят внимание на инвестиции в биткоин или рискуют остаться позади".
Все это позитивные признаки того, что институциональные инвесторы включают биткоин в свою финансовую стратегию и стратегию хеджирования. Это помогает биткоину приобрести законный статус, а также влияет на повышение уровня осведомленности о криптовалюте, в том числе как средства против долгосрочной инфляции.
Действия институциональных инвесторов в будущем могут привести к расширению возможностей партнерств между традиционными институтами и криптовалютными компаниями. Традиционным институтам все больше необходимы экспертные знания от криптоспециалистов, например, о решениях по хранению, токенизации и развитию одноранговых сетей. Криптокомпании, в свою очередь, выиграют от воздействия и масштаба, которые могут дать им традиционные организации. Уверен, что уже скоро уровень осведомленности о криптовалютах будет расти, а массовое внедрение ускорится.
Стоит отметить, что коронавирус вызвал и другие макроэкономические изменения, такие как количественное смягчение (QE) почти во всех странах, что также повысило интерес к криптовалюте. Я думаю, что по мере того, как новые деньги QE будут поступать на мировой рынок, большая часть из них будет преобразована в ту или иную форму криптовалюты.
Говорить о долгосрочных экономических последствиях COVID-19 рано, они неизвестны. Однако, мы все еще находимся в эпицентре экономических потрясений и волатильности, и я уверен, что криптоиндустрия будет и дальше расти, а нас ждет не менее интересный год и позитивные изменения.
– В России криптовалюты еще не регулируются, законодательство пока находится в стадии разработки. На ваш взгляд, ускорит ли экономический кризис регулирование крипторынка?
– Рынок криптовалют – это передовой сектор, и его развитие идет очень быстро, но регулирование во многих регионах все еще находится на начальной стадии. Я считаю, что регулирование необходимо, и этого хотят все стороны – оно будет активно способствовать внедрению инноваций, устойчивости открытого рынка и его развитию.
В 2020 году экономический кризис достаточно сильно повлиял на развитие криптоиндустрии во всем мире. Параллельно с ростом рынка мы видим и активное внедрение регулирования, и мы ожидаем еще больше положительных результатов в этой сфере в 2021 году.
– Каких ошибок в области регулирования криптовалют и технологии блокчейн российским властям стоит избегать?
– Российский рынок имеет огромный потенциал. Я считаю, что опыт и знания представителей глобальных криптовалютных компаний необходимы и очень важны для разработки и внедрения нормативно-правовой базы. Это будет способствовать формированию основы для появления устойчивого рынка в РФ.
Также в России должны быть сформированы условия для дополнительных возможностей в отрасли и благоприятная рыночная среда для новых игроков. Я думаю, что цифровые финансовые активы и цифровые валюты должны стать нормой среди инструментов финансового рынка.
– Какие шаги мировых регуляторов стоит позаимствовать России? Опыт каких стран вам кажется самым интересным и подходящим для России?
– Опыт каждой страны индивидуален и по-своему уникален. Я считаю, что России следует разработать собственные нормы и правила регулирования исходя из специфики рынка и предпочтений пользователей. Думаю, что в ближайшие 12 месяцев мы увидим больше ясности в правилах.
– Рассматривает ли Binance открытие физической криптобиржи в РФ после появления регулирования?
– Пока рано давать однозначный ответ на этот вопрос. Посмотрим, что будет с регулированием в России. Все будет зависеть от этого.
– Планируете ли запустить новые совместные проекты с Российской ассоциацией криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ), например, запустить свой майнинговый пул? Например, рассматриваете ли вы запуск проектов на Дальнем Востоке?
– В настоящее время у нас нет совместных инициатив с РАКИБ, но мы постоянно изучаем возможности для новых партнерств, работаем над расширением майнингового пула Binance (один из крупнейших международных онлайн-сервисов обмена цифровых валют – ред.) и внедряем новые технологии для повышения эффективности и безопасности в своей работе.
Майнинговый пул Binance по итогам года стал третьим в мировом рейтинге, и мы уверены в его дальнейшем росте.
Запуск новых проектов обязательно проходит через процедуру внутреннего аудита и оценку рисков, поэтому мы несомненно заинтересованы в сотрудничестве с профессиональными майнинговыми организациями в России и СНГ, и будем готовы обсудить новые возможности после появления регуляторной четкости.
– На фоне пандемии и самоизоляции активное развитие получило в 2020 году интернет-мошенничество. Насколько, по вашим оценкам, вырос объем мошенничеств? Какие необычные схемы используют злоумышленники?
– Общая сумма потерь от мошенничества снизилась, но число случаев мошенничества возросло. И причин для этого больше, чем просто пандемия. Хотя безусловно, большое количество времени, проведенное в интернете, значительно увеличивает шансы стать жертвой мошенников.
– Фиксировали ли в этому году мошенничества с использованием бренда Binance? Как, на ваш взгляд, можно решить проблему с онлайн-мошенничествами на рынке?
– Мы всегда активно боремся с мошенничеством, направленным на наш бренд. Мы выявляем мошенничество, используя как собственный канал данных об угрозах, так и сторонние каналы. Как правило, мы еженедельно удаляем более 100 фейковых веб-сайтов, приложений и учетных записей в социальных сетях, где используется наш бренд.
– Ожидаете ли вы дальнейшего роста цены на биткоина в 2021 году? До какого уровня и в связи с чем?
– Скажу не только о биткоине, но и обо всем рынке криптовалют. Я могу с уверенностью сказать, что позитивные сдвиги этого года никуда не денутся. В этом году криптовалюты стали еще более популярными, а криптореволюция только начинается. Цифровая экономика будет задействована во многих отраслях, что потенциально приведет к более широкому принятию и внедрению криптовалют.
– Какой была ваша первая покупка за криптовалюты? Что вы купили и за сколько? Покупаете ли вы сейчас товары за криптовалюты?
– Это был биткоин, и это был 2013 год. Я продал свою квартиру, чтобы купить биткоины. Цена BTC на тот момент была что-то около 200 долларов.
Сейчас я вообще не использую фиатные деньги и не перевожу криптовалюту в фиат. Лично для меня фиат больше не актуален, я верю в криптовалюту. Я оплачиваю еду, такси, да и вообще плачу за все исключительно криптовалютой.
– Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию с кадрами: есть ли дефицит специалистов по блокчейну и криптовалютам?
– Криптовалютная индустрия развивается очень быстро. Создаются новые рабочие места, новые экономические возможности и новые технологии.
Ожидалось, что блокчейн станет самым востребованным профессиональным навыком в этой работе. Спрос на таких специалистов сильно превышает предложение как в крипто-, так и в традиционных компаниях.
Сейчас существует множество обучающих курсов и факультетов по блокчейну и криптовалютам. Но традиционное образование – это не то, что нужно для получения работы в этом секторе.

Америка - разделено царство твоё
«американская мечта» отступает, «китайская мечта» наступает
Юрий Тавровский
Штурм вашингтонского Капитолия 7 января 2021 года удивительно похож на захват гонконгского Законодательного собрания 1 июля 2019 года. Вот многотысячная толпа демонстрантов спокойно движется мимо слабо охраняемого здания. Вот неожиданно вперед устремляется штурмовая группа, отбрасывает служителей безопасности, врывается в вестибюль, проникает в кабинеты и устраивается там по-хозяйски. Люди в черных майках в Гонконге и в звериных шкурах в Вашингтоне только на первый взгляд смотрятся как образец анархии. Словно по чьей-то команде они быстро собирают силы в наступлении, сплачиваются для удержания фронта, а затем организованно отступают. Качественная съёмка обеспечивает мировые СМИ эффектными кадрами погромщиков в кабинетах ключевых законодателей, матерных надписей на стенах, разбитой оргтехники.
Разглядывая сцены этих политических действ, я чувствую, как «холодок бежит за ворот». Вспоминаются события на пекинской площади Тяньаньмэнь в мае 1989 года, свидетелем которых мне довелось стать. Поначалу ничего страшного на самой большой площади мира не происходило. Сотни тысяч молодых студентов и рабочих скандировали лозунги, обменивались листовками, пели песни. По большим значкам с двумя красными флагами СССР и КНР узнавали советских журналистов, приехавших освещать визит М.С. Горбачёва и даже приветствовали по-русски: «За вашу и нашу свободу»! Ощущение «холодка за воротом» я испытал в день, когда в здании китайского парламента, (ВСНП, Всекитайское Собрание Народных Представителей), было назначено выступление «отца перестройки». Мы заранее собрались на высоких ступенях перед восточным входом. Вид шумной толпы в миллион человек почему-то напоминал кипящее плазмой Солнце. Вдруг от всей этой массы отделился «протуберанец» в несколько тысяч человек и двинулся вверх по ступеням. Телеоператоры схватили в охапку свои треноги. Фотографы прижали камеры к телу. Пишущая публика сильно напряглась. Толпа медленно, но верно наступала на нас. В это время приоткрылись массивные двери и нас не впустили, а втащили внутрь. Величественный вестибюль и коридоры были заполнены «зелеными человечками» -- сидящими на корточках солдатами в боевой экипировке, в касках, с автоматами. Пресс-конференции в тот день не было. Через несколько дней на этой самой площади было то, что было…
Здания законодательной власти почему-то становятся сценами, а затем и символами важнейших политических кризисов. Рейхстаг в Берлине в 1933 году. ВСНП в Пекине в 1989 году. Дом Советов в Москве в 1993 году. Капитолий в Вашингтоне в 2021 году.
Похоже, история выбирает эти «места силы», чтобы зафиксировать линии разлома эпох, предупредить о неотвратимых потрясениях. Вот и на этот раз можно было разглядеть на стенах Капитолия: «Мене. Текел. Фарес». 25 веков назад пророк Даниил на пиру у вавилонского царя Валтасара разъяснил ему: «Вот и значение слов: мене — исчислил Бог царство твое и положил конец ему; Текел — ты взвешен на весах и найден очень лёгким; Фарес — разделено царство твое….».
За несколько недель до бунта в Вашингтоне солидный журнал «Форин Эффэрз» опубликовал статью под заголовком «В состязании с авторитаризмом Соединённые Штаты должны осознавать свои преимущества – демократические ценности. Авторитарные соперники, особенно Китай и Россия, захватили инициативу в областях политики, экономики, технологии и в информационном пространстве. Эти страны наращивают силы дома, а на мировой арене подрывают демократические институты и объединения. Во всём мире демократические ценности и лидерство отступают».
Американским идеологам всё чаще приходится уповать на «демократические ценности». Эпидемия COVID-19 усугубила разрушительные противоречия американского общества, расколола политическую систему, выпустила на улицы беснующуюся чернь. Погромы в деловых кварталах и снос памятников героям истории обнулили притягательность таких понятий, как свобода личности и мультикультурализм. Фиаско потерпела система здравоохранения – на начало 2021 года в США вирусом заразилось более 22 миллионов человек, умерло около 340 тысяч человек. По итогам года ожидается спад ВВП примерно на 5%. «Вишенкой к торту» стало взятие Капитолия прямо во время заседания Конгресса. Как дальше пропагандировать «демократические ценности»? Как прославлять «американскую мечту»?
Обрушение мечты американской рельефно смотрится на фоне успехов мечты китайской. Китай не только смог сдержать на своей земле распространение коронавируса. Он стал самым крупным глобальным рынком и «локомотивом» преодоления экономических последствий бедствия. Взяв под контроль вспышку вируса в эпицентре и разорвав цепочки распространения, Пекин смог свести людские потери к неполным пяти тысячам погибших. Вошедшая в пике экономика вернулась на восходящую траекторию и по итогам ковидного Года Крысы единственная в мире даст не спад, а небольшой прирост – 2% ВВП. В Поднебесной царит порядок и восстанавливается нормальная жизнь. Отсутствие заболеваний на протяжении нескольких месяцев сделало излишней сплошную вакцинацию, планируют вакцинировать только 50 миллионов из 1400 миллионов китайцев. Созданы три основные вакцины, к концу года накоплено 600 миллионов доз. Новая серьезная вспышка болезни (в провинции Хэбэй выявлено 364 заболевших в течение последней недели) доказала мудрость превентивных мер.
Разделить успех, прицепиться к локомотиву – это естественное желание. В середине ноября подписано соглашение о создании Всеобъемлющего регионального экономического партнерства ( ВРЭП или по-английски – RCEP). После 8 лет переговоров дело пошло на лад именно сейчас, на фоне успехов Китая. Зона свободной торговли охватит 10 государств АСЕАН, а также КНР, Новую Зеландию, Южную Корею, Австралию, Японию. Это прорыв важный, но не единственный. Прямо накануне Нового года было достигнуто многообещающее инвестиционное соглашение с Евросоюзом. Ключевую роль в преодолении антикитайских предрассудков и давления Белого Дома сыграли Англия и Германия, важнейшие союзники Америки.
Похоже, количество китайских успехов начало переходить в качество. Они есть результат применения на протяжении нескольких десятилетий общественно-политической системы под названием «социализм с китайской спецификой». События нового года особенно рельефно показали, что эта система побеждает другую, под названием «капитализм с американской спецификой».
Назревавшее с начала века противостояние двух систем превратилось в лобовое столкновение при президенте Трампе. Но он, в основном, акцентировал внимание на дефиците в торговле, «присвоении интеллектуальной собственности» и т.д. Байден, скорее всего, сохранит все созданные фортификации холодной войны. Но к ним прибавятся подзабытые при Трампе «демократические ценности». 46-й президент ещё до перевоза семейного скарба в Белый Дом объявил, что Америка при нём будет вести за собой мир «не примерами нашей мощи, а мощью нашего примера».
Байдену в наследство от Обамы достались идеологи неоконсерватизма, исповедующие навязывание «демократических ценностей», так сказать, крестом и мечом. Стоящие на позициях неоконсерватизма политики и чиновники разных ведомств уже готовятся возобновить «крестовый поход» во имя американского «Сияющего замка на холме». Неоконсерваторы, «неоконы», считают себя хранителями «священного Грааля» американского образа жизни, идей американской исключительности. По существу, «неоконы» и есть то самое «глубинное правительство», которое доказало своё могущество, погубив президента Трампа. Новый призыв неоконсерваторов, собравшийся вокруг престарелого Байдена, привнесёт немало новинок в арсенал своих предшественников. Оправившись от «пирровой победы» над Трампом, «глубинное правительство» неоконсерваторов неизбежно перейдёт в контрнаступление на двух главных фронтах – китайском и российском. Мы снова услышим о «демократических ценностях». Но мы будем помнить надпись на Капитолии: «Мене. Текел. Фарес».

ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ ПРОБЛЕМЫ
ЕВГЕНИЙ КАНАЕВ
Доктор исторических наук, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.
АЛЕКСАНДР С. КОРОЛЁВ
Кандидат политических наук, заместитель заведующего Евразийским сектором Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
МАЛАЙЗИЯ И ИНДОНЕЗИЯ В АЗИАТСКИЙ КРИЗИС 1997–1998 ГОДОВ
Азиатский экономический кризис 1997–1998 гг. стал одним из крупнейших в истории финансовых крахов развивающихся стран. Он ярко продемонстрировал ограниченность идей Вашингтонского консенсуса, риски глобализации, а также отсутствие единого рецепта процветания, который может быть применён повсеместно независимо от социального, политического и культурного контекста.
У истоков этого кризиса – система фиксированных валютных курсов, служившая одним из ключевых факторов экономического роста государств Юго-Восточной Азии в 1980–1990-е годы. Она гарантировала уверенность инвесторов и, следовательно, высокий приток иностранного капитала. Однако существенная часть поступлений приходилась на краткосрочный спекулятивный капитал, который и обусловил беззащитность стран перед случившимся внешним шоком.
Ещё до начала кризиса перед Малайзией и Индонезией стояла проблема высокой закредитованности. Неготовность решать её, в свою очередь, была связана с непрозрачностью банковской системы и низким качеством государственного контроля над финансовым сектором. Положение усугублялось коррупцией, процветанием приятельского капитализма (кронизма) и непотизма, приводивших к сращиванию политической и бизнес-элит и получению конгломератами возможностей финансирования нерентабельных проектов за счёт банков и государства.
Хотя механизм развития кризиса в Индонезии и Малайзии был схожим, стратегии стран по выходу из него различались принципиально: Индонезия сделала ставку на помощь МВФ и его рекомендации, а Малайзия выбрала стратегию экономического национализма.
Наряду с различиями в исходной макроэкономической ситуации это объяснялось и конкретными политическими решениями, и разницей в политических системах и практиках: жёсткий авторитарный режим Сухарто в Индонезии и мягкий авторитаризм Махатхира в Малайзии. Результаты выхода стран из кризиса различались кардинально. Малайзия не утратила экономического динамизма и быстро вернула себе статус одной из наиболее успешных стран региона. Индонезия же потеряла фактически десятилетие экономического развития.
Начало и развитие кризиса
Кризис начался летом 1997 г. с отказа правительства Таиланда поддерживать фиксированный валютный курс. Последний позволял сохранять стабильность валютной системы и придавал уверенность иностранным инвесторам, перемещавшим производство из Японии и других стран с дорогими валютами. Однако в результате девальвации юаня и йены и последовавшего повышения конкурентоспособности китайских и японских товаров, а также замедления роста уровня потребления в США и странах Европы, азиатские государства столкнулись с падением экспорта и ростом дефицита счетов текущих операций. Демарш Таиланда запустил эффект домино: отток капитала последовал из всего региона, ударив по валютам восточноазиатских стран, в том числе по индонезийской рупии и малайзийскому ринггиту. Ситуация в обеих странах усугубилась переходным состоянием национальных экономик в процессе либерализации их финансовых систем. Банковская паника приняла самоподдерживающийся характер.
В июле 1997 г. малайзийское правительство решило перейти к плавающему курсу национальной валюты. В итоге курс ринггита упал со среднего уровня в 2,42 ринггита за доллар в апреле 1997 г. до рекордного минимума в 4,88 в январе 1998 года. Вслед за этим последовало падение фондового рынка: к декабрю индекс Фондовой биржи Куала-Лумпура (KLSE CI) опустился на 44,9 процента. В Индонезии в результате перехода к плавающему курсу рупии её стоимость достигла минимума – 3600 рупий за доллар к концу октября 1997 г., а к концу января 1998 г. – 10000 рупий за доллар. В условиях оттока капитала ставки по депозитам в Индонезии выросли более чем в 4 раза – до 60–65 процентов. Это ещё больше увеличило долю необслуживаемых долгов. Инфляция выросла почти в 10 раз – с 6,2 процента в 1997 г. до 60 процентов в 1998 году. В обеих странах росла безработица: в Малайзии с 2,5 процента в 1997 году до 3,3 процента годом позже; в Индонезии – с 4,7 процента до 8,4 процента соответственно (рисунок 1). Её последствия в наибольшей степени ощутили сельскохозяйственные районы обеих стран.
Рисунок 1. Основные макроэкономические показатели Индонезии и Малайзии, 1996–2000 годы
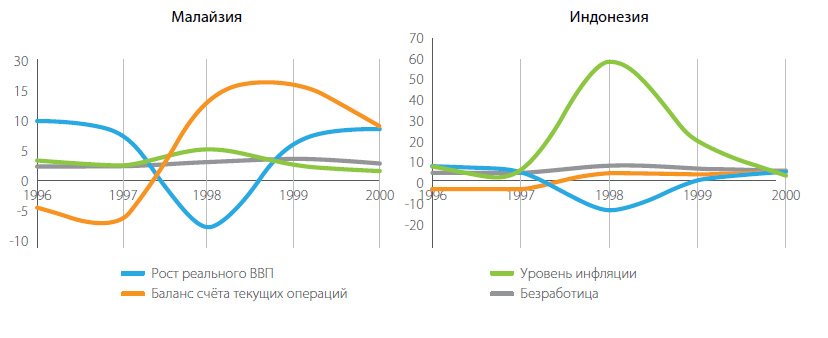
Источник: Всемирный банк.
Различия в степени влияния кризиса на Индонезию и Малайзию были обусловлены не только экономическими, но и политическими факторами. В Малайзии ситуация была в целом стабильной, так как «Национальный фронт» прочно удерживал власть. В Индонезии сложился более персонифицированный характер принятия внутриполитических решений, за тридцать с лишним лет правления Сухарто сложилась коррумпированная и несбалансированная экономико-политическая модель. Перспектива экономических неурядиц означала реальную угрозу долгосрочной политической дестабилизации.
Антикризисные меры
Инструменты, задействованные Джакартой и Куала-Лумпуром для снижения остроты финансовых потрясений, качественно отличались. Индонезия в антикризисной политике опиралась преимущественно на рекомендации МВФ. Для осуществления стабилизационной политики Фонд выделил стране в общей сложности 43 млрд долларов. Программа Фонда включала два компонента: проведение структурных реформ и введение стабилизационных макроэкономических мер.
Стабилизационная макроэкономическая политика подразумевала повышение процентных ставок. Так, ко второй половине 1998 г. они достигли 50 процентов. Банк Индонезии уже в июле 1997 г. снизил уровень ликвидности в банковском секторе, ограничив возможность форвардной продажи долларов нерезидентам 5 млн долларов и предписав уменьшить размер валютных спекуляций. Конечная цель состояла в сокращении дефицита текущего счёта и восстановлении профицита бюджета.
Структурные реформы включали усиление контроля Центрального банка над коммерческими банками. Пакет МВФ предполагал создание механизмов реструктуризации корпоративного долга, а также некоторые дотации и субсидии для населения.
На начальном этапе кризиса ЦБ Индонезии расширил кредитование обанкротившихся банков. Распространённой практикой стало их закрытие и рекапитализация потенциально жизнеспособных финансовых организаций. Так, по рекомендациям МВФ только за 1997 г. в Индонезии было закрыто 23 банка. Этот факт, а также ограничение поддержки монополий было критически воспринято в окружении Сухарто. Ряд близких к нему фигур сопротивлялись закрытию финансовых организаций, а со стороны правительства были задержки с принятием решений по реструктуризации компаний. В таких условиях увеличившийся отток капитала привёл к ещё большему падению рупии.
Одним из инструментов спасения национальной промышленности стал кластерный подход, который предполагал приоритетную государственную поддержку производства ключевых товаров. В их числе – текстиль и текстильные изделия, продукты из пальмового масла, электрические машины и оборудование. С 1998 г. пристальное внимание уделялось индустриализации с опорой на сельское хозяйство и добывающую промышленность, а также заключению контрактов между предприятиями малого/среднего бизнеса и крупными компаниями для запуска промышленных кластеров и повышения эффективности производства.
Под влиянием гиперинфляции, повышения уровня бедности и низкой эффективности реализуемых мер в индонезийском обществе росло недовольство. Оно воплотилось в студенческих демонстрациях и протестных движениях.
Режим более не мог обвинять в кризисе международное сообщество и перенаправлять на него общественный гнев.
После банкротства и реструктуризации некоторых конгломератов, Сухарто лишился и олигархической поддержки. В итоге 21 мая индонезийский лидер ушёл в отставку после 32-летнего пребывания у власти.
Однако и его преемник Бухаруддин Юсуф Хабиби не обладал широкой поддержкой населения и армии. Кризис не удавалось преодолеть быстро, и получение международной помощи было, по сути, единственным доступным вариантом. Поэтому Хабиби сделал ставку на технократическую элиту и в конце концов договорился о получении нового транша от МВФ, что позволило дополнительно привлечь 6,2 млрд долларов для реструктуризации задолженностей банков и снижения оттока капитала. В феврале 2000 г. правительство вновь обратилось к МВФ за финансовой поддержкой.
Средства, полученные в рамках международной помощи и приватизации компаний и финансовых организаций, направлялись на погашение внешнего долга. Было увеличено налогообложение и сокращены государственные расходы. Продолжался курс на реструктуризацию банков и финансовых учреждений. Тем не менее, хотя к началу 2000-х гг. Индонезии удалось достичь некоторых докризисных показателей, уже в 2001 г. стали проявляться структурные дисбалансы, тормозящие ход реформ и усугубившиеся политической турбулентностью.
Опыт Малайзии во многом противоположен. Хотя в 1997 г. предприняты отдельные попытки следовать рекомендациям МВФ, впоследствии правительство Махатхира Мохамада придерживалось собственного плана действий. К началу кризиса летом 1997 г. экономика Малайзии характеризовалась высоким уровнем краткосрочной задолженности. В качестве превентивной меры в апреле того же года под руководством министра финансов Анвара Ибрагима были ужесточены пруденциальные нормы для банков: в частности, утверждены более короткие сроки для выявления просроченных кредитов. Процентные ставки выросли с 7,5 процента в июле 1997 г. до 10 процентов в феврале 1998 года. В результате рост кредитования начал постепенно снижаться, но ввиду турбулентности на валютном рынке Центральный банк продолжил ужесточение монетарной политики и пруденциальных требований вплоть до конца 1998 года.
К началу 1998 г. опыт стран, обратившихся к МВФ за помощью и рекомендациями, показал, что программы Фонда не учитывают особенности стран-реципиентов и не являются достаточно эффективными. Соответственно, Махатхир Мохамад избрал стратегию с опорой на экономический национализм. Её основой стала защита от международного капитала. В рамках данного курса 7 января 1998 г. был учреждён подотчётный премьер-министру Национальный совет экономической политики – консультативный орган для централизации процесса кризисного управления. Совет подготовил План восстановления экономики. Центральный банк вместо ужесточения денежно-кредитной политики стал снижать ставки процента и нормы обязательных резервов. Так, ставка процента, которая в июле 1998 г. была на уровне 11 процентов, к декабрю 1999 г. опустилась до 3 процентов. Норма обязательных резервов сократилась с 13,5 процента до 10 процентов.
Для стабилизации курса национальной валюты в сентябре 1998 г. установлен контроль над капиталом, направленный против офшорных рынков ринггита. В частности ограничивались денежные переводы на счета нерезидентов и иностранных компаний. Для иностранных физических и юридических лиц введён мораторий на репатриацию доходов от продажи акций на один год с даты покупки. Малайзийским резидентам запрещалось брать иностранные кредиты за исключением случаев, когда доходы по ним были также в иностранной валюте. Отток капитала почти прекратился. А привязка к американскому доллару была восстановлена 2 сентября 1998 г., когда стоимость малайзийской валюты составляла 3,8 ринггита за доллар.
Важную роль сыграла и промышленная политика. Выстраивая стратегию по выходу из кризиса, Малайзия опиралась на принятый в 1995 г. и рассчитанный на 1996–2005 гг. Второй промышленный генеральный план. Он предполагал качественный переход от простой сборки промышленных товаров к кластерному производству высокотехнологичной продукции и продукции с высокой добавленной стоимостью. Данная стратегия получила название «Промышленность++». Именно в её рамках Малайзия запустила флагманскую инициативу «Мультимедийного суперкоридора» (МСК), предусматривающего создание национальных индустриальных кластеров и технопарков и привлечение зарубежных IT-компаний. По состоянию на декабрь 1998 г. 195 компаний, включая 88 малайзийских, получили статус резидента МСК.
Для выхода из рецессии правительство подготовило комплекс мер, предполагавших увеличение государственных расходов на 2 млрд ринггит. Запущен комплекс социальных трансфертов бедным слоям населения (Program Pembangunan Rakyat Termiskin), для реализации которых выделили ещё 100 млн ринггит. Малайзия вернулась к докризисному уровню ВВП в 2000 г., однако улучшения наметились уже к концу 1999 г.: инфляция была невысокой, на уровне 3,2 процента, равно как и безработица (3,4 процента). Валовый доход на душу населения также превысил значение докризисных показателей.
Суммируя политическое измерение выхода из кризиса в Малайзии и Индонезии, правомерно говорить о двух примерах испытания легитимности режимов, основанных на высоких показателях экономического развития.
В Индонезии режим Сухарто не выдержал испытания, причиной чему во многом стали экономические и социально-политические дисбалансы.
Кронизм, коррупция, опора на армию, с одной стороны, и зависимость от международного капитала и помощи, с другой, в совокупности привели к кризису, охватившему все сферы общественной жизни.
Хотя неэффективность программы помощи МВФ была признана самим Фондом, низкое качество антикризисной политики правительства стало основной причиной экономических и социальных неурядиц.
Напротив, в Малайзии, несмотря на то что на начальных этапах макроэкономическое управление кризисом было менее эффективным, принятые меры способствовали стабилизации. Махатхир Мохамад использовал это для легитимации своей власти: он сосредоточил внимание народа на «внешней» причине кризиса, попутно расправившись с политическими оппонентами.
Оба режима были националистическими и в некоторой степени популистскими, прежде всего, в сфере экономики. Однако если до 1997 г. национализм Махатхира был сконцентрирован на коренных малайцах бумипутра, то в ходе кризиса акцент сместился с этнических вопросов на защиту от угроз, представляемых международным капиталом. Сухарто же, хотя и опирался на те же риторические приёмы, не смог предложить эффективную идеологическую модель: его непоследовательность в реализации пакета МВФ и связь с олигархическими структурами в условиях тяжелейшего кризиса стоили ему власти. Его преемнику Хабиби пришлось запустить механизм реформ и начать процесс восстановления экономики и политической управляемости в стране.
Долгосрочные последствия кризиса
Отдавая себе отчёт в том, что при кажущейся привлекательности исторические аналогии имеют важный изъян – кардинально иной контекст развития тех процессов, которые пытаются сравнить и сопоставить, – стоит выделить те элементы прошлого опыта, которые могут оказаться подходящими для решения современных задач.
Во-первых, азиатский финансовый и экономический кризис продемонстрировал не только несбыточность, но и порочность надежд на то, что глобализация несёт человечеству невиданное процветание, и главное – включиться в этот процесс. Отсюда – объективная потребность стран Юго-Восточной Азии в организации собственного геоэкономического пространства посредством сначала механизма АСЕАН по финансовому надзору, а потом – запуска Чиангмайской инициативы. За ними последовали формирование Сообщества АСЕАН до 2015 г. и 2025 г., принятие двух Генеральных планов АСЕАН по наращиванию взаимосвязей и, наконец, соглашение о Всеобъемлющем региональном экономическом партнёрстве в 2020 году. И хотя такое переформатирование осуществляется не беспроблемно (чего стоит отказ Индии подписать соглашение о Всеобъемлющем региональном экономическом партнёрстве), сам факт проведения подобных мероприятий отчётливо демонстрирует как осознание Ассоциацией такой необходимости, так и готовности подкрепить планы конкретными делами.
Применительно к опыту Малайзии и Индонезии важно подчеркнуть: по итогам кризиса обе страны, хотя каждая по-своему, осознали непрочность и шаткость идеи Вашингтонского консенсуса. Уместно вспомнить нежелание бизнес-кругов этих стран страховать займы в американской валюте и рассматривать привязку к доллару как лучшую гарантию от неприятностей.
Во-вторых, азиатский финансовый и экономический кризис на примере Малайзии и Индонезии показал объективную необходимость трансформировать восточноазиатскую модель капитализма. Обозначились пределы ориентации на экспорт, встал вопрос о развитии внутреннего спроса как основного драйвера хозяйственных процессов, были выявлены уже не преимущества, а недостатки «приятельского капитализма» в его восточноазиатской версии.
Кризис 1997–1998 гг. разрушил смычку между бюрократией и бизнесом, которая в предшествовавшие годы служила основой как «государства развития» (developmental state), так и философии нациестроительства как такового. Бизнесу пришлось провести реструктуризацию с акцентом на повышение самостоятельности и конкурентоспособности, изменить стиль и философию корпоративного управления (к чему руководителей азиатских компаний подтолкнула волна слияний и поглощений западными партнёрами в сфере, прежде всего, телекоммуникаций, а также банкротство крупных азиатских компаний, таких как индонезийская Salim Group и малайзийская Renong Group).
Происходило изменение той модели трудовых отношений, которая верой и правдой служила несколько десятилетий: постепенно уходили в прошлое патернализм руководства и лояльность персонала, вводилась дифференцированная система материального вознаграждения работника, его возраст и трудовой стаж стали терять вес при премировании и продвижении по карьерной лестнице.
Всё это происходило на фоне волатильности рынка занятости и отсутствия в государствах ЮВА – и здесь Малайзия и Индонезия не стали исключением – сколь-либо надёжной системы социальной защиты.
Вместе с тем «второе пришествие» азиатской модели развития состоялось довольно скоро после финансовых потрясений 1997–1998 годов. Носителем такой модели стал Китай, который на основе своих социокультурных особенностей реализует эволюционный переход от административно-централизованной экономики к рыночному хозяйству, а в сфере внешнеэкономической политики сочетает элементы импортозамещения и экспортной ориентации. Отвечая в общих чертах логике восточноазиатского «государства развития» и восточноазиатской модели капитализма как модернизационной стратегии, такая политика откликалась на запросы стран Юго-Восточной Азии. Они не желали отказываться от того, что составило основу их экономических успехов, и объективно нуждались в сильном союзнике со схожими мировоззренческими установками.
В-третьих, кризис 1997–1998 гг., в том числе на примере Малайзии и Индонезии, предельно ясно поставил вопрос о вызревании противоречий нынешней модели глобализации с быстрым перетоком спекулятивного капитала и неразвитостью институтов его регулирования. Главное, насколько Соединённые Штаты и контролируемые ими международные финансовые институты заинтересованы в изменении сложившихся правил игры. Реакция Вашингтона на предложение Токио о формировании Азиатского валютного фонда, который мог бы выдавать кредиты пострадавшим странам без условий МВФ[1], свидетельствовала об обратном. Вся логика действий Вашингтона говорила о его стремлении извлекать, а не создавать ценность, мало заботясь о судьбах азиатских стран. А они, заметим, были лояльными политическими партнёрами США, включились в японоцентричную модель «гусиного клина»[2], по определению подразумевающую постоянный импорт промежуточных товаров, а следовательно – перманентную зависимость от состояния платёжного баланса текущих операций.
В общем и целом, на примере сравнения Малайзии и Индонезии азиатский финансовый и экономический кризис поставил вопрос о целесообразности интеграции в глобализирующееся мировое хозяйство, если на внутриэкономическом и внутриполитическом фронтах не решены важнейшие вопросы развития, а ход, направление и динамика глобализации определяются силами, имеющими мало общего с национальными интересами государств.
Опыт Малайзии показал, что отказ от рецептов МВФ и Вашингтонского консенсуса может быть залогом успешной политики, а рыночный либерализм и экономическое дерегулирование малопригодны в критический момент.
Соответственно, не лучше ли сначала создать страховочные механизмы от неурядиц, к которым гарантированно приведут чрезмерная зависимость от зарубежных капиталов, рынков и технологий вкупе с отсутствием внутреннего платёжеспособного спроса и неразвитостью механизмов регионального сотрудничества?
Азиатский финансово-экономический кризис сквозь призму опыта Малайзии и Индонезии демонстрирует преимущества конвергентного подхода к экономическому развитию с учётом его содержательной, институциональной и нормативной составляющих. При сравнении опыта этих двух стран стали очевидны выгоды синергии государственного планирования и рыночной самоорганизации, развития институтов мобилизации интересов общества при помощи механизмов и инструментов азиатской версии государственного дирижизма при отказе от экономического дерегулирования. Вызревание такой идеи со временем позволило азиатским странам задуматься о возможности перевода глобализации из стихийного процесса в управляемый проект, характер и темпы реализации которого регулировались бы государствами Азии, а не Евроатлантики: при таком подходе в кризисе 1997–1998 гг. можно найти истоки идей, лежащих в основе асеаноцентричных форматов сотрудничества, предложенной Китаем инициативы «Пояса и пути», а также ВРЭП.
Уроки для наших дней
Рассмотрение особенностей политики Малайзии и Индонезии в отношении азиатского финансового и экономического кризиса позволяет сделать ряд обобщающих выводов.
Во-первых, актуальной задачей было и остаётся предотвращение дисбаланса между приоритетами финансового сектора и реальными экономическими потребностями страны. Как показали рассмотренные примеры, кризис не заставит себя ждать, если финансовый сектор отрывается от реального, регулирующие органы утрачивают контроль над ситуацией, а бизнес исходит из того, что растущая задолженность – нормальное явление, так как «дешёвые деньги» будут всегда и в любом количестве. Поощрять заинтересованность бизнеса в краткосрочных спекулятивных операциях, а не в «работе вдолгую» посредством, в частности, инфраструктурного строительства – значит, подорвать перспективы экономического развития.
Во-вторых, Малайзия и Индонезия стали заложниками экспортоориентированной экономической модели. По мере выполнения основных задач она теряла эффективность и ставила всю экономическую стратегию в зависимость от факторов, которые не поддаются контролю и управлению. Экономическую модернизацию нужно проводить параллельно с решением политических, социальных и этнических проблем, гибко корректируя как очерёдность проведения необходимых мероприятий, так и перспективные планы развития в целом.
В-третьих, пример Малайзии и Индонезии поставил вопрос о создании механизмов раннего предупреждения экономических неурядиц регионального масштаба – посредством инструментов как регионализма, так и регионализации. В первом случае речь идёт об институциональном оформлении инициатив торгово-инвестиционной, производственно-технологической и производственно-сбытовой кооперации в Юго-Восточной Азии и за её пределами – во взаимодействии с партнёрами из Северо-Восточной Азии. Во втором – об объективной необходимости подкрепить развитие институтов проведением мероприятий по облегчению торгово-инвестиционных, технологических и межчеловеческих обменов, что в политическом лексиконе АСЕАН и стран, в неё входящих, получило название «наращивание взаимосвязей» (connectivity).
В-четвёртых (и это главное), если страна оказывается один на один с серьёзными проблемами, рыночный фундаментализм – плохой советчик, а конвергенция возможностей государства и рынка с преобладанием первого над вторым при их гибкой адаптации к меняющейся обстановке и при постоянном наращивании ресурсов – оптимальный подход. Опыт Малайзии и Индонезии продемонстрировал это лучше, чем хотелось бы и адептам Вашингтонского консенсуса, и стратегам восточноазиатских стран, предложившим миру собственную версию глобализации.
--
СНОСКИ
[1] Инициатива, выдвинутая Японией в ходе Азиатского финансового кризиса в 1997 г., предусматривала создание организации, аналогичной по своим функциям МВФ с объёмом капитала 100 млрд долларов, но под японским патронатом, встретила резкое противодействие Соединённых Штатов и по этой причине не была реализована.
[2] «Парадигма Акамацу» (1960-е гг.), согласно которой азиатские страны догонят Запад по мере того, как производство потребительских и инвестиционных товаров будет постоянно перемещаться из более развитых стран в менее развитые и повторяющие их стадии развития – «гусиный клин». Ведущий «гусь» в этой схеме – Япония, за ней следуют «новые индустриальные экономики первой волны» (Южная Корея, Сингапур, Тайвань и Гонконг – НИЭ-1), далее – «новые индустриальные экономики второй волны» (Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины – НИЭ-2) и далее – Китай и оставшиеся государства Индокитая (Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Мьянма).

«Российская газета». Каким будет интеллектуальный пункт пропуска на таможне – колонка заместителя руководителя ФТС России Владимира Ивина
Владимир Ивин, заместитель руководителя ФТС России:
Северо-Запад России, граница с Евросоюзом, конец 2024 года. Через пункт пропуска "Брусничное" в Ленинградской области из Финляндии в Санкт-Петербург идет грузовая машина.
Очереди на пункте пропуска нет. Фуры, не задерживаясь, проходят одна за другой. Ведь информация о грузах, машинах, водителях уже предварительно поступила в системы таможни и погранслужбы от внешнеторговых компаний или их представителей.
Все операции автоматизированы: камеры на въезде в пункт пропуска фиксируют регистрационный номер автомобиля и прицепа, считывают номер контейнера, распознают QR-код на лобовом стекле автомобиля. После ответа базы данных о наличии предварительной информации на мониторе перед кабиной загорается разрешающий сигнал: машину приглашают следовать дальше.
При дальнейшем следовании через портал автоматически производится радиационный контроль, взвешивание транспортного средства, определение его габаритов, а "умный" тахограф передаёт оставшуюся информацию об автомобиле и водителе в систему транспортного контроля в соответствии с требованиями Ространснадзора.
На эти операции уйдет порядка двух минут.
Для прохождения таможенного контроля машина продолжает следовать через портал, где ее и груз "просвечивают" с помощью "умного" инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК), который не причинит вреда здоровью водителя.
В этот момент активно "включается" искусственный интеллект: нейросеть, обученная на множестве изображений однородных грузов, принимает решение - соответствует ли товар в грузовом отделении тому, что заявлен в документах. Если груз соответствует, а Система таможенных рисков не выявила рисковых событий, то производится автоматическое помещение товара под процедуру транзита. А если на груз Уполномоченным экономическим оператором была подана предварительная декларация - то может быть осуществлен и окончательный выпуск товара в соответствии с заявленной процедурой.
В случае, если в указанные потоково-портальные решения будет встроена и автоматизированная система паспортного контроля - то российские водители с биометрическими паспортами будут проходить и паспортный контроль с минимальными временными затратами: достаточно приложить паспорт к специальному считывающему и сканирующему устройству и - если все хорошо - двигаться дальше.
Водитель покидает пункт пропуска. Он провел здесь пять-семь минут, и при этом не контактировал ни с одним из сотрудников контрольных органов.
В 2020 году это звучит скорее как мечта дальнобойщиков и участников ВЭД. Но в ходе реализации Стратегии развития таможенной службы до 2030 года (Стратегии-2030) эта мечта должна стать реальностью в 2024 году на одном-двух пунктах пропуска в пилотном режиме.
В последующие годы и остальные российские автомобильные и железнодорожные пункты пропуска постепенно будут становиться "интеллектуальными". Для воздушных и, особенно, морских пунктов пропуска метаморфоза будет несколько иной, но и им предстоит получить "интеллектуальные" функции - прежде всего в направлении перехода на полностью безбумажные логистические технологии, "интеллектуализации" грузовых операций по перевалке товара, автоматизации работы складов и т.п.
В 2020 году это может казаться недостижимым идеалом, но на самом деле подобные технологии уже применяются, например, в Китае на границе со специальным административным районом Гонконг. Там круглосуточно функционирует "интеллектуальный" автомобильный таможенный пост "Хуанган" Шэньчжэньской таможни, который в среднем оформляет около 10 тыс. транспортных средств ежедневно. Для сравнения, примерно столько же машин оформляется в сутки на всем Юге России.
"Хуанган" - это зона таможенного контроля, на въезде и выезде из которой находится ряд полностью автоматизированных "коридоров", через которые следуют грузовые автомобили.
Транспортный поток распределяется по "коридорам" исходя из того, нужно ли дополнительно проверять груз. Решение об этом принимает автоматизированная система управления рисками (СУР).
Безрисковые поставки, по которым не требуется фактический контроль, следуют по "зеленым коридорам". "Рисковые грузы" направляются через специально выделенные "красные коридоры" на площадку для таможенного контроля с использованием ИДК или на досмотр товаров.
Каждый "коридор" оборудован шлагбаумом, весами, видеокамерой, устройством для считывания информации с идентификационных электронных карт (ETC-карта, аналог которой применяется на скоростных автотрассах для бесконтактной оплаты проезда и пропуска автомобиля через шлагбаум) и монитором. Все технические средства подключены к информационной системе таможни. Это полностью автоматизирует процесс пересечения автомобилем пункта пропуска.
В момент, когда транспортное средство приближается к пункту пропуска, проводится его взвешивание. Результаты автоматически передаются в электронную базу таможни. После этого видеокамера считывает номер автомобиля и данные с идентификационной электронной карты, которые также автоматически направляются в базу. На считывание информации уходит не более пяти секунд. Полученные сведения обработает система управления рисками и сравнит с уже имеющимися данными об автомобиле и товарах, которые таможенный орган получил от импортера или экспортера в результате предварительного декларирования.
Если риска нет, то система автоматически поднимает шлагбаум, и транспортное средство напрямую проследует через зону таможенного контроля ко второй линии "коридоров" - на выезд. К моменту прибытия автомобиля на вторую линию система электронного декларирования и СУР уже приняли решение о выпуске товаров.
При такой схеме работы выпуск безрисковых партий - т.е. фактическое время пересечения транспортным средством зоны таможенного контроля от въезда через первую линию до выезда через вторую - занимает от трех до пяти минут. При этом отсутствует прямой контакт водителя с сотрудниками таможни: весь документооборот и процедуры идентификации водителя, транспортного средства и товаров проводится автоматически в электронном виде.
Для рисковых поставок разработан отдельный порядок прохождения интеллектуального пункта пропуска. Если выявлен риск, то таможенная система автоматически направляет на выведенный монитор сообщение, предписывающее водителю проехать в один из специальных "коридоров" - для проверки автомобиля на ИДК или досмотра. Например, если фактический вес транспортного средства (включая товары) превысил декларируемый более чем на полтонны, то СУР автоматически - без обращения к человеку - отправит автомобиль на досмотр.
Досмотр проводят "живые" таможенники. В ходе досмотра груза должностные лица руководствуются предписаниями, полученными на служебный планшетный компьютер через защищенные каналы связи из Центра управления рисками (находится в Пекине).
В сообщении указана необходимая форма досмотра и подробно описывается, на что необходимо обратить внимание в ходе процедуры. Результаты в режиме реального времени передаются обратно в Центр управления рисками, а сам процесс досмотра товаров фиксируется на видеорегистратор. При этом максимальный срок таможенного досмотра не должен превышать трех часов.
На таможенный контроль в среднем отправляется 5% товаров и транспортных средств, из которых по 90% проводится физический досмотр, по 10% - контроль с использованием ИДК. Штатная численность таможенного поста при этом составляет около 85 человек. "Хуанган" это своего рода эталонный механизм, в котором отлажена как работа каждого отдельного элемента, так и их взаимосвязи между собой и центром.
С учетом указанного опыта китайских коллег, а также современных наработок и иных зарубежных таможенных служб мы разработали собственную концепцию "интеллектуального" пункта пропуска, ставшего одним из ключевых элементов Стратегии-2030.
Основой его функционирования станет единая цифровая платформа. Она будет интегрирована как с базами данных всех контролирующих органов, так и с программным обеспечением технических средств контроля: комплексов потокового сканирования (ИДК) и весогабаритных измерений, системы радиационного контроля, распознавания номеров транспортных средств и контейнеров. Для каждого вида транспорта - автомобильного, железнодорожного, морского и воздушного - "интеллектуальный" пункт пропуска будет строиться с учетом специфики перевозок.
Почему это необходимо государству и обществу? Существующие сегодня пункты пропуска в пиковые моменты не справляются с растущим потоком транспорта, а их технические возможности заметно отстают от современных требований. В связи с этим контроль затягивается по времени, грузы простаивают в "пробке" на границе. Кроме того, физически проверить весь транспортный поток без специального оборудования не представляется возможным. Возникают риски провоза контрабанды, контрафакта, испорченных, запрещенных товаров, опасных грузов. Все это в конечном итоге ведет к финансовым потерям для бюджета, создает угрозы для безопасности внутреннего рынка и здоровья граждан страны. Заложенная в Стратегии-2030 концепция "интеллектуального" пункта пропуска позволит оптимизировать операции в них и разрубить этот гордиев узел.
В российских пунктах пропуска - в частности, автомобильных - уже наработан опыт применения различных технических средств контроля, создан необходимый технологический задел. Обмен данными между госорганами также налажен и осуществляется через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Чтобы трансформировать обычный пункт пропуска в "интеллектуальный", в ближайшие годы предстоит объединить эти процессы в один сквозной бизнес-процесс и полностью их автоматизировать. Фактически, будет создано по-настоящему "одно окно".
Столь амбициозный проект потребует модернизации как цифровой, так и физической инфраструктуры пунктов пропуска. Возрастающую нагрузку на информсистемы компенсирует создание Главного центра обработки данных ФТС России. Его мощностей будет достаточно для обработки больших объемов данных, поддержки высокой скорости обработки информации и обслуживания новых цифровых решений.
Безусловно, значительная часть пунктов пропуска, функционирующих в России, сегодня нуждается в реконструкции. Очевидно, что существующая материальная база сдерживает развитие внешней торговли и может стать препятствием для реализации наших планов. Свои предложения по ремонту и переоснащению пунктов пропуска мы подготовили и направили в соответствующие госорганы.
Считаем, что при поддержке Минфина России, Минтранса России, ФСБ России, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Ространснадзора и коллег из иных министерств и ведомств мы можем создать в России первый работающий прототип "интеллектуального" пункта пропуска уже в 2024 году. Его появление наиболее вероятно на европейском направлении - в Северо-Западном регионе. Также рассматриваем вариант модернизации одного из пунктов пропуска с Китаем на Дальнем Востоке.
Подчеркну, что реализация этого проекта потребует существенных затрат со стороны государства, но, очевидно, дело того стоит. Так, например, средства на модернизацию инфраструктуры пунктов пропуска уже заложены в соответствующем национальном проекте "Международная кооперация и экспорт".
Первый "интеллектуальный" пункт пропуска станет наглядной демонстрацией того, как современные решения позволяют оптимизировать процессы контроля на границе, обеспечить сплошную и быструю проверку всех товарных партий, ускорить администрирование внешнеторговых операций, снизить административную нагрузку на бизнес, и просто "облегчить жизнь" водителям грузовых автомобилей, избавив их от необходимости терять часы в пробках перед пунктами пропуска.
Оригинал публикации: https://rg.ru/2020/12/24/kak-tamozhenniki-rabotaiut-v-pandemiiu.html

США VS КИТАЙ: ВЫБОР ТРЕТЬИХ СТРАН
АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ
Кандидат экономических наук., научный сотрудник, заместитель заведующего сектора международно-экономических исследований Центра комплексных европейских и международных исследований Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики».
В ближайшие годы мир будет свидетелем постепенного экономического разъединения двух крупнейших мировых экономик – США и Китая. Это станет одним из ключевых факторов, определяющих экономические и политические отношения на мировой арене. Можно ждать нарастания регионализации, ускорится формирование американо- и китаецентричного экономических полюсов. Для третьих стран этот разрыв означает появление новых торговых и инвестиционных ниш из-за распадающихся американо-китайских отношений, но и риски вторичных санкций.
В случае усиления санкционной войны странам, которые активно сотрудничают одновременно с Соединёнными Штатами и КНР (в том числе Австралии, Сингапуру, Японии, Южной Корее, Гонконгу и другим) придётся делать непростой выбор в пользу наращивания или, наоборот, сокращения связей с одной из сторон конфликта.
В результате разрыва США не удастся сгладить дисбаланс торговли с Китаем и решить наболевшую проблему дефицита торгового баланса и внешнего долга. Разворачивающийся конфликт имеет долгосрочные последствия только для высокотехнологичных отраслей, принципиальных технологий и научно-технического сотрудничества. Вряд ли он когда-либо коснётся потребительских товаров и машиностроительной продукции, которые столь важны для американского потребления и на которые приходится подавляющая часть торгового оборота между странами.
Пандемия ускоряет разъединение, но сам процесс остаётся долгосрочным, его невозможно осуществить за три-пять лет из-за высоких издержек одномоментного разрыва связей.
Китай как относительно выигравшая в текущий кризис экономика получает дополнительную фору для адаптации и выстраивания экономических мер, направленных на смягчение последствий разрыва.
Феномен разрыва и его проявления
Во время своего президентства Дональд Трамп обозначил двусторонний торговый дефицит США и Китая в качестве одной из основных экономических проблем. После расследования 2017 г. о нарушении прав интеллектуальной собственности вводятся санкции в отношении ряда китайских технологических компаний, создающие ограничения доступа к продукции американских хайтек-отраслей. Также активизируются попытки осуществить возврат производственных мощностей в ряде секторов. С января 2018 г. после введения двусторонних торговых ограничений разгорается торговая война[1]. В результате в мире заговорили о процессе разъединения двух крупнейших экономик. Помимо торговли и важнейшей для обеих стран технологической сферы эта война охватывает и валютно-финансовые отношения, и сотрудничество в области образования, научных исследований и разработок.
Глубокая взаимозависимость между США и Китаем лежала в основе глобализации 2000-х годов. Связанность особенно тесна в торговой сфере. Соединённые Штаты – ключевое направление китайского экспорта: порядка 20 процентов, а если учитывать реэкспорт через Гонконг, то доля близка к 30 процентам[2]. Аналогичную долю Китай составляет в структуре импорта США и, таким образом, вносит важнейший вклад в удовлетворение американского спроса на потребительские и промышленные товары. При этом торговля между странами разбалансирована: значительный дефицит торгового счёта США (около 0,6 трлн долларов в год) наполовину объясняется именно китайским фактором.
Для Китая технологическая сторона сотрудничества является одной из наиболее важных. Соединённые Штаты – ключевой источник передовых технологий и высокотехнологического импорта, особенно в области микроэлектроники. Высока связанность в научно-исследовательской (в особенности в CORE science) и образовательной сферах. При этом для США Китай важен как ключевой кредитор, а также крупнейший в мире держатель доллара в золотовалютных резервах.
Считалось, что такая тесная экономическая связанность должна ослабить политическое противостояние двух стран[3], однако стратегический конфликт она не предотвратила.
Долгосрочные сдвиги в мировой экономике, США и Китае как глубинные причины разрыва
Происходящий разрыв имеет более глубинные причины, чем события 2017–2018 гг., после которых тематика разъединения получила широкую огласку. Мировая экономика изменилась после финансового кризиса 2008–2009 г.: роль внешней торговли как фактора роста снижается[4], нарастает регионализация, кризис институтов ВТО, распространяются санкции и инструменты нового протекционизма. Для Китая эти изменения ещё до 2017–2018 гг. свидетельствовали о необходимости перестройки своей экономики и выработки стратегии с опорой на внутренний спрос и большую независимость[5]. Причины заложены также и во внутренних изменениях в США и Китае. За счёт быстрого экономического роста 1990–2000-х гг. в Китае растёт благосостояние населения, поднимается уровень зарплат (почти двукратно за 2008–2017 гг.), что постепенно ослабляет привлекательность Китая для иностранных компаний как источника дешёвой рабочей силы.
Китай становится не только крупнейшей по ВВП экономикой, но и увеличивает влияние за счёт активной инвестиционной и кредитной экспансии по всему миру. Это делает его претендентом на экономическое и политическое лидерство. Для американцев такой быстрый подъём Китая и превращение его в реального конкурента не только оказался неожиданным (не было продуманной долгосрочной стратегии взаимодействия с КНР), но и создало долгосрочные вызовы (особенно в высокотехнологической сфере) и, по мнению администрации США, риски национальной безопасности.
Внутренней проблемой США остаётся дефицит текущего счёта операций (2–3 процента ВВП в 2019 г.[6]) и растущий государственный долг (107 процентов ВВП в 2019 г.[7], по итогам 2020 г. ожидается рост до 125 процентов ВВП). Поскольку одним из важнейших источников внешних доходов США являются патентные и лицензионные платежи и высокотехнологический экспорт (порядка 376 млрд долларов или 19 процентов всего экспорта в 2017 г.[8]), то риски потери технологического лидерства в долгосрочном периоде создают угрозы ещё большего ухудшения дефицита и, следовательно, риски для макроэкономической стабильности.
Пандемия COVID-19 стала катализатором процессов разрыва не только из-за всплеска политической напряжённости между странами. Она также продемонстрировала необходимость диверсификации и повышения стабильности глобальных цепочек добавленной стоимости, способствовала росту общих деглобализационных настроений и трендов на локализацию и регионализацию.
Совокупность фундаментальных факторов в любом случае рано или поздно способствовала бы запуску процесса расхождения стран.
Ввиду прочной взаимозависимости процесс будет долгосрочным, одномоментный разрыв был бы связан с существенными издержками для обеих сторон – потерями для корпоративного сектора, научно-исследовательских и образовательных институтов.
Последствия для мира
Стоит ожидать изменения географии цепочек добавленной стоимости, трендов развития и размещения высокотехнологичных отраслей, которые будут диктоваться необходимостью замещения Китаем ранее доступных американских технологий и высокотехнологической продукции. Для третьих стран эти процессы, с одной стороны, предоставляют возможности получения выгод за счёт встраивания в формирующиеся новые производственные цепочки. Так, например, в результате торговой войны третьи страны получают общий дополнительный прирост ВВП в 21,8 млрд долларов (+0,05 процента ВВП, в частности для России + 0,7 млрд долларов[9]) – в относительных величинах пока небольшие объёмы, но для отдельных отраслей это может быть существенным стимулом роста, особенно, если учитывать долгосрочность процесса расхождения и высокую вероятность введения новых ограничений.
С другой стороны, для стран создаются риски попадания в санкционные списки по принципу вторичности. В случае обострения санкционной войны странам, активно сотрудничающим одновременно с США и Китаем, придётся делать непростой выбор в пользу наращивания или, наоборот, сокращения связей с одной из сторон конфликта. С точки зрения инвестиционного сотрудничества перед таким выбором могут оказаться Австралия, Сингапур, Нидерланды, Великобритания и в особенности Гонконг – там существенно присутствие как американских, так и китайских ПИИ[10]. С точки зрения торгового сотрудничества число подобных стран гораздо выше – это в том числе Япония, Южная Корея, Австралия, Бразилия, Сингапур, Мексика, Канада, ряд европейских государств[11] – из-за разветвлённой географической структуры экспорта Соединённых Штатов и Китая.
Пазворачивающийся конфликт имеет долгосрочные последствия в первую очередь для высокотехнологичных отраслей и принципиальных технологий. Он начался с торговых ограничений на металлы и сельскохозяйственную продукцию и вряд ли когда-либо коснётся и остановит потоки потребительских товаров и машиностроительной продукции, на которую приходится подавляющая часть торгового оборота между странами. Торговля с КНР крайне важна для удовлетворения американского потребительского спроса, и заместить Китай как мировую фабрику пока не сможет ни одна другая страна. Поэтому в ближайшие годы США не удастся сгладить дисбаланс торговли с Китаем и решить наболевшую проблему дефицита текущего счёта и внешнего долга.
--
СНОСКИ
[1] В январе 2018 г. США вводят пошлины на ввоз стали, алюминия и солнечных батарей из Китая. В ответ Китай вводит пошлины на сельскохозяйственную продукцию и ряд продукции машиностроения из США.
[2] Observatory of Economic Complexity (OEC). URL: https://oec.world/en/profile/country/chn?yearSelector1=exportGrowthYear17
[3] Luckhurst J. China–US Economic Cooperation as Antidote to Strategic Conflict // G20 since the Global Crisis // Palgrave Macmillan, New York, 2016. С. 215-247.
[4] По темпам роста мировая торговля отстаёт от ВВП: за 2012–2019 гг. средние темпы роста торговли товарами и услугами не превышали темпов роста ВВП (по данным IMF, WEO oct. 2020), а если учесть 2020 г., то будут в 1,5 раза ниже (1,7 процента – динамика торговли и 2,6 процента – динамика мирового ВВП).
[5] Эти принципы находили отражение в основных приоритетах в планах экономического развития последних лет и получили особенный акцент в последнем пятилетнем плане, принятом в октябре 2020 г.
[6] По данным Всемирного Банка.
[7] Там же.
[8] Выплаты по роялти, лицензиям, франшизам и интеллектуальной собственности и предоставление бизнес-услуг составляло в совокупности около 40 процентов от всего экспорта услуг. Высокотехнологичный экспорт товаров составляет около 19 процентов всего машиностроительного экспорта США (3–5 место в мире по объёмам в зависимости года). Всего зайтек-экспорт + роялти и прочие лицензионные платежи с бизнес услугами – 376 млрд долларов в 2017 г. По данным: https://oec.world/en/profile/country/usa#trade-services
и https://www.theglobaleconomy.com/rankings/High_tech_exports/
[9] По оценкам Института международной экономики и финансов (ИМЭФ) ВАВТ.
[10] Оценки на основе данных
https://hkmb.hktdc.com/en/1X0A804W/hktdc-research/China-Takes-Global-Number-Two-Outward-FDI-Slot-Hong-Kong-Remains-the-Preferred-Service-Platform и
https://www.statista.com/statistics/188806/top-15-countries-for-united-states-direct-investments/
[11] Оценки на основе данных Observatory of Economic Complexity (OEC). URL:
https://oec.world/en/profile/country/usa#trade-products

На второй волне
Тема с социологом Эдуардом Понариным
Коронавирус изменил массовые представления о нормах поведения в публичном пространстве. Болезнь перестала быть личным делом. Носить маску и перчатки - это уже не только санитарное, но и общественное предписание. Одновременно меняются и общественные настроения. Каковы они сейчас, в период второй волны? Чего боятся люди и на что надеются? Как оценивают действия властей в борьбе с инфекцией и ее последствиями? Обсудим тему с заведующим Лабораторией сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ Эдуардом Понариным.
Многое зависит от солидарности и сплоченности населения
Как воспринимается в разных странах вторая волна пандемии? Изменились ли настроения, в том числе и в России, в сравнении с зимой-весной 2020 года?
Эдуард Понарин: В предыдущей беседе с вами ("Уроки пандемии - уроки культуры") я уже говорил о том, что как заболеваемость вирусом COVID-19, так и восприятие этих событий зависят от политической культуры той или иной страны. Там, где люди доверяют правительству и друг другу, там выше дисциплина соблюдения мер профилактики, там меньше болеют и легче социальные последствия пандемии. Многое зависит от солидарности и сплоченности населения. Ведь соблюдение ограничительных мер имеет смысл тогда, когда их соблюдают все или почти все. Если же нарушителей достаточно много, тогда твои усилия и издержки, связанные с их соблюдением, теряют смысл. Тогда нарушителей становится все больше, и только самые дисциплинированные и самые боящиеся люди еще продолжают соблюдать меры предосторожности. Подобным же образом, если правительство воспринимается как враг, то меры, предлагаемые им, вызывают подозрение и саботируются. Показательным примером являются США, в которых за последние 50 лет катастрофически упало доверие конгрессу и другим государственным институтам. Параллельно с этим падением росло число "антипрививочников", убежденных во вреде всяких вакцинаций. Вот и во время нынешней эпидемии сторонники республиканской партии, оппозиционно настроенные к "глубинному государству", то есть государственным институтам, вслед за президентом Трампом демонстративно не носят масок. В том, что США являются мировым лидером по заболеваемости и числу погибших в ходе нынешней пандемии, большую роль сыграло отсутствие сплоченности и солидарности, неспособность общества достичь согласия даже относительно самых простых и очевидных вещей. К сожалению, и в России скепсиса по отношению к прививкам в частности и к профилактическим мерам в целом хватает. Что касается изменений за период между осенью и весной 2020 года, культура - вещь довольно стабильная и так быстро не меняется. Другое дело, что может измениться уровень тревожности, и он в большинстве стран, в том числе в России, растет. Люди боятся заразиться сами, боятся потерять близких, а также боятся экономических последствий пандемии - все это они чувствуют на себе в большей мере, чем весной. При этом вовсе не обязательно, что они ведут себя при этом более ответственно. Характерной траекторией изменений по данным одного исследования в Нидерландах является поддержка действий властей в первую волну кризиса, которая во время второй волны сменяется разочарованием, выражающимся в росте поддержке оппозиции.
Граждане Австрии и Германии не очень опасаются заразиться
Согласно опросу, проведенному вашей лабораторией, меньше всех боятся заразиться жители Австрии, больше всех - граждане Южной Кореи, Великобритании, Бразилии? Чем это объясняется?
Эдуард Понарин: Наша выборка, к сожалению, включает всего одиннадцать стран, хотя кое-что мы знаем и о других странах по уже опубликованным работам. Тем не менее сравнение стран и в нашей небольшой выборке позволяет связать "культурные зоны", в которых находятся выбранные страны, с результатами опроса. Южная Корея, как и другие страны Восточной Азии независимо от их политического строя, является примером успешной борьбы с пандемией. Тем не менее опасения в этой стране выше, чем в гораздо менее успешных странах, скажем в Великобритании. Восточноазиатские культуры вообще отличаются высоким уровнем тревожности. Например, отчасти поэтому у них в гораздо большей степени принято откладывать деньги на черный день, чем в англосаксонских странах. По-видимому, по этой же причине в Южной Корее, а также Японии и Гонконге, тоже вошедшими в нашу выборку, мы видим довольно высокий уровень страха, хотя реально эпидемиологическая ситуация в этих обществах вполне благоприятна, особенно на фоне остальных стран мира.
Наиболее уверенно в нашей выборке чувствуют себя граждане Австрии и Германии, не очень опасающиеся заразиться и не боящиеся экономических последствий пандемии. Полагаю, что скандинавские страны, не вошедшие в нашу выборку (из скандинавских стран наш опрос затронул только Швецию), выглядят не хуже. Эти страны отличаются высоким уровнем солидарности, доверия правительству, а также социальной защищенностью. Швеция, однако, показала несколько более высокий уровень страха, чем Австрия и Германия. Полагаю, что это связано с тем, что в Швеции было принято решение не вводить строгих ограничительных мер; шведское правительство ограничилось рекомендациями, полагаясь на сознательность граждан. В результате заболеваемость в Швеции значительно выше, чем в других скандинавских странах, хотя и ниже, чем в той же Великобритании, Испании и Италии. При этом шведы по-прежнему не боятся экономических последствий, как и австрийцы или немцы, потому что в основном продолжают доверять своему государству.
Бразилия по своей культуре похожа на сильно пострадавшие от пандемии Италию и Испанию. Уровень доверия друг другу и государственным институтам не очень высок, дисциплина - это не то, чем они выгодно отличаются от других стран. Поэтому страхи бразильцев вполне адекватны, так как отражают реальную тяжелую эпидемиологическую ситуацию. К сожалению, и Россия, несмотря на некоторые отличия в лучшую сторону, примыкает к этим странам.
Культура не меняется быстро
Вы спрашивали: страна пострадает от пандемии или станет сильнее? В последнем уверены только жители Южной Кореи. А как оценивают перспективу жители других стран?
Эдуард Понарин: В Южной Корее оптимистическое видение будущего своей страны, очевидно, связано с успехами в борьбе с эпидемией. Как и в большинстве других восточноазиатских стран, в ней ожидается пусть и небольшой, но все же рост ВВП на фоне экономического спада в большинстве остальных стран. Это, конечно, усилит вес Южной Кореи (и вообще Восточной Азии) в мире. То, почему жители Гонконга оценивают ситуацию хуже, тоже понятно: там серьезные разногласия с центральным правительством в Пекине; действия правительства оцениваются неоднозначно, отсюда и сомнения в будущем. В Японии во втором квартале 2020 года зафиксировано катастрофическое падение экономики, а рост в третьем квартале не смог полностью закрыть это падение, что тоже сказывается на ощущениях японцев относительно будущего. Это отличает ситуацию в Японии от других восточноазиатских стран. В Швеции количество пессимистов лишь немного превышает количество оптимистов. В остальных странах граждане оценивают будущее значительно хуже. Россия в этом отношении близка Бразилии и Греции - странам, в отличие от Швеции не отличающимся высоким уровнем дисциплины и солидарности, и, как вы догадываетесь, я думаю, что это не случайное совпадение.
Должен ли, по мнению ваших респондентов, измениться существующий "социальный договор", то есть негласное соглашение между членами общества о правилах поведения в период пандемии?
Эдуард Понарин: Как я уже отметил, культура не меняется быстро. Пандемия, скорее всего, пройдет быстрее. Поэтому - да, хотелось бы, но вряд ли это случится. Другое дело, если подобные несчастья станут повторяться регулярно и часто. Это вполне возможно, и тогда можно со временем ожидать изменения в стереотипах поведения.
Чем дольше будет продолжаться пандемия, тем более будет востребован опыт успешной борьбы с ней.
Как жители разных стран оценивают поведение своих соотечественников в условиях коронавирусной опасности ?
Эдуард Понарин: В Южной Корее и Швеции респонденты оценивают поведение своих соотечественников как в основном "правильное", а в России и Бразилии - как в основном "неправильное". Наверное, это тоже отражает объективную реальность.
Не закрепится ли теперь привычка шарахаться друг от друга, видеть в заболевшем чуть ли не врага? Что говорят об этом ваши опросы?
Эдуард Понарин: Социологические опросы сами по себе не обладают большой предсказательной силой, они лишь отражают настроения в данный момент. Но я рискну предположить, что чем дольше будет продолжаться пандемия, тем более будет востребован опыт обществ, успешно справляющихся с ней. Например, в восточноазиатских странах уже давно принято посещать общественные места в масках. Целоваться при встрече там не было принято никогда. Даже рукопожатия редкость. Трудно в данный момент представить, что и в Италии люди будут вести себя так же. Но нужда может заставить. При этом в восточноазиатских обществах никто не воспринимает других людей в качестве врагов, просто существуют другие правила поведения.
Насколько уместен термин "этика коронавируса" как этика общественной реакции на новую болезнь применительно к разным группам современного глобального общества? И если перед болезнью все равны, то должны ли существовать универсальные этические нормы, одинаковые для молодых и пожилых, бедных и богатых? Или у каждой социальной группы, у каждой страны здесь тоже своя этика?
Эдуард Понарин: Универсальные нормы могут существовать только в обществах, характеризующихся высокой степенью равенства. Когда, наоборот, общество отличается высокой степенью неравенства, то для бедных и богатых, властных и безвластных и т.д. существуют разные нормы. Скажем, в Калифорнии губернатор запретил сидеть в ресторанах большими компаниями - можно только на улице рядом с рестораном, и тут же сам отметил какое-то торжество внутри ресторана в большой компании. Думаю, что и в России подобную ситуацию представить легко, а в Швеции или Финляндии - трудно.
Визитная карточка
Эдуард Понарин - социолог, заведующий Лабораторией сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ. Родился в 1964 году в Ленинграде. Окончил факультет психологии Ленинградского государственного университета. С 1989 года по 1996-й учился социологии в Мичиганском университете (США) и защитил в нем докторскую (Ph.D.) диссертацию. С 1998 года работал в Европейском университете в Санкт-Петербурге. С 2009 года работает в Высшей школе экономики. Возглавляемая им лаборатория представляет Россию в проектах Всемирное исследование ценностей и Европейское исследование ценностей.
Текст: Валерий Выжутович

Новая фаза «холодной войны» против России и Китая
Байден и его «неоконы» переходят к «неоглобализму»
Юрий Тавровский
Правление Дональда Трампа принесло Америке немало вреда, окончательно подорвало её имидж чуть ли не законного руководителя мира. Новая администрация заявляет о намерении исправить ошибки, восстановить старые союзы, найти новых друзей. Означает ли это, что мы скоро увидим смягчение «холодной войны» против России, завершение торговой войны против Китая, возвращение Вашингтона в международные организации?
Думаю, противостояние с Россией и с Китаем, причём одновременное, никуда не денется. Оно несколько изменится по форме, но не по содержанию. Москву и Пекин, например, могут менять местами в качестве приоритетной мишени. Байден назвал Россию «главным врагом», а Китай – «основным конкурентом». Но это было в пылу предвыборной полемики.
Грядущая смена власти в Вашингтоне будет, с одной стороны, означать свертывание трамповской стратегии «деглобализации» - выхода Америки из международных организаций типа Соглашения по климату, ВОЗ, ЮНЕСКО, Тихоокеанского торгового партнёрства и так далее. Но с другой стороны, администрация Байдена будет насаждать своё видение глобализации на основе идеологии неоконсерватизма. Эту стратегию можно назвать «неоглобализмом», поскольку она идёт на смену «классическому глобализму», который возобладал после распада Советского Союза. Америка на несколько десятилетий стала единственной настоящей глобальной силой. Но сейчас её преследует череда неудач, общество расколото, на мировой арене Америку перестали бояться, сформировались новые центры силы.
Особую опасность Америке в период перехода от трамповской «деглобализации» к байденскому «неоглобализму» представляет быстро крепнущий Китай. Он продемонстрировал свой мобилизационный потенциал, выдержав за последние пару лет американские атаки в ходе торговой войны и попыток цветных революций в Гонконге и Синьцзяне. Он единственным в мире смог избавиться от эпидемии коронавируса и преодолеть её экономические последствия. Таких успехов, да ещё на фоне прискорбной ситуации в самих Штатах, американская элита простить не может.
Не справившись с битвой против Поднебесной «один на один» при Трампе, Вашингтон при Байдене продолжит политику коллективного окружения Китая, начатую ещё при Обаме. Его военная концепция «Поворот к Азии» и торговый блок «Транстихоокеанское партнерство» (ТТП) были нацелены на сдерживание Поднебесной с помощью сателлитов.
Теперь Вашингтон оказался в «яме, которую рыл другому». Подписанное в середине ноября Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП) не включает США. Не включает США также «Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение для Транстихоокеанского партнерства», или ТТП-2. Зато ожидается присоединение Китая ещё и к этой версии «Транстихоокеанского партнёрства», из которого Дональд Трамп демонстративно вышел в первые же дни своего президентства. На это недавно прозрачно намекнул Си Цзиньпин. Интрига закручивается -- предсказывается возвращение Америки в ТТП-2 в начале правления Байдена. Любопытно было бы наблюдать за отношениями Китая и Америки в одном экономическом блоке. Вряд ли они будут образцом гармонии…
«Неоглобализм» Байдена будет строиться на широком вовлечении потенциальных союзников и партнёров в противостояние России и Китаю. На антироссийском фронте все укрепления и боевые порядки, в общем-то, выстроены ещё со времен первой «холодной войны» и укреплены восточноевропейской «пехотой» за годы нынешней, второй «холодной войны». А вот на антикитайском театре предстоит ещё немало потрудиться. На этом театре наступление, похоже, будет происходить одновременно на двух стратегических направлениях, Восточном и Западном.
На Восточном фронте есть перемены
На Востоке Байден будет наращивать существующие двусторонние союзы с Японией, Южной Кореей, Австралией. Будет он укреплять и многосторонние антикитайские коалиции типа КВАДРО в составе США, Японии, Австралии и Индии. Начавшаяся с 2017 года «дружба против Китая» этих стран носила поначалу весьма ограниченный характер и проявлялось во встречах дипломатов и ежегодных военно-морских учениях. Однако по мере нарастания отчуждения между Пекином и Дели конструкция КВАДРО стала наполняться геостратегическим содержанием. Америка получила подспорье в продвижении новой концепции Индо-Тихоокеанского региона. Создано военное командование с этим названием, которое координирует растущую активность американских вооружённых сил. На днях началось обсуждение создания ещё одного флота в дополнение к 7-му и 5-му. Он призван усилить контроль над китайскими военными и торговыми кораблями на стыке двух нынешних зон ответственности, Тихого и Индийского океанов.
Благодаря КВАДРО Вашингтон препятствует улучшению отношений Пекина не только с Индией, но также с Японией и Австралией. Новая геополитическая конструкция в перспективе может пополниться Вьетнамом, Новой Зеландией и другими странами. Уже ясно, что КВАДРО в ближайшее время станет в руках неоглобалистов дополнительным средством политического и военно-стратегического сдерживания Китая, создания жёсткого каркаса, не позволяющего Поднебесной расширить позиции в бассейне как Тихого, так и Индийского океанов.
У группировки КВАДРО будет и экономическое измерение. По мнению экспертов Торгово-промышленной палаты США, Индо-Тихоокеанский регион может в перспективе составить половину мировой экономики, хотя это потребует инвестиции порядка 26 триллионов долларов. Если Америке удастся вернуться в соглашение ТТП-2 и даже возглавить его – очень хорошо. Если не удастся – то альтернативой станет КВАДРО в расширенном варианте. Уже обсуждается роль новой группировки в развитии межрегиональных отношений с участием не только стран Восточной Азии, но также Южной Азии, Африки и Евразии.
Западный фронт пока лишь пунктир
На Западе антикитайским ресурсом неоглобалистов призвана стать Европа. Вашингтон и при Трампе добивался распространения зоны ответственности блока НАТО на Восток. Теперь же можно ожидать более активного вовлечения военного, экономического и информационного ресурсов Европы в сдерживание Китая. Успехи Поднебесной вовсе не радуют влиятельные политические силы в Брюсселе и столицах некоторых стран Евросоюза. В их среде немало деятелей, тесно связанных с американскими «неоконами», разделяющими их монополярное видение мира.
Характерны высказывания Манфреда Вебера, главы Европейской Народной партии, самой крупной партийной группы в Европарламенте. Он на днях дал интервью гонконгской газете «Саут Чайна Морнинг Пост». «Создание Китаем нового торгового соглашения ВРЭП должно разбудить Европу и Америку. Необходимо снова объединить так называемый Западный мир ради ответа на вызов Китая. Это будет главный пункт нашей повестки на грядущее десятилетие», -- заявил видный парламентарий. Его враждебность объясняется не только торгово-финансовыми причинами, но и несовместимостью с идеологией Пекина. «Китай является абсолютным противником европейского образа жизни в понимании Евросоюза, а также в видении нашего общества, как доказали события в Гонконге», - подчеркнул Манфред Вебер. «Евросоюз и США вместе производят половину мирового ВВП. Я не поддерживаю все действия Дональда Трампа, но он абсолютно прав в отношении Китая -- необходимо проявлять крутость, использовать экономическую мощь Америки, чтобы показывать Компартии Китая, что времена изменились и благоприятной для нее ситуации последних 30 лет больше не будет». Установку на восстановление тесных отношений с Вашингтоном в противодействии Китаю практически одновременно поддержала председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, также член Европейской Народной партии.
Эстафета «неоконов» – от Обамы к Байдену
Похоже, формы сдерживания Китая при Байдене будут напоминать времена Обамы. Невооружённым глазом видно, что вокруг «спящего Джо» собралось немало людей из предыдущей демократической команды. Здесь ключевое слово -- «команда». На ключевые посты Байден выбрал людей, которые сообща работали по проблемам национальной безопасности и внешней политики в команде президента Обамы и вице-президента Байдена. В разное время они также были то ли правыми, то ли левыми руками в команде госсекретаря Хиллари Клинтон. Эти деятели не только выполняли указания своих боссов, но и формировали их политику, готовя соответствующие решения, контролировали выполнение.
Вот, например, будущий госсекретарь Тони Блинкен. При Бараке Обаме он занимал должности советника вице-президента Байдена по национальной безопасности, заместителя советника самого Обамы по нацбезопасности. В качестве заместителя Хиллари Клинтон он курировал политику США в Афганистане, Ливии, Азиатско-Тихоокеанском регионе. Блинкен активно участвовал в разработке концепции «Поворот к Азии» (Pivot to Asia) и создания Транстихоокеанского партнёрства. С переходом на первые позиции Блинкен будет ещё решительнее проводить курс «либерального интервенционизма» в отношениях с Россией, Китаем и Ираном, считают эксперты.
Единомышленником Тони Блинкена в Белом доме будет Джейк Салливэн, назначенный на пост советника по национальной безопасности. Они были соратниками, работая в аппаратах Хиллари Клинтон и Джо Байдена. Самый молодой в истории советник по нацбезопасности посетил 112 стран, сопровождая госсекретаря Клинтон. Он был одним из самых лояльных помощников Байдена и во время его вице-президентства, и в ходе предвыборной кампании. Салливен разделяет приоритеты избранного президента по части создания широкой коалиции для решения глобальных проблем. Судя по недавним выступлениям, в числе первоочередных проблем он видит борьбу с пандемией, нажим на Иран и Китай.
Новый советник по нацбезопасности связывает борьбу с коронавирусом и Китай, но не в смысле координации усилий двух стран. Прозрачно намекая на теорию «китайского вируса», Салливэн заявил в интервью вашингтонскому изданию «Политико»: «Надо послать очень ясные сигнал Пекину, что это не должно случиться вновь, что США и весь мир не потерпят повторения ситуации, при которой у нас нет эффективной международной системы наблюдения за здравоохранением в Китае и по всему миру».
Но, конечно, основные изменения во внешнюю политику США в целом и в отношении Китая в частности будет вносить сам Джозеф Байден. Некоторые эксперты в Пекине ожидают от него если не смягчения враждебности в отношении Китая, то, по крайней мере, большей стабильности и предсказуемости. Вот, например, мнение советника Правительства КНР, ученого-американиста Ши Иньхуна из Народного университета. Отражая точку зрения всё ещё остающихся в китайской элите оптимистов, он признает, что «окно возможностей» для налаживания продуктивных отношений возникнет, хотя и будет непродолжительным. Продолжающийся рост влияния Китая в мире и нестабильность ситуации в самих Штатах могут лишить Байдена возможности «проанализировать прежние ошибки и сделать правильные шаги», - считает Ши Иньхун.
Нотки оптимизма звучат в анализе ещё одного влиятельного эксперта -- Ван Хуйяо. «В Вашингтоне сложился двухпартийный консенсус – Китай это стратегический соперник. Этот вывод будет только углубляться по мере усиления Китая и роста его влияния. Байден и его советники, как и весь внешнеполитический истэблишмент США, усилили свою «ястребиность». В то же время, отмечает этот руководитель «Аналитического центра Китай и глобализация», явные различия между уходящей и приходящей администрациями вселяют надежду. «При Байдене внешняя политика станет более стабильной и прагматичной. Трамп рассматривал Китай сквозь узкую призму торговых дефицитов и краткосрочных политических выигрышей. Команда Байдена более реалистична. Главные советники Джейк Салливэн и Курт Кэмпбелл, например, полагают, что сосуществование с Китаем подразумевает соревнование с ним как управляемый процесс, а не как проблему, подлежащую разовому решению».
Станет ли Байден придерживаться своих угроз и оскорблений в адрес Китая в предвыборных заявлениях, как это сделал 4 года назад Дональд Трамп? Часто цитируется формула Байдена «Китай – основной соперник». Реже вспоминают его же заявление что «Си Цзиньпин – это бандит», сделанное в феврале на одной из встреч с избирателями. Даже Трамп не опускался (или не поднимался) до такого уровня ненависти. Как видно, опыт общения с китайцами с 1979 года и 8 встреч с самим Си Цзиньпином не добавили умеренности новому американскому лидеру. По крайней мере, в словах. Что будет на деле?
Умеренный оптимист Ван Хуйяо видит три основные различия между китайской политикой Байдена и Трампа. Во-первых, новый президент будет теснее сотрудничать с другими державами и организациями для достижения американских целей. Среди них будет и оказание скоординированного давления на Пекин. В то же время ему придётся учитывать интересы участников коалиции. Можно надеяться, что это даст возможности понизить напряжённость между Штатами и Китаем через двусторонние и многосторонние каналы.
Во-вторых, Байден и его команда, похоже, уже смирилась с тем, что Китай не столкнуть с его собственного пути развития. Есть сведения, что советники Байдена рекомендуют ему сместить фокус с попыток «изменить Китай» на повышение конкурентоспособности самой Америки. Избранный президент уже призвал больше вкладывать в образование и инфраструктуру, покупать американские товары ради усиления отечественной промышленности. Даже если эта стратегия продиктована необходимостью соревноваться с Китаем, то она должна уменьшить экономические трения.
В-третьих, полагает Ван Хуйяо, самое главное различие с Трампом состоит в том, что Байден ясно видит стоящие перед США глобальные вызовы, которые невозможно решить силами одной страны.
Выбор главного противника – медведь или дракон?
Даже в самых сложных переделках человеку хочется надеяться на лучшее. В Пекине оптимизма в отношении Байдена побольше, чем в Москве. Такой вывод можно сделать из того, что Председатель Си Цзиньпин после определённой задержки все же поздравил Байдена. Президент Путин держит паузу и, похоже, склоняется к пессимистическому взгляду на будущее.
Напомню шутку времён параллельной советско-американской и советско-китайской холодной войны в 70-80-е годы. «Оптимисты учат английский язык, пессимисты учат китайский язык, а реалисты изучают автомат Калашникова». С тех пор ситуация кое в чём изменилась. Америка как была, так и осталась нашим непримиримым врагом. Китай из стратегического противника стал стратегическим партнером. Но как раньше, так и теперь, нам стоит в первую очередь заботиться о своих национальных интересах, то есть изучать и совершенствовать автомат Калашникова.
Даже в нынешней трудной экономической ситуации Россия поддерживает высокий уровень безопасности, её руководство закалено десятилетиями «холодной войны» с Западом. Думаю, что, поначалу сохраняя нынешний уровень давления на Россию, Байден вскоре перенесёт центр тяжести на создание широких коалиций для обуздания всё более мощного и ершистого Китая. Не Россия, а Китай чётко сформулировал альтернативу доктрине либерального капитализма – концепцию социализма с китайской спецификой. Не Россия, а Китай бросил успешный вызов Америке на экономическом поле. Преодоление последствий КОВИД-19, создание ВРЭП и другие победы последних месяцев предвещают проигрыш на этом поле. Но есть и другие поля, где американское превосходство пока неоспоримо.
В первую очередь, это мировая валютно-финансовая система, построенная на долларе и управляемая послушными воле Вашингтона финансовыми институтами – МВФ, Всемирным Банком, МБРР, ФРС и так далее. Китай ведёт борьбу и на этом поле, создав новые институты развития типа «Фонда Шёлковый путь» и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, добиваясь интернационализации юаня, запустив цифровой юань, расширяя использование юаня в ШОС, БРИКС и программе «Пояс и путь». Но даже до паритета юаня с долларом ещё весьма далеко.
Соотношение сил не в пользу Китая и в военной области. Здесь паритет ближе, чем в финансах. Но всё равно перевес - на стороне Америки с её колоссальными военными расходами, сотнями военных баз по всему миру, с военными союзами и двусторонними соглашениями с десятками стран. Американские ВМС по-прежнему доминируют на морских просторах, по которым проходят жизненно важные для Поднебесной торговые пути.
Вот почему я полагаю, что после недолгого периода приведения новой администрации в боевую готовность, Белый дом поначалу постарается перейти в наступление на всех трёх направлениях соперничества с Китаем: торговом, финансовом и военном. Однако безнадежная торговая война Трампа постепенно отойдёт на второй план, действующее двустороннее соглашение может быть пересмотрено, отменены некоторые таможенные тарифы и иные ограничения, навредившие и китайцам, и самим американцам. Вашингтон постарается свести к минимуму ущерб от разрыва Трампом торговых и экономических соглашений, вернуться в ТТП-2, усилить КВАДРО и так далее. Но привлекательность быстро растущего китайского рынка, стабильность китайской валюты и экономики в целом останется магнитом для всех стран, в том числе союзников Америки. Ещё до Нового года ожидаются новые крупные победы Китая, в первую очередь заключение инвестиционного соглашения с Евросоюзом.
Вот почему от Америки вскоре можно ожидать недружественные ходы на финансовом поле. Мировой финансовый капитал активно поддерживает «неоконов» из Демократической партии с их версией глобализма. Финансисты затормозят увеличение доли юаня в корзине МВФ. Постараются перехватить инициативу в продвижении цифровой валюты. Попробуют разорвать финансовые цепочки, связывающие Китай с миром, например, остановив платежную систему SWIFT. Предпримут диверсии на китайских валютных биржах, как это уже приключалось несколько лет назад. Под предлогом тех или иных неугодных действий Пекина могут заморозить китайские авуары в мировых банках и ФРС, арестовать счета и собственность фигур из китайской элиты.
Ещё опаснее для Китая и всего мира действия на военном поле. Уже в обозримом будущем речь может пойти как о расширении локальных провокаций в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, так и более масштабных «пробах сил». Правда, эскалация военной напряжённости до «точки кипения» может занять некоторое время и выйти за рамки четырех лет, отпущенных сейчас Байдену, его команде и их комиссарам из числа вашингтонских неоконсерваторов. Демократы победили с математической погрешностью. Голосующая Америка разделилась на две половины, и в следующий раз успех может вернуться к республиканцам с их американским национализмом и антиглобализмом.
Но это будет уже следующая глава американской истории. Это будет уже следующая фаза холодной войны Америки против Китая.

Метро как искусство
Конкурсы помогают формировать архитектурный облик новых станций столичного метрополитена
Отношение к метро в Москве особое, многие станции столичной подземки признаны памятниками архитектуры, в работе над ними в свое время принимали участие знаменитые художники и скульпторы. Для того чтобы архитектурный облик новых объектов соответствовал высокому уровню, Москомархитектура проводит конкурсы проектов, в которых принимают участие не только российские, но и международные архбюро. О том, как проходят такие конкурсы и чем московский опыт метростроения отличается от европейского, в интервью «Строительной газете» рассказала главный архитектор бюро Blank Architects Алена ПАНФИЛОВА-КОРСАКОВА.
«СГ»: Ваше бюро регулярно участвует в конкурсах на проектирование станций метро Москвы. Какое техническое задание получают участники конкурсов?
Алена Панфилова-Корсакова: Для нас участие в конкурсах на создание дизайна новых станций метро уже традиция. В 2017 году мы победили с проектом дизайна станции «Рижская» Большого кольца (проектное название «Ржевская») и вышли в полуфинал с дизайном станции «Шереметьевская», в 2020 году стали финалистами в конкурсе на дизайн станций «Кленовый бульвар 2» и «Проспект Маршала Жукова». Мы не исключение: открытый конкурс на дизайн ряда станций объявляется ежегодно, и принять участие в нем могут бюро со всего мира. Сам конкурс проходит в два этапа. Первый включает в себя отбор заявок на основании портфолио и эскизного видения станций. На этом этапе техническое задание еще очень условно, и у архитекторов есть возможность осмыслить дизайн широко и креативно. На втором этапе техническое задание детализируется. С каждым годом задания для архитекторов становятся все более тщательными и подробными, отражают больше деталей и нюансов. Меняется и механизм принятия решений, например, в конкурсе 2017 года за финалистов голосовали горожане, и наш проект стал лучшим по итогам народного голосования. Сейчас финальное решение выносит жюри.
«СГ»: Для каждой ли станции проводят такие конкурсы?
А.П.: Московский метрополитен развивается очень интенсивно, в год открывается до десяти станций, но на конкурс попадает не более двух-трех ежегодно. Конкурсные станции должны стать объектами уникального дизайна. Именно в этом — основная задача творческих состязаний. Стоит только посмотреть, насколько разные решения предлагали финалисты конкурса в этом году для одних и тех же локаций. На конкурсе нет ни одного похожего друг на друга проекта, и это очень благотворно влияет на развитие архитектурной среды в целом, мотивирует к диалогу, обсуждению концепций.
«СГ»: Какой путь идея проходит от эскизов до проработанного проекта?
А.П.: Как я уже сказала, на первом отборочном этапе архитекторы предоставляют свои портфолио и эскизные визуализации идей станции, чтобы продемонстрировать общий концептуальный посыл. Здесь важно передать замысел, вдохновить жюри. После рассмотрения заявок Москомархитектура объявляет финалистов конкурса. На следующем этапе бюро, прошедшие в финал, представляют уже полный детализированный проект с визуализациями для всех зон проектирования станций, деталями, планами отделки и светотехническими расчетами. Специальные согласования с городом на данном этапе не требуются, однако техническое задание, по которому мы работаем, настолько подробное, что его соблюдение уже делает проект реалистичным и реализуемым. К примеру, Московский метрополитен всегда использует в строительстве только российские материалы и имеет достаточно жесткие рамки по пожарной безопасности, легкости эксплуатации станции и долговечности применяемых решений. Все эти параметры мы учитываем уже в работе над проектом в финале, чтобы в случае победы его действительно можно было построить.
«СГ»: Если архитекторы выигрывают проект, в чем заключается их дальнейшая работа?
А.П.: После объявления победителей заключается договор на разработку буклета архитектурно-градостроительного решения и авторское сопровождение проекта. После этого начинается стандартная работа над реализацией архитектурного проекта — контроль и сопровождение, подробная проработка реализуемых решений и так далее. Например, после победы нашего проекта на дизайн станции «Рижская» БКЛ мы разрабатывали альбом архитектурно-градостроительных решений с последующим получением «Свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства». На этом активная фаза проекта для нас как для архитекторов завершается, но продолжается взаимодействие с Москомархитектурой. Тесный контакт города и архитекторов в процессе строительства станции дает возможность качественной реализации конкурсного проекта.
«СГ»: Насколько сложно архитекторам работать в жестких рамках норм? Не мешают ли строгие условия творить?
А.П.: Архитекторы всегда должны помнить, что метрополитен — это не только главная транспортная артерия города, но и наше архитектурное достояние. Сейчас, в отличие от советского времени, нет задачи создавать «дворцы для народа», но нужно предложить запоминающийся дизайн в очень сложном инженерном сооружении, главная функция которого — безопасная транспортировка пассажиров. Думать только о красоте и творческих экспериментах нельзя. Однако сложность работы над такими проектами не мешала нашим знаменитым предшественникам создавать под землей настоящие шедевры архитектуры. А они сегодня, в свою очередь, вдохновляют современных архитекторов на красивые и при этом функциональные проекты. Даже просто участие в таком конкурсе — всегда интересное упражнение для архитектора, хоть и с непредсказуемым результатом.
«СГ»: Архитектурные конкурсы в целом — хорошая европейская традиция, но проводятся ли в Европе конкурсы для станций метро?
А.П.: Думаю, что Москва в этом плане — совершенно уникальный пример, в том числе и в отношении горожан и города к развитию метро. Сорок восемь станций метро Москвы признаны объектами архитектурного наследия. Городу нужно, чтобы и новые станции, которые открываются, соответствовали историческим и продолжали традицию метрополитена. В странах Европы красивые метрополитены встречаются редко: архитектурно ценные станции есть в подземках Лондона, Стокгольма, Парижа, но при этом их значительно меньше, чем в московском метро. Подход к проектированию современных станций в Европе, в принципе, схож с московским — это, прежде всего, интеграция проекта в существующую городскую ткань, налаживание через архитектуру связей в контексте города, но при этом в европейских странах больше внимания уделяется функции, чем архитектуре. Вестибюли станций могут быть привлекательными на поверхности, но абсолютно стандартными внутри — как, например, в Роттердаме или том же Париже. В России же больше внимания на конкурсах уделяется внешнему виду, эстетике станций и на поверхности, и под землей. В целом наиболее активное развитие метро сейчас происходит в России и в Китае, Гонконге, и именно здесь появляются проекты, в том числе мировых архитектурных бюро.
Справочно:
За последние восемь лет в Москве открылось 47 новых станций метро, и в ближайшем будущем планируется вводить в строй по 10-12 новых станций в год.
№48 04.12.2020
Автор: Елена НАДЕЖДИНА

Китайская мечта: жить без нужды
2020 год войдет в историю КНР как время преодоления двойного удара
Текст: Юрий Тавровский (председатель экспертного совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития)
На протяжении тысячелетий бесчисленные поколения китайцев мечтали жить без бедности. Эти мечты отражены в книгах древних мудрецов. Великий Конфуций в классическом труде "Шицзин" ("Книга стихов") собрал и отредактировал народные распевы. Многие из них проникнуты надеждой на счастье, на жизнь без голода и нужды. Именно Конфуций, "учитель десяти тысяч поколений", породил идею "сяокан" - малого благополучия. Эта идея развивалась его учениками и единомышленниками вплоть до Дэн Сяопина, переформулировавшего "сяокан" в "среднюю зажиточность".
Мечта о жизни без нужды вовсе не оставалась уделом философов и поэтов. Крестьянские армии - "желтые повязки", "красные брови", тайпины, ихэтуани - писали на своих знаменах лозунги справедливости. Великая идея - ликвидации нищеты и унижения нации - овладела миллионами китайцев в конце правления маньчжурской династии Цин благодаря работам мыслителей Кан Ювэя и Лян Цичао. Они вдохновили Сунь Ятсена и других революционеров на Синьхайскую революцию, свержение коррумпированной и бессильной власти.
"Народное благосостояние" стало одним из трех принципов, на которых в 1912 году была создана Китайская Республика. Но и ей мало чего удалось добиться - Китай оставался самым большим в мире скоплением бедняков в сотни миллионов человек. Китайская Народная Республика, созданная в 1949 году под лозунгами борьбы за счастье народа, тоже не сразу смогла развернуть наступление на бедность. Только в 1978 году, после двух десятилетий разрушительной смуты "Большого скачка" и "Культурной революции", свет забрезжил в конце тоннеля. Тогда Дэн Сяопин и его единомышленники начали проводить курс "реформ и открытости".
Дэн Сяопин любил и жалел свой народ. В отличие от Мао Цзэдуна, он не рассматривал его как "чистый лист бумаги, на котором можно писать красивые иероглифы". Пусть разные люди сами напишут разные иероглифы! Крестьяне в провинции Аньхой взяли и разделили земли "народной коммуны" - Дэн Сяопин спас их от гнева начальников, а затем распространил инициативу на всю Поднебесную. Старый соратник Си Чжунсюнь предложил создать собственные "точки роста" рядом с Гонконгом и Макао - Дэн Сяопин защитил его от догматиков в руководстве, а "специальные экономические зоны" Шэньчжэнь и Чжухай обогатили миллионы бедняков.
Я впервые столкнулся с бедностью по-китайски весной 1983 года в небольшой деревне провинции Хэйлунцзян. Мы снимали там документальную программу для российского телевидения. Нам позволили посетить крестьянский двор, наверняка не самый бедный, но весьма убогий по сравнению с российскими деревнями того времени. Старый деревянный дом с одной традиционной печкой-кан, без мебели и электроприборов. Хозяин и другие члены семьи спасались от холода многослойной одеждой. На столе даже во время обеда с иностранцами не было мяса. Но сколько гордости и счастья было на лице старого крестьянина, когда он показывал полученное в пожизненную аренду поле гаоляна (проса), на котором трудились два его сына. Природная предприимчивость сквозила в рассказе о будущем "малого семейного предприятия" - полутемного сарая, в котором женщины шили кожаные перчатки. "Можно ли продавать такие перчатки в России?" - спрашивал гостеприимный хозяин.
В последующие годы я совершил около трех десятков поездок по Китаю, ездил преимущественно, но не только, по так называемым "отстающим регионам" северо-запада и северо-востока. Своими глазами видел отпечатавшиеся на лицах людей знаки многолетних лишений и страданий. В провинции Ганьсу беседовал с жителем нового поселка, недавно переселенным из нищей горной деревни.
Он был счастлив не столько от бесплатно полученных небольшого дома и участка земли, сколько от чистой воды. Впервые в жизни он мог не считать ее по капле и пить прямо из-под крана. Видел я и то, что на языке экономистов именуется "новыми драйверами роста". В Синьцзяне это были фирма электронной торговли с Россией, а также мощный новый центр "облачных вычислений", входящий в общенациональную компьютерную сеть Китая.
В Цзилине вчерашние выпускники технического института создали компанию по изготовлению и эксплуатации искусственных спутников Земли и уже запустили несколько коммерческих аппаратов космической съемки. В Хэйлунцзяне несколько инженеров построили завод по разборке и утилизации списанных самолетов. Китайцы пишут все новые иероглифы о благополучии и процветании...
В последнее время стрелка компаса поездок по Поднебесной стала показывать на юг. В приморских провинциях Фуцзянь, Чжэцзян и Гуандун, куда раньше всего пришли "реформы и открытость", с нищетой покончили уже несколько лет назад. Более того, они "скидываются" в фонд помощи бедным районам, строят там жилье, создают филиалы своих предприятий, берут бесплатно на учебу молодежь. Но и в этих богатых провинциях есть отстающие районы. Снижение налогов стимулирует там деловую активность, льготные кредиты позволяют людям придумывать способы выбраться из бедности.
Изумрудные воды и зеленые горы
На весь Китай прославились предприимчивые жители деревни Юйцунь в провинции Чжэцзян. Они решили заработать на горожанах из соседних Шанхая и Ханчжоу, истосковавшихся по чистому воздуху и радостям деревенской жизни.
Главным препятствием на пути к выполнению задумки были известняковые карьеры и цементные заводики, пылившие на всю округу. На сходе сельчане постановили их закрыть. Такое самоуправство удивит кого угодно и где угодно, а в условиях Китая подавно.
Удивился и возглавлявший провинцию Чжэцзян в 2005 году Си Цзиньпин. Партийный секретарь заинтересовался опытом крестьян в налаживании самоуправления и демократического обсуждения актуальных проблем. Побывав в Юйцунь, Си Цзиньпин защитил и поддержал смельчаков, посоветовал развивать "зеленую экономику".
Идеально асфальтированная дорога с бордюрами и четкой, почти каллиграфической разметкой проходит мимо поросших бамбуком горных склонов с одной стороны, и улицей солидных двух- и трехэтажных коттеджей - с другой. Это не типовые постройки, хозяева явно соревновались в выборе проектов. На фасаде одного из самых скромных домов красуются золотые серп и молот - это партком деревни Юйцунь. "Опыт Юйцунь" сейчас изучает вся страна. В этом можно удостовериться по немалому числу автобусов с посетителями из разных провинций. Первым делом они разворачивают красные транспаранты с названием своей организации и идут фотографироваться к камню в три-четыре человеческих роста, на котором выбит лозунг "Изумрудные воды и зеленые горы - это горы серебра и горы золота".
Судя по основательным крестьянским дворам с несколькими машинами и мотоциклами, по жителям, одетым по-городскому, предприимчивые крестьяне Юйцунь подумали крепко. Вместо карьеров и цементных заводов теперь здесь очищенные до прозрачности речки и ручьи, поросшие бамбуковыми лесами горы с удобными пешеходными тропами, велодорожками и базами отдыха. Деревенские гостиницы и пансионаты с традиционной едой привлекают сотни семей быстро растущего "среднего класса". Горожане покупают сувениры из бамбука - фигурки богов, крестьянские шляпы, плетеную мебель и абажуры, лакомятся маринованными побегами бамбука, пробуют крепкую "бамбуковку".
Горожане начинают с поездок на уик-энд, затем арендуют комнату или флигель на сезон, потом покупают таунхаус или даже собственный дом в одном из новых коттеджных поселков, принадлежащих крестьянским кооперативам. Загородный дом, дача - понятия для китайцев почти экзотические. Но экологических оазисов становится все больше.
"Изумрудные воды и зеленые горы - это горы серебра и горы золота" - эти слова Си Цзиньпина, сказанные во время посещения Юйцунь, теперь стали государственной политикой, одним из лозунгов компартии и помогают жителям отстающих районов Поднебесной развивать внутренний туризм, который стал мощным средством избавления от бедности.
"Средняя зажиточность" несовместима с нищетой
"Зеленая экономика" вошла в число основных стратегий мечты о великом возрождении китайской нации - "Новая нормальность", "Управление государством при помощи законов", "Пояс и путь". Этот долгосрочный план был обнародован Си Цзиньпином в конце 2012 года. Тогда же были объявлены "две столетние цели". К 2021 году, столетию создания компартии, построить "общество средней зажиточности", то есть увеличить вдвое ВВП по сравнению с 2010 годом, а также полностью покончить с нищетой. Впервые вековой бедности был объявлен смертный приговор и названа дата приведения в исполнение. Вторая цель - к 2049 году, столетию провозглашения Китайской Народной Республики, создать "богатое и могущественное, демократическое и цивилизованное, гармоничное и современное социалистическое государство".
Честно говоря, читая тогда выступление нового руководителя Поднебесной, я испытывал некоторые сомнения. Я уже знал, что борьба с бедностью во время "мирного возвышения Китая" идет довольно успешно. На старте политики "реформ и открытости" в 1978 году более 95 процентов китайцев были нищими. Шаг за шагом, пятилетка за пятилеткой их число сокращалось. К 2012 году их оставалось "всего" 99 миллионов. Огромное количество - две третьих населения нынешней России! Вывести такую тьму народа из бедности за 8 лет представлялось несбыточной мечтой. К тому же помнилось, что в конце 70-х годов КПСС торжественно обещала: "нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме". Увы, вместо коммунизма мы живем в условиях "капитализма с российской спецификой", а число бедняков растет.
Давая свое обещание построить "общество среднего достатка", Си Цзиньпин рисковал своим авторитетом. Рост ВВП Китая продолжал год от года снижаться еще до его прихода к власти. Переориентация экономики с мирового рынка на внутренний сулила дополнительные трудности, потерю рабочих мест. Борьба с коррупцией могла нарушить стабильность общества. Уже начиналось "сдерживание" Китая Америкой и ее союзниками.
Риск оказался оправданным. Число бедных сокращалось, как шагреневая кожа. К ноябрю 2017 года, когда проходил 19-й съезд компартии, их насчитывалось 43 миллиона. К концу прошлого года статистика выдала новую цифру - 5,5 миллиона. Осматривая китайский павильон на Второй Шанхайской импортной ярмарке в ноябре прошлого года, я сфотографировал электронное табло. На нем было написано "До полного искоренения бедности осталось: 421 день, 8 часов, 34 минуты и 7 секунд!". Цифры на табло менялись. Люди радостно делали селфи на их фоне. Все были уверены, что победа над бедностью будет объявлена по плану, с точностью до секунды.
"Черные лебеди" корректируют великие планы
Тогда, в ноябре 2019-го, никто не знал, да и не мог знать, что грандиозные планы обновления Поднебесной, жизненные планы каждого ее жителя будут грубо нарушены эпидемией COVID-19. Превратившаяся в глобальное бедствие эпидемия не могла не сказаться и на планах борьбы с бедностью в Китае. Нынешний впечатляющий успех в борьбе с коронавирусом потребовал немалых жертв. Ведь остановилась экономическая жизнь городов-миллионников, целых провинций. В то же самое время скачкообразно нарастали американские санкции. Удары сыпались с двух сторон.
Результат - небывалое со времен "культурной революции" сокращение ВВП в первом квартале этого года - 6,8 процента. Затем ситуация стала выправляться, и в третьем квартале зафиксирован рост в 4,9 процента. Китай стал крупнейшим "оазисом" в охватившей весь мир пандемии коронавируса и мощнейшим локомотивом преодоления последствий глобального стихийного бедствия.
Наряду с самодисциплиной всего народа, важную роль в преодолении последствий атаки "черных лебедей" сыграло планирование. ЦК КПК разработал экстренный план по контролю и профилактике эпидемии и социально-экономическому развитию. Ну а "планы партии - планы народа", как говорили в Советском Союзе. КПК - это правящая партия в обществе, которое называется "социализм с китайской спецификой". Как общественная, так и рыночная экономика живут в соответствии с пятилетними планами. Беспрекословно выполняются особые планы, как в случае с коронавирусом.
Только в течение трех первых критических месяцев 2020 года центральное правительство направило 136,9 миллиарда юаней (19,7 миллиарда долларов) властям самых бедных провинций - Тибета, Синьцзяна, Сычуани, Цинхая, Ганьсу и Юньнани. Одновременно еще 103 миллиарда юаней (14,7 миллиарда долларов) пошли на помощь людям, серьезно пострадавшим от коронавируса. Центр призвал провинциальные власти изыскать собственные резервы и также направить их в помощь нуждавшимся. За счет финансовых запасов удалось поддержать жизнеспособность участников рынка, особенно малого и среднего бизнеса, который дает работу десяткам, сотням миллионов людей. Миллионы людей, только-только избавившиеся от нищеты, рисковали вернуться в прежнее бедственное состояние. Похоже, этого не случилось.
На прошедшем в конце октября 5 пленуме ЦК КПК 19 созыва были оглашены некоторые цифры социально-экономического развития 13-й пятилетки (2016-2020 годы), включающей и самые трудные месяцы этого года. В городах и поселках было создано около 60 миллионов новых рабочих мест. Почти 56 миллионов малоимущих крестьян распрощались с нищетой и условиями, близкими подчас к натуральному хозяйству. Системой основного медицинского страхования теперь охвачено более 1,3 миллиарда человек - практически все население страны, включая деревенских бедняков. Миллиард человек вошли в систему основного страхования по старости. Средняя продолжительность жизни достигла 77,3 года, увеличившись на целый год.
"Двойная циркуляция"
На главном партсобрании Поднебесной, роль которого раз в году играют пленумы ЦК, была одобрена новая стратегия "двойной циркуляции". Она предусматривает приоритет "внутренней циркуляции" перед "внешней циркуляцией", то есть внутреннего рынка перед рынками внешними. Каждая из двух "циркуляций" состоит из трех фаз - производство, доставка и потребление, при этом действует множество производственно-транспортных цепочек. Разрыв цепочек ведет к сбоям в циркуляции всей фазы и поэтому нетерпим.
До обострения американо-китайских противоречий цепочки работали исправно, фазы перетекали одна в другую, противоречий между внутренней и внешней циркуляцией не существовало. Так было совсем недавно - впервые о "двойной циркуляции" в Пекине заговорили в этом году на майском заседании членов Политбюро ЦК КПК. Принятие новой стратегии стало срочно необходимым в условиях "холодной войны", начатой США против Китая в 2018 году и обострившейся на фоне пандемии: повышения тарифов на китайский экспорт, бойкота китайских высокотехнологичных компаний, жесткого военного давления. Я вижу в новой стратегии логическое развитие "новой нормальности", сформулированной еще в 2014 году. Уже тогда началась подготовка к встрече с "черными лебедями". Как старая, так и новая стратегии лежат в русле долгосрочного плана "великого возрождения китайской нации".
Приоритет "внутренней циркуляции" подразумевает наличие обширного и емкого внутреннего рынка. Глядя сквозь эту призму, особенно ярко видишь важность полной победы над нищетой. Конечно, очень важны политические и этические мотивы разгрома вековой бедности. Государство задолжало нынешним труженикам и даже их предкам, за чей счет шло ускоренное накопление общественного капитала, развитие тяжелой промышленности, наращивание военного потенциала. Важен поворот к возрождению ценностей социализма, обозначившийся с приходом Си Цзиньпина и проведением 19 съезда КПК. Тогда был провозглашен новый главный лозунг партии коммунистов и всей страны: "оставаться верными нашей первоначальной цели, не забывать о нашей миссии".
За 8 лет отдать долги последним ста миллионам бедняков как раз и означает "оставаться верными первоначальной цели", означает победу справедливости. Но это еще означает и расширение внутреннего рынка на сотню миллионов потребителей. В ближайшие 5 лет, согласно решению 5-го пленума, почти 270 миллионов рабочих-мигрантов станут горожанами и, следовательно, полноценными потребителями за счет реформы, фактической отмены системы прописки. До сих пор эта система "хукоу" лишала деревенских бедняков, отправившихся в города на заработки, большинства социальных гарантий и благ, ограничивала их покупательную способность.
Новые возможности откроются и для роста "среднего класса", уже составляющего почти 500 миллионов человек. Облегчатся жесткие правила покупки автомобилей и приобретения недвижимости, которые были введены ради предотвращения "пузырей" на рынке. Ослабнет регулирование среднего и малого бизнеса. Снизятся налоги. Расширится практика прямой финансовой помощи в трудных ситуациях.
Важно еще и то, что приоритет внутреннего рынка не означает самоизоляции, возврата к "опоре на собственные силы". Напротив, будет стимулироваться приток иностранных инвестиций и технологий, облегчаться доступ на растущий китайский внутренний рынок качественной иностранной продукции. Это также поможет росту среднего класса, численность которого к 2035 году вырастет до 800-900 миллионов человек.
От средней зажиточности к высокому достатку
Победа над китайской бедностью близка. Мы услышим о ней в ближайшие месяцы. Преодоление последствий коронавируса и американских санкций показало крепость и мощь китайской экономики. Уже ясно, что она выдержала "стресс-тест". Несмотря на все последствия пришествия "черных лебедей", объем ВВП в 2020 году достигнет небывалых 100 триллионов юаней - это почти 14,5 триллиона долларов. По прогнозу МВФ, в этом году КНР станет единственной в мире крупной страной с положительным ростом экономики - около 2 процентов.
Начавшийся трагично, нынешний год войдет в историю Китая не только как время преодоления двойного удара. За счет многих лет реализации принципов "социализма с китайской спецификой" именно в 2020-м среднедушевые доходы в Китае достигли 10 тысяч долларов. Таким образом, стране в ближайшее время предстоит переход с этапа среднего достатка к достатку высокому. О новом качестве китайской нации заявил на днях заместитель руководителя Национальной комиссии по развитию и реформам (китайский Госплан) Нин Цзычжэ. Оптимизма добавили другие влиятельные эксперты. Сю Хунжи, заместитель главы Ассоциации политических наук Китая, предсказал рост ВВП Китая на 7 процентов в следующем и по 5-6 процентов до 2025 года. Самый оптимистический прогноз сделал Линь Ифу, бывший главный экономист Всемирного банка: до 8 процентов ежегодно вплоть до 2030 года. Драйверами роста он назвал новейшие технологии типа 5G и огромный внутренний рынок.
"Высоко сижу, далеко гляжу". Эта пословица вполне применима к современному Китаю. Оправившись от шока коронавируса и американских санкций, руководство правящей партии на недавнем 5 пленуме ЦК решило заглянуть в обозримое будущее - до 2035 года. Пока известно лишь несколько конкретных показателей роста на 15 грядущих лет. ВВП удвоится с нынешних 100 триллионов юаней. В два раза вырастет нынешний уровень доходов на душу населения. Подсчитано, что для этого ВВП должен расти примерно на 3,5 процента в год: немало, но вполне достижимо. Уже в 2022 или 2023 году Китай по душевому доходу окончательно перейдет рубеж между обществом среднего и высокого достатка. Это будет эпохальное достижение для страны, причем с серьезными последствиями для всего человечества.
Оставаясь "мастерской мира", Китай станет "мировым рынком". Теория "двойной циркуляции" станет свершившимися фактом экономической жизни, причем в глобальном масштабе. Китайская валюта, особенно цифровой юань, станет признанной мировой расчетной единицей и существенно потеснит доллар и другие мировые валюты.
Более эффективный хозяйственный уклад "социализма с китайской спецификой" продолжит вытеснять менее эффективный и либерально-капиталистический и после 2035 года. Новые экономические, социальные и идеологические нормы будут менять устаревшие. К 2049 году - финишному году плана "Китайская мечта" - все человечество убедится, что социализм с учетом национальной специфики является лучшим путем развития. Китайская мечта "жить без нужды" станет всеобщей мечтой.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ США И КИТАЕМ: ЧЕГО ОЖИДАТЬ?
АЛИСИЯ ГАРСИЯ-ЭРРЕРО
Старший научный сотрудник BRUEGEL, адъюнкт-профессор Гонконгского университета науки и технологий.
Сдерживание со стороны США лишь подтолкнёт Китай к ускорению развития собственной экосистемы в сфере технологий. Китай не станет экономить на затратах на её поддержку. Более того, он будет спешить с приобретением необходимых технологий у остального мира. Создание двух технологических экосистем представляется сейчас относительно неизбежным.
Хотя тарифная война между двумя крупнейшими экономиками мира, похоже, утихла, после того как в декабре прошлого года была достигнута договоренность по первой фазе торгового соглашения, стратегическая конкуренция между США и Китаем далека от завершения. Помимо торговых мер, США использовали против Китая ещё несколько видов оружия. Размежевание на уровне финансов и личных контактов ведётся вполне целенаправленно, в области технологий – также продвигается быстрыми темпами.
Точную дату, когда началось технологическое противостояние между США и Китаем, назвать трудно. Можно вспомнить, как Китай стал запрещать американские социальные сети и другие платформы, такие как Google и Facebook. Как уже в разгар торговой войны между США и Китаем была арестована финансовый директор компании Huawei в Канаде по запросу судебных органов США с требованием дать показания на территории США. Учитывая роль Huawei как национального лидера в телекоммуникационном секторе Китая, китайские официальные лица сочли это прямой атакой на предполагаемую гегемонию Huawei в области 5G. На самом деле, это был лишь один из американских шагов по ужесточению контроля над китайскими технологиями. Например, не так давно США ужесточили контроль, сократив лицензии на экспорт чувствительных технологий – причём как в Китай, так и в Гонконг. Фактически процесс начался ещё до торговой войны, как показано на графике 1. Количество разрешений стало уменьшаться уже в 2015 году, а с 2016-го эта тенденция приобрела обвальный характер. В свою очередь, Китай ввёл экспортные лицензии на ключевые технологии, такие как дроны и искусственный интеллект.
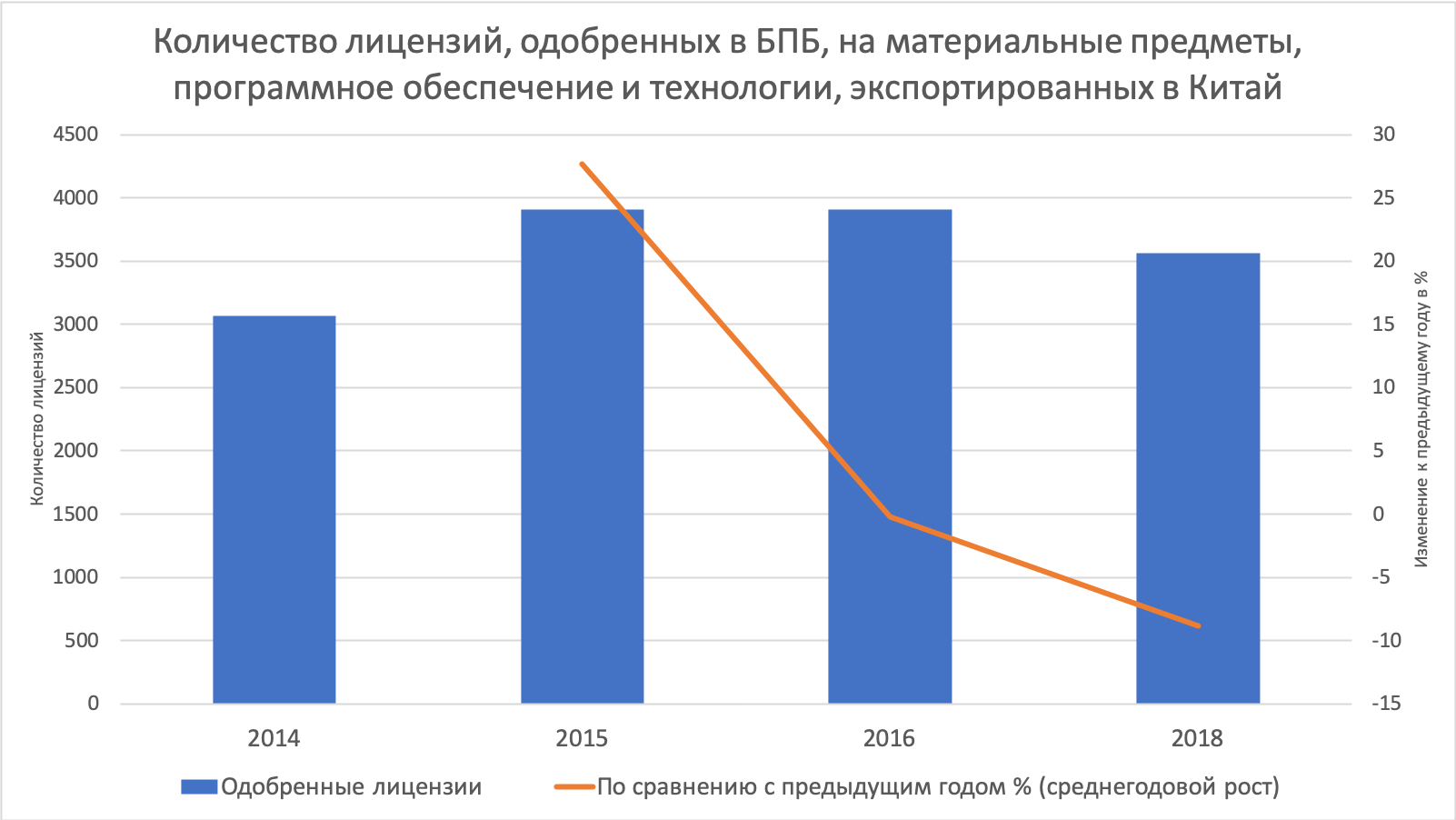
Помимо торговли, свободный поток инвестиций также был ограничен, особенно в отношении технологий. Со стороны США это наиболее ярко проявилось после реформы Комитета по иностранным инвестициям (CFIUS), целью которой было заблокировать растущий объём слияний и поглощений между компаниями Китая в США, особенно в высокотехнологичном промышленном секторе. ЕС также последовал этому примеру и создал в апреле 2020 года собственный институт для проверки инвестиций, что указывает на технологический протекционизм – как глобальный, так и направленный специально против Китая.
Другой важной мерой, принятой США, является введение списка юридических лиц, который фактически запрещает американским компаниям вести дела с включёнными в него китайскими предприятиями. Бюро промышленности и безопасности США (БПБ) опубликовало список организаций, которые считаются опасными для национальной безопасности США, ещё в 1997 году. Но с 2019 года этот список резко расширился – туда попала компания Huawei, её филиалы и ещё целый ряд китайских корпораций.
Китай не замедлил с ответом и объявил о составлении ответного списка, но названия попавших в него компаний не разглашаются. Тем не менее были обнародованы основания для включения в список: в него попадают фирмы, принявшие дискриминационные меры против китайского бизнеса по некоммерческим основаниям. Как было заявлено, последствием попадания в китайский список будут не санкции, аналогичные вводимым в США, а скорее полный запрет на торговлю и инвестиции в Китае. В целом оба списка затрудняют работу китайских компаний с США, а любых иностранных компаний – с Китаем, что делает технологическое размежевание ещё более вероятным.
Камнем преткновения в отношениях США и Китая является технология 5G. После того, как Huawei было запрещено предоставлять платформы 5G в США, подобные шаги предприняла Великобритания. Таким образом, подвергаемая нападкам Huawei символизирует процесс глобализации технологий. А торможение этого процесса приводит к фрагментации инвестиций, производства и занятости.
Сдерживание технологической экспансии Китая в США не ограничивается конфликтами в сфере оборудования, оно затрагивает и программное обеспечение. В начале августа этого года Белый дом опубликовал распоряжение, касающееся китайских социальных сетей TikTok и WeChat. Оно угрожает наказанием резидентов США или компаний, участвующих в любых сделках с этими фирмами после его вступления в силу. Это эквивалентно «Великому китайскому файрволу», или «Золотому щиту», установленному Китаем намного раньше для блокировки доступа своих интернет-пользователей к нескольким популярным приложениям.
За пределами отрасли технологическое размежевание отягчается первыми шагами к финансовому размежеванию, что делает трансграничное финансирование всё более трудным. Тем временем китайские технологические фирмы, зарегистрированные в США, решили провести вторичный листинг, чтобы избежать риска исключения из фондового рынка США. Это касается Alibaba, JD и NetEase, которые запустили вторичный листинг в Гонконге. Помимо этого, китайское правительство проводит политику поощрения внутреннего финансирования технологических компаний, включающую создание Торговой площадки по научным и технологическим инновациям (SSE STAR Market) с ослаблением правил и введением льгот. Этот новый рынок, расположенный в Шанхае, призван поддержать перспективные технологические стартапы за счёт более лёгкого акционерного финансирования. Таким образом, он отвечает целям промышленной политики Китая, особенно в аспекте технологической модернизации, и избавляет китайские компании от необходимости полагаться в вопросах привлечения капитала на иностранные фондовые биржи – тем более что крупнейшие платформы находятся в США.
Хотя невозможно точно сказать, как дальше будет развиваться конфликт, но ограничения со стороны США лишь подтолкнут Китай к ускорению развития собственной экосистемы в сфере технологий. Другими словами, модернизация китайской технологической индустрии является сейчас более актуальной, чем когда-либо, поэтому Китай не будет экономить на затратах на её поддержку. Кроме того, он будет спешить с приобретением необходимых технологий у остального мира. Европа (в которой меньше ограничений, чем в США или даже в Японии или Корее) по-прежнему будет основной целью.
Создание двух технологических экосистем представляется сейчас относительно неизбежным, если только американские выборы-2020 не повлекут за собой серьёзное изменение подхода США к Китаю. Последнее, впрочем, выглядит маловероятным, поскольку воинственную позицию в отношении Китая в Соединённых Штатах разделяют как демократы, так и республиканцы. В связи с этим следует отметить, что работа с двумя разными экосистемами в области технологий подтолкнёт другие сферы, такие как финансы, торговля и прямые иностранные инвестиции, к большей разобщённости.

Сооснователь OCSiAl Юрий Коропачинский: «Наши нанотрубки будут в каждом электромобиле»
Ситуаций, когда отечественную компанию можно назвать безоговорочным мировым лидером на своем рынке, к сожалению, пока что немного. Но производитель углеродных нанотрубок OCSiAl практически создал свою рыночную нишу, вывел на рынок уникальный продукт, пережил всех конкурентов и недавно был оценен более чем в $1 млрд. Сооснователь компании Юрий Коропачинский рассказал о производстве и применении нанотрубок, союзе науки и бизнеса и будущем человечества.
Раскройте секрет малого размера: почему ваши нанотрубки TUBALL так радикально меняют свойства материалов?
Все началось с графена. Теоретически возможность его существования доказали еще 40-е годы, но на практике его получили нобелевские лауреаты Константин Новоселов и Андрей Гейм. Графен — это моноатомный слой, состоящий из атомов углерода, которые не соединены ни с чем, кроме самих атомов углерода. Графит состоит из монослоев, которые соединены поперечными мостиками. Гейм и Новоселов придумали взять скотч, прилепить к графиту, оторвать, потом второй скотч, потом третий скотч. Так они рвали, пока не остался моноатомный слой графена.
2010 год. Выходцы из России Константин Новоселов и Андрей Гейм получили Нобелевскую премию за открытие графена в 2010 году. В этом же году академик Михаил Предтеченский и предприниматели Юрий Коропачинский, Олег Кириллов и Юрий Зельвенский учредили компанию OCSiAl. Первую значимую поддержку ей оказал Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО. Сейчас АО «РОСНАНО» является акционером компании.
Он обладает абсолютно невероятными свойствами по сравнению со всеми материалами, которые мы знали до этого. Кристаллическая решетка из одного слоя атомов в свернутом виде дает те самые одностенные углеродные нанотрубки. Средний размер графеновых трубок — 1,5—2 нанометра. Это очень-очень мало, это 10 атомов углерода по кругу. Поперечный размер — в один атом, а вот длина у него по соотношению к поперечному размеру рекордная, 5 микрон. Если бы такое соотношение было у волоса, его длина была бы 50 метров.
И благодаря этому свойству, если добавить немного таких объектов, например, в расплав или в мономер, то в ходе полимеризации или кристаллизации кристаллы выстраиваются не в случайном порядке, а начинают расти вдоль этих очень длинных объектов. Это структурирование и дает уникальные свойства нанотрубок: рекордные показатели электропроводности, теплопроводности и прочности.
У американцев есть метафора для чего-то сложного — rocket science. Нанотрубки — это rocket science, или, наоборот, это технологически простое решение? Как происходит производство?
Это, безусловно, rocket science. Процесс очень сложный, очень тонкий, который протекает за тысячные доли секунды. Нанотрубки выращивали и раньше, но существовавшими методами сделать их в большом количестве не представлялось возможным. Наш метод, который придумал академик Михаил Предтеченский, состоит в том, что мы создаем летящую в газе свободную наночастицу размером 1,5 — 2 нанометра. В процессе происходит распад метана, водород выделяется в виде газа, а углерод начинается садиться в виде очень тонкой структуры.
Большинство технологических тонкостей, которые мы наработали за 10 лет, являются нашим know how, они запатентованы и являются коммерческой тайной. И если кто-то повторит нашу технологию, он, так или иначе, подпадет под наш патент.
1600°C — термическая стабильность нанотрубок в вакууме.
Фундаментальные результаты
Как наука из Новосибирского Академгородка встретилась с деньгами РОСНАНО? Как состоялся союз большой науки и большого бизнеса?
Как говорит уже упомянутый мною Михаил Предтеченский, не существует фундаментальной и прикладной науки, существуют фундаментальные результаты. Надеюсь, он скажет эту фразу в своей нобелевской речи, когда ему вручат премию за нанотрубки. Получилось сочетание большого труда и, в каком-то смысле, большой удачи. Ведь историй, когда новая технология, в том числе новый материал, при жизни его создателя успешно реализовались, да и еще создатель имеет к нему какое-то отношение, кроме посмертной славы, очень мало. Что такое фундаментальный результат? Это результат, который меняет основу, на которой живет человечество. Он меняет наше представление о мире, позволяет нам по-другому действовать.
В этот результат поверил Анатолий Борисович Чубайс. Нам было принципиально важно его личное участие, мы смогли его убедить в том, что за этими технологиями будущее. На своих вложениях РОСНАНО заработает многократно, и это справедливо. Потому что они давали нам деньги, когда в нас еще никто не верил. А теперь наша компания производит 100% коммерческой продукции на основе графеновых нанотрубок, выпускаемой в мире. Нет другого производителя, мы единственные на планете.
$20 млн в совокупности РОСНАНО вложило в проект и приобрело евробондов OCSiAl еще на $40 млн.
Наша долгосрочная тактика состоит в том, что мы глобальная компания. Мы предоставляем свой продукт и техническую поддержку по его использованию в любом месте мира на местном языке. Сейчас — в 40 странах. Любой человек на планете в любой стране мира может у нас их получить, если он хочет делать продукт, у нас есть клиенты в Африке, в Бразилии, Чили, Мексике, Индонезии, на Шри-Ланке. Поэтому мы глобальная компания.
Мировое лидерство
Сейчас принято рассуждать об угрозах и вызовах будущего: перенаселение, спонтанные эпидемии, глобальное изменение климата и многое другое. Есть ли какая-то глобальная проблема человечества, которую можно решить с применением нанотрубок?
Проблема, которая абсолютно у всех на слуху, — проблема глобального потепления, карбоновый след. Треть эмиссии СО2 связана с материалом. Почему? Потому что основные технологии производства материалов сопровождаются выбросами СО2, например сталь. Сталь — один из самых массовых материалов с объемом мирового производства почти 1,9 млрд тонн в год. Чтобы заменить сталь, нужные новые материалы. Наша продукция уже делает материалы легче и прочнее, я называю наши нанотрубки анаболиками для материалов. Но мы не останавливаемся и ведем разработки по изготовлению макрообъектов из нашего материала.
37 млрд тонн углекислого газа в 2019 году человечество выбросило в атмосферу. Для сравнения: в 1990 году этот показатель составил 6,14 млрд тонн.
Еще один вклад в глобальное изменение климата — автомобили. Альтернатива двигателю внутреннего сгорания — электричество. И сейчас нет ни одной компании, производящей авто, которая бы не задумывалась над своим электромобилем. Но проблема с ними в том, что при использовании нынешних материалов аккумулятор получается гигантский, а срок его службы — небольшой. Благодаря использованию графеновых нанотрубок корпус машин станет легче, аккумулятор — энергоэффективнее и долговечнее, дальность хода — больше, а резина позволит снизить трение качения. По моим представлениям, через три года на планете Земля не будет электромобилей, у которых батарейки не содержали бы нашего материала. Это абсолютная правда, это факт.
Источник: Inc.
СПРАВКА
OCSiAl — крупнейший в мире производитель графеновых нанотрубок, единственная компания, владеющая масштабируемой технологией их промышленного синтеза. Графеновые нанотрубки, или одностенные углеродные нанотрубки, представляют собой свернутые в цилиндр плоскости графена. Они обладают уникальными свойствами — высокой электро- и теплопроводностью, прочностью, соотношением длины к диаметру. При внесении в матрицу материала графеновые нанотрубки создают трехмерную сеть, которая придает материалам проводящие и армирующие свойства. OCSiAl производит нанотрубки под брендом TUBALL™.
В Новосибирске находятся производственные мощности и научно-исследовательская база компании, а также центр прототипирования материалов и технологий на базе графеновых нанотрубок — TUBALL CENTER. В 2019 году второй TUBALL CENTER был открыт в Шанхае (Китай). Третий TUBALL CENTER планируется открыть в Люксембурге.
Региональные отделения OCSiAl работают в Европе, США, Корее, Китае (Шэньчжэнь, Шанхай), Гонконге и России, представительства — в Мексике, Израиле, Японии, Индии, Австралии, Германии и Малайзии. Помимо собственных офисов и представительств, OCSiAl имеет партнеров и дистрибьютеров в 45 странах.
В OCSiAl работают более 450 сотрудников из 16 стран мира. В научно-исследовательском отделении компании работают более 100 ученых.

ЭПОХА НА РАЗРЫВ
ПАВЕЛ САЛИН
Кандидат юридических наук, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ.
ЕДИНСТВО И БОРЬБА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ МЕНЯЮЩЕГОСЯ МИРОПОРЯДКА
И без фактора коронавируса мир грядущих двадцатых годов, которые, вероятно, получат пролонгацию-проекцию в последующие тридцатые и даже в сороковые, существенно отличался бы от мира десятых, не говоря уже о фактически однополярном мире девяностых – двухтысячных годов и тем более биполярном мире второй половины XX века.
Всё завершающееся десятилетие – эпоха видимого распада и переустройства предыдущего порядка – проходило под лозунгом «мир уже не будет прежним». Мы наблюдали дисфункцию прежней системы, пришедшей на смену попыткам США вернуть ускользнувшее в нулевые годы мировое лидерство. Коронавирус лишь перевёл количество изменений в качественную трансформацию.
В связи с этим обретает актуальность вопрос о стратегии России, её адаптации к «новой нормальности». С одной стороны, происходящее описывается с использованием категориального аппарата уходящей эпохи – «мира полюсов»: не важно – «би-», «одно-» или «много-». С другой – появляются игроки, которые в уходящем мире были объектами, а в наступающем стали субъектами, «свободными агентами» в терминологии одной из предыдущих статей автора. Эта двойственность и многогранность, переходящая в противоречивость, – тоже отличительная черта новой эпохи.
Геополитика: победители и проигравшие
Сначала проведём анализ в рамках прежней системы координат – полюсов силы и национальных государств. Любые тектонические изменения, пусть даже и в начальной фазе, позволяют строить предположения об их бенефициарах и проигравших. Рассмотрение данной проблемы также опирается на сюжетную линию, которая сформировалась задолго до начала 2020 г., но пандемия придала ей новое измерение и динамику. Речь идёт о противостоянии двух мировых центров силы, США и Китая, продолжающегося уже как минимум пятнадцать лет.
Первый раунд, который можно назвать экономическим, вышел в открытую фазу в 2008 г. и совпал с мировым финансовым кризисом. Тогда две экономические системы прошли проверку на прочность, и «по очкам» победителем стал Китай. Западная система, базирующаяся на доминировании финансового капитала, уступила китайской, условно «индустриальной» (имеются в виду преобладавшие на тот момент в каждой из систем производительные силы). По итогам кризиса 2008 г. Соединённые Штаты на доктринальном уровне признали КНР в качестве основного вызова и конкурента (документальное закрепление это получило в программных документах Вашингтона конца первого и начала второго президентских сроков Барака Обамы) и стали заимствовать элементы китайской экономической модели. В частности, США начали реиндустриализацию американской экономики – возвращение производственных мощностей в рамки национальных границ.
Второй раунд противостояния, который вышел в открытую фазу в 2020 г. и совпал с пандемией, задавшей его формат, можно охарактеризовать как конкуренцию не экономических, а политико-административных систем в борьбе с коронакризисом. Пока «по очкам» победителем снова выходит Китай. Его управленческая модель продемонстрировала бÓльшую эффективность по сравнению с классической либеральной, которую олицетворяют США. Американская модель в силу своей деконсолидированной природы привела к тому, что власти действовали разрозненно и непоследовательно, не сумев оперативно определить приоритет – соблюдение базовых свобод или безопасность. Китайская, так называемая авторитарная, модель продемонстрировала способность быстро определиться с целеполаганием и сконцентрировать ресурсы на ключевых направлениях. Успех предпринятых шагов подтверждается цифрами – числом заболевших и умерших. Является ли эта разница в цифрах следствием реальной эффективности системы в борьбе с пандемией или умелого администрирования информационных потоков китайскими властями – вопрос с точки зрения внешнего наблюдателя вторичный. Для взгляда извне – китайская модель явно выигрывает.
В плане соотношения понятий «суверенитет» (прерогатива национального государства) и «экосистема» (аналог понятия «суверенитет» для транснациональных цифровых корпораций) китайская модель также показала бÓльшую эффективность по сравнению с либеральной американской. Экосистема китайских цифровых компаний ещё на этапе становления была сконструирована так, что совпадала с национальными границами, вовлекая в свою орбиту влияния и хуацяо. В итоге это стало решающим фактором, позволившим властям контролировать информационное поле.
Наконец, Китай сумел поставить себе на службу ряд институтов глобализации, контроль над которыми до последнего времени считался прерогативой США и глобального Запада. В частности, речь идёт о Всемирной организации здравоохранения, которую Вашингтон прямым текстом обвинил в том, что она следует в фарватере национальных интересов Пекина. Также Китай использовал кризис для продвижения своего проекта Шёлкового пути, что выразилось в гуманитарной помощи пострадавшим от эпидемии и её последствий странам.
Что же касается позиции России на фоне обострения конкуренции между двумя системами и полюсами силы, она соответствует евроазиатскому курсу, который декларирует Москва, и весьма дуалистична. С одной стороны, с точки зрения институциональных и управленческих практик российские власти охотно перенимают китайский опыт (цифровой контроль в Москве, надзор над информационным полем), но используют при этом продукты западных технологических компаний (Zoom, Ms Teams и прочие).
Таким образом, предпосылок для самостоятельного «цивилизационного полюса», о чём любит говорить Москва, в реагировании на кризисные ситуации не просматривается.
Эрозия полярного подхода к конструированию внешнеполитической стратегии
Вышеизложенный анализ исходил из концептуальных основ прежнего миропорядка, отразив противостояние двух новых глобальных полюсов – США и Китая. Российские власти конструируют свою внешнюю стратегию именно в рамках концепции полярного мира. Не претендуя больше на роль глобального полюса, они стараются добиться признания глобальными и ведущими региональными игроками своего статуса как региональной державы, имеющей привилегированные интересы на части постсоветского пространства.
Однако такой подход всё больше размывается, и это проявляется на всех трёх направлениях постсоветского пространства – западном, южном, юго-восточном. В Центральной Азии (юго-восточное направление) всё более заметна эрозия доктрины раздела сфер влияния не по территориальному, а по функциональному признаку, который Москва в 2010-е гг. предлагала Пекину. Согласно этой доктрине, Пекину отводилась сфера экономического влияния, с чем была готова мириться более ограниченная в ресурсах Россия, а Москве – военно-политическое доминирование, инструментом которого должна была стать ОДКБ. Однако Пекин демонстрирует намерения самостоятельно обеспечивать безопасность своих проектов в Центральной Азии, в том числе и ключевого – Экономического пояса Шёлкового пути. Всё чаще говорят о скором начале строительства военной базы КНР в Таджикистане с прицелом на проецирование силы на территорию не только Центральной Азии, но и Афганистана. Что же касается ОДКБ как института, гарантирующего в том числе и безопасность политических режимов от внутренних вызовов, то его роль снова оказалась под вопросом после осенних событий в Киргизии.
На южном направлении (Южный Кавказ) классическому влиянию Москвы также брошен вызов. Под угрозой главный экономический интерес России – транспортировка энергоносителей. В 2020 г. запущена первая фаза Южного газотранспортного коридора, который является конкурентом «Турецкого потока» и должен доставлять азербайджанский (а в перспективе и туркменский) газ на европейские рынки в обход России. Обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе в июле 2020 г. изменило положение не в пользу Москвы.
Ситуация с возобновлением конфликта в Нагорном Карабахе, а де-юре и де-факто можно говорить о полноценной армяно-азербайджанской войне при участии Турции, весьма показательна. Россия заняла достаточно пассивную позицию, опосредованно оказывая помощь армянской стороне. И в данном случае – под вопросом дееспособность ОДКБ уже как инструмента урегулирования прямых военных конфликтов. Хотя формально члены ОДКБ не вовлечены в конфликт (Нагорный Карабах официально не признан не только Москвой, но и членом ОДКБ – Арменией), наблюдатели сделали свои выводы.
Наконец, на западном направлении постсоветского пространства тоже наблюдается отсутствие целостной внешнеполитической линии. Об уходе Украины из сферы влияния России и попытках Москвы заморозить и даже повернуть вспять этот процесс сказано достаточно. Однако во второй половине 2020 г. Россия столкнулась с серьёзными проблемами на самом привилегированном направлении своей внешней политики на постсоветском пространстве – белорусском. И ключевой причиной стала не игра внешнеполитических партнёров-конкурентов, как в некоторых вышеприведённых случаях, а появление в белорусской политике нового субъекта – гражданского общества.
Таким образом, в конце 2020 г. эффективность российской внешнеполитической линии на постсоветском, ключевом для неё направлении, вызывает сомнения. И дело здесь в несоответствии её методологических оснований новым правилам игры, «новой нормальности» практически наступивших «ревущих двадцатых».
Внешняя политика как проекция внутриполитического запроса: интересы власти
Важную роль для формирования политики на международной арене будет играть внутренний фактор. 2010-е гг. стали временем нарастающей внутриполитической нестабильности во многих странах. Эта тенденция, ставшая глобальной, охватила и западные страны (наиболее яркий пример – протесты в США и Франции, Венгрии и Польше), и восточные. При этом речь идёт о Востоке в широком смысле слова – как о Большом Ближнем Востоке, так и о Южной Азии и странах АТР.
Привлекательность той или иной модели развития, которую предлагают два полюса силы, будет зависеть от способности контролировать гражданскую активность и не позволять населению выступать агентом перемен. До коронавирусного кризиса и беспорядков последних лет в западных странах доминировало мнение, что именно западная модель представительной демократии обеспечивает наилучший контроль над общественной активностью, сглаживая нежелательные пики в виде массовых выступлений и канализируя протест с помощью электоральных процедур.
Однако, как уже было сказано выше, фактор коронавируса продемонстрировал эффективность (как минимум краткосрочную) китайской административно-политической модели. (Масштабная политическая неразбериха, которой сопровождались выборы американского президента в ноябре 2020 г. только усугубило впечатление кризиса системы.) Во-первых, Китай показал способность в короткие сроки справиться с медицинскими вызовами, а позднее – оперативно приступить к восстановлению экономики, пострадавшей от национальных ограничений и глобального падения спроса. Во-вторых, в КНР введение жёстких карантинных мер не привело к массовым акциям протеста, как в западных странах. Показателен в данном случае пример Сербии, но и беспорядки в США, формально спровоцированные расовым фактором, во многом обусловлены выходом агрессии, накопившейся из-за вмешательства государства в жизнь граждан.
Конечно, второй фактор можно объяснить особенностями китайского менталитета, но во многом отсутствие протеста и даже сопротивления при резком и массовом ограничении гражданских свобод обусловлено технологической базой, на которую опирались власти КНР. На такие же инструменты цифрового контроля делала ставку московская мэрия, а сама идея цифрового контроля над обществом и нежелательной для властей гражданской активностью находит отклик у высшего российского руководства. Именно оно одобрило предложенную в начале апреля московской мэрией концепцию тотального цифрового контроля (система «умный город») как альтернативу введению комендантского часа с армейскими патрулями. Практику комендантского часа использовали многие западные страны, например, Италия.
Китайский опыт контроля над обществом опирается на фундаментальную базу – как экономическую, так и технологическую, которой не может похвастаться Россия.
В частности, китайский интернет изначально конструировался и развивался как суверенный, под строгим надзором государства. В России же государство с переменным успехом пытается его «национализировать» лишь с 2012 г. – после более чем 15 лет стихийного развития.
Кроме того, китайская модель цифрового контроля и цифрового суверенитета находится на закономерном этапе перехода из национальной в глобальную сферу. Ярким примером здесь является судьба мессенджера TikTok. Если исходить из того, что для цифровых компаний термин «экосистема» равнозначен термину «суверенитет», в случае с TikTok речь идёт о первой масштабной попытке «экспорта суверенитета» китайских властей. При этом достаточно успешной, судя по количеству пользователей и динамике скачиваний, в том числе в США. Ситуация вокруг растущей популярности китайского мессенджера вынудила Вашингтон прибегнуть к шагам, противоречащим фундаментальной основе всей западной модели, – введению административных ограничений вопреки свободе выбора. Впрочем, в экономическом противостоянии с Пекином Соединённые Штаты давно перестали быть либеральными догматиками.
Таким образом, мы видим полноценную и фронтальную (а не только экономическую, как это было на протяжении почти всех 2010-х гг.) конкуренцию двух моделей – западной, большую часть элементов которой воплощают США, и китайской. В этом состязании можно выделить две фундаментальнее особенности, которые исключают Россию как потенциального игрока в принципе.
Первое отличие. Обе стороны продвигают целостную картину мира, которая построена по принципу матрёшки: глобальный образ будущего – демографическая, экономическая и технологическая база для его воплощения – конкретный инструментарий (TikTok как способ «экспорта суверенитета» или Facebook как альтернатива ему). Москва не может предложить миру такой целостной парадигмы. Единственное, в чём она достигла успехов в 2010-е гг. с точки зрения проецирования своих интересов в глобальную сферу (и это признаётся международными игроками) – «гибридные» спецоперации.
Второе отличие, исключающее Россию из «высшей лиги» мировых держав, связано как раз с этими достижениями. И КНР, и Запад при продвижении своих моделей выдвигают вперёд позитив, тот же образ будущего и его проекции (китайский пример продвижения: «более справедливая по принципам своего устройства по сравнению с Facebook соцсеть TikTok»). Гибридный же инструментарий, активно и успешно используемый Москвой на протяжении 2010-х гг., подразумевает либо «ассиметричное насилие», либо угрозу его применения.
Китайская модель пока по-прежнему вторична по отношению к западной с онтологической, смыслообразующей, точки зрения. Хотя она уже сравнялась и даже местами опережает её в плане не только экономики, что стало ясно на рубеже нулевых и десятых годов, но и «цифры», в когнитивных (гуманитарных) технологиях Запад сохраняет лидерство. Так, TikTok выигрывает у Facebook в честной конкурентной борьбе, однако сама идея соцсетей как одна из основополагающих конструкций нового цифрового общества XXI века появилась на Западе, и Китай не предложил ничего своего.
Тем не менее Москве стоит ориентироваться на Китай по меньшей мере по двум причинам. Во-первых, он показал бÓльшую эффективность в том, что касается цифрового контроля над гражданским обществом. Китайцы – пионеры в мировых технологиях 5G, которые в 2020-е гг. будут определять ритмы функционирования мегаполисов, в китайские технологические цепочки и экосистему в этой сфере уже готовы встраиваться такие представители «коллективного Запада» в АТР, как Япония и Южная Корея. Китай вполне способен стать для Москвы технологическим донором – взаимодействие с Западом с 2014 г. в этой сфере свёрнуто.
Во-вторых, что не менее важно для российских властей с точки зрения приближающегося транзита политсистемы, Китай имеет опыт перехода от единоличного к коллегиальному правлению (политбюро) без выноса противоречий и проблем этого процесса на публику. Москве этот опыт может пригодиться уже в ближайшее время.
Логично предположить, что, с точки зрения интересов власти, бенефициаров существующей в стране политической системы, России выгодно из периферии Запада стать периферией Китая. Это отчасти уже происходит и во многом определяет и внешнеполитическую стратегию Москвы.
Внешняя политика как проекция внутриполитического запроса: интересы общества
На первый взгляд, модель КНР, которую она готова экспортировать, должна быть широко востребованной в мире вообще и в России (особенно в период транзита) в частности. Китай на примере Гонконга демонстрирует готовность и способность обеспечить «подстройку» общества под запросы и интересы власти. В данном случае мы говорим о продвигаемой некоторыми авторами концепции «отрывающегося от власти» общества, когда оно предъявляет новый массовый запрос, а власть в силу своей несменяемости и окостенения не может его удовлетворить. При этом речь идёт об инструментарии, соответствующем современным «правилам приличия» – цифровом контроле, а не прямом физическом воздействии на нелояльных, как это пытались делать, например, белорусские власти в первые дни после президентских выборов.
Ещё во время первой волны коронавируса в Москве предпочли китайскую модель как альтернативу введению чрезвычайного положения с военными патрулями. Однако её имплементация разительно отличалась от китайской. Это было очевидно всем, кто находился в это время в российской столице, а тем более в провинции, где граждане практически не следовали административным предписаниям. Относительно строгие запретительные меры, принятые в столице, соблюдались лишь первые пару недель, а в месяц, предшествующий официальному смягчению режима, ситуация была такая же, как на пике расслабленности летом. В Китае же ограничения, за нарушение которых госорганы жёстко карали, безоговорочно соблюдались гражданами вплоть до официальной отмены. Таким образом, в очередной раз подтвердилась максима, не теряющая актуальности с XIX века: несовершенство российских законов искупается дурным их исполнением.
Однако необходимость обеспечения нужного власти поведения общества существует как с тактической точки зрения (для соблюдения мер безопасности при эпидемии), так и со стратегической (для предупреждения серьёзных социальных потрясений, в том числе и в условиях транзита политсистемы). И здесь с учётом увеличивающейся роли городской составляющей в профиле среднестатистического россиянина вполне может быть применена западная парадигма. Правда, в роли её хранителя и носителя (а значит, и цивилизационной альтернативы Китаю) в условиях пандемии выступили не США, власти которых в смягчённом виде использовали белорусскую практику («вируса нет, а кто им заболел, тот сам виноват»), а Швеция. Именно там ставку сделали не на запрет, а на разъяснительную работу и диалог с обществом, по минимуму применяя жёсткие меры, которые, помимо провоцирования общественного недовольства, требуют серьёзных ресурсов для их администрирования. И если весной 2020 г. шведская модель была подвергнута остракизму как «античеловечная», то во время осенней волны пандемии всё больше стран в той или иной мере стали прибегать к её заимствованию.
Выходит, что с точки зрения приоритета интересов власти, не только в России, но и во всех странах, где наблюдается высокий уровень социальной турбулентности или пограничные с ним состояния, целесообразно придерживаться китайской модели, а с точки зрения глубинного запроса большей части населения (растущего числа горожан) – модели западной представительной, но не обязательно либеральной, демократии.
Противоречивость, эклектичность, непредсказуемость и спонтанность – органичная черта «новой нормальности» международных отношений двадцатых годов XXI века.
Международная политика этой эпохи представляет собой сложную мозаику. Найти логическую взаимосвязь между двумя элементами можно, между несколькими – чуть сложнее, а обнаружить общие закономерности, описывающие всю модель – практически нереально. Именно такой упорядоченной концептуальной хаотизацией и будет характеризоваться ближайшее будущее, что отразится и на внутренней политике. Поэтому лучшая стратегия для любого игрока, в том числе и для России, – не расслабиться и получать удовольствие, плывя по течению, а постоянно искать и формулировать стратегию – лишь для того, чтобы тут же её доработать и пересмотреть в свете вновь возникших обстоятельств. А возникать они будут постоянно.
Ключевая задача в условиях «новой нормальности» – не дать противоречивым тенденциям международных отношений разорвать пока ещё единую ткань национального пространства и проекции национальных интересов во внешнюю среду.

РОССИЯ И ЗАПАД: ВТОРАЯ «ХОЛОДНАЯ» ИЛИ ПЕРВАЯ «ПРОХЛАДНАЯ»?
КОНСТАНТИН ХУДОЛЕЙ
Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета.
Ещё в 2003 г., когда у России и США возникли разногласия в оценке иракского кризиса, известный политолог Стивен Коэн предсказал, что между двумя странами начнётся «прохладная война». Хотя в последующие годы отношения России и Запада ухудшались, обе стороны старались не сосредотачиваться на назревающих противоречиях, надеясь на лучшее. Однако в 2014–2015 гг. наступил резкий перелом, произошло качественное ухудшение. Многие политики, журналисты, учёные, даже занимавшие ранее умеренные позиции, заговорили о начале «новой холодной войны», и лишь немногие использовали более осторожные формулировки.
С нашей точки зрения, понятие «прохладная война» является наиболее точным определением происходящего. Цель данной статьи – показать отличие нынешней «прохладной войны» между Россией и Западом от классической холодной войны и обозначить возможные пути её дальнейшего развития.
«Прохладная» и «холодная»: отличия и особенности
И в России, и за рубежом написано огромное число работ, в которых подробно рассматривается история холодной войны. Однако различные определения холодной войны не содержат чётких формулировок. Под холодной войной мы подразумеваем период в истории международных отношений, когда две сверхдержавы, которые по своей мощи качественно превосходили все остальные и стояли во главе блоков государств с антагонистическими общественно-политическими системами, находились в состоянии непримиримой конфронтации по всем направлениям (идеология, гонка вооружений, геополитика, экономика, культура, наука, образование и так далее). Противостояние проходило по определённым писаным и неписаным правилам, главным из которых, тем не менее, была недопустимость войны между двумя сверхдержавами. Последнее, несомненно, сохраняется и сейчас, но в остальном отношения России и США отличаются от времён холодной войны.
Современный мир значительно более сложен и многообразен, чем биполярный тогда. В нём есть элементы и однополярности, поскольку в глобальном масштабе Соединённые Штаты остаются наиболее влиятельной страной, и биполярности – ввиду появления на мировой сцене Китая, обладающего мощной экономикой, и многополярности – по причине наличия России, ведущей самостоятельную политику, и других акторов. Если в годы холодной войны отношения СССР и США были центральными в международной системе, ныне они таковыми не являются. Главную роль играют взаимоотношения между несколькими государствами (треугольник Россия-США-Китай, а также Европейский союз, Индия и некоторые другие). Логическим результатом становится снижение управляемости мировыми процессами, которая вряд ли вернётся к уровню холодной войны и биполярного мира.
В холодной войне принципиальным было то, что друг другу противостояли государства с антагонистическими общественно-политическими системами. Обе стороны ставили целью сокрушить противоположную и были искренне убеждены, что действуют в интересах всего человечества. Это придавало конфронтации особую непримиримость и ожесточённость. Хотя кризисы и конфликты чередовались с разрядками напряжённости, компромисс был невозможен. Сейчас же имеет место конфликт между разными моделями капитализма, имеющими не только отличия, но и общие черты – признание рыночной экономики и частной собственности.
«Прохладная война» России и Запада – не конфликт антагонистических общественно-политических систем или цивилизаций, а противоборство по вопросам устройства современного мира и правил игры на международной арене. А значит – компромисс возможен.
Холодная война была глобальной – фактически в ней участвовали все государства, даже официально объявившие себя нейтральными или неприсоединившимися. В «прохладной войне» участвуют лишь заинтересованные. Показательны голосования в Генеральной ассамблее ООН по резолюциям о Крыме и Сирии, когда почти половина стран воздержалась или не участвовала. А в регионе Тихого океана, куда постепенно перемещается центр мировой экономики и политики, «прохладная война» – в отличие от холодной – наблюдается в незначительной степени.
Качественные изменения произошли и в политике блоков. В годы холодной войны ни у кого не возникало сомнений, что, в случае чего, СССР и США выполнят обязательства перед своими союзниками. В свою очередь, и Москва, и Вашингтон также были уверены в их поддержке. Теперь этого нет. Сомнения в том, что США придут на помощь, испытывают некоторые страны НАТО, Тайвань, Южная Корея и ряд других. Союзники Соединённых Штатов предпочитают в ряде случаев дистанцироваться от Вашингтона. Израиль, Южная Корея, Новая Зеландия не примкнули к санкциям, которые ввели против России США и Евросоюз. Достаточно самостоятельную игру ведёт Турция. С другой стороны, союзники России по ОДКБ и Евразийскому экономическому союзу не присоединились к российским контрсанкциям и занимают осторожную позицию по вопросам о Крыме, Донбассе, Сирии и некоторым другим. В условиях «прохладной войны» блоковые обязательства становятся всё менее чёткими, а сами понятия «блок» и «блоковая политика» – всё более расплывчатыми.
Основные направления холодной и «прохладной» войн во многом совпадают, но они не тождественны. Главной сферой прежнего противостояния была гонка вооружений, а теперь таковой является экономика. «Торговые войны», санкции, контрсанкции и другие ограничения стали основным оружием, при помощи которого экономике конкурента наносится максимальный ущерб. При этом речь идёт не столько о сиюминутном воздействии (случаи, когда страны под угрозой санкций немедленно выполняли предъявленные им требования, единичны, и Россия явно не из их числа), сколько о стремлении ослабить противника в долгосрочной перспективе, затруднить или даже остановить развитие его наиболее перспективных отраслей экономики. Так как экономический потенциал России меньше, чем у США и ЕС, то общая ситуация для неё неблагоприятна. Надежды на смягчение или даже отмену санкций в связи с пандемией коронавируса и экономическим кризисом не оправдались. Более того, санкционное противостояние России и Запада нарастает. В то же время Запад не намерен на данном этапе доводить дело до крайностей – санкционное давление на Россию значительно меньше, чем на Иран. Американская политическая и деловая элита (причём и республиканцы, и демократы) не видит в России экономического конкурента. Для них, как и для Евросоюза, давление на Россию – прежде всего, средство заставить её изменить поведение на мировой арене, согласиться с существующим миропорядком и правилами игры.
Сердцевиной холодной войны была гонка вооружений – самая масштабная за всю историю человечества. Обе стороны стремились добиться преимущества, которое позволило бы им говорить и действовать с позиции силы. В условиях «прохладной войны» гонка вооружений продолжается. Однако во времена холодной войны она была соревнованием двух сверхдержав за достижение военного превосходства. В современных условиях гонка вооружений проявляется в первую очередь в наращивании военного потенциала одного государства – США. Хотя за последние годы Россия создала некоторые виды современного оружия, но по размеру военных расходов она существенно уступает Соединённым Штатам. Ни Россия, ни какая-либо другая страна, в том числе Китай, не в состоянии на равных с США участвовать в гонке вооружений ввиду огромного разрыва в экономическом и научно-техническом потенциале. Несопоставимы и масштабы концентрации войск и вооружений. Достаточно сравнить ситуацию в Центральной Европе, где в годы холодной войны два блока непосредственно противостояли друг другу, и в регионе Балтийского моря, где сейчас Россия граничит со странами – членами НАТО.
В военном противоборстве «прохладной войны» нет такой ярости и ожесточённости, как в годы холодной. Современной гонке вооружений не подчинены остальные сферы жизни – экономика, наука, образование и прочие, и она не находится постоянно в центре внимания общественности. Между военными и спецслужбами России и Запада сохраняются контакты, абсолютно немыслимые в холодную войну. Полная эрозия системы российско-американских договоров о вооружениях, которая происходит, конечно, вызывает тревогу. Однако поскольку у обеих сторон имеются серьёзные сомнения в том, что другая выполняет принятые на себя обязательства, процесс вряд ли будет остановлен. Взаимная подозрительность и недоверие возрастут ещё больше. Но это не станет повторением ситуации начального этапа «холодной войны» – ни у кого нет причин для возврата к политике «балансирования на грани войны». Более сложная картина может сложиться в случае активизации гонки вооружений в космосе или появления качественно новых видов вооружений, но и тут, скорее всего, стороны будут проявлять сдержанность. Отдельные столкновения военных возможны лишь там, где они соприкасаются друг с другом непосредственно, как, например, в Сирии или в воздушном и морском пространствах. Такие инциденты имели место, но, что примечательно, ни одна из сторон не пыталась обострить ситуацию.
Региональные конфликты холодной и «прохладной» войн также значительно различаются. Если прежде две противоборствующие стороны были прямо или косвенно втянуты практически во все такие коллизии, то сейчас Россия и США во многих не участвуют. В холодную войну почти все они возникали из-за военных столкновений между государствами, причём обычно одна, а иногда и обе сверхдержавы, знали о предстоящем начале боевых действий. Региональные конфликты «прохладной войны» чаще всего возникают из противостояния между политическими силами внутри самих государств, а Россия и Запад, как правило, вовлекаются уже после. Если в годы холодной войны и Советский Союз, и Соединённые Штаты добивались в региональных конфликтах военных и геополитических преимуществ, то теперь в определении их политики всё большую роль играют экономические интересы.
Пропагандистские кампании также существенно различаются. С одной стороны, ввиду использования новых информационных технологий сейчас они несопоставимо более масштабны и интенсивны. Об этом свидетельствует озабоченность и Запада, и России проблемой фальсификации новостей и дезинформации. Однако в них невелик идеологический компонент. Обе стороны стараются убедить мировую общественность в правильности своей политики, но дебаты о ценностях не находятся в центре пропагандистских баталий и играют вспомогательную роль. Но поскольку «прохладная война» ведётся во многом теми же методами и инструментами, что и холодная, складывается впечатление, что мир взялся за старое. В пропаганде широко используются те же приёмы и штампы, что и полвека назад. Вполне естественно, что даже когда это делается с использованием новейших информационных технологий, эффект несопоставим с усилиями, которые вкладываются в их проведение.
Тем не менее «эпоха постправды» сместила внимание с идеологии на альтернативную и эмоциональную интерпретацию актуальных событий, используемую для информационного влияния, и пропагандистские кампании сильно осложняют общую обстановку.
Так как холодная война была глобальной конфронтацией антагонистических общественно-политических систем, она пронизывала все без исключения сферы общества, непосредственно влияла на жизнь не только государств, но и отдельных людей. Сегодня такого мобилизационного подъёма нет, и он вряд ли возможен – конфронтация затрагивает высшие слои общества, а не основную часть населения.
К важным отличиям «прохладной войны» также относится то, что гуманитарные связи России и Запада в целом сохраняются. Сегодня их ограничения связаны, например, с пандемией коронавируса и экономическим кризисом, а не с политикой. Ничего даже отдалённо напоминающего «железный занавес» сегодня нет.
Коронавирус, экономический кризис и перспективы на будущее
На дальнейший ход «прохладной войны» между Россией и Западом большое воздействие окажут изменения, которые происходят в мире сейчас. Прогнозы о том, как долго продлится пандемия коронавируса и сколь глубоким будет экономический кризис, разнятся, но во всех речь идёт о сильных потрясениях. К тому же нельзя исключать появления – вслед за коронавирусом – новых, неизвестных ещё инфекций. В полной мере последствия пандемии и экономического кризиса проявятся в среднесрочной перспективе. Тем не менее некоторые тенденции уже наблюдаются.
Пандемия коронавируса приведёт к росту дифференциации между государствами, а во многих случаях и между отдельными регионами и социальными слоями внутри государств. При этом одной из главных, а в ряде случаев – и самой главной, разделительной линией станет сфера здравоохранения – степень доступности качественных медицинских услуг, возможность проживания в безопасной и комфортной среде, наличие серьёзных успехов в медицинских исследованиях и разработке на их основе оптимальных методов лечения, необходимых препаратов и оборудования. Это потребует резкого увеличения и государственных, и частных ассигнований, что (особенно в условиях экономического кризиса) могут позволить себе лишь наиболее развитые и богатые страны. В ряде случаев возможно появление внутри государств своеобразных анклавов, жителям которых – преимущественно из высших слоёв – будет доступен такой же качественный уровень здравоохранения, что и в развитых странах.
Появление стран и анклавов с наиболее благоприятными условиями для сохранения здоровья станет важным фактором перемещения мировой элиты. Вслед за элитой потянутся и высококвалифицированные специалисты – управленцы, врачи, учёные, инженеры, рабочие. Эти процессы приведут к сдвигам в разных сферах жизни – политике, экономике, образовании, науке и культуре. Самые развитые и богатые страны, обеспечив населению современное здравоохранение, ещё более укрепят свои позиции в мире. В остальных государствах внутриполитическая ситуация заметно осложнится. Легитимность власти, которая не сможет создать условий для сохранения здоровья, будет подорвана, противоречия обострятся. Это может привести к ослаблению или даже распаду государственных структур, появлению новых «несостоявшихся» и «хрупких» государств.
Сокращение контактов между людьми и уменьшение числа поездок даёт ещё один мощный толчок для развития информационных технологий. Они будут всё больше внедряться в бизнес, политику, государственное управление, науку, повседневную жизнь. Важным фактором роста дифференциации станет дистанционное образование. В обозримой перспективе оно не заменит полностью очного. Однако в ряде случаев приведёт к падению качества, а в других – наоборот откроет новые возможности для наиболее динамичной части молодёжи. Так, мотивированный студент, не покидая своего университета, получит возможность изучить интересующие его предметы в ведущих вузах мира. Последствия могут оказаться значительно более серьёзными, чем кажется на первый взгляд.
Дальнейшее развитие информационных технологий и здравоохранения приведёт к появлению новых социальных слоёв. Даже если они не будут многочисленными, их влияние, в том числе и на внешнюю политику, постепенно возрастёт как на уровне отдельных государств, так и в глобальном масштабе.
Конечно, пандемия коронавируса привела к разрушению многих международных связей, а в условиях экономического кризиса вполне вероятен рост протекционизма. Однако это не означает прекращения процессов глобализации. Просто они замедлились и несколько видоизменились. Некоторое увеличение роли национальных государств, по нашему мнению, будет происходить только в отдельных случаях и в течение непродолжительного времени. Общее развитие глобализации идёт в том же направлении, что и в последние десятилетия. Влияние России в мире в среднесрочной перспективе будет зависеть от того, насколько успешно она сможет включиться в новые процессы, использовать их в своих интересах и завоевать симпатии новых слоёв населения.
Пандемия и экономический кризис приведут к перегруппировке сил на международной арене. Все без исключения государства понесут потери, но можно с большой долей уверенности предсказать появление новой биполярности – США и Китай. Хотя Соединённые Штаты сильно пострадали из-за последних событий, все факторы, определяющие их роль в мире, сохраняются. Никаких признаков уменьшения числа лиц из высших слоёв общества, желающих переехать в Америку, нет, в том числе и потому, что доверие к американской медицине остаётся значительным.
Вопрос о том, возобновит ли китайская экономика рост или она уже достигла максимума, дискуссионен. Однако несомненно, что Китай уже создал достаточный потенциал для сохранения одного из двух первых мест в мировой экономике. Конечно, перемещение мировой элиты в Китай маловероятно. Модель общественно-политического развития КНР и ранее не была для неё привлекательной. К тому же высшие слои общества многих стран негативно восприняли последние изменения в законодательстве Гонконга. Отъезд из Китая состоятельных людей и высококвалифицированных специалистов длится не один год. В то же время нельзя не отметить появление в китайских университетах студентов, в том числе и российских, из семей бизнесменов, работающих с Китаем. Пекин в течение многих лет тратит значительные средства для привлечения иностранных студентов, но, как и в случае с СССР, среди них очень мало выходцев из высших слоёв общества. Если теперь ситуация изменится, это будет несомненным успехом Китая. В дальнейшем наличие группы университетов, занимающих высшие места в международных рейтингах, может дать Пекину крупные преимущества.
В среднесрочной перспективе отношения США и Китая станут, скорее всего, центральными в международных отношениях. Противоречия останутся острыми, но они будут напоминать «прохладную войну» между Россией и Западом, а не холодную между СССР и США. Главная арена противостояния – экономика. Однако экономически Китайская Народная Республика и Соединённые Штаты значительно больше связаны друг с другом, чем СССР и США прежде или Россия и Запад теперь. По большому счёту и Китай, и США глубоко включены в процессы глобализации и получают от этого существенные выгоды. Коренной перелом в мировом развитии не соответствует интересам ни тех, ни других. Поэтому конфронтация будет протекать в строго определённых рамках, и возможность достижения компромиссов по тактическим, а иногда и стратегическим вопросам реальна. Китай продолжит укреплять военный потенциал, но задача достижения военно-стратегического паритета с Соединёнными Штатами сейчас не ставится. Пекин будет действовать твёрдо в отношении Гонконга, но вряд ли пойдёт на риск прямого столкновения с Вашингтоном из-за территориальных споров в Южно-Китайском море или Тайваня. Роль идеологического компонента в пропагандистских кампаниях также ограничится. Острой конфронтация останется в киберпространстве. Появление американо-китайской биполярности не сделает международные процессы более управляемыми. Более того, тенденция к уменьшению управляемости, вероятно, сохранится. Это даёт другим странам значительную свободу для манёвра.
Объективно американо-китайская биполярность не пойдёт на пользу России и её экономике, где позиции Москвы в ближайшее время вряд ли укрепятся. Мощный военный потенциал может лишь частично компенсировать неблагоприятное соотношение экономических сил. К тому же американо-китайские торговые войны способны дестабилизировать рынок энергоносителей, экспорт которых по-прежнему занимает важное место в российском государственном бюджете. В обозримом будущем Китай вряд ли пойдёт на заключение договоров об ограничении вооружений, что объективно снизит значение всех остальных соглашений по данным вопросам даже при сохранении военно-стратегического паритета между Россией и США. В этих условиях России стоит максимально дистанцироваться от противостояния и определять позицию в каждом конкретном случае, исходя из собственных интересов.
В последние годы между Москвой и Пекином сложились доверительные отношения стратегического партнёрства. Это огромное достижение, которое надо ценить и сохранять. Однако в дальнейшем во взаимодействии России и Китая возможен только количественный, а не качественный рост. Нет никаких признаков, что ШОС и БРИКС превратятся в военно-политические блоки. Китай не стремится к заключению союзов, но подобные призывы иногда звучат в России. Однако вряд ли это принесёт выгоду, так как в рамках и двустороннего, и многостороннего альянса Москва окажется младшим партнёром. Последствиями этого было бы уменьшение её роли в мировых делах, значительное увеличение американского давления и ухудшение отношений с ЕС. Следует отметить, что мнения Пекина и Москвы относительно сложившегося миропорядка совпадают лишь частично. Руководство России выступает за его изменение, а Китай – за изменение правил игры в рамках существующей системы.
Для того, чтобы дистанцироваться от противостояния Вашингтона и Пекина и сохранить самостоятельность в международных делах, России целесообразно добиваться улучшения отношений с Западом и, прежде всего, с Соединёнными Штатами. Похоже, что запрос на изменение статус-кво постепенно формируется и внутри российского общества. В отличие от 1970–1980-х гг., когда для многих советских людей американский и западноевропейский образ жизни служил одним из главных ценностных ориентиров, и 1980-х – начала 1990-х гг., когда правящие круги надеялись на получение крупной экономической помощи от Запада – новом «плане Маршалла», в современной России значительно более реалистично относятся к происходящему. Обычный гражданин не видит преимуществ, которые он может получить от сотрудничества России с Западом – даже в случае резкого потепления отношений, но одновременно в обществе нарастает усталость от международной напряжённости, желание вернуться к нормальной, спокойной жизни. В дальнейшем, особенно в случае осложнения социально-экономической обстановки, такие настроения будут усиливаться, и не считаться с ними нельзя.
«Прохладная война» отличается от холодной меньшей ожесточённостью и интенсивностью, но выход из неё, скорее всего, будет более сложным и продолжительным.
Накопилось множество проблем, причём разноплановых. Если в годы холодной войны договорённости об ограничении вооружений почти всегда стимулировали позитивные сдвиги по другим вопросам, то сейчас, даже если договор 2011 г. о стратегических наступательных вооружениях будет продлён, это не приведёт к улучшению отношений России и США в целом. Для сдвига в позитивную сторону нужно взаимопонимание не только по проблемам вооружений, но и экономики (прежде всего санкций и контрсанкций), региональных конфликтов и так далее. Существующие проблемы сами по себе не исчезнут. Для окончания «прохладной войны» нужна большая работа и политическая воля. В данный момент и в России, и на Западе широко распространено мнение о том, что конфронтация будет сохраняться достаточно долго. Поэтому стоит стремиться к переходу «прохладной войны» в более спокойное русло.
На начальном этапе Москва и Вашингтон могли бы предпринять несколько шагов навстречу друг другу. Они могли бы включать, во-первых, создание нормальных условий для деятельности дипломатических представительств, в том числе снятие ограничений, введённых в последние годы, восстановление закрытых консульств. Это необходимо обеим сторонам – без возобновления переговорного процесса по дипломатическим каналам вряд ли возможны позитивные сдвиги. Во-вторых, важно хотя бы немного снизить накал и масштабы пропагандистских кампаний. В-третьих, России и США целесообразно провести ревизию всех договорённостей по предотвращению случайных столкновений между российскими и американскими военными. Возможно, некоторые из них требуют обновления или дополнения с учётом изменившейся обстановки и появления новых опасных точек. Вряд ли такие столкновения, как, например, в Сирии, приведут к крупному военному конфликту, но общую атмосферу российско-американских отношений они, несомненно, ухудшат.
Реализация данных шагов повысит уровень политического диалога. Сразу он не окажется результативным, но позволит выявить реальные проблемы и возможные точки соприкосновения. После этого уже имеет смысл обсуждать стратегические вопросы взаимодействия России и Запада, причём специфика отношений с США, Великобританией и ЕС должна быть учтена.
Параллельно России следует развивать связи и с другими крупными игроками – Индией, Японией, Южной Кореей, Бразилией, ЮАР. В дальнейшем могут появиться и новые неожиданные партнёры. Позиции России в мире тем сильнее, чем многовекторнее её внешняя политика. Однако в условиях продолжения «прохладной войны» многовекторность тоже имеет пределы – ряд потенциальных партнёров России проявляет сдержанность и осторожность из-за нежелания портить отношения с США.
Россия может укрепить позиции в мире после пандемии и завершения экономического кризиса, включившись в новые процессы, но «прохладная война» будет серьёзным препятствием на этом пути. Её окончание необходимо и России, и Западу. Кроме того, это послужит делу укрепления международной безопасности и сотрудничества.
* * *
«Прохладная война» не была неизбежной, но она и не случайна. Демонтаж системы международных отношений времён холодной войны идёт неравномерно в различных регионах и на разных направлениях. Старые правила игры в современных условиях работают выборочно, а новые формулируются медленно и во многих случаях не становятся общепризнанными. В образовавшемся вакууме появляется почва для столкновений между элементами прошлого и настоящего, причём в самых неожиданных комбинациях. Поэтому возникновение конфликтов, подобных «прохладной войне», вероятно (но не обязательно) и в будущем. Современная «прохладная война» – явление новой эпохи, имеющее свои причины, логику, динамику и инерцию. Соответственно, и пути выхода из неё надо искать совершенно иные. Рецепты XX века в XXI столетии работать не будут.

ГЕОПОЛИТИКА: МИРОВОЙ БЕСПОРЯДОК ПОСЛЕ COVID И ПОСЛЕ США
ЧЕЗ ФРИМАН
Старший научный советник Института мировой и публичной политики имени Уотсона в Университете Брауна, в прошлом – высокопоставленный дипломат и сотрудник Пентагона, переводчик.
Соединённые Штаты и Китай заменили дипломатию оскорбительными выпадами и третированием друг друга. Это явно делает их неспособными возглавить перестройку мирового управления. У ЕС также нет таких компетенций. При отсутствии одной или нескольких великих держав у руля мир вступил в опасную эру неопределённости.
Соединённые Штаты переживают самый тяжёлый внутренний кризис со времен гражданской войны XIX века. Он стал следствием противоречий федерализма. Нынешний кризис отражает крах конституционного разделения властей и замену этого принципа безраздельным, произвольным и капризным президентским правлением. Конец упорядоченного проведения политики Вашингтоном – одна из серьёзных причин развала системы международных отношений, созданной эпохой Просвещения и двумя веками гегемонии Запада.
Сегодня несколько факторов приводят мир в состояние хаоса:
I. Переосмысление Вашингтоном геополитики как соперничества крупных держав, в котором может быть только один победитель, что исключает дальнейшее углубление взаимозависимости в мире.
II. Подъём или возрождение великих держав, ранее находившихся в тени: Китая, Индии и России. Каждая из этих стран – ещё и своеобразная, особенная цивилизация.
III. Последовательная неспособность Европы и арабского мира реализовать свой потенциал.
IV. Растущее неуважение к суверенитету и другим принципам международного права, что проявляется в попытках «смены режимов» и в политике захвата территорий.
V. Поворот Америки в сторону всё большего доминирования над другими странами, что отчуждает от неё союзников, партнёров и друзей и не даёт им возможности участвовать в проводимой ею политике.
VI. Замена принципа Pacta sunt servanda («Соглашения необходимо соблюдать») – беспардонным нарушением договоров и обещаний.
VII. США развязали торговую и технологическую войну с Китаем, противодействуя его попыткам изменить глобальные правила, сообщества и организации.
VIII. Переход мировой военно-политической и экономической мощи к мнимым региональным гегемонам и группам стран.
IX. Возникающие в связи с пандемией вопросы о будущем потребительского капитализма, о процветании мирового сообщества и функционировании человеческого общества.
X. Замена прямого восприятия действительности без прикрас представлением о ней с помощью социальных медиа, что напоминает кривые зеркала в комнате смеха.
XI. Рост уныния и подавленности у среднего класса Запада и мировая депрессия, в которой оказалась большая часть мира за пределами Китая.
XII. Отсутствие «Города на холме», которому другие хотели бы подражать. Америка сегодня вызывает жалость или негодование и больше не вселяет в людей надежду. Экономика Китая остается малопонятной, а его политика удручает всех, кроме честолюбивых диктаторов.
Что всё это означает для нашего будущего? Пока ещё рано делать выводы, но мы всё же попытаемся предложить наши умозаключения.
Многое зависит от того, можно ли управлять пандемией COVID-19. А если вирус продолжит вызывать заболевания и убивать даже после появления вакцин? С учётом ограниченного иммунитета, вырабатываемого от соприкосновения с вирусом, а также того факта, что у его носителей зачастую нет ярко выраженных симптомов, а распространения мутаций вируса очень высока, у COVID-19, как и у других коронавирусов, имеется потенциал, чтобы стать долговечным спутником человечества. Если иммунитет надолго не сохраняется, то массовый иммунитет – миф. Что из этого следует? По меньшей мере, 400 миллионов рабочих мест уже потеряно из-за вируса. Вернутся ли они в ближайшем будущем? Если социальное дистанцирование по-прежнему будет необходимо, что произойдёт с туризмом и путешествиями, гостиничной и развлекательной индустрией, образованием, спортом, общепитом? Если люди не смогут работать, как они могут быть потребителями? Если они не смогут вместе посещать богослужения, что тогда произойдёт с религиозными общинами и деноминациями? Что бы ни случилось, нас ожидают мучительные социально-экономические перемены.
Мы вступаем в мир, распадающийся из-за многочисленных линий раскола и разлома, отличающийся политическим и экономическим разъединением, технологической обособленностью, борьбой за сферы влияния, гонками вооружений, растущей опасностью крупномасштабных войн и вероятным валютным изоляционизмом на глобальном уровне.
Люди сегодня слишком разобщены, чтобы коллективно отвечать на планетарные вызовы, такие как пандемии, изменение климата, миграция или распространение ядерного оружия. Что бы ни делалось для противодействия этим опасностям, нависшим над родом человеческим, если что-то вообще будет делаться, это должно осуществляться спонтанно создаваемыми группами, а не институтами мирового управления с членством всех стран. Вот несколько ярких особенностей грядущего мира.
На планетарном уровне
Соединённые Штаты и Китай заменили дипломатию оскорбительными выпадами и третированием друг друга. Это явно делает их неспособными возглавить перестройку мирового управления. У ЕС также нет таких компетенций.
При отсутствии одной или нескольких великих держав у руля мир вступил в опасную эру неопределённости.
На мировом уровне
Угасание американского и европейского лидерства в сочетании с разладом в трансатлантических отношениях означает постепенное исчезновение на глобальном уровне ценностей эпохи Просвещения и норм международного права.
Региональные группы берут на себя функции регулирования, которые до этого выполнялись всемирными организациями, созданными после Второй мировой войны, если вообще выполнялись.
В мире распространяется новый меркантилизм: теперь правительства, а не рыночные силы, управляют торговлей, инвестициями и передачей технологий.
Сказать, что «восстановление происходит неравномерно», значит – признать начальный этап крупномасштабной экономической перестройки. Никто не знает, куда это нас приведёт.
Величайшие мировые державы стали рассматривать большинство региональных конфликтов как возможность для продажи оружия или сведения политических счётов, а не вызовы, требующие совместных усилий для реагирования на них.
При возникновении мировых кризисов ни одна страна или организация более не способны организовать меры по их преодолению на глобальном или региональном уровне.
На региональном уровне
На Ближнем Востоке влияние США продолжает снижаться. Китай остаётся политически отчуждённой силой. Россия приобрела военно-политическое влияние, но движущей силой того, что происходит в этом регионе, являются не внешние державы, а местное противоборство таких стран, как Иран, Израиль, Саудовская Аравия, Турция и ОАЭ.
Доминирование Ирана в регионе и угроза демократического исламизма власти одного человека или клана вытеснили Палестину на второй план с радаров большинства арабских стран. Израиль создает плацдармы и внедряется в страны Персидского залива и Ормузский пролив, используя возможности своего разведывательного сообщества и военного истеблишмента.
Турцию болтает между востоком и западом, севером и югом. Она оставила попытки стать европейской державой и прилагает неумелые и непоследовательные усилия, чтобы стать лидером пантюркизма, безуспешно пытаясь обновить отношения с Россией и Китаем; при этом ей не удаётся восстановить лидерские позиции в мусульманском мире.
Украина и Белоруссия превратились в зоны военно-политического соперничества, а не мостами и буферами между ЕС и Россией, которыми могли бы быть.
Восточная Азия становится всё более китаецентричной. Требования Запада, касающиеся Гонконга, Тибета и Синьцзяна, а также американская пена у рта по поводу усиления и подъёма Китая не замедлили и не замедлят этой общей тенденции.
США перестали соблюдать соглашения с Китаем, которые долго удерживали его от развязывания гражданской войны в Тайваньском проливе. Тем самым Америка провоцирует Китай. Риск Тайваньской войны теперь вполне реален, и он всё время нарастает.
Препирательства между Индией и Китаем по поводу необитаемой территории на гималайских границах пока ещё не приводят к открытому вооружённому конфликту, однако предполагают долгосрочное военное противостояние и соперничество.
Это век экономического роста и демографического взрыва в Африке, который пока ещё находится в самом начале.
Латинская Америка расколота изнутри и избегает вовлечения в мировую политику. Её сближению с США препятствуют Азия и Европа, стремящиеся к более глубокому взаимодействию с латиноамериканскими странами.
Энергетика
Электроэнергия становится всемирным интерфейсом и сопряжением между всеми разновидностями энергии и механической активности. При этом углеводороды вносят всё более весомый вклад и электроэнергетические системы.
Китай сегодня является крупнейшим в мире импортёром нефти и потребителем энергии, а также крупнейшим производителем гидротурбин, солнечных батарей, ветровых лопастей, литиевых батарей и электрокаров. Он также лидер по внедрению водородной и атомной энергии, но по-прежнему сильно зависит от угля. Китай сменил Соединённые Штаты в качестве главного фактора мирового спроса.
Экономическая война между Китаем и США, нарушение цепочек поставок, влияние пандемии COVID на трудоустройство людей, перестройка экономики в результате этих глобальных потрясений и разные темпы роста в разных регионах мира затрудняют прогноз спроса на разные энергоносители.

Как запустить свое производство в Китае, защититься от подделок, наладить продвижение у блогеров и в СМИ
Опасаетесь открывать производство в Китае из-за разницы менталитетов? Напрягают подводные камни, о которых вы не знаете? Никому не хочется просто так терять деньги. Тогда вам пригодится успешный опыт петербургского стартапа Evapolar, которым делится сооснователь компании Евгений Дубовой.
Мы рассказываем истории реальных людей, которые запустили компании из России на запад. В проекте «Сделай Там» интервью берет Александр Альхов, основатель компании CourseBurg.
Производство. Опыт работы с китайскими подрядчиками
Итак, у нас была идея устройства и его прототип. После первого краудфандинга у нас появился миллион долларов. Нужно было срочно запускать серийное производство, чтобы выполнить свои обязательства.
У российских предприятий мало опыта разработки бытовой электроники с нуля. Поэтому мы с двумя инженерами отправились туда, где производят много, быстро и дешево — в Южный Китай. И провели там год.
Сейчас мы сотрудничаем с фабрикой, которая входит в топ-10 крупнейших производств Китая. На месте постоянно находятся два наших сотрудника, которые контролируют качество отгружаемого товара.
Десяток советов из личного опыта
Можно посоветоваться с бывалыми, поискать фабрики в интернете и на Alibaba, но лучше все увидеть своими глазами. Посмотрите сотню производств, чтобы научиться отличать плохие от хороших. Работают базовые внешние принципы: порядок в цеху, униформа у сотрудников, наличие и соблюдение инструкций, аккуратность на складе готовой продукции, запчастей и расходников и т.д.
Поначалу вам придется работать с маленькими фабриками. Большие не заинтересуются вашим объемом или захотят много денег. Ищите золотую середину между ценой и качеством и готовьтесь вникать в каждую деталь.
Составьте предельно подробные технологические карты и инструкции, потому что рабочий на конвейере сделает ровно то, что вы прописали, если не поймет, что сделать, включит «творчество» и может залить все компаундом.
Контролировать нужно вообще ВСЁ. Куда откладывают брак. Как учитываются материалы, чтобы в момент запуска все не встало из-за потери ящика с гайками. Как хранится упаковка — картон запросто могут оставить под дождем. Не стоит ли контейнер с готовой продукцией на солнце. И т.д.
В Китае совсем другой менталитет. Чтобы быстрее адаптироваться, можно заранее поговорить с опытными людьми (мы даже востоковеду звонили). Например, если вам китаец дает визитку, нужно взять ее обеими руками, как драгоценность, и положить к сердцу. Небрежно сунете в задний карман — может случиться скандал.
Все дела решаются за столом. Наш рекорд — 20 часов в ресторане. Мне несколько раз помогало здоровье, когда я просто оставался трезвее всех, и меня вели к самому главному боссу заключать контракт.
Переговоры часами, когда вы тупо повторяете свои условия, а китайцы свои, — это нормально. Если хватит выдержки их пересидеть, то вопрос решится в вашу пользу.
На личных отношениях строится многое, но каждую букву договора надо проверять. Для китайца обмануть белого человека — это часть бизнеса. После запуска проекта старайтесь сдвигать условия в сторону пост-оплаты, чтобы перечислять хотя бы какую-то часть денег уже после готовности продукции. Обратная сторона — если вы сами где-то схитрите, то, скорее всего, заслужите уважение и одобрение.
Если получится наладить контакты и развить производство, то можно выторговать очень хорошие условия. Например, нам сейчас дают такие отсрочки платежей, которые позволяют вести бизнес без банковских кредитов.
Путь для тех, кто не хочет ехать в Китай и у кого есть деньги. Можно нанять консультантов, которые за солидный гонорар организуют вам крутое производство под ключ на надежных фабриках. Знаю таких специалистов в Гонконге. Если нужно – поделюсь контактами.Сертификаты и патенты. Подтверждение качества и защита от подделок
Любое электронное устройство требует сертификации. Ею стоит озаботиться еще до массового производства, потому что уже на этапе проектирования понятно, что вам потребуется.
Для базовой электроники нужен сертификат электробезопасности, а если есть Wi-Fi, – то еще и радиобезопасности. Самый простой способ — заплатить денег и поручить это фабрике. При объеме производства в Китае для них это рутинная ежедневная процедура.
На первоначальном этапе мы потратили около 10 тысяч долларов на получение сертификатов CE и ETL и еще 3 тысяи — на FCC (радиобезопасность).
В отличие от сертификатов, патенты и защита авторских прав — дело добровольное. Но вы вряд ли захотите, чтобы вашу идею украли.
Мы всегда хорошо понимали, что все копии будут уступать в качестве, поскольку фишка в уникальном материале впитывающих пластин. Наше минеральное волокно EvaBreeze превосходит все аналоги по капиллярным свойствам и биобезопасности — на нем не появляется плесень. И оно очень крепко защищено патентами.
Всего у нас в компании более 20 защищенных объектов интеллектуальной собственности. С первых денег мы оформили торговую марку, потом — материал, технологии. В третьей волне защитили авторское право на дизайн. Как раз в это время появились полные внешние копии, и бизнес сам подсказал, что делать.
Несколько полезных моментов
Подделки — зло. Но не абсолютное. В нашем случае они помогли вырастить новую категорию, создать у людей представление о товаре и повысить его узнаваемость. Кроме того, появление подделок — это своего рода свидетельство успеха.
Сохраняйте документы, подтверждающие ваши права. Мы легко доказали авторство дизайна, потому что был договор на его разработку с фрилансером.
Изучите разные варианты. Например, застолбить внешний вид можно с помощью дизайн-патента или оформления авторского права на произведение искусства. Мы защитили дизайн размещением в электронный депозитарий авторских произведений.
Если денег пока в обрез, смотрите в сторону недорогих российских патентов. Еще можно достаточно дешево сделать заявку на патент, которая гарантирует приоритет до двух лет. Этого времени хватит разобраться, будете ли вы вообще этим заниматься, и найти деньги.
Многих пугает, что придется по любому поводу идти в суд. Но чаще всего китайские подделки продаются онлайн и достаточно просто добиться снятия товара с площадки. Для этого просто нужно направить жалобу торговой площадке с подтверждением своих прав. На Амазоне, в частности, это очень хорошо работает.
Реклама и маркетинг. Как сделать, чтобы ваш товар полюбили
Какой бы крутой товар у вас ни был, без рекламы про него никто не узнает. Узнаваемость нужна компании на всех этапах — от поиска финансирования до наращивания продаж. Это огромная тема, поэтому я коснусь лишь некоторых аспектов, которые кажутся мне важными.
СМИ публиковавшие обзоры на разные версии Evapolar
Тенденция
Мы заметили, что сегодня людям приятнее знакомиться с продуктом не через классическую рекламу, а в более нативных формах — в блоге, в статье на форуме и т.п. Это влияет на выбор инструментов для раскрутки и затрудняет анализ их эффективности.
10 лет назад все было проще: вот объявление, оно стоит столько-то, столько-то показов, столько-то людей пришли на сайт и 1% купил. Можно точно посчитать, во сколько тебе обошлось привлечение клиента. Сейчас метрики размыты, сложно точно отследить, что и как сработало. Поэтому есть резон считать более общие затраты на маркетинг.
Привлечение сторонних специалистов
Если речь о передаче рекламной и PR деятельности на аутсорс, то у нас негативный опыт. В самом начале, когда еще не было уверенности в своих силах, мы наняли крутое американское агентство. Заплатили 10 тысяч долларов и получили нулевой результат. Деньги потом вернули через суд, но решили, что повторять эксперимент не будем.
Лучше всего у нас срабатывают наши собственные решения на основе здравого смысла. Нужно просто подумать и понять — что ты хочешь получить и как этого добиться. Что касается подрядчиков, то их мы сейчас привлекаем в трех случаях.
Они более профессионально воплотят конкретную рекламную идею (снимут видео, организуют сложную фотосъемку и т.д.)
Если оплата жестко привязана к конкретному результату. Кстати, спецы этого не любят.
Когда мы хотим проверить какую-то гипотезу и нам не жалко потратить на это небольшую сумму, даже если не будет результата.
Выставки
Отличный вариант показать товар лицом. Особенно, если работу устройства сложно оценить по интернету, как в нашем случае. Когда мероприятие проходит в другой стране, это прекрасный повод туда поехать, познакомиться с людьми из отрасли и инвесторами, с журналистами и блогерами, договориться о публикациях и возможном сотрудничестве.
Для стартапов часто действуют привлекательные условия участия. Например на Consumer Electronics Show (CES) стенд в Eureka Park можно было поставить за 1000 долларов. Дальше будет дороже.
Мы только на подготовку к этому году — поездки, участие в PR-шоу и т.п. – потратили около 15 тысяч долларов. Но эти расходы себя окупают.
Примечание интервьюера: «Заранее согласуйте встречи с нужными людьми за 2-8 недель, чтобы затем продать идею следующей коммуникации.
Знаю кейсы, когда на выставки тратилось по 70 000 $, и это приносило ноль продаж и контрактов и лишь лайки в соц.сетях под фото основателей.»
Блогеры
Обязательная часть продвижения. Если вы громко заявите о себе (в том же краудфандинге), о компании будут писать как о новинке, даже без инициативы с ее стороны. Потому что всем нужны свежие темы.
Но нужно думать на несколько шагов вперед, планировать структуру контента и привлекать возможных авторов. Например, вот примеры серий публикаций, которые мы инициировали.
Просили людей показать и рассказать, как и где они используют устройство в жизни, описать свои ощущения.
Техно-блогеры доказывали, что это реально работает. В ход шли тепловизоры, теплокамеры и прочие хитрые приборы.
Пользователи сравнивали нашу продукцию с китайскими подделками.
Серия с домашними питомцами – как кошечки в жару ложатся к нашим кондеям и кайфуют
Все это раскачало аудиторию, подняло информационную волну, которая вынесла нас наверх и сделала узнаваемыми.
Как выбирать блогера? Мы считаем, что сейчас лучше всего работает видео-контент. Мы смотрим на его качество, оцениваем долю рекламных постов, охваты — мгновенные и «хвост», анализируем аудиторию — подходит ли она нам и насколько она активна.
Важно, чтобы блогер совпадал с вами по стилю — сможет ли он сказать то и так, как вам нужно?
Иногда, если нам очень нравится стиль и подача, мы можем посотрудничать с человеком, даже если считаем, что эта история не окупится. Просто позже мы используем созданный контент в своих нуждах.
Варианты сотрудничества. Если мы платим фиксированную сумму, то все очень регламентировано. У блогера есть четкий сценарий того, что мы хотим получить. И в таких случаях мы всегда оформляем на себя права на созданный контент, чтобы дальше использовать его в других проектах.
Если мы договариваемся на иных условиях, то присылаем гайдлайн, которого нужно придерживаться. О дальнейшем использовании материалов разговариваем отдельно, и обычно никто не отказывает.
Журналисты
Публикация в хорошем профильном издании — это мощный толчок в раскрутке.
Вот что помогало нам на разных этапах.
Количество усилий и упорство. Перед первым краудфандингом мы рассылали журналистам питчи тысячами. Иногда мы их почти запугивали – грозились, что приедем к ним и все лично покажем. Как ни удивительно, но это работало. Повезло, что нами заинтересовался TechCrunch. Но редактор захотел увидеть устройство, потому что никто не верил, что оно работает. Пришлось отправить сотрудника в Штаты, все показать и рассказать. В результате вышла статья, которую все перепостили и мы проснулись почти знаменитыми.
Качество материала. Ко второму краудфандингу мы сняли супер-ролик. Он был так хорош, что его, даже без наших просьб, поставил на первую страницу один из ведущих техно-порталов. Если мы высылаем материалы в редакцию, то это полноценный и всесторонний PR-kit. В нем есть вся необходимая информация, с которой легко и интересно работать.
Понимание болей журналистов (подробный разбор, как работать с журналистами).
У журналиста может не быть времени разбираться в вашей проблеме, но если вы пришлете готовый текст, в котором нужно поменять пару слов, то он с радостью поставит его на полосу.
Журналисты (как и все мы) не любят, когда их откровенно используют. Поэтому мы с ними дружим. Хорошо работает, если в первом письме в теме поставить заголовок статьи, похвалить материал и задать пару вопросов. А потом уже подкинуть свою тему.
Журналист всегда ищет новые идеи. Он хочет написать интересный материал, который будут читать и хвалить. Если вы ему в этом поможете, подбросив качественную фактуру, то он с радостью с вами посотрудничает.
Отзывы журналистов о продукте
И самое главное — осознанность и упорство. Всем диджиталом у нас занимается всего 5 человек, но мы создали мощную и эффективную машину по обработке и созданию контента.
Evapolar за несколько лет прошла путь от первого прототипа совершенно нового устройства до успешных сборов в краудфандинге, крупного производства, продаж в сотне стран мира и миллионных оборотов.
Сегодня они точно знают, что три кита, на которых строится любой успешный бизнес, это: идея, в которую веришь, здравый смысл и готовность упорно работать.

Глава DNS: у нас во Владивостоке слово IPO считается ругательным, за него можно и в табло отхватить
Создатель и генеральный директор торговой сети DNS Дмитрий Алексеев призывает «не смешивать капитал и бабло» и подчеркивает, что предприниматели должны участвовать в жизни страны, а не уезжать из нее
DNS, как и «Магнит», как и «Красное и белое» — мегасеть, созданная не в Москве и покрывшая всю страну. Это компания — владелец розничной сети, специализирующейся на продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники, а также производитель компьютеров, в том числе ноутбуков, планшетов и смартфонов. Почему Дмитрий Алексеев и его компания по-прежнему во Владивостоке, а в налоговую ездят в Петербург? Как по торговле электроникой прошелся кризис? И правда ли, что скоро все уйдут в интернет?
С нами на связи по Zoom из Владивостока самый известный дальневосточный предприниматель Дмитрий Алексеев, один из создателей, генеральный директор сети DNS. В Москве ее знают очень мало. В Петербурге, может быть, чуть больше. Зато по всей остальной стране она известна наравне с «М-Видео» и является фактически главным ее конкурентом в масштабах страны. Дмитрий — необычный человек, дальневосточный бизнесмен, он никуда оттуда не переезжает. Я читал, правда, что какое-то время назад налоговая, в которой вы обслуживались, находилась в Санкт-Петербурге. Может быть, что-то изменилось. Когда вам надо было решать какие-то вопросы в личном порядке, вы из Владивостока летали в Петербург в налоговую. Не надоело?
Дмитрий Алексеев: Все, что вы сказали, верно. Единственное, вы этому придаете какое-то излишнее звучание, мне прямо даже неудобно. На самом деле, все гораздо скромнее. Я не думаю, что это заслуживает какого-то особого внимания. Налоговая у нас находится в Петербурге, приходится летать, но ничего страшного, в Москву я летаю часто. У нас страна централизованная, и много необходимости бывать в столице.
А почему ваша налоговая не во Владивостоке?
Дмитрий Алексеев: Потому что мы один из крупнейших налогоплательщиков в стране, и у нас есть несколько налоговых, которые занимаются крупнейшими налогоплательщиками. И нам повезло, я, кстати, очень рад, наша налоговая в Питере расположена в замечательном месте, там музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, находится во дворе налоговой инспекции. Я туда прилетаю, смотрю на прекрасный город, захожу в музей, культурно просвещаюсь. Во всем есть свои хорошие стороны.
Прекрасно, но выглядит все-таки как какая-то издевка. Ваш головной офис находится во Владивостоке, вы крупный налогоплательщик — и ничего ближе вам не нашли, распределили в Санкт-Петербург.
Дмитрий Алексеев: Вы точно в России живете? Вам это кажется нелогичным, а вам не кажется нелогичным, что в стране невозможно построить ни одну школу, ни один детский садик без участия федеральной программы, не согласовывая это дело в Москве?
Дмитрий, я бы еще понял, если в Москве, но Санкт-Петербург же дальше.
Дмитрий Алексеев: Тут как раз логики больше, потому что, наоборот, можно увидеть в этом символ некой децентрализации и попытку включить хотя бы Питер в эту российскую гиперцентрализацию. Так что я могу только приветствовать подобные вещи.
У нас же есть целое Министерство по делам Дальнего Востока, вице-премьер, спецпредставитель, а вот в сторону Дальнего Востока эта децентрализация в лице хотя бы налоговой не продвинулась никак?
Дмитрий Алексеев: А вас само наличие Министерства по развитию Дальнего Востока тоже не смущает? Это же ровно в ту же степь. Естественно, есть Министерство по развитию Дальнего Востока, и оно...
Министерство есть, а налоговой во Владивостоке, в которую можно DNS прописать, нет.
Дмитрий Алексеев: Министерство-то тоже в Москве.
«В современной экономике продать гораздо сложнее, чем произвести»
Когда вы начинали строительство сети по торговле компьютерами, гаджетами, электронными и электромеханическими устройствами, вам задавали вопрос: «Вы на Дальнем Востоке, у вас рядом все центры производства мировые: Китай, Корея». Вы тогда рассказывали, что возить все равно все приходится через Москву. Это было 10-12 лет назад. Сейчас что-то изменилось?
Дмитрий Алексеев: Тут есть два ответа. Во-первых, конечно, надо учитывать, что это типичный взгляд москвича на тему того, что у нас тут все рядом. Конечно, у нас примерно четыре часа до границы с Китаем ехать на машине, но центры производства находятся все-таки в районе Гонконга и Шанхая. Это юг Китая. От нас это примерно пять с половиной часов на самолете. Но логистический смысл все равно есть, через Амстердам довезти контейнер до Москвы дешевле, чем через Владивосток.
То есть ничего не изменилось? Все так и остается?
Дмитрий Алексеев: Нет, изменилось где-то уже лет пять назад. Завершился процесс, который шел лет 10-15, — обеление всей таможни. Сейчас у нас, слава богу, белый рынок, поэтому действительно есть экономическая целесообразность. У нас много товара, который торгуется в восточной части нашей страны, он везется через дальневосточные порты. В этом некая экономическая составляющая целесообразности есть. Просто очень много нюансов. Во-первых, в том, чтобы довезти контейнер до Москвы, железнодорожная составляющая достаточно большая. Также известно мировой логистике: если контейнер везется по глубокому морю, deep sea, от расстояния стоимость не очень сильно зависит. Тут от экономики тоже много. И понятно, что эти громадные контейнеровозы, которые по магистральным линиям идут из Гонконга в Амстердам, там стоимость логистики оптимизирована гораздо сильнее, чем через железную дорогу и контейнерные поезда. Еще лет десять назад работали не экономические законы, а работала логика — кто лучше растаможит, и она действовать уже давно перестала. Слава богу, тут все хорошо.
В 2012-2013 году неподалеку от Владивостока, в городе Артем, появился завод DNS. Опять же я рассказываю москвичам, которые этого не видели и не знают. Москва с вашим бизнесом почти не знакома. Но вы начали собирать и выпускать компьютерную технику, ноутбуки под собственным брендом. Он по-прежнему жив? Какую долю он занимает и как он изменил ваш бизнес?
Дмитрий Алексеев: Тут опять же много ответов, и не все они вам понравятся. Первый ответ, что режет слух человеку, выросшему, по крайней мере, заложившему собственное сознание в эпоху Советского Союза: нужно понимать, что в современной экономике продать гораздо сложнее, чем произвести. В современной экономике — экономике изобилия, а не дефицита — ключевой момент занимает процесс продажи, а не производства. Поэтому у нас основу бизнеса составляют розничная торговля, и это наша основная задача. Второй ответ: мы уделяем внимание производству. Мы уделяем внимание собственному бренду, и у нас сейчас около 20% в наших продажах — товары под собственным брендом. Это то, что мы производим. Теперь надо разбираться, что мы производим, потому что опять же, в сознании человека, выросшего в Советском Союзе, производство — это когда с одной стороны заехала железная руда, а с другой стороны выехал автомобиль ВАЗ. Такого в современном мире нет. То есть так производство не работает. Современное производство — это очень сложные цепочки из поставщиков, где один делает то, другой — это и так далее. В нем есть ключевые этапы — то, например, кто занимается R&D (Research & Development, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. — BFM), кто занимается разработкой. Здесь тоже все не так просто, потому что разработкой тоже, как правило, никто один не занимается. То есть если вы возьмете какой-то iPhone, вы обнаружите, что там очень большая доля разработки, которая ведется Apple, например, камеру Apple не делает, не разрабатывает экран. То есть каждый занимается своим делом. Наша степень кастомизации, которую мы вкладываем в собственное производство, во-первых, конечно, разнится от того, какая это продукция. Она может быть более глубокой, менее глубокой. Но всего там, где мы участвуем, в процессе кастомизации, в процессе разработки — это 20% от наших продаж примерно. Что касается завода под Владивостоком. Да, он так до сих пор и работает. К сожалению, под что этот завод затачивали, специализировали под производство ноутбуков, с тех времен изменился рынок компьютерной техники, изменились техпроцессы, процессоры стали паять на платы, память стали паять на платы и так далее. Изменилась экономика процесса, и целесообразность производства большей части ноутбуков ближе к потребителю перестала существовать. Мы вообще отказались от ноутбуков под собственным брендом. Такая конъюнктура сложилась. Но мы делаем какие-то другие изделия.
Коль скоро торговля — это основной бизнес, основная проблема, основная задача, зачем было это тогда затевать? Работало там в то время несколько сотен человек.
Дмитрий Алексеев: Несколько сотен не было, разве что на пике — там, может, и сотня, может быть, чуть больше. В современной рознице есть видимая часть — это те магазины, которые есть и в Москве, и я надеюсь, что москвичи все больше и больше будут любить компанию DNS и узнавать ее. А также они есть у нас по всей стране. Сейчас мы работаем в 850 городах. Всего в России примерно тысяча с чем-то городов. Часть — небольшие городки, где живет несколько тысяч человек. Но во всех городах, в которых живут хотя бы 50 тысяч человек и больше, мы уже работаем. А есть скрытая часть — обеспечение всего этого процесса: логистика, в том числе и производство, в том числе и разработка, в том числе и дизайн, в том числе и какие-то обеспечительные процессы. Это целый айсберг, который еще скрыт под водой. В зависимости от того, насколько мы хорошо организуем те или иные процессы, мы можем быть более или менее выгодными для наших потребителей.
«Карантин показал главный вывод: сидят дома те, кто могут себе позволить сидеть дома»
Некоторое время назад вы говорили о конкуренции с «Яндекс-Маркетом» — мол, обратите внимание, мы и «М-Видео» занимаем примерно половину рынка бытовой техники и электроники; ни нас, ни «М-Видео» нет на «Яндекс.Маркете», клиенту удобно видеть все на одной площадке, если речь идет о небольших игроках. Еще вы говорили, что в Москве любят доставку, город огромный. А в любом небольшом городке любой покупатель лучше сэкономит 100 рублей, придет в магазин и все посмотрит. Так вы говорили раньше. А что произошло в этом году, когда повсеместно в той или иной степени все мы оказались на карантине?
Дмитрий Алексеев: Произошедшее показало, что все меняется — и не меняется в то же время. Как я говорил раньше, так говорю и сейчас. Например, пользоваться агрегаторами покупки авиабилетов, находясь во Владивостоке, бессмысленно, потому что от нас летает примерно две авиакомпании. Зачем вам пользоваться агрегатором, когда вы можете зайти сначала на сайт одной, потом другой? А по некоторым направлениям вообще только на один. Тот же самый сервис, только из первых рук. Это просто удобнее. Нечто подобное происходит и в электронике. Рынок электроники действительно укрупнился и, наверное, будет укрупняться и дальше. Я не верю особо в маркетплейсы. Я все также не верю в доставку. Про доставку вообще отдельная история.
Вот сейчас как, как начиная с апреля?
Дмитрий Алексеев: Начиная с апреля было по-разному. Во-первых, тоже тут надо учитывать, что когда вы говорите про карантин, вы говорите про московскую историю, потому что карантин показал главный вывод: сидят дома те, кто могут себе позволить сидеть дома.
В среднем таких людей нет?
Дмитрий Алексеев: Они есть, но Владивосток тоже город, в котором есть состоятельные люди. Однако в среднем понятно, что люди какое-то время побоялись, а потом поняли: надо работать. Хорошо, когда у тебя есть средства на то, чтобы сидеть дома. А когда нет, ты просто идешь и работаешь. Сейчас уже то же в Москве, несмотря на то, что заболеваемость опять растет, все равно люди уже боятся существенно меньше. Карантин показал, что никакого чуда не произошло. Когда физически была запрещена торговля и можно было покупать только через интернет, покупали через интернет. Как только открылись торговые центры, люди пришли в торговые центры, и все откатилось назад, как и должно быть. Да, есть некоторый тренд, что в интернет-торговле некоторое перераспределение, оно небольшое. Эти московские инвесторы, они же как смотрят на рынок — ну все, теперь будет одно телевидение, ни кино, ни театра не будет, только один интернет. Но, естественно, такого не произойдет.
Как вы в целом пережили случившееся как огромная сеть? Я все время говорю «Владивосток», но на самом деле, как вы уже и сами упомянули, у вас 850 городов.
Дмитрий Алексеев: Кризис в разные месяцы был разный. Конечно, в апреле было неуютно, в мае — так себе. Потом поняли, что можно жить. Нам отчасти повезло, что мы поймали тот эффект, когда спрос перераспределился. Если раньше люди тратили довольно большие деньги, и я, честно говоря, даже не сильно акцентировался на том, насколько много в России тратится на тот же международный туризм, статистика показывает, что 1,7 трлн рублей не потрачено людьми на заграничные поездки и на туризм. Соответственно, часть этих денег в том числе пришла и на рынок бытовой техники и электроники, потому что у людей стало меньше возможности летать по миру, отдыхать и ходить на концерты, получать другое развлечение, и телевизор и компьютер стали еще более важным средством для развлечения, и люди более активно стали тратить деньги в нашем сегменте.
А падающий курс рубля?
Дмитрий Алексеев: Все это плохо, и все это приводит к тому, что люди в среднем у нас в стране становятся беднее, но для нас это выражается в том, что, когда курс так дергается и рубль стоит 80, или начинаются мысли, что он будет стоить завтра 100, люди понимают, что откладывать покупки бесполезно, надо покупать сейчас, потому что дальше будет только дороже. Это опять же стимулирует спрос, и для нас это не так плохо, как в среднем для граждан.
«Не надо смешивать капитал и бабло»
Теперь немного о вас, об истории вашей компании. Наверное, вся страна знает сейчас три имени — это «Магнит», который вышел из Краснодара, который, кстати, затем вышел на биржу, стал публичной компанией и в конечном счете продался. Еще сейчас повсюду гремит «Красное и белое» из Челябинска. И наконец DNS из Владивостока. Но вы не похожи вообще ни на кого. Если я правильно понимаю, компания создана девятью партнерами, причем когда началось с одного магазина, вас как было девять, так и осталось.
Дмитрий Алексеев: Не совсем. Партнеры все-таки присоединялись. Мы уже давно единое юрлицо, которое работает по всей стране и находится на налоговом учете в Санкт-Петербурге.
Пусть это и было давно. Я давно работаю на одном месте, я многие годы получаю и с трудом читаю разные послания от предпринимателей, где два партнера, потом годами ненавидя друг друга, подают в суд, возбуждают друг на друга уголовные дела, и для этого достаточно двух. А у вас, как мне кажется, довольно необычная история, даже, возможно, какая-то идеальная. Пусть это было на начальном этапе, когда вы вот так другу другу доверяли. Корпоративная структура товарищеская, банда, что ли, или бригада, в хорошем смысле.
Дмитрий Алексеев: Я знаю эти стереотипы. Вот и президент говорит, что на Дальнем Востоке все сплошь жулики. Вообще, предприниматели — жулики, по мнению президента, а на Дальнем Востоке так уж точно. Мне слово «бригада» в данном контексте совсем не нравится. И это совершенно какой-то дурацкий имидж, непонятно, откуда он взялся.
Я специально сказал, чтобы вас поддеть.
Дмитрий Алексеев: Можете считать, что я подделся, поэтому и отвечаю. Этот имидж, конечно, дурацкий. Бандитов в Москве, я думаю, не меньше, а то и больше, чем в регионах. В провинции люди попроще, пооткрытее и поестественнее, что ли. Нет этих московских инвесторов, всей этой мути. Отчасти это помогает нам не пуститься в блуд и всякую ерунду. Но если серьезно говорить, вы правильно подметили, что одним из залогов создания большого бизнеса является умение как-то договариваться, умение нормально работать и не разругаться большому количеству людей.
Многие считают, и в Америке вам, наверняка, скажут, что основа бизнеса — это хорошая юридическая рамка. Как говорится, ничего личного, только бизнес. Не делайте бизнес с друзьями. Есть и такая максима.
Дмитрий Алексеев: На мой взгляд, большой бизнес без команды, где все друг друга понимают и работают в унисон и, что самое важное, исповедует одни и те же ценности, невозможен. Но при этом, конечно, и про юридическую рамку не надо забывать. В DNS всегда существовали прописанные правила, договоренности, все это было на бумаге. Не надо создавать тонкости, чтобы ничего не порвалось.
А когда-нибудь в будущем вы планируете выйти на рынок, сделать IPO, долю, оценку рыночную. Кстати, навскидку, сколько вы стоите?
Дмитрий Алексеев: Мы же маленькая провинциальная компания. У нас немного по-другому.
Вы меняетесь.
Дмитрий Алексеев:Это мир московских инвесторов, где цель бизнеса — урвать бабла и быстро уехать в Италию, чтобы у тебя не забрали то, что ты урвал. Мы далеко, мы понимаем, что Италия от нас далеко, никуда не уедешь. Мы занимаемся немного другими вещами. И в нашей деревне слово IPO считается ругательным, а за него можно в табло отхватить. Понимаете, мне совершенно все равно, сколько стоит компания, это просто не тот контекст. Меня интересуют другие вещи. Меня интересует, насколько хорошо и адекватно мы делаем тот сервис, ту ценность, которую мы можем донести до наших покупателей. Это ценно, а не то, сколько стоит компания. Понятно, что московские инвесторы продают собственные акции, это считается более доходным и прибыльным бизнесом. А мы не продаем собственные акции, наш бизнес является не продажей компании, а продажей бытовой техники, предоставления этого сервиса для людей. Наша задача, чтобы по всей нашей стране, а она большая, сложная, есть довольно экзотические города, в которые добраться сложно, но чтобы по всей этой стране был примерно один и тот же сервис, примерно одно и то же качество и цена товара. Мы хотим быть лучшим проводником для наших клиентов в дивный мир современной цифровой бытовой техники. И мы в это играем. А сколько стоит компания, мне все равно. Мне деньги не нужны.
Если бы вы были композитором и писателем, это бы звучало очень убедительно, потому что вы работали бы в таком случае на какое-то великое светлое гуманное будущее. Но вы все-таки занимаетесь бизнесом.
Дмитрий Алексеев: И что?
Бизнес и торговля измеряется в деньгах, как без этого?
Дмитрий Алексеев: Это опять же разные вещи. Может быть, вы неправильно меня понимаете, когда я говорю, что мне деньги не нужны. Мне деньги не нужны как человеку. У меня очень маленькие потребности. У меня, конечно, хорошая зарплата. Конечно, не как у депутата Государственной думы, раза в три, наверное, поменьше, но этого мне для жизни хватает, и мне больше не нужно. Для того чтобы делать большой бизнес, нужны ресурсы. Но это отдельные вещи. Не надо смешивать капитал и бабло.
«Настоящего криминала в середине 2000-х практически не осталось как значимого фактора»
Кстати, про торговлю. Мы в Москве реально очень плохо знаем ваш бренд, поэтому многое из того, что вы рассказываете, для меня на личном опыте абсолютно ново. Я читал, что, по крайней мере, очень долгое время вы старались вообще развиваться без рекламы, что, конечно, для больших торговых сетей необычно как минимум. Но вы и ваши партнеры говорили, что лучше открыть больше магазинов — вот вам и лучшая реклама. Когда вы открывали новый магазин, во-первых, как долго это работало, и во-вторых, открытие новых магазинов, причем повсюду самого разного размера, масштаба, в городах и даже поселках, как у вас это происходит? Надо все-таки, чтобы приехал кто-то из головного офиса, поговорил с местными начальниками, рассказал, чем вы будете заниматься, как будете себя вести, какие налоги будете платить и так далее?
Дмитрий Алексеев: Во-первых, вы правильно подметили, что розничная торговля, по крайней мере, пока еще одна из тех богоспасенных отраслей нашей экономики, которая, как я сейчас понимаю, практически вообще никак не зависит от государства. Поэтому она и хорошо развивается, поэтому российский рынок, по крайней мере, электроники и бытовой техники находится совершенно на передовых позициях в мире. И такие прекрасные игроки европейские, как MediaMarkt, приходят на российский рынок и понимают, что ничего предложить нашим покупателям лучше, чем уже есть на рынке, они не могут, поэтому они и ушли с нашего рынка. Это рыночная отрасль, которая развивается без необходимости прийти к какому-то абстрактному начальнику и о чем-то договариваться.
А они потом не приходят, когда появляется магазин?
Дмитрий Алексеев: Конечно же, мы живем в России, конечно же, много очень нюансов. Но, как я сейчас понимаю, имея опыт, это все совершенно не сопоставимо со стройкой или деревообработкой. Это совершенно разные масштабы. И тут вы тоже должны понимать, что, имея сеть, нам проще с этими вещами работать. То есть если вы работаете в одном городе и вдруг у вас возник какой-то конфликт с каким-нибудь проверяющим в России, это правда, много чиновников, которые могут закрыть бизнес. Но если работать по всей стране, эти риски усредняются. При этом я же говорю, что отрасль у нас рыночная, у нас можно быть правым и можно доказывать свою правоту. Если вы посмотрите прессу, особенно старую, там бывали разные случаи.
Там написано не так много. А это правда, что где-то там у вас на полтора миллиона что-то конфисковывали или штрафовали, и вы рассказывали, что вам предлагали за 500 тысяч решить вопрос?
Дмитрий Алексеев: Было-было. Но тут надо сказать, что действительно таких совсем значимых [прецедентов] для бизнеса не было. Были нюансы, но единичного характера.
В более отдаленных районах, где вы тоже присутствуете, криминальное давление не возникает? Где подальше от царя, поближе к народу?
Дмитрий Алексеев: Здесь есть два тренда, их тоже нужно учитывать. Настоящего криминала в середине 2000-х практически не осталось как значимого фактора. В принципе у нас спецслужбы перехватили силовой контроль. А второй тренд заключается в том, что в зависимости от экономической ситуации происходит увеличение либо уменьшение количества инцидентов. То есть тут четкая совершенно связь — чем хуже в экономике, тем больше проявляются различные криминальные аспекты. У нас могут обворовывать магазины, происходят кражи во время логистики. Чем хуже, чем острее кризис, тем этого больше, чем лучше экономика, тем меньше всякого проявления криминала. Это неприятная штука, в момент экономического кризиса еще более неприятно, но что же делать, живем. То есть так сказать, что прямо ужас-ужас, наверное, тоже не могу.
В целом, среда, в которой ваша отрасль работает, нормальная? То есть криминального давления нет, есть бюрократическое, но вы говорите, что это не самая большая проблема?
Дмитрий Алексеев: Может быть, конечно, уже привыкли и другого ничего не знаем, но...
Только вот в Санкт-Петербург приходится летать, чтобы встречаться со своей налоговой.
Дмитрий Алексеев: Да.
«[Предприниматели] должны участвовать в жизни страны и чувствовать свою ответственность, понимать, что и мы тоже ответственны за то, что происходит»
Что еще вы сказали бы государству? Получается, что вы должны быть благодарны ему прямо во всем, судя по тому, что вы сейчас рассказываете.
Дмитрий Алексеев: Я против крайностей и против того, чтобы упрощать все до того, чтобы сказать: да, все хорошие или все плохие. Мир сложнее. То есть мне многое не нравится, мне не нравится то, что в последнее время риторика модернизма и инноваций, «Сколково», технологий и развития сменилась мракобесием и какой-то архаикой.
Но это не имеет прямого отношения к вашему бизнесу?
Дмитрий Алексеев: Это отношение к стране в целом, понимаете, это все оказывает влияние, в том числе и на наш бизнес. Гиперцентрализация в стране, решения — все принимается в Москве, и такое впечатление, что в одном или двух кабинетах. Это все, конечно, плохо работает, и хотелось бы, чтобы это развивалось в другую сторону, наоборот в сторону участия граждан в управлении страной, в сторону развития и улучшения госуправления и так далее. Ну а что же поделать, мы в такой ситуации. Если вы меня спросите, пора ли валить, ну нет, наверное, все-таки валить не пора, надо наоборот участвовать в жизни страны. Я призываю всех предпринимателей обращать внимание на выборы, это все имеет значение.
А вы сами обращаете? Тем более Дальний Восток сейчас, выборы, такая большая история...
Дмитрий Алексеев: Ну конечно.
И в Приморье это было, и в Хабаровске это было и есть. Вы сами в это как-то вовлечены?
Дмитрий Алексеев: Да, конечно. Я хожу наблюдателем на выборы, я состою в Партии роста, я пытаюсь быть активным гражданином. В том числе я считаю, что и предприниматели должны не уходить от этого и говорить: нет-нет, политика — это не наше, это плохое. Они должны участвовать в жизни страны и чувствовать свою ответственность, понимать, что и мы тоже ответственны за то, что происходит в стране.
Тогда не о мракобесии, а о свете, прогрессе и инновациях. Сейчас мы все пытаемся постичь науку Big Data, более того, говорят, что именно в торговле в самой разной, она чем дальше, тем больше будет играть самую ключевую роль. Что вы об этом думаете? Тем более вы ведь компьютерщик по образованию. У вас три высших образования, и, хотя вы стараетесь быть очень простым человеком, три высших никуда не деть.
Дмитрий Алексеев: Да, это правда. Тут надо сказать, что без информационных технологий развитие сетевой и розничной торговли вроде того, что есть у нас, было бы просто невозможно, потому что осуществлять управление и логистику в двух тысячах магазинах в большом количестве городов с большой территорией страны было бы невозможно, если бы не было онлайн-базы единой, без алгоритмов, которые решают, какой товар, где должен находиться, и сколько он должен стоить. Ни один человек уже с этим самостоятельно справиться не может. Это только может помогать ему информационная система, поэтому да, мы тоже отчасти находимся на технологической передовой. И опять же это правда, что из трех самых массовых профессий, которые есть у нас в центральном офисе: это бухгалтеры, куда же без них в стране, в российской действительности, это коммерсанты, то есть коммерческий отдел, который занимается категорийным менеджментом, и это программисты, которые работают со всеми технологиями, которые мы используем в своем бизнесе. Опять же я здесь тоже не призываю пугаться, что сейчас компьютерные алгоритмы и пресловутый искусственный интеллект везде людей заменят. Просто алгоритмы позволят людям еще производительнее работать, в том числе и в той интеллектуальной деятельности, о которой как-то раньше не задумывались, что это будут делать компьютеры. И в изучении мира, и в творчестве алгоритмы будут иметь все большую и большую значимость. У нас в компании ни ценообразованием, ни распределением товара люди уже не могут заниматься, это все делают [алгоритмы].
Илья Копелевич

ВОЗМОЖНА ЛИ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ?
ФУ ИН
Профессор и директор Центра международной безопасности и стратегии при Университете Циньхуа, бывший заместитель министра иностранных дел.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КИТАЯ И США В ЭПОХУ COVID-19
КНР и США увязли в стратегическом соперничестве, но они не могут игнорировать мнения третьих сторон. Их отношения стали основным элементом, влияющим на формирование новой мировой структуры. Пойдём ли мы дальше по пути мира и развития или вступим в век конкуренции или даже конфликта между крупными державами? Это зависит от того, как Пекин и Вашингтон определят свои взаимоотношения: «враги» или «партнёры».
В феврале 2020 г. некоторые китайские учёные, и я в их числе, участвовали в 56-й Мюнхенской конференции по безопасности в Германии. Темой конференции была «беззападность». С точки зрения европейцев, в этом неологизме заложен вопрос: переживает ли коллективный Запад – как важнейший геополитический центр после окончания Первой мировой войны – сегодня упадок? Этот теоретический момент с его исторической глубиной породил горячие дебаты среди участников, но вместе с тем его заслонили острые противоречия между Китаем и США.
Хотя Китай усердно трудился, чтобы купировать вспышку COVID-19, американским политикам, посетившим конференцию, это было совершенно неинтересно. Не интересовала их и информация об эпидемии. Вместо этого они предпочли сосредоточить свою критику на Китае по самой разной проблематике – от сетей 5G компании «Хуавей» до проблем Гонконга и Синьцзяна. Они решительно потребовали, чтобы европейцы встали на их сторону для выработки единой позиции Запада, которая стратегически конкурировала бы с позицией Китая. Американская делегация впечатляла обилием высокопоставленных лиц. В неё вошла спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, а также более двадцати сенаторов и конгрессменов, государственный секретарь Майк Помпео, министр обороны Марк Эспер, постоянный представитель США в ООН Келли Крафт, бывший госсекретарь Джон Керри и другие высокопоставленные лица и учёные из исследовательских центров. По всей видимости, они выступили с согласованной позицией республиканцев и демократов, стремясь выделить «угрозу усиления Китая» в качестве главной темы, интересовавшей их на конференции. Они всячески очерняли продукцию компании «Хуавей», заявляя, что это «троянские кони, размещаемые на Западе китайской разведкой». Они обвиняли Китай в проведении «политики насилия на море» с применением вооружённых сил и дипломатического прикрытия, чтобы провоцировать другие страны. Заявили, что «Запад вовсе не в упадке» и что «западные ценности победят российские и китайские имперские устремления». Они также настаивали на том, что Европа и Соединённые Штаты должны сообща давать отпор «всё более агрессивной природе китайской Компартии».
Эти жёсткие заявления отражали изменение политики США в отношении КНР после прихода к власти администрации Трампа, который считает Китай главным «стратегическим конкурентом». В последние три года США последовательно развязывали торговую войну, войну в сфере высоких технологий и кампанию против Китая. Они развернули дополнительные вооружения, нацеленные на Китай, высказывали сомнения в жизнеспособности политического устройства КНР и яростно критиковали китайскую Компартию. Непрерывные провокации вынудили Китай реагировать и принимать контрмеры, что привело к ускорению отрицательной динамики в отношениях.
Движение Китая вперёд и регресс США
Наблюдающие за изменениями в американской политике не могут не заметить разную политическую эволюцию и траектории развития Китая и США после окончания холодной войны. Китай видел будущее планеты как движение к миру и развитию. Он следовал этим путём, продолжая курс реформ и открытия своей экономики, сосредоточиваясь на экономическом подъёме. В начале второго десятилетия XXI века Китай стал второй по величине экономикой мира и создал всемирную сеть сотрудничества. Он также наращивал своё участие и влияние в мировой политике.
С другой стороны, Соединённые Штаты увязли в своей теории о «конце истории» и однополярном мировом порядке. Они начинали многочисленные войны в стремлении трансформировать другие страны, подчинив их своей воле и модели развития. Поступая так, они превысили свои реальные возможности как гегемона, пытаясь откусить больше, чем могут прожевать. Кроме того, отсутствие надлежащего надзора за перемещением капитала, подстёгиваемого экономической глобализацией, привели к финансовому кризису 2008 года. В американском обществе стал углубляться раскол по мере того, как неравномерное распределение богатства подрывало качество жизни среднего класса и бедного сословия, а конфликтное восприятие идентичности расширяло пропасть в уровне жизни между богатыми и бедными, ведя к поляризации политических интересов. В последние годы в американском обществе появилась рефлексия, и значительное число людей теперь понимает, что политика и траектория развития страны не отвечают их чаяниям. Администрация Трампа просто отказалась от политики либерального интернационализма, взяв на вооружение политику консерватизма и принцип «Америка прежде всего».
Гегемония США слабеет, и, соответственно, исчезает «эффект маяка».
Движение Китая вперёд к мирному будущему и регресс Соединённых Штатов отражают разные эволюционные траектории двух стран в общей системе международных отношений, что неизбежно вызывает трения в структуре мировой власти. Америка проявляет всё большую обеспокоенность по поводу укрепления КНР и пытается отбросить её назад. Перемены в политике и общем настрое США вносят новую неопределённость в международные отношения и обстановку в мире. Соединённые Штаты взволнованы тем, что Китай будет конкурировать с ними за ведущие позиции в мире, и расценивает эту конкуренцию как битву за свои фундаментальные интересы, в которой они не могут позволить себе потерпеть поражение. Американские ястребы намерены подталкивать отношения с Китаем в направлении полномасштабной конфронтации, поскольку полагают, что это единственный способ прервать наступление КНР на экономическом фронте. Американцы наращивают способность мобилизовать население других стран и усиливать на них влияние. Вооружённые силы США обновляют боевой арсенал в западной акватории Тихого и на востоке Индийского океана, укрепляя союзнические сети и реализуя «Индийско-тихоокеанскую стратегию». Вашингтон сделал главный акцент на Южно-Китайском море и Тайване, чтобы уравновесить присутствие Китая в этом регионе.
Это тревожит другие страны мира: неужели Китай и США попадут в «ловушку Фукидида»? Ведь это будет означать неизбежное столкновение и вооружённый конфликт между доминирующей сегодня державой и быстро усиливающейся державой! Неужели вследствие этого произойдёт раскол или даже коллапс нынешней системы многостороннего сотрудничества в мире?
Складывается впечатление, будто сцены, разыгранные на Мюнхенской конференции по безопасности 2020 г., сигнализируют, что отношения будут ухудшаться ускоренными темпами.
Ключевые слова в китайской стратегии США: «принципиальный реализм»
Вскоре после Мюнхенской конференции по безопасности эпидемия COVID-19 начала распространяться по всему миру. В начале апреля Всемирная организация здравоохранения объявила, что Соединённые Штаты стали новым «эпицентром» «мировой пандемии». Эта пандемия – третье крупное событие, изменившее мировую повестку дня с начала XXI века. Двумя другими были теракты 11 сентября 2001 г. и мировой финансовый кризис 2008 г., который погрузил США в серьёзную рецессию. Во время финансового кризиса все страны мира всецело поддерживали американцев и работали сообща с ними для преодоления возникших трудностей. Однако на этот раз Соединённые Штаты не проявили готовности к сотрудничеству и солидарности на глобальном уровне; они не выказали ни желания, ни способности возглавить борьбу с пандемией. Они не только не организовали международную кампанию для недопущения того, чтобы этот вирус разросся до масштабов пандемии, но и пытались препятствовать взаимодействию, создавая конфликтные ситуации. Мировое сообщество было просто ошарашено.
Поначалу люди ждали, что Пекин и Вашингтон начнут сотрудничать в борьбе с пандемией. После тринадцати раундов трудных переговоров между двумя странами в начале 2020 г. была подписана торговая сделка. Таким образом, завершён первый этап переговоров, и напряжённость, длившаяся более года, наконец-то, снизилась. Благодаря этому удалось затормозить дальнейший упадок в двусторонних отношениях. До того, как две стороны формально подписали соглашение, президенты поговорили по телефону 20 декабря 2019 года. Президент Си Цзиньпин сообщил, что «Китай и США достигли торгового соглашения, завершив первую фазу переговоров, на основе равенства и взаимного уважения. При нынешней чрезвычайно сложной обстановке в мире такое соглашение выгодно обеим странам – оно способствует миру и процветанию на всей планете».
С учётом этих обстоятельств многие возлагали большие надежды на улучшение отношений и возобновление сотрудничества. Перед лицом этой внезапно вспыхнувшей пандемии люди вполне резонно полагали, что две страны смогут превратить мировой кризис в области здравоохранения в возможность и повод для улучшения отношений и возобновления сотрудничества. Эти ожидания опирались на прошлый опыт взаимодействия между КНР и Соединёнными Штатами для противодействия терроризму в 2001 г., борьбы с SARS (атипичной пневмонией) в 2003 г., преодоления мирового финансового кризиса в 2008 г. и борьбы с вирусом Эбола в 2014 году.
Однако надеждам не суждено было сбыться. После вспышки эпидемии в Ухане американское правительство не проявило озабоченности или желания сотрудничать. Вместо этого оно эвакуировало своих граждан, прекратило полёты в Китай, а министр торговли Росс охарактеризовал эпидемию в Китае как «возможность ускорить репатриацию рабочих мест». Подобные заявления продемонстрировали полное отсутствие сострадания и человечности. Некоторые компании, частные лица и заморские китайцы, проживающие в США, отправили в КНР материальную помощь, но, согласно официальной информации китайских властей, правительство никакой значимой помощи Китаю не выделило. “The Wall Street Journal” опубликовал на полосе мнений статью под названием «Китай – настоящий больной Азии», которая спровоцировала болезненные воспоминания китайцев и словесную войну между двумя странами. Когда Соединённые Штаты отказались принести извинения, китайская сторона отменила визы трёх американских журналистов, работавших в Китае. США в отместку также сократили количество китайских журналистов в Вашингтоне. Таким образом, позитивный импульс, заданный торговым соглашением первого этапа, улетучился.
Вспышка пандемии и утрата контроля над ней в Америке привели к экономическому спаду и изменили динамику президентских выборов 2020 года. Администрация Трампа, пытаясь снять с себя ответственность за запоздалую реакцию на пандемию и улучшить перспективы переизбрания президента, взяла на вооружение тактику «перевода стрелок» на Китай, запустив кампанию очернительства. Заявления Белого дома рассматривались в качестве официального руководства к действию. В них подчёркивалось, что из-за промедления, отсутствия прозрачности, умышленного распространения вируса через туристов и сговора со Всемирной организацией здравоохранения, китайское правительство причинило Соединённым Штатам и миру большие страдания. Некоторые конгрессмены быстро подали жалобы на Китай и спровоцировали призывы к полномасштабному расследованию происхождения вируса. Прокуроры отдельных штатов даже попытались подать судебный иск против Пекина, чтобы взыскать компенсацию с китайского правительства.
Китай не был намерен уступать этому давлению, отвергнув ложные иски с помощью фактических данных, свидетельствовавших о том, что КПК и китайское правительство вели себя ответственно, приняв все необходимые меры. Информационное управление Госсовета КНР выпустило 7 июня официальный документ под названием «Действия Китая по противодействию пандемии COVID-19», где подробно описывались усилия китайского народа в борьбе с пандемией.
Ухудшение ситуации с пандемией не остановило администрацию Трампа в её попытке оказать давление на Китай. Она ввела новые торговые и экспортные ограничения против компании «Хуавей», готовясь даже заблокировать доступ этой компании на американский рынок программных и аппаратных средств. Кроме того, она включила и другие китайские компании в «список юридических лиц, вызывающих озабоченность», чтобы затем ограничить обращение их акций на фондовых биржах. Ведя такую политику, Соединённые Штаты явно демонстрируют намерение «разъединиться» с Китаем в промышленно-технологической сфере.
В то же время некоторые представители стратегических кругов США обвинили Китай в использовании пандемии, чтобы вбить клин в трансатлантическое партнёрство, расширить влияние в Индийско-Тихоокеанском регионе. Они утверждают, что Китай пытается усилить контроль над международными организациями и «больше не скрывает» своего намерения конкурировать за мировое лидерство с Соединёнными Штатами. По проблемам Тайваня, Гонконга, Синьцзяна Конгресс США усилил свою законотворческую деятельность, приняв «Тайбэйский акт 2019 г.», который можно расценить как вмешательство во внутренние дела Китая. Ещё несколько законопроектов, касающихся Китая, находятся на этапе разработки и оценки. В нарушение политики единого Китая американская администрация наращивает официальные контакты и обмен с тайваньской администрацией Цай Инвэнь. Вдобавок авиасообщение и гуманитарный обмен между Китаем и США значительно сократились вследствие пандемии, что вызывает всё большую разобщённость между нашими народами и ослабление культурных связей.
Быстрое ухудшение отношений также сказалось на общественном мнении, привело к росту возмущения и враждебности с обеих сторон. Опрос тысячи американцев, проведённый Исследовательским центром Pew с 3 по 29 марта 2020 г., показал, что 66% респондентов отрицательно относятся к Китаю. Это самый высокий показатель с 2005 г., когда начал проводиться этот опрос и существенно выше 47%, зафиксированных в опросе 2017 года. Опрос, проведённый в этом году, также показал, что около 62% респондентов считают силу и влияние Китая главной угрозой для Америки.
Согласно национальному опросу, проведённому Центром Харриса в апреле, 90% республиканцев и 67% демократов считают, что КНР несёт ответственность за распространение пандемии; 66% республиканцев и 38% демократов полагают, что правительству Трампа следует ужесточить политику в отношении Китая. Хотя в Китае нет социологических служб, проводящих аналогичные опросы, судя по комментариям в Интернете и общему настрою СМИ, китайская общественность возмущена такой антикитайской риторикой и действиями. Это отрицательное отношение и недоверие к Америке в Китае достигло наивысшей точки с момента установления дипломатических отношений.
Белый дом опубликовал на своём сайте в конце мая официальный доклад «Стратегический подход США к Китайской Народной Республике». Этот доклад был представлен Конгрессу США в соответствии с требованиями Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону за 2019 финансовый год и не был новой стратегией для Китая. Однако он скорректирован в соответствии с новым политическим подходом на основании изменений в международной обстановке; в частности, его составители отвергли принцип взаимодействия с Китаем, принятый предыдущими американскими администрациями. В докладе явно преувеличены «вызовы» и «угрозы» усиления Китая для Соединённых Штатов, чётко очерчена траектория конкурентной борьбы и включены требования идеологической конфронтации. Понятно, что новая американская стратегия конкурентной борьбы теперь на один шаг ближе к завершению.
Почему так происходит? Сторонники жесткой линии в США считают стратегическую конкуренцию с Китаем главным приоритетом и не желают, чтобы сотрудничество, столь необходимое для противодействия пандемии, снизило накал этой конкурентной борьбы, отвлекло от реализации их «стратегического плана» или даже подорвало усилия в области «стратегического развёртывания». Скорее они стараются использовать любую возможность для нагнетания конкуренции. Концепция «принципиального реализма» была раскрыта в «Стратегическом подходе» и стала ключевой фразой, объясняющей стратегию в отношении Китая.
Оглядываясь на традицию реализма в американской внешней политике, исследователи понимают, что проявление влияния обычно было следствием стремления к «миру с опорой на силу». Оно было особенно свойственно периоду президентства Рональда Рейгана и его политике. В годы холодной войны США находились в не очень выгодном положении. Администрация Рейгана энергично наращивала вооружения, проводя политику ядерного сдерживания и заманивая Советский Союз в ловушку гонки вооружений. В последние годы, с учётом таких вызовов, как возрождение России и укрепление Китая, некоторые американские учёные ввели термин «наступательный реализм»: в силу анархического характера системы международных отношений крупные державы, как это ни трагично, обречены на конкуренцию. Поэтому они отстаивают наступательное мышление и меры противодействия противникам с позиций силы и гегемонии США в мире.
«Принципиальный реализм» похож на гибрид «мира с опорой на силу» Рональда Рейгана и концепции «наступательного реализма». Вполне вероятно, что Белый дом попытается разработать новую теорию на этой основе, чтобы сформулировать будущую государственную политику в отношении Китая. Двигаясь по наклонной плоскости, отношения скатились до самой низкой точки с момента установления дипломатических отношений. Если стратегическую корректировку китайской политики США сравнить с окружностью 360 градусов, тогда первые 180 градусов были пройдены где-то в районе 2018 года. Это означало, что Соединённые Штаты на всех уровнях – правительства, академических кругов и широкой общественности – пришли к консенсусу о необходимости скорректировать стратегию в отношении КНР. Но пока ещё не достигнут консенсус о том, какие новые и действенные китайские стратегии следует реализовать.
Некоторые отстаивают «умную конкуренцию» при сохранении необходимых контактов и сотрудничества и одновременном укреплении сдерживания, тогда как другие призывают к борьбе с Китаем, чего бы это ни стоило. С 2019 г. главным направлением политической мобилизации было движение в направлении формирования более чёткого «консенсуса во всём обществе», как должна развиваться конкурентная борьба с Китаем. Этот процесс существенно ускорился вследствие столкновения двух стран из-за пандемии, и положение может ещё ухудшиться, прежде чем произойдут какие-то улучшения.
США обостряют конкуренцию с Китаем
Конфликт между Китаем и США сегодня стал главным фактором, формирующим ландшафт международных отношений. Напряжённость между двумя странами в основном подстёгивается Соединёнными Штатами, которые пытаются спровоцировать конкурентную борьбу на четырёх фронтах.
Во-первых, это борьба политических систем и ценностей. До вспышки COVID-19 западные мыслители уже начали беспокоиться по поводу того, что успех Китая, незападной страны, уменьшит привлекательность западных ценностей. Это было бы ещё одним подтверждением несостоятельности попыток «Америки и Запада» после окончания холодной войны руководить миром на основании своей политической системы и ценностей. С точки зрения стратегических кругов США, усиление Китая – вызов не только для политических интересов и международного статуса Соединённых Штатов, но и для доверия мирового сообщества к их общественно-политическому устройству и праву экспортировать ценности. Это вызов, чреватый ещё более глубокими последствиями. С точки зрения Китая, США так и не отказались от стремления подорвать социалистическое устройство китайского общества под руководством Компартии. В своих последних высказываниях официальные лица в правительстве США зашли так далеко, что отделили КПК от китайского народа. Это стало попыткой породить внутренний конфликт и оспорить легитимность Компартии Китая и политического устройства страны. Китай должен давать решительный отпор подобным попыткам.
Главная мишень в «Стратегическом подходе» – правящая партия и система политического управления КНР. В нём упоминается «вызов ценностям», как один из трёх главных вызовов Соединённым Штатам. Описаны идеологические корни внутренней и внешней политики Китая – похоже, специально для того, чтобы представить КНР в ложном свете, как это в своё время делалось в отношении Советского Союза. Намерение состоит в том, чтобы сделать акцент на политике и безопасности в конкурентной борьбе США и Китая и создать фундамент для принуждения компаний и экономического сообщества к принятию «разъединения» двух стран. Эта траектория неизбежно приведёт в ловушку идеологической войны и конфронтации с нулевой суммой без выгод для обеих сторон.
Во-вторых, идёт борьба за информационную повестку. С начала года Вашингтон переместил акцент с торговой войны с Китаем на войну за информацию, но это не означает отказ от конкуренции в других областях.
Упадок в торговых отношениях остановился после подписания первого этапа торгового соглашения. В сфере безопасности традиционная идея состоит в поддержании необходимого уровня сдерживания Китая с помощью вооружённых сил вместо нанесения упреждающего удара. Однако с точки зрения формирования информационной повестки у Соединённых Штатов накоплен огромный опыт, и они знают, как влиять на мировое общественное мнение. В то же время Китай вытесняется из информационного поля и не имеет доступа к традиционным и влиятельным СМИ и информационным каналам, которые используются для формирования общественного мнения в Америке и остальном западном мире. В результате информация из первых рук о Китае недостаточно доступна в США и мировом сообществе.
Чтобы вести войну за информационную повестку, нужно определить чёткую и ясную тему, затрагивающую сердца людей. При многогранном её использовании в разных контекстах она завладеет общественным мнением. Из недавних выступлений сторонников жёсткого курса можно ясно понять ход кампании против Китая. Главным посылом становится фраза «Китаю нельзя доверять». Цель – запятнать имидж КНР как успешной и ответственной страны, идущей курсом реформ и открытия экономики. Другими словами, её задача – изменить «национальный характер» Китая, приклеив к нему ярлык «бесчестный» и «не заслуживающий доверия», чтобы тем самым подорвать позиции КНР в международном обмене мнениями. В годы холодной войны Соединённые Штаты делали то же самое, наклеивая всевозможные ярлыки на Советский Союз и подрывая его имидж в глазах широкой общественности, пока люди не стали считать этот строй неприемлемым с нравственной точки зрения.
В-третьих, это борьба за экономическую и финансовую безопасность. Пандемия сильно повлияла на экономику США. По статистике Министерства труда, в апреле 2020 г. безработица достигла 14,7%, немного снизившись в мае, но и тогда она оставалась на высоком уровне в 13,3%. Экономический спад привел к быстрому ухудшению финансового положения в первые восемь месяцев финансового года 2020. Ожидалось, что расходы американского бюджета превысят 3,925 трлн долларов. Это на 912 млрд долларов (на 30%) больше, чем за тот же период прошлого года. В апреле и мае, когда пандемия разыгралась не на шутку, доходы федерального правительства упали на 45,8%, тогда как расходы выросли на 93,6%, а дефицит бюджета составил 1,162 млрд долларов. По предварительным оценкам, дефицит бюджета федерального правительства достигнет 3,7 и 2,1 трлн долларов в 2020 и 2021 финансовых годах соответственно. Подобное ухудшение бюджетных показателей привело к быстрому росту федерального долга. По состоянию на 10 июня общая сумма долга приблизилась к 26 трлн долларов, а это означает, что в первые восемь месяцев этого бюджетно-финансового года федеральный долг вырос более чем на 3 трлн долларов. По прогнозам Федерального резерва, экономика США просядет на 6,5% в 2020 году; следовательно, можно ожидать, что к концу этого бюджетно-финансового года дефицит бюджета и общий федеральный долг составят 18% и 140% ВВП соответственно. Это тяжёлое бремя для правительства.
Реагируя на экономический спад, вызванный пандемией COVID-19, правительство запустило план спасения стоимостью около 3 трлн долларов. Федеральный резерв также планирует сохранить федеральную процентную ставку без изменений в диапазоне 0% –0,25% до момента достижения полной занятости и стабилизации цен. Эти неразборчивые меры по разбрасыванию «вертолётных денег» и стимулированию экономики не только увеличат долговой коэффициент и процент дефицита, но и вызовут безудержные спекуляции с финансовыми кредитами, а также избыток ликвидности, что чревато рыночными рисками. При постоянном увеличении долга дефицит федерального бюджета может в течение следующих нескольких лет или даже дольше оставаться на уровне, превышающем 10% ВВП.
В этих обстоятельствах Соединённые Штаты, испытывая нарастающую тревогу, используют озабоченность ряда стран в отношении безопасности цепочки поставок во время пандемии для преувеличения риска превращения Китаем своих конкурентных отраслей в «оружие» и с целью ускорения «декитаизации» в виде структурной отладки промышленных цепочек и цепочек поставок. Идеальная цель в стратегических расчётах – «декитаизация» посредством «деглобализации» с помощью видоизмененных правил, переформатирования стандартов, реорганизации региональных торговых блоков, реформирования международных механизмов и «разъединения» в области ключевых технологий и отраслей. Несколько американских политиков предлагают использовать финансовую гегемонию для подавления Китая. Такой вариант нельзя полностью исключать, хотя злоупотребление финансовыми инструментами лишь снизит доверие к американскому доллару и самим США.
Вместе с тем образование и корректировка мировых цепочек поставок – следствие развивающегося международного разделения труда. Многие предприятия в Китае, финансируемые из-за рубежа, считают местный рынок главным объектом бизнеса и маловероятно, что они затеют крупномасштабный исход с китайского рынка в краткосрочной перспективе, если на них не будет оказано беспрецедентное политическое и военное давление.
Четвёртая сфера конкурентной борьбы – стратегическая безопасность и безопасность на море. В военной области у Вашингтона растёт озабоченность действиями Китая на стратегическом, тактическом и операционном уровне, и они пытаются увеличивать давление на Пекин для балансировки. Когда дело касается суверенитета и безопасности КНР, Китай вынужден отвечать на давление и провокации, принимая надлежащие контрмеры и вырабатывая необходимые действия. Глядя в будущее, можно сказать, что неопределённость в военных отношениях продолжит усугубляться, поскольку трудно будет компенсировать отсутствие стратегического доверия. Неслучайно, военные корабли и самолёты двух стран часто встречаются в непосредственной близости на море и в воздухе. Вероятность непреднамеренных столкновений растёт.
Из-за пандемии COVID-19 размещённые за рубежом ВС США вынуждены были сократить операции по всему миру. Однако, чтобы Китай не «воспользовался этой возможностью и не заполнил образовавшийся стратегический вакуум», американцы увеличили частоту патрулирования, разведывательных операций и провокаций против Китая в Южно-Китайском море, Тайваньском проливе и Восточно-Китайском море. Величайшая неопределённость во взаимодействии двух армий в том, что стороны не создали действенных механизмов контроля и управления кризисами. Правила взаимодействия чётко не понимаются, «красные линии» также неявны. Обе стороны постоянно проверяют друг друга на прочность, повышая тем самым риск несчастных случаев и неконтролируемых последствий. Две страны и армии достигли стратегической договорённости об «избегании конфликтов и прямой конфронтации». Но обеим сторонам нужно серьёзно подумать над тем, как воплотить эту договорённость в жизнь.
Динамика стратегического сдерживания также претерпела изменения. США корректируют ядерную стратегию, обновляют ядерный арсенал, снижают ядерный порог, разрабатывают системы ракетной обороны и сверхзвуковую авиацию и готовятся к размещению ракет средней дальности вокруг Китая. Эта динамика может привести к расширению разницы ядерных потенциалов между двумя странами. Вопрос ещё в том, не вынудят ли эти изменения Китай подумать о необходимой корректировке. Кроме того, и КНР, и Соединённые Штаты являются крупными игроками в исследовании и разработке новых платформ вооружений и военных технологий на базе искусственного интеллекта. Обе страны заинтересованы в милитаризации киберпространства, космоса и Арктики. Нужно серьёзно обсудить, как контролировать конкуренцию в этих областях.
Мировой фон соперничества между Китаем и США
Многие учёные считают пандемию COVID-19 водоразделом в истории послевоенного мира, полагая, что она окажет не только психологическое, но и материальное воздействие на человечество. В настоящее время вызванные ею изменения, вместо того чтобы быть подрывными, послужили катализаторами и акселераторами, повсеместно ускоряя и углубляя перемены. Например, экономическая глобализация и регионализация быстро корректируются по мере дальнейшей фрагментации международной силы: возобновляется стратегическая конкуренция между крупными державами, а внутреннее управление в некоторых странах сталкивается с серьёзными вызовами. Ухудшение отношений между Китаем и США – не изолированное событие, поэтому его нужно исследовать и оценивать на всех уровнях под разными углами.
С точки зрения экономической глобализации, пандемия бросила новый вызов глобальному мышлению. Мы видим, как крупные экономики размышляют о рисках внешней зависимости промышленной цепочки при нынешней модели глобализации. Некоторые аналитики считают, что в структуре экономической глобализации возникнут три подсистемы, центрами которых будут Китай (Восточная Азия), США и Европейский союз. Они будут расходиться лучами вовне, причем оффшорный (дальний) аутсорсинг всё чаще замещается ближним аутсорсингом. Производственная база станет всё больше приближаться к рынкам конечных потребителей, а цепочка поставок может стать короче и более диверсифицированной, чтобы была возможность быстрого реагирования на внезапные колебания конъюнктуры.
Образование «трёх центров» также побудит к соответствующей корректировке потоков международного капитала и усугубит «разъединение» Китая и США. Судя по нынешним политическим дискуссиям и предлагаемым мерам в разных странах, можно предвидеть следующие действия.
Во-первых, производство продукции, критически важной для безопасности Соединённых Штатов в области биомедицины, личных средств защиты, а также производственные мощности некоторых передовых компаний могут быть выведены из Китая. Кроме того, новое законодательство США, если оно вступит в силу, вынудит передислокацию компаний.
Во-вторых, трудоёмкие отрасли будут переведены из Китая более быстрыми темпами в силу более высокой стоимости производства. Это может снизить зависимость от Китая в производстве потребительских товаров длительного пользования.
В-третьих, промышленные гиганты, адаптированные к потребностям китайского рынка, останутся и продолжат получать выгоду от восстановления китайского рынка при общем снижении мировых продаж.
В-четвёртых, разъединение высокотехнологичных отраслей, таких как 5G, приведёт к выдавливанию Китая с рынков Соединённых Штатов и некоторых их союзников, что поведёт к созданию других систем и стандартов.
Что касается мирового управления, у Китая и США остаётся много общих интересов для совместного ответа на глобальные вызовы и сохранения функционального сотрудничества между профессионалами. Речь идёт, в частности, о таких важных областях как профилактика инфекционных заболеваний и предотвращение изменений климата. Однако нынешнее американское правительство не только политически не поддерживает сотрудничество между двумя странами на мировой арене, не выделяя для этого ресурсов, но и пытается не допустить влияния Китая в мировой политике, считая исключение КНР из многосторонних организаций важной дипломатической целью. Администрация Трампа фактически парализовала Всемирную торговую организацию, прекратила сотрудничество с Всемирной организацией здравоохранения и помешала китайским кандидатам занять ключевые посты в руководстве Всемирной организации по защите интеллектуальной собственности, Международном валютном фонде и Всемирном Банке. В то же время она провела переговоры и подписала новые двусторонние соглашения о свободной торговле с «нулевыми пошлинами, отсутствием барьеров и субсидий» со многими странами, включив пункты, которые можно назвать «ядовитыми пилюлями», потому что их единственная цель – исключение Китая. Эти действия сильно подорвали и нарушили систему мирового управления и сотрудничества, лежащую в основе деятельности Организации Объединённых Наций. Непрерывное стремление к реализации подобных амбиций, выгодных только американцам, неизбежно скажется на воле и способности мирового сообщества отвечать на общие вызовы.
С точки зрения международной структуры, описанная Китаем мировая властная конструкция, сложившаяся после окончания холодной войны, а именно: «одна сверхдержава и много крупных держав» – поколебалась вследствие относительного изменения в раскладе сил между США и Китаем. На ежегодном симпозиуме о положении дел в мире, проведённом Центром международной безопасности и стратегии Университета Циньхуа в начале 2020 г., учёные из области стратегических отношений оценили распределение силы в современном мире.
Важный вывод состоит в том, что мировая гегемония Америки долго не продлится, но как сверхдержава Соединённые Штаты по-прежнему обладают самым мощным влиянием на мировую политику.
Хотя между Китаем и США остаётся значительная пропасть с точки зрения жёсткой и мягкой силы, в экономике этот разрыв намного меньше, так как Китай уже опережает многие другие страны. В совокупности две державы производят примерно 40% мирового ВВП, на их долю приходится 44% мировых расходов на вооружения. Как эти две могущественные страны будут строить взаимоотношения, смогут ли они реализовать свои ожидания стабильности в мире – это важнейший вопрос современной мировой политики.
Китайские учёные считают, что по-прежнему существует большая пропасть между Китаем и США с точки зрения силы, и Китай не готов согласиться с концепцией «двух сверхдержав», да и у мирового сообщества остались дурные воспоминания о «биполярном мире». Две ведущие страны неизбежно будут оказывать самое значительное влияние на мировое развитие и, следовательно, должны принять на себя больше обязательств, в том числе лучше понимать намерения друг друга во избежание стратегических ошибок из-за неверных суждений. Ещё важнее, чтобы две страны исследовали новые мировые проблемы и работали над консенсусом, а это достаточно долгий процесс, включающий сложные взаимодействия. Но поскольку последствия COVID-19 переплетаются с переменами в связи с президентскими выборами в США, а заодно обостряются социально-политические и экономические конфликты в Америке, самоуверенность американцев снижается, а опасения и сомнения по поводу Китая углубляются. Это неизбежно повлияет на способ и темпы взаимодействия между двумя странами, которые исследуют новые пути. Но в каком бы направлении они ни двигались, движение будет ускоряться. Нарастающая скорость перемен обязывает две страны как можно быстрее определиться с восприятием друг друга и договориться о совместной работе.
КНР и США увязли в стратегическом соперничестве, но они не могут игнорировать мнения третьих сторон. Их отношения стали основным элементом, влияющим на формирование новой мировой структуры. Пойдём ли мы дальше по пути мира и развития или вступим в век конкуренции или даже конфликта между крупными державами? В значительной степени это зависит от того, как Пекин и Вашингтон определят свои взаимоотношения: «враги» или «партнёры». Так что исход может быть диаметрально противоположным.
В процессе выяснения будущего направления обе страны попадут под влияние политических директив другой стороны. Остальные важные игроки на мировой арене – союзники США, такие как ЕС, Япония и Австралия, и развивающиеся страны, такие как Индия – заняли выжидательную позицию. Эти страны представляют собой что-то вроде «третьей силы».
Китай оказывает огромное влияние на мировую экономику, так как для 70% стран и регионов мира он является крупнейшим торговым партнёром. Соединённые Штаты занимают лидирующее положение в мировых финансах, науке и технологии. Они сохраняют традиционное влияние на мировую политику и союзников, а значит, по-прежнему играют ведущую роль в мире. В этих условиях «третьи силы» не хотят видеть отношения между Китаем и США настолько напряжёнными, чтобы это вызывало серьёзный раскол в мире. И другие страны не хотят выбирать, на чью сторону им вставать, поскольку связаны неразрывными интересами с обеими. Но если две державы движутся к необратимому конфликту, тогда многие страны, не получающие выгод и гарантий от Китая, вряд ли захотят поддержать Пекин, даже если не хотят вставать на сторону США.
Во время пандемии мне приходилось участвовать в национальных и международных онлайновых научных конференциях. Интересно, что научное сообщество говорит об «усилении другого». Это означает, что если в мире не будет лидера, придётся думать о том, как выстроить новое коллективное руководство. В 2019 г. Франция и Германия выступили с инициативой «многостороннего альянса», который объединил бы многие страны, ищущие ответ на вызовы одностороннего мира и стремящиеся защитить свои интересы, а также систему мирового управления. Это создаёт фон для конкурентной борьбы между Китаем и США. Крайне сложные, многообразные и многоуровневые факторы непостоянны и могут резко измениться. Конкуренция неизбежна, но она не похожа на конфронтацию Соединённых Штатов и Советского Союза в годы холодной войны и борьбу между великими державами в прежние эпохи. Поэтому следует избегать простых параллелей.
Более типичная конкуренция крупных держав в современной истории – Британии и Германии до начала Первой мировой войны, США и Японии в 1930-е и 1940-е гг. или США и СССР во второй половине ХХ века, когда шла холодная война, – имеет некие общие закономерности. Все эти противостояния разворачивались на фоне мирового экономического кризиса, когда новые усиливающиеся державы начинали вести себя агрессивно. В то же время господствующие державы, испытывая сильную тревогу и страх быть смещенными с положения гегемона, выбирали политику сдерживания поднимающихся молодых держав.
Однако конкуренция между КНР и Соединёнными Штатами была искусственно раздута после относительно долгого периода мирного развития мировой экономики и экономической глобализации на основе прочной взаимозависимости между двумя странами, а также между ними и некоторыми другими. Кроме того, Китай добился всеобъемлющего развития и укрепил свои позиции мирным способом. Этих особенностей и условий не было в прошлом, когда крупные державы ожесточенно конкурировали друг с другом. В этой связи разворачивается более сложная конкуренция, в которой выгоды и потери будут не столь ярко выражены. Хотя эта конкуренция широкомасштабна и подчас ожесточенна, между конкурентными и враждебными отношениями всё ещё имеется значительное пространство. Самый важный вызов или выбор: продолжат ли две страны разрешать разногласия в рамках имеющейся системы международных отношений или же расколются на две относительно независимые, но взаимосвязанные системы, каждая из которых идет своим путём.
Если произойдёт второе, это означало бы конец глобализации и распад существующей системы.
Достижим ли новый тип отношений между крупными державами, такими как Китай и США, предполагающий доброжелательную конкуренцию?
В начале третьего десятилетия XXI века открывается занавес на мировой сцене длительного соперничества между КНР и Соединёнными Штатами. Китайцев втягивают в это противоборство отчасти вопреки их воле. Стоит отметить, что у США больше нет абсолютного превосходства, которое они имели после окончания холодной войны. Нет у них и достаточных причин и популярности, чтобы начать глобальную мобилизацию для всестороннего стратегического сдерживания и идеологической осады Китая. Началась новая глава в отношениях, и двум сторонам следует заново оценить друг друга. У них разная философия и интересы во многих сферах, но имеются широкие общие интересы по таким вопросам как стабильность в мире и устойчивое развитие. Они также разделяют общую ответственность за сохранение существующей системы и общей тенденции к миру и сотрудничеству.
В настоящее время Китай и США по-разному понимают природу двусторонней конкуренции. Не будет преувеличением сказать, что их цели находятся в совершенно разных измерениях: Соединённые Штаты уверены в том, что цель Китая – отнять у них лавры мирового лидера, а суть конкуренции, по их мнению, в том, кто будет Державой №1 в мире, а кто будет Державой №2. Поэтому стратегия нацелена на сдерживание КНР во всех отношениях. В то же время Китай намерен реализовать «две цели развития столетия». В 2021 г. будет отмечаться столетняя годовщина Компартии Китая, и к этой юбилейной дате Китай стремится достичь цели построения общества, умеренно процветающего во всех отношениях. К столетию образования Китайской Народной Республики в середине этого столетия Китай намерен завершить модернизацию и стать современной социалистической страной – процветающей, сильной, демократичной, культурно развитой, гармоничной и прекрасной. Китай также ставит задачу национального возрождения. Так что если Пекин за что-то и борется, то лишь за пространство для непрерывного развития. Скатятся ли Китай и США к бесперспективной конфронтации с нулевой суммой или выстроят отношения здоровой конкуренции и сотрудничества – зависит от способности двух сторон объективно оценить силу и намерения друг друга, чтобы найти компромиссный вариант, при котором их цели не будут взаимоисключающими.
Предстоящие президентские выборы будут неизбежно оказывать влияние на американскую дипломатию. Экономическая рецессия, острое противостояние двух партий, протесты против расового неравенства и другие социальные вопросы, а также полемика по поводу самого президента Трампа непрерывно вызывают сумятицу. Степень политического размежевания по партийным линиям и поляризации популярных мнений выше, чем когда-либо раньше. Шумиха по поводу «китайской угрозы» далее выливаются в дебаты по поводу «большой политики». По мере того, как сторонники жёсткого курса изо всех сил стараются подогревать конфликт с Китаем, потенциальное использование разных предлогов для начала ожесточенного наступления и принятия радикальных мер может ещё больше обострить отношения.
Каким бы ни был итог выборов в США, будущее направление в отношениях с Китаем требует тщательного и рационального обсуждения людьми, принимающими решения с обеих сторон. В Америке присутствуют две разнонаправленные тенденции. Одно направление возглавляют политики правого фланга в Вашингтоне, стоящие на позициях конфронтации и «всестороннего подавления» Китая. Они постоянно подстрекают к диспутам, прилагая недюжинные усилия для сокращения двухсторонних контактов в разных областях, упорно настаивая на «разъединении», используя такие темы, как «озабоченность проблемами национальной безопасности» и «политические разногласия». Другая тенденция поддерживается рационально мыслящими американскими политиками, выступающими против отказа от «ограниченного взаимодействия». Они надеются на сохранение прагматичных отношений, хотя и призывают китайцев изменить практику «нарушения правил» и отказаться от «нечестной игры». Тот вред, который радикальная китайская политика администрации Трампа наносит самим Соединённым Штатам, всё более заметен. Поэтому, хотя очевидная истина часто заглушается всё более громкой конфронтационной риторикой, это не означает, что она не находит широкой и молчаливой поддержки в США. Влияние подобного подхода может возрасти по мере развития внутриполитических коллизий.
Как Китаю подходить к конкуренции с США и провокациям с их стороны? Как точнее оценивать общемировые тенденции, чтобы не сорвать выполнение двух целей столетия внутри страны? И как гарантировать мир и сотрудничество во внешнем мире, которые необходимы стране для дальнейшего развития? Как добиться лучшего понимания китайской политики за рубежом и международного сотрудничества на пути к построению сообщества, стремящемуся к общему будущему для человечества, одновременно оберегая мир и развитие во всем мире? Это ключевые вопросы, стоящие перед Китаем в XXI веке. Выбор КНР относительно направления развития отношений между двумя странами в значительной мере предопределит его ответ на эти вопросы.
Вне всякого сомнения, впереди сложные вызовы, связанные с корректировкой китайской политики и стратегии США. Если американцы предпочтут первый путь, он будет означать лобовую конфронтацию с намерением подтолкнуть взаимоотношения на путь ожесточённой конкуренции. Если такое случится, дальнейшее развитие Китая может серьёзно затормозиться. Как только страны сползут к частичному или даже полному «разъединению», у Соединённых Штатов будет меньше сдержек для принятия крайних мер против Китая, а КНР будет трудно дальше углублять реформы и открывать экономику. Второй путь представляется мягким и умеренным, но, если мы пойдём этим путём, США, вероятно, выдвинут новые требования. Когда давление так называемого «подчинения» международным нормам плавно перетечёт из торгово-экономической плоскости в сферу политики и безопасности, Китай могут принудить стать частью новой мировой системы под руководством Вашингтона.
Необходимо понять, что успех исторических деятелей зависит от того, насколько их мысли и действия вписываются в логику исторического процесса. Оценивая нынешнюю корректировку китайской политики американцами, мы не можем недооценивать тот вред, который может быть нанесён двусторонним отношениям. Сама возможность временного отклонения от правильной траектории развития из-за сознательно неверного истолкования намерений Китая политиками, руководствующимися разными расчётами, способно причинить серьёзный ущерб. Но не нужно переоценивать и способность этих людей обратить вспять исторические тенденции. Как сказал президент Си Цзиньпин, страны постепенно сформировали сообщество общих интересов, общей ответственности и общего будущего. Это объясняется не только естественным ходом экономического развития, но и исторической логикой развития человеческого общества. Президент Си также отметил, что нам следует понять тенденцию нашего времени и эпохи, объективно оценить развитие мира и происходящие в нём перемены, а затем ответственно отреагировать на новое положение дел и новые вызовы в соответствии с имеющимися правилами.
С учётом этих реалий нужно серьёзно размышлять о будущем китайско-американских отношений и планировать их, делая свой выбор и принимая решения, которые оберегали бы фундаментальные интересы Китая и давали ответ на законную озабоченность США. Наши идеи должны также соответствовать приоритетам мирного развития мира. Будучи двумя самыми крупными экономиками мира, страны только выиграют от сотрудничества и потерпят убытки от конфронтации. По этой причине консенсус по поводу необходимости совместных усилий во имя укрепления отношений на основе координации и сотрудничества ради стабильности должны быть для нас принципиальным путеводителем в процессе обдумывания и планирования пути дальнейшего развития наших взаимоотношений.
Желательная перспектива будущих китайско-американских отношений заключается в том, чтобы после периода преодоления проблем и разногласий, а также здравой оценки подлинных интересов сторон, возобладали рациональные консультации с целью формулирования новых стабильных отношений здоровой конкуренции и сотрудничества. Не отказываясь от ограниченной, контролируемой конкуренции, наши страны могут поддерживать сотрудничество по широкому спектру вопросов, сохраняя относительно стабильное развитие двусторонних связей для решения конкретных проблем, взаимодействия в разных областях и в мировой политике.
Реализация этого нового типа отношений между крупными странами, предполагающего доброжелательную конкуренцию, требует серьёзных усилий. Сегодня главный вызов для Китая в том, что нынешняя американская администрация мало заинтересована в выстраивании таких отношений, предпочитая конфронтационный путь. КНР очень трудно направить отношения в описанное выше русло. И нам трудно представить себе положительные сдвиги со стороны США в предстоящие месяцы с учётом президентской кампании. Поэтому выбор Пекина и его действия по подготовке следующего позитивного шага могут сыграть ещё более важную роль в направлении двусторонних отношений в правильное русло.
Сохранять твёрдость и мужество перед лицом соперничества, навязываемого США
Нам нужно научиться сохранять положение относительно равного партнёра при выявлении и разрешении проблем в отношениях с Вашингтоном, беря на вооружение объективный и спокойный подход при оценке обстановки в современном мире. Нам следует правильно использовать свою беспрецедентную силу и мощь, которой мы сегодня обладаем, чтобы формировать будущую мировую повестку. Мы должны наращивать уверенность, решимость и стратегическую проницательность во взаимоотношениях со сверхдержавой.
Корректировка китайско-американских отношений неизбежно пройдёт длительный этап трудных взаимодействий, и Китай не добьётся успеха, если будет о чём-то умолять Америку. Добиться цели можно только путём упорной борьбы, бесстрашной конкуренции и активной координации.
В нынешних отношениях с Соединёнными Штатами Китаю нужно играть более позитивную роль лидера, вводя как можно больше рационально-прагматических элементов на переговорах. Китай может подумать о внесении упреждающих предложений и взятии на себя инициативы по развитию открытого и честного диалога в ключевых областях, которые позволили бы двум сторонам внимательно выслушивать друг друга, снимая обоснованную озабоченность, накапливая необходимый опыт и создавая условия для улучшения взаимоотношений. Следуя этим принципам, нам удалось успешно завершить первый этап китайско-американского торгового соглашения. Итог устроил обе стороны и внёс вклад в долгосрочные взаимоотношения, хотя ни одна из сторон не реализовала все свои желания. Имплементация данного соглашения неизбежно столкнётся с трудностями и сопротивлением. В нынешних условиях давление станет нарастать по мере ухудшения общей атмосферы и эскалации пандемии. Однако риск отказа от соглашения ещё выше, тогда как его эффективная имплементация сможет предотвратить более стремительный упадок во взаимоотношениях. Ради собственных интересов Китаю нужно самым серьёзным образом подойти к имплементации соглашения, поскольку многие из проблем нужно как раз решить в ходе реализации реформ в Китае.
Китай будет решительно оберегать безопасность своего политического устройства и выбранного пути развития. Он должен также противостоять любой попытке вмешательства во внутренние дела. Однако он не намерен уничтожать другие политические системы или воспроизводить американский стереотип навязывания всему миру своих ценностей подобно тому, как США навязывают миру «американский и западный» образ жизни. Для достижения стабильных взаимоотношений в новую эру обеим странам необходимо углублять понимание ключевых интересов друг друга и достоинств своих политических систем посредством конструктивного диалога и переговоров, разбираться с факторами обеспокоенности и снимать их в порядке приоритетности, сформировав консенсус или молчаливое понимание границ дозволенного и наиболее важных аспектов поведения. Необходимо культивировать способность и привычку уважать озабоченности друг друга, проводить обмен любезностями, идти на компромиссы и договариваться о том, что делать с непримиримыми разногласиями и противоречиями в сфере безопасности.
По мере роста китайских ВМС, их намерения и цели будут неизбежно вызывать тревогу у США и других традиционных морских держав. Китай хочет сохранять присутствие своих вооружённых сил и проводить эффективное сдерживание в западной акватории Тихого океана посредством необходимых операций. Также нам нужно выполнять задачи защиты национальной безопасности и поддержания мира в регионе посредством активных консультаций, сотрудничества на море и эффективного управления рисками. Чтобы добиться этого, китайская оборонная политика и цели должны быть более прозрачными, а все стороны – понимать разумные задачи и основные аспекты его военной безопасности.
Мировое стратегическое сообщество хочет знать, смогут ли Китай и Соединённые Штаты договориться о стратегическом балансе сил для мирного сосуществования их вооружённых сил. Хотя сегодня этого пока нет, создание каналов связи в области стратегической безопасности особенно важно в силу того, что обе страны разместили крупные силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Нужно наладить каналы действенной и многослойной коммуникации; одновременно с этим необходимо удвоить усилия в области развития механизмов контроля и управления кризисами во избежание недоразумений и неверных суждений.
Кроме того, хотя Китай не принимает участия в переговорах о ядерном разоружении, в которых задействованы вопросы двусторонних отношений между США и Россией, он всегда был важным элементом мировой системы контроля над вооружениями и участвовал почти во всех важных соглашениях. Китаю следует предпринимать упреждающие шаги в этой области, такие как подталкивание ядерных стран к отказу от нанесения первого ядерного удара, поскольку он отстаивает этот принцип.
У китайского народа всегда получается эффективно решать свои внутренние вопросы и заботиться о своих интересах. Стоя на передовом рубеже науки и технологии, Китай должен попытаться преобразовать колоссальное давление, оказываемое на него Соединёнными Штатами, в стимул для укрепления обороноспособности. В полной мере используя все доступные открытые источники знаний в области науки и технологий, Китай может осуществлять инновации и избавляться от своих «недостатков», чтобы усиливать самодостаточность в сфере технологий и элементной базы. Но ещё важнее наращивать «преимущества» и повышать способность добиваться впечатляющих темпов научно-технического прогресса. Лишь усиливая влияние в сфере технологий и экономических систем, а также поддерживая высокие темпы роста, Китай сможет успешно противодействовать усилиям США в области «разъединения», которые способны лишь расколоть мир. Китаю также следует взять на вооружение непреклонную и своевременно реализуемую стратегию, направленную против разъединения, проводя политику решительной поддержки и углубления всех форм обмена. Все министерства китайского правительства должны делать больше для обеспечения лишь позитивных «сочленений» и «сопряжений» между двумя странами для предотвращения дальнейшего «разъединения».
Нам нужно руководствоваться «Размышлением о дипломатии» Си Цзиньпина, где он разъясняет позицию КНР как защитника и реформатора мирового порядка и системы международных отношений. Всегда высоко держа знамя мирового управления и многостороннего сотрудничества, мы можем использовать «наступление» Китая для ответа на «отступление» Соединённых Штатов. Всячески поддерживая мир и содействуя росту, мы будем ограждать себя от деструктивных действий США, поддерживая импульс для продолжения экономической глобализации.
Когда в мире начнут обостряться проблемы после окончания пандемии, нам следует помогать странам в их решении за счёт более позитивных действий и наделения более широкими полномочиями других участников международных отношений, беря на себя ответственность сотрудничающей державы. Взаимодействуя с другими странами, мы должны развивать взаимовыгодное сотрудничество, содействуя миру и развитию, а также избегая ситуаций с нулевой суммой, когда Китай и США станут конкурировать за благожелательное отношение третьих сторон.
Что касается мировой повестки дня, то когда администрация Трампа снижает инвестиции в определённые сферы, многие страны ожидают, что Китай обеспечит необходимое лидерство. Нам нужно мобилизовать разные отрасли, чтобы они сыграли свою роль в разрешении мировых проблем. В настоящее время созданы механизмы эффективного сотрудничества между правительством и исследовательскими центрами в разных областях, включая изменение климата. На официальном и общественном уровне мы поддерживаем успешное взаимодействие с мировым сообществом, демонстрируя силу сотрудничества. Это может стать планом действий в решении других серьёзных мировых проблем, включая противодействие терроризму, нераспространение ядерного оружия, контроль над оборотом наркотиков, предотвращение транснациональных инфекционных заболеваний, управление с помощью искусственного интеллекта и противодействие транснациональной преступности. Для достижения таких целей нужно развивать действенное сотрудничество между государственными ведомствами и исследовательскими центрами, поощрять международный диалог и совершенствовать способность делиться полезными ресурсами для решения практических проблем.
В области международных контактов нужно улучшать эффективное взаимодействие, поощряя к более широкому использованию СМИ и информационных каналов, активно обучая таланты и исправляя имидж Китая в мировом масштабе. Нам необходимо предоставлять больше информации и материалов непосредственно для международных баз данных, чтобы люди получали фактическую информацию о нашей стране от китайцев, а не из опосредованных источников. В ходе ведущейся сейчас в США президентской гонки республиканцы и демократы широко используют дезинформацию о «китайской угрозе» и «китайском вызове» для привлечения голосов, тем самым эксплуатируя китайскую тематику. Хотя это вызов для КНР, всё не так уж и плохо, поскольку повышенное внешнее внимание даёт Китаю возможность отвечать и развенчивать многочисленные искажения и неточности в подаче информации о нём. Правильное и честное освещение китайской проблематики позволит большему числу американцев и жителей других стран узнать о реальном положении дел и о том, что думают китайцы по разным вопросам.
Если коротко, Китай вырос из сравнительно слабой страны в довольно сильную державу, оказывающую всё более сильное влияние на мировое сообщество. Он вступил в период, когда нужно двигаться к более открытой и широкой внутриполитической и дипломатической платформе, чтобы продемонстрировать свои новые и уже имеющиеся преимущества, а также более широкие интересы. Управление отношениями с США также должно отражать эти перемены.
Профессор Грэм Эллисон из Гарвардского университета провёл важное исследование, чтобы выяснить, существует ли «Фукидидова ловушка» в отношениях между Китаем и Соединёнными Штатами? В последнее время он переместил акцент своих исследований на эффективные решения, позволяющие избежать конфликтов между двумя странами, а также инициировал проект под названием «Есть ли у вас Большая стратегия, чтобы ответить на вызов Китая?» Это не единственное исследование подобного рода в США. Нужно ли и китайским стратегическим кругам предпринять какие-то действия для изучения «Больших стратегий для ответа на вызовы Америки?». Думаю, что да.
Эта статья любезно прислана коллегами из Центра международной безопасности и стратегии при Университете Циньхуа.

ПЕРСПЕКТИВЫ-2021
ТЬЕРРИ ДЕ МОНБРИАЛЬ
Основатель и президент Французского института международных отношений (IFRI), основатель и председатель Конференции по мировой политике (World Policy Conference).
Обзор Тьерри де Монбриаля – вступительная статья к ежегодному сборнику Ramses, издаваемого Французским институтом международных отношений. Данный материал написан для следующего выпуска.
Пандемия COVID-19 – уникальное явление в современной истории. Ни одна эпидемия с начала века (коровье бешенство, птичий грипп, вирус H1N1, коронавирусы SARS и MERS, лихорадки Эбола, чикунгунья, Зика и другие), не говоря уже о боязни биотерроризма (сибирская язва), не превратилась в глобальный катаклизм. Некоторые из этих вспышек вызывали панику, каждый раз будто застигая мир врасплох. Худшего не случалось, поэтому о необходимости готовиться к этому худшему, которое рано или поздно произойдёт, каждый раз тут же забывали. С этой точки зрения, COVID-19 – не самое страшное: вирус контагиозный, но имеет довольно низкий уровень смертности, хотя, по-видимому, вызывает патологии.
Ключевой момент – неспособность общества организовать превентивную подготовку к предсказуемым, но точно неопределённым по срокам потрясениям, потому что люди забывают о пережитых шоках, которые могут повториться в будущем. Например, гиперинфляция 1923 г. осталась в коллективной памяти немцев, но европейцы забыли об эпидемии испанки, разразившейся в конце Первой мировой войны и унесшей не меньше жизней. Спустя 30–40 лет в учебниках истории испанка уже не упоминалось. Кстати сказать, испанским грипп был только по названию, на самом деле вирус происходил из Америки, как COVID-19 – из Китая. Главное, что вирусное заболевание приводило к бактериальной суперинфекции, которая являлась основной причиной смерти. Антибиотиков тогда не было. Понятно также, почему азиаты, чаще сталкивающиеся с эпидемиями, чем жители западных стран, оказались лучше подготовлены и действовали более эффективно (маски, тесты и так далее).
Наследие кризисов
Начну с рассмотрения предполагаемой уникальности пандемии COVID-19. Предполагаемой, потому что в некоторой степени этот эпизод напоминает три других, которые, несмотря на все различия, потрясли международную систему в период, когда идеология либеральной глобализации находилась на подъёме. Это финансовые кризисы 1997-го и 2007–2008 гг. и теракты 11 сентября 2001 года.
Последний в XX веке финансовый кризис
Он начался в Таиланде весной 1997 г. и распространился на Восточную Азию, Россию и даже Латинскую Америку настолько быстро, что его без преувеличения можно назвать эпидемией. В то время либеральные лидеры говорили о финансовых рынках, как о живых организмах, мыслящих более рационально, чем человек. Специалисты с математическим складом ума создавали модели, получали Нобелевские премии и способствовали нескольким крупным банкротствам. Нас прежде всего интересует объяснение, как начинается финансовый кризис. В июле 1998 г. я писал: «Упрощая аргументы американского экономиста Пола Кругмана, можно сказать, что государственные и частные финансовые посредники, убеждённые, что государство так или иначе покроет любые убытки, занимались сомнительными, плохо продуманными и нередко теневыми инвестициями, особенно в сфере недвижимости. Это привело к инфляции, которая сначала касалась портфелей активов. Однако общий уровень цен оставался относительно стабильным, и критерии хорошего государственного финансового менеджмента (бюджетного и монетарного), казалось бы, соблюдались. Высокий дефицит текущего платёжного баланса вроде бы соответствовал темпам роста. По той же причине рост стоимости активов не вызывал беспокойства и списывался на спекулятивную природу».
Этот анализ базируется на двух важных идеях. Во-первых, на том, что эксперты по рискам называют угрозой недобросовестности: чем больше вы думаете, что защищены от последствий рискованных действий (в данном случае со стороны финансовых институтов), тем выше ваша беспечность и вероятность риска. Во-вторых, моральная недобросовестность одновременно способствует незаконным действиям. И, наконец, когда ультралиберальная идеология находится на пике и поддерживается влиятельными лобби, тревожные голоса не слышны. Не все могут придерживаться внесистемной идеологии и быть законопослушными гражданами. В случае с «пузырями», когда дисбаланс растёт, достаточно одной искры, чтобы разрушить ожидания. Затем стадный менталитет вызывает панику, которая распространяется со скоростью информации или слухов. Именно это произошло в конце прошлого века и повлекло за собой цепь экономических и политических последствий, включая падение режима Сухарто в Индонезии.
Второй вопрос, который сразу приходит в голову, – выявление дисфункций, вызывающих подобные кризисы. В случае с Таиландом (вновь цитирую свой текст от июля 1998 г.) МВФ винили в «неспособности диагностировать риски и их усугублении, поскольку сначала государства-авантюристы убеждали в том, что помощь всегда придёт, а потом предлагали неадекватное лечение». Конечно, я был слишком критичен. На самом деле международные организации не могли быть выше или даже на одном уровне с государствами, которые по-прежнему сильно привязаны к собственному суверенитету, особенно если могут его использовать. Несмотря на огромные ресурсы, МВФ сам зависел от стран-членов и их дипломатических отношений. Ни одна международная экономическая организация не имела полномочий аудитора, ответственного за сертификацию счетов компании. Государства могут публиковать любые цифры, а возможность манипулировать ими ограничивается только их собственными политическими институтами и представлениями о своей надёжности. В свою очередь, МВФ или Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) должны проявлять осторожность, не только чтобы избежать критики со стороны наиболее влиятельных государств, но и чтобы не провоцировать кризисы публичным предупреждением о них. Рейтинговые агентства не подвержены таким рискам, однако их возможности ограничены. Прежде всего, они не обладают такой легитимностью и могут стать объектом жёсткой критики. Тем не менее их позиция оказывает реальное (иногда преувеличенное) воздействие на условия заимствования.
Самое важное – позвольте вновь процитировать «Перспективы» 1998 г. – заключается в следующем: «Проблема организации так называемой международной экономической безопасности не сильно отличается от военно-политических отношений, где крупные государства постепенно наладили процедуры обмена информации, выходящие далеко за рамки деклараций правительств. Примером могут служить механизмы верификации, предусмотренные соглашениями об ограничении вооружений или Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Удивительно, но в сфере экономических отношений мы продвинулись не так далеко. Как мы видим, государства часто действуют, руководствуясь националистическими побуждениями. Разоблачение уязвимости финансовой системы неизбежно поставит под вопрос целый ряд практик, включая коррупцию, которая серьёзно затронула правящие классы. Но, как и в военно-политических делах, это вопрос безопасности».
Я подробно остановился на финансовом кризисе в Таиланде, поскольку считаю, что он поднимает вопросы глобального управления, которые можно перенести и на здравоохранение. Очевидно, структурная стабильность международной системы, которая стала настолько взаимозависимой, вступает в противоречие с потребностью государств в абсолютном суверенитете касательно контроля медицинских данных, выявления вспышки заболевания и организации чрезвычайных мероприятий на всех стадиях эпидемии. Иными словами, необходимо реальное глобальное управление. Оно предполагает определённый обмен суверенитетом (выражение, часто используемое в отношении Евросоюза), а также институты, способные разработать и реализовать глобальные стратегии и наделённые широкими полномочиями в период до и после крупных кризисов в сфере здравоохранения.
До пандемии COVID-19 немногие – за исключением небольшой группы экспертов – понимали, чем занимается Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Вряд ли кто-то задумывался об ограниченности её возможностей. Более того, ВОЗ в значительной степени зависит от информации, предоставляемой государствами. Она может публиковать стандарты и заявления, которыми, кстати, не стоит пренебрегать. Здравый смысл позволяет предположить, что жуткий шок от нынешней пандемии даст возможность создать новую, более прочную архитектуру международного управления в сфере здравоохранения.
Какой мультилатерализм?
Если вернуться к моменту учреждения институтов Бреттон-Вудской системы, мы увидим, что их успех зависел от двух взаимодополняющих факторов: незаинтересованности Советского Союза и объединения западного лагеря вокруг реального лидера – США. Здесь стоит отметить, что слово «мультилатерализм» многозначно. Надо различать мультилатерализм в широком смысле с точки зрения международного права, мультилатерализм западной системы в период холодной войны, организованной вокруг Бреттон-Вудских институтов и Североатлантического альянса, и региональный мультилатерализм, выстроенный после Римского договора 1957 г. вокруг идеи Европейского сообщества (переименовано в Европейский союз по Маастрихтскому договору). Международное право – важная, хотя и слабая, опора мультилатерализма. В отсутствии естественного лидера углубление европейской интеграции требует мощного, априори противоестественного мультилатерализма. На практике обязательное условие будущего ЕС – способность Франции и Германии договориться на фоне постепенного уменьшения экономической мощи Франции.
Проблема в том, что степень мультилатерализма в рамках ассоциации государств снижается пропорционально идеологической и политической неоднородности её членов. Расширяющийся раскол между либеральными демократиями (которые и сами становятся более неоднородными) и так называемыми нелиберальными демократиями и авторитарными режимами (их несколько видов) подрывает управление международной системой в целом. Если сегодня глобализация находится на спаде, то только потому, что основные взаимодействующие акторы воспринимают друг друга как соперников. Они не хотят системного сотрудничества, которое предполагает статус-кво, то есть существование системы, нуждающейся только в сохранении или укреплении. В сфере здравоохранения отправной точкой является низкий уровень сотрудничества, поэтому его укрепление отвечает интересам всех государств и пойдёт на пользу, даже если взаимозависимость будет снижаться.
Ипотечный кризис и другие сравнения
Пропустим пока 11 сентября 2001 г. и сосредоточимся на кризисе субстандартного кредитования 2007–2008 гг., который стал раздутым по масштабам повторением тайского эпизода. Не буду останавливаться на огромной ответственности США, которая сопоставима или даже превышает ответственность Китая за пандемию COVID-19. Соединённые Штаты, которые уже не являлись лидером, но продолжали оказывать влияние на остальной мир, не стоит критиковать слишком жёстко. Процитирую «Перспективы» от июля 2009 г.: «Кредитный кризис стал непосредственной причиной системного коллапса по наихудшему сценарию. Рынки прекратили функционировать, и экономика оказалась парализована. Из-за новых стандартов в бухгалтерии компаний стало невозможно разобраться. Росло недоверие. Сначала правительства запаниковали. Джордж Акерлоф и Роберт Шиллер придали современное звучание идее Кейнса об иррациональном начале в экономике (animal spirits). К счастью, центробанки, в первую очередь ФРС США и ЕЦБ во главе с Беном Бернанке и Жан-Клодом Трише соответственно понизили ключевые ставки и пошли на «нетрадиционные» меры, предоставив помощь терпящей крах банковской системе».
Касательно этого монументального кризиса отмечу три пункта.
Во-первых, он бы не случился, если бы система – фактически США – извлекла уроки из тайского кризиса.
Во-вторых, что объясняет первое, в мире, где прав тот, кто сильнее, в результате кредитного кризиса пострадали другие. Следствием стал кризис в Евросоюзе, но еврозона извлекла из него пользу благодаря укреплению системы управления, что говорит о способности ЕС двигаться вперёд в тяжёлые времена.
В-третьих, лучшая аналогия экономического воздействия пандемии COVID-19 – кредитный кризис. В обеих ситуациях рынки, понимаемые как взаимодействие спроса и предложения, рухнули: в первом случае финансовые, во втором – реальные. Часто проводят сравнение с послевоенным периодом. Но мне оно кажется некорректным, потому что в 1945 г. уничтожены материальные средства производства (и отчасти люди). Со времён Джона Стюарта Милля мы знаем, что после войн рост идёт быстрее, потому что выжившие стремятся всё восстановить, особенно если им удаётся получить помощь извне, как Европе по плану Маршалла после 1945 года. С социальной точки зрения нынешняя ситуация тоже серьёзно отличается. В Европе я не вижу стремления к восстановлению, есть только желание каждой группы сохранить преимущества.
Если поискать другие сравнения в современной истории, я бы предложил события другого масштаба и другого времени: бывшие соцстраны, вступившие в ЕС после краха советской системы, или новые независимые государства, возникшие на её обломках. В обоих случаях, используя ту же терминологию, можно сказать, что рынки прекратили функционировать без физического уничтожения и перестраивались в совершенно иных условиях (и с совершенно иными результатами с точки зрения распределения богатства) в зависимости от внутри- и внешнеполитической ситуации. Позже мы вернёмся к экономическому и социальному воздействию пандемии, но важно отметить, что ни одно государство на планете не заинтересовано в срыве сотрудничества по вопросам здравоохранения, если оно может предотвратить повторение катастрофы, подобной нынешней.
Шок 11 сентября
Сравнение с 11 сентября 2001 г. кажется мне правомерным по крайней мере по трём причинам.
Во-первых, оба потрясения стали «чёрными лебедями». Со времён книги Нассима Талеба так мы называем тяжёлые потрясения, которые ничто не предвещало и после которых мы оказываемся в замешательстве и пытаемся осмыслить случившееся. С этой точки зрения не важно, является потрясение разовым или длительным, в случае с COVID-19 – от первого заражения до эпидемии.
Во-вторых, 11 сентября имело долгосрочные политические и экономические последствия, но не изменило иерархию сил.
В-третьих, шок поменял наше представление о гражданских свободах.
Идея «чёрных лебедей» для меня сложная, поскольку я не вижу множества убедительных примеров потрясений, которые ничто не предвещало. Многие люди, включая писателя Тома Клэнси представляли себе атаки, подобные 11 сентября. Кроме того, как я уже говорил, эпидемии, подобные COVID-19, предполагались и прогнозировались. В том числе самим Талебом. А Билл Гейтс казался алармистом, когда в своей лекции в 2015 г. говорил, что вирусы представляют большую угрозу для мира, чем ядерное оружие.
Можно привести и другие примеры. Конечно, бомбардировки Хиросимы и Нагасаки невозможно было представить себе до открытия атомной энергии, но многие и до Эйнштейна «предсказывали» использование того, что сегодня мы называем оружием массового уничтожения. С точки зрения принципов статистической физики, вероятность подъёма тяжёлого объекта без воздействия внешней силы чрезвычайно мала, но не равна нулю. В этом смысле даже воскрешение мёртвых нельзя считать невозможным. Главная проблема с прогнозированием заключается в том, какое внимание люди должны уделять событиям, вероятность которых кажется им небольшой. Это психологический аспект, а не технический или научный. И с научной, и с психологической точки зрения невозможно представить, что с нами случится за день: авария скутера, разрыв аневризмы, нападение и так далее. Это касается и жизни человека, и институтов.
Тем не менее COVID-19, как 11 сентября, обнажил дисфункции, которые все осознали постфактум (но не все хотели искать виновных). Во многих странах, считавшихся развитыми, неожиданной оказалась нехватка масок, лекарств, медицинского оборудования. Другая сторона той же медали – когда случается потрясение, люди склонны думать, что очень скоро всё повторится. Кто 12 сентября 2001 г. не задумывался об атаке на мост «Золотые ворота» или о новых терактах в Вашингтоне, Нью-Йорке и других крупных городах? Так и сегодня люди боятся второй волны пандемии. В прошлом однозначного ответа не было. Сегодня ситуация иная, потому что мы больше знаем об истории эпидемий. В любом случае воспроизведение уже пережитого риска происходит более активно, чем риска только воображаемого. И это опять же касается и людей, и институтов.
Как гласит африканская поговорка, тот, кто слышал о пантере, бежит не так быстро, как тот, кто её видел.
Среди множества идей следует также отметить связь между эволюцией общественного мнения, восприятием рисков изменения климата и рациональностью мер, рекомендуемых или реализуемых властями. В политике и психологии желание не всегда совпадает с пониманием. Это известно со времён Святого Августина и Блеза Паскаля.
После «чёрных лебедей» я упомянул политические и экономические последствия потрясений. Кадры от 11 сентября 2001 г., как самолёты врезаются в башни-близнецы, и они рушатся, вызвали в мире шок, глобальную волну эмоций и солидарность с США – даже в России и Китае, странах, столкнувшихся с исламским терроризмом раньше, чем мы. Следует отметить два важных отличия от ситуации с COVID-19. Первое – неожиданная, беспрецедентная атака была видна всем. Второе – невидимый, но вездесущий вирус постепенно распространялся по всему миру. В одном случае источник атаки – Усама бин Ладен и «Талибан» (запрещено в России – прим. ред.) – был идентифицирован почти сразу. В другом – возникло смятение из-за неизвестного вируса, обстоятельств его появления у некоторых видов животных и таинственной передачи человеку.
Изначальные различия дополняются политическими. После 11 сентября американцы объединились вокруг президента, как это всегда происходило в истории Соединённых Штатов, мощь которых основывается не только на суверенитете, но и на патриотизме. Это мы вновь увидели в 2003 году, когда Джордж Буш – младший начал войну с Саддамом Хусейном. Пандемия коронавируса началась в момент, когда из-за неравенства американцы оказались разобщёнными – наверное, впервые настолько со времён Гражданской войны. Последние двадцать лет пожары бушевали в обеих политических партиях. Возникли радикально настроенные силы: в одной неосоциалисты, в другой неоконсерваторы. Избрание Дональда Трампа было бы невозможно без этой двойной поляризации и в итоге усугубило противоречия. Когда появился вирус, нынешний хозяин Белого дома, считая Америку неуязвимой, одарил презрением всех, включая американских союзников и особенно Китай, стремясь укрепить свои позиции в конфликте с Поднебесной. На следующий день после 11 сентября Буш указал на страну-виновника – Афганистан. В 2020 г. Трамп указал на Китай, утверждая, что Си Цзиньпин создал COVID-19, чтобы ослабить своих соперников, несмотря на риск «самозаражения». По ходу он ещё обвинил ВОЗ в том, что она действует по приказу из Пекина.
Из-за бредней Трампа США серьёзно пострадали от пандемии, и единственная мировая супердержава теперь не может скрыть свою уязвимость и беспомощность. Более того, для всего остального мира Америка – временно – превратилась в изгоя. К невезению добавилась гневная риторика президента, который тем не менее сохранил поддержку базового электората. Пока его переизбрание в ноябре кажется вполне возможным, если экономика выдержит удар, несмотря на его стиль управления. Недавно вышел бестселлер неоконсерватора Джона Болтона. Это не памфлет, а большая, тщательно задокументированная книга. Что бы вы ни думали об идеологии автора (другой вопрос) важность книги очевидна. На сегодняшний день ясно одно: президентская кампания этого года беспрецедентна. Да и можно ли её называть кампанией? Джо Байден ещё может проснуться после пика эпидемии, но пока его стиль – бездействие, стратегия, более подходящая буддистским монахам. Под давлением левого крыла партии он также постепенно отступает от американских центристских традиций.
Именно этой традицией объяснялось единство американцев в прошлом. Я как-то представил Соединённые Штаты, как глазунью, плотно заполненная середина которой – это центр, края же скорее эксцентричны, что даёт возможность выпустить пар, а нонконформистам избежать уничтожения системой. Для тех, кто жил в Беркли среди хиппи в 1967–1968 гг., во время войны во Вьетнаме, много общался с белыми англосаксами-протестантами, эта картинка говорит о многом. Она позволяет понять святость Конституции и сплочённость вокруг президента перед лицом внешней угрозы. Но что происходит сейчас? Раскол из-за растущего неравенства? Главная угроза единственной супердержаве исходит изнутри, а не извне? Беспорядки после убийства Джорджа Флойда и невероятная реакция, включая разрушение памятников и пересмотр национальных постулатов, заставляет нас задавать эти вопросы. Я бы только добавил, что США не единственная страна, политические ритуалы которой разрушил коронавирус.
КНР была вынуждена перенести сессию Всекитайского собрания народных представителей, Россия – парад 9 мая и референдум по Конституции, Франция – второй тур муниципальных выборов. Также во Франции военный парад в День взятия Бастилии заменила трогательная церемония в честь медицинских работников. Но все эти примеры блекнут на фоне происходящего в Америке.
Кто бы ни стал президентом, это будут странные выборы. И эта странность не уменьшает их неопределённости.
А теперь несколько слов о сравнении 11 сентября с нынешней пандемией с экономической точки зрения. В 2001 г. были разрушены только башни-близнецы и часть Пентагона. Погибло несколько тысяч человек. Рынки быстро восстановились. С потрясением удалось справиться благодаря американскому патриотизму, который творит чудеса. Конечно, меры безопасности в аэропортах, общественных местах и так далее были тщательно пересмотрены. Кто-то, наверное, ещё помнит, что можно было улететь из Вашингтона в Нью-Йорк без предварительной регистрации. Просто бросить сумку на багажную ленту и пройти на посадку. Нужно было только проверить наличие мест. После 11 сентября изменилась не экономика и даже не экономика авиакомпаний, которые продолжили стабильный рост. Реальные изменения касались социальной сферы – ограничения свобод. Мы вернёмся к этой теме позже.
Экономические вызовы, обусловленные COVID-19, кардинально отличаются от ситуации после 11 сентября. Пока мы можем говорить только в общем, потому что пандемия продолжается, особенно на американском континенте. И ещё хотелось бы отметить один факт касательно кризиса 2007–2008 гг.: структурный ущерб от нынешних событий будет гораздо выше, даже в США. Более того, масштабы невозможно оценить, пока пандемия не прекратится.
COVID-19 как катализатор и фактор долгосрочного воздействия
Большинство аналитиков согласны, что пандемия стала катализатором трендов во всех сферах, можно даже сказать, обнажила их. В экономике компании, уже испытывавшие трудности – например, ритейлеры, пойдут ко дну быстрее. Везде под влиянием национализма будут сокращаться и диверсифицироваться цепочки поставок из-за политических рисков и угрозы срывов поставок. Некоторые виды деятельности будут перенесены на побережье (преимущество для стран Восточной и Южной Европы). Произойдёт отказ от поставок по принципу «точно в срок». Кроме того, можно ожидать дальнейшего спада международных и даже национальных авиаперевозок, а также увеличения видеоконференций, к которым компании привыкли за время локдауна.
Вероятна большая политизация мировой экономики, то есть более тесная корреляция между геополитикой, геостратегией и геоэкономикой, что заметно уже сейчас. Государства будут открыто защищать компании, которые считают «стратегическими», или по крайней мере критические точки их деятельности. Пострадает законодательство о защите конкуренции. Возможна гонка за субсидиями между Boeing и Airbus, а на заднем плане уже будут маячить китайские авиастроители. Это очень чувствительный вопрос, потому что в авиаотрасли трёхсторонняя олигополия нежизнеспособна. В результате возникнет дуополия. Хотя сейчас трудно представить, что такая страна, как Китай, откажется от индустриальных амбиций или что Boeing, ослабленный до коронавируса из-за катастрофы B737 Max, позволит Airbus себя купить. В любом случае прямые инвестиции и перемещение людей сократятся.
Вернусь к исключительно медицинскому аспекту первых месяцев кризиса. Наименее подготовленные страны вдруг обнаружили, насколько они зависимы от поставок масок, медицинского оборудования, таких препаратов, как парацетамол, и веществ, используемых в анестезии. Государства, даже союзники, готовы были перегрызть друг другу глотки за поставки медицинских товаров. Либеральные экономисты и подумать не могли о таком сценарии, если речь не шла о стратегических запасах.
Экономика и управление обществом
Кризис обнажил и другие проблемы, которыми не следует пренебрегать. Некоторые страны решили тратить деньги, не задумываясь о стоимости поспешных мер. Как выразился президент Франции Эммануэль Макрон, «за любую цену». Статистика показывает, что тяжелобольные пациенты с коронавирусной инфекцией имеют осложнения, обусловленные образом жизни, что в итоге ложится на плечи общества. Несмотря на табу, страховщики рано или поздно поднимут вопрос: какую ответственность общество готово брать за своих членов, не претендуя на контроль над ними? При этом в Азии уже действуют механизмы отслеживания — наиболее жёсткие в Китае. Сама постановка вопросов, предполагающих моральные риски, вызовет гнев тех, кто утверждает, что жизнь бесценна, и якобы не знает, что она имеет стоимость. Иными словами, пандемия COVID-19, скорее всего, вызовет дебаты об экономике здравоохранения, в которых этика и политика по-прежнему будут играть значимую, но не ведущую роль.
Этим воздействие пандемии не исчерпывается. Возможен возврат к прежней форме международной экономики, где происходит обмен товарами, но ограничено перемещение факторов производства (капитала и трудовых ресурсов в классической терминологии). Именно поэтому ВТО, в 1995 г. пришедшая на смену ГАТТ (Генеральному соглашению по тарифам и торговле), называется Всемирной торговой организацией, а не Всемирной организацией экономического обмена. Во многих странах происходящие сейчас изменения приведут к временной безработице, которая будет выше и продлится дольше, чем ожидалось до пандемии.
Беспрецедентный объём денег закачивается в экономику, поскольку «нетрадиционная» политика, проводимая центробанками после кризиса 2007–2008 гг., не дала негативных результатов (инфляции). Это позволило избежать худшего – цепной реакции банкротств структурно значимых компаний, а также главного кошмара – схлопывания глобальной экономики, которая могла рухнуть как карточный домик, как это произошло в России в 1990-е гг., но уже в планетарном масштабе. Страшно представить, что могло произойти дальше. Центробанки вновь отреагировали адекватно, но даже грамотные действия имеют обратную сторону. В данном случае это взрыв государственных долгов.
Беспрецедентность нынешнего кризиса в его одновременности по всему миру. Плюс тот факт, что он случился после достаточно длительного периода стабильных цен, которые поддерживались благодаря повышению конкурентного давления в развитых странах, особенно по зарплатам, учитывая открытие трудовых ресурсов развивающихся экономик. Даже при частичной деглобализации реальная инфляция или стагфляция, о нежелательных эффектах которой жители Западной (или скорее Юго-Западной) Европы забыли, может вновь вернуться в западные страны. В остальном мире социально-политические проблемы продолжат нарастать. С точки зрения Европы, особое внимание нужно уделить Африке, которой пока удаётся противостоять вирусу, но она страдает от экономических последствий пандемии. Строить математические модели на бумаге просто – создаётся иллюзия жизнеспособности экономики при вечно растущем госдолге, и некоторые неокейнсианцы не отказывают себе в этом удовольствии.
Структурная экономическая политика государств должна внушать достаточно доверия, чтобы позволить им себя рефинансировать с помощью межгосударственных трансферов, оправданных политическими причинами, или с помощью заимствования на финансовых рынках. Если доверие исчезнет, восстановить его будет очень трудно. Для чистоты анализа нужно различать внутренний и внешний долг.
Чтобы преодолеть постковидный период, потребуется более инновационное международное экономическое сотрудничество. А для этого нужно участие всех крупных государств, добиться которого будет непросто.
Тут мы возвращаемся к вопросу глобального управления, который стоял на повестке дня задолго до пандемии из-за колоссальной потери доверия в сочетании с беспечностью и самоуверенностью мировых лидеров, начиная, к сожалению, с главы самого мощного государства, который, казалось бы, должен подавать пример. Постоянные оскорбления, вульгарность, поиск козлов отпущения – часть привычного арсенала популистов. Нельзя также отрицать, что развитие соцсетей способствовало распространению оскорблений, информационных фальшивок и возврату к законам джунглей, где благородный дикарь Руссо чувствовал бы себя неуместно.
Но если международные отношения превратились в кулачный бой, где эмоции (или воля – по выражению Паскаля и Августина) преобладают над разумом в период, когда сотрудничество необходимо как никогда, риск Третьей мировой войны становится более отчётливым.
Как сбалансировать свободу и безопасность?
Эту часть «Перспектив» я бы хотел закончить несколькими фразами о гражданских свободах. Не углубляясь в историю (здесь я имею в виду XX век), можно сказать, что первый удар был нанесен терактами 11 сентября и – в более широком смысле – распространением исламского терроризма. Вопрос, как найти правильный баланс между свободой и безопасностью, в демократических странах возникает практически каждый день. В каждой по-своему. Американцы считают ношение огнестрельного оружия фундаментальным правом, для французов это неприемлемо. Со временем на фоне постоянной цифровой революции, внедрения искусственного интеллекта и использования больших данных те, кто особенно заботится о гражданских свободах, де-факто становятся объектами масштабной, широко распространенной слежки. Добропорядочные будут только приветствовать, если целью станет борьба с уклонением от налогов. Но если это будут делать для слежения за всеми передвижениями и образом жизни людей в случае медицинского кризиса, чтобы разрешить или запретить им доступ к медпомощи, возникнет сопротивление. Как далеко авторитарные, но демократические государства могут зайти в контроле за своими гражданами?
Нравится нам это или нет, но эти острые вопросы возникают не из-за 11 сентября или пандемии. Дело в прогрессе технологий и конкуренции технологических лидеров. Усложнение мира в отсутствии адекватного управления спровоцирует появление фальшивых «чёрных лебедей». Я часто говорю о риске цифровой пандемии. В любом случае в масштабах истории такие события, как финансовые кризисы, теракты 11 сентября и COVID-19, могут быть не только причиной, но и следствием изменений в мире.
Задуматься о геополитике и геоэкономике
В средне- и долгосрочной перспективе пандемия раскроет уже наметившиеся тренды во многих сферах. В первую очередь это касается эволюции международной системы в целом. В прошлогодних «Перспективах» (июль 2019) я особо подчеркивал идею о том, что соперничество Китая и США станет структурным феноменом ближайших десятилетий. Феноменом, который можно анализировать как конфронтацию двух противников. Французский институт международных отношений (IFRI) выбрал эту тему для 40-й конференции в Сорбонне 10 апреля 2019 года. Тогда (так близко и так давно) подобный взгляд на мире ещё не стал банальным. Обострение торговых войн, жёсткая риторика сторон и конспирологические теории вокруг китайского вируса, ухудшение ситуации в Гонконге и агрессивные заявления Пекина делают наши тогдашние суждения очевидными. Есть понимание, что в соперничестве двух супердержав нового мира контроль над информационными и коммуникационными технологиями, включая 5G, станет решающим фактором.
Поэтому в войне слов, значение которой в истории человечества нельзя недооценивать, всё чаще звучит не только «геополитика», но и «геоэкономика». Чем ближе к центру силы, тем больше они переплетаются. Цифровая власть предполагает контроль над составляющими технологий – программным обеспечением и оборудованием или, по крайней мере, над критически важными точками – соединениями в системе, что должно помочь государству избежать зависимости от внешних сил. Для государств это означает очень тесное взаимодействие правительства и индустрии. В 1960-е гг. много говорили о военно-промышленном комплексе. Сегодня это выражение кажется ограниченным, если не включает цифровые возможности в самом широком смысле, потому что в итоге тот, кто доминирует в технологиях, будет доминировать во всём мире. Поэтому сейчас нужно говорить о военно-цифровом промышленном комплексе, который должен обеспечивать неявные связи между крупными государственными и частными поставщиками и покупателями инструментов технологической силы. Совершенно очевидно, что такой комплекс существует в Китае и он абсолютно непроницаем для посторонних как знаменитый Запретный город. В США он тоже есть и скрыт за якобы прозрачным экраном. Другие страны, в том числе Россия и Израиль, расширяют свои возможности, создавая военно-цифровые комплексы на разных уровнях. С точки зрения мировой иерархии сил – чем слабее политическая составляющая, тем меньше вероятность появления военно-цифрового или военно-цифрового промышленного комплекса.
С этим вызовом нужно справиться Евросоюзу, чтобы обеспечить своё политическое присутствие в мире, где доминируют Вашингтон и Пекин, и не превратиться в поле битвы двух противников. Прежде чем закончить эту часть, хотелось бы проиллюстрировать роль COVID-19 как катализатора в двух взаимосвязанных реальностях. Первый пример – ужесточение властями Китая контроля за населением для борьбы с эпидемией. Пекин – и это вторая реальность – уже активно следит за гражданами, которые получают баллы за своё поведение (от количества баллов, разумеется, проистекают различные последствия). Демократические государства должны задать себе два вопроса: до какой степени общество может терпеть контроль, учитывая идеи свободы, и при приемлемом уровне контроля – до какой степени оно может зависеть от внешнего мира?
Вторая реальность вынуждает вернуться к классической геополитике. Гонконг находится в неспокойном состоянии уже год. Ситуацию можно сравнить с другими антисистемными движениями, как «Жёлтые жилеты» во Франции, «Хирак» в Алжире, протесты в Ираке и продолжающаяся мобилизация в Ливане. У них разные цели, но всех объединяет одно – цифровые технологии (соцсети с одной стороны и полицейский контроль с другой). В любом случае «Жёлтые жилеты» так и не вернулись в топы новостей после демонстраций против пенсионной реформы и особенно пандемии. В Алжире вирус также ослабил протесты, хотя движение «Хирак» добилось отставки президента Абделя Азиза Бутефлики, но новая система пока очень напоминает старую. Ливан находится на грани краха. Система серьёзно поражена, но пока не рухнула. «Хизбалла» выжидает. В Гонконге ситуация иная. КНР не отступит по целому ряду причин. 2047 год – дедлайн по передаче бывшей британской колонии – далеко, но он неизбежно наступит, и никто не хочет воевать с Китаем из-за нарушения соглашения 1997 года. Экономическая элита Гонконга уже давно присягнула Пекину, и мощь региона постепенно снижается, в то время как Шэньчжэнь и Шанхай наращивают обороты. Кроме того, центральное правительство обладает возможностями, чтобы контролировать всё население специального автономного района – так жёстко, как посчитает нужным. Да, за репрессии придётся заплатить высокую цену. Пекин заботится о своём имидже и не приветствует такие шаги, как предоставление британского гражданства жителям Гонконга или экономические санкции. Но в руководстве КНР понимают, что цена будет гораздо выше, если Пекин отступит, потому что тогда он потеряет Тайвань.
Мы должны быть готовы к жёсткому соперничеству США и Китая, которое повлечёт за собой частичную деглобализацию, а в рамках НАТО – к увеличению давления Вашингтона на европейцев, чтобы перетянуть их на свою сторону.
Некоторые попытаются найти баланс, склоняясь, как сказал бы Дэн Сяопин, на 70% в сторону Америки и на 30% в сторону Китая. Но это, конечно, фигуральное выражение.
Евросоюз становится геополитическим?
Тут мы переходим к ЕС. За прошедший год (с моих прошлых «Перспектив») мы увидели ряд ярких событий. После парламентских выборов в конце мая 2019 г., которые оказались не такими катастрофичными, как ожидалось, и трудных переговоров новый состав Еврокомиссии приступил к работе 1 декабря. В неё вошли значимые фигуры: председатель Урсула фон дер Ляйен, вице-председатель по цифровым вопросам Маргрет Вестагер, верховный представитель по внешней политике и обороне Жозеп Боррель и комиссар по внутренним рынкам Тьерри Бретон. Новая Еврокомиссия, которая, по мнению председателя, должна быть «геополитической», осознаёт быстрые и глубинные изменения в мире и понимает, что Европа больше не может прятаться под американским зонтом. Боррель выступает за стратегическую автономию. И все они признают значимость общих индустриальных проектов (прежде всего в цифровых технологиях) и необходимость защищать стратегические сектора, особенно от китайского проникновения. Однако пандемия коронавируса разразилась спустя всего три месяца после начала работы новой Еврокомиссии, добавив ещё один кризис к пережитым ЕС за последние десять лет: кризис в еврозоне, кризис с беженцами и Brexit. И каждый раз оказывается, что король голый – теперь выяснилось, что у Еврокомиссии нет серьёзных полномочий в сфере здравоохранения (кто слышал заявления комиссара, теоретически ответственного за здравоохранение, гречанки Стеллы Кириакидес?). Именно поэтому Италия почувствовала себя брошенной.
В истории Евросоюза трудности часто (хотя медленно) ведут к прогрессу. Ангела Меркель умело обошла постановление Конституционного суда по политике ЕЦБ, которое могло стать губительным, и договорилась с Эммануэлем Макроном о пакете мер (их ещё нужно реализовать) на общую сумму 750 млрд евро, которые должны ускорить экономическое восстановление стран, наиболее пострадавших от кризиса. Как обычно, это южные члены ЕС. С привычным прагматизмом канцлер, аура которой достигла пика к концу четвёртого срока, заявила, что коллапс Европы не в интересах Германии. Европа не распадётся, пока другие члены блока будут на это согласны. А это значит, что на континенте у Британии не будет последователей.
Невозможно говорить о стратегической автономии, не упомянув НАТО. 7 ноября 2019 года в интервью The Economist Макрон заявил, что Североатлантический альянс переживает «смерть мозга». Я убеждён, что после распада СССР НАТО утратила своё значение. США используют блок, чтобы структурировать свое доминирование в Европе, где, однако, есть свои нюансы. Страны Восточной Европы, вступившие в Европейский союз, ещё не излечились от травм межвоенного периода и советского режима. После окончания холодной войны они пережили массовый отъезд граждан. В некоторых расцвёл популизм. И все рассматривают НАТО как гарантию защиты от России, хотя венгерский премьер Виктор Орбан выступает за некий баланс в отношениях с Москвой. Болезненные воспоминания и страхи стран Восточной Европы – проблема ЕС. Для Германии, которая восстала из руин после 1945 г. благодаря Соединённым Штатам, НАТО остаётся краеугольным камнем. Для Британии после Brexit это надежда на особые отношения в будущем. Для Франции, которая три четверти века балансирует между атлантизмом и голлизмом, НАТО – это якорь в отсутствие «европейской силы» или меньшее из зол, на которое она готова пойти. В любом случае идеология играет для европейцев существенную роль: убеждение, что США являются защитников демократии, по-прежнему широко распространено.
Но определённость в этом вопросе разрушает Дональд Трамп. Конфликты из-за пандемии напомнили о пределах солидарности альянса. Главная проблема в том, что помимо пресловутых «западных ценностей» ни у членов НАТО, ни у членов ЕС нет общего представления об интересах, которые нужно защищать. После распада Советского Союза европейцы так и не смогли предложить общий проект с учётом России. Нет и проекта по Китаю (отсюда группа «16+1»). Без общих интересов и европейской идентичности альянс не имеет смысла и сводится к отношениям гегемона с вассалами. Никто не знает, какой будет политика Лондона на континенте после Brexit. Германия продолжает избегать антагонизма с США, что не мешает ей, как и в период холодной войны, поддерживать отношения с Россией и Восточной Европой. Канцлер Меркель вновь демонстрирует приверженность европейской архитектуре. Но в дальнейшем, если экономическое превосходство Германии продолжит расти, увеличится и её геополитическая свобода. Тогда Германия, а не ЕС приобретет стратегическую автономию.
Немцы много делают и мало говорят, у французов всё наоборот. Наше пространство для манёвра сокращается, как и наше влияние на южную часть Европы. Ядерное оружие и место в Совбезе ООН не позволит нам бесконечно поддерживать имидж. В XXI веке ключ к власти – экономика в целом и цифровые технологии – в частности. Недавний инцидент в Ливии между Францией и Турцией, влиятельным членом НАТО с новейшим вооружением, демонстрирует абсурдность того, во что превратился альянс. В суровом мире, где Америка отдаляется от Европы, чтобы защищать собственные интересы, Евросоюз уже не может медлить с мотивацией, потому что скрепляющий его цемент ещё не засох и распределён неравномерно. В ближне- и среднесрочной перспективе ещё будут действовать рефлексии холодной войны, но потом все ставки сгорят.
Сбросить идеологические шоры
Я неоднократно говорил об идеологических конфликтах в современном мире. Было бы неверно сводить их к бинарным противостояниям между «западными демократиями» и «путинским режимом» или «диктатурами» Си Цзиньпина, Ким Чен Ына и Мадуро, «популизмом Болсонару» и так далее. Наш мозг не любит сложности и склонен мыслить бинарными категориями, как добро и зло, правда и ложь, красота и уродство. Я ни в коем случае не оспариваю их релевантность с философской точки зрения. Но философия и реальность – не одно и то же.
Возьмём пример Индии, которую постоянно называют крупнейшей демократией мира. Политолог Кристоф Жаффрело опубликовал книгу об Индии при Моди. В ней от называет эту страну «этнической демократией», эту удивительную концепцию предложили политологи, изучающие Израиль. Жаффрело рассказывает, как Нарендра Моди поднялся со «стартовой площадки» в штате Гуджарат при содействии талантливого организатора Амита Шаха и использовал агрессивный национализм и поддержку бизнеса (например, Reliance Мукеша Амбани), чтобы превратить плюралистичную Индию в нацию индусов (хинду раштра составляют 80% населения страны). Он методично атаковал мусульман (около 13% населения), а затем обратил внимание на меньшинства, включая христиан (чуть более 2%). Чтобы добиться своих целей, нынешний премьер-министр «крупнейшей демократии мира» использовал политику страха, основанную на разоблачении чужака (мусульман). Себя он позиционирует как лидера, обеспечившего экономический рост (который ещё предстоит увидеть, поскольку коронавирус нанёс по субконтиненту мощный удар). Многие индийские общественные деятели утверждают, что страна абсорбирует любые попытки трансформировать природу субконтинента. Не буду комментировать эти заявления, отмечу лишь необходимость вникать в нюансы.
Другой один интересный пример – Россия. Владимир Путин получил поддержку на референдуме по Конституции, который пришлось перенести из-за пандемии. Да, его популярность упала по сравнению с 2014 г., когда был присоединён Крым, но остаётся достаточно высокой. Добавлю, что, хотя политический режим в России очевидно является авторитарным, любой человек, знающий страну, скажет, что называть её диктатурой странно, особенно на фоне других примеров. Россия противостоит коронавирусу не хуже западных стран. И неплохо справляется экономически, в том числе благодаря соглашению с США и ОПЕК по ценам на нефть, которые рухнули в начале марта, когда Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться об объёмах добычи.
Если мы не хотим деградации международной системы, нужно пытаться воспринимать другие страны с эмпатией, в позитивном свете. Например, конституционные поправки дают возможность Путину оставаться у власти до 2036 г., но это можно интерпретировать не как его стремление держаться за власть до 84 лет, а как пространство для манёвра, чтобы защитить себя и подготовить преемника к нужному моменту. Полагаю, что этими же мотивами руководствовался Китай, инициируя конституционную реформу.
С западной и особенно европейской точки зрения (американцы прежде всего прагматичны) мы всегда возвращаемся к той же точке: если мы и дальше будем строить внешнюю политику на обращении в свою идеологию, нас ждут проблемы. Из-за отсутствия реалистичного, объективного взгляда на мир после распада СССР мы подтолкнули Россию и Иран в объятия Китая. Как я уже подчеркивал, Европа не может определить свои интересы, не говоря уже о том, чтобы их защитить на флангах (концепция одновременно является геополитической, геостратегической и геоэкономической) – не только на востоке, но и на юге, в Африке и на Ближнем Востоке. Но это еще не всё. Мы живём в новое время, когда некоторые недемократические в западном понимании государства выглядят более эффективно, чем сами западные демократии. Если мы продолжим воспринимать их как нацистскую Германию, империалистическую Японию или Советский Союз, мы неминуемо упадём в пропасть.
Заканчивая разговор о Европе, добавлю несколько слов о Ближнем Востоке (не так много, учитывая значимость темы). Главные игроки региона, который ещё де Голль называл «сложным», – это Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Израиль, с одной стороны, и Турция и Катар, с другой. Они ничем не обязаны европейскому политическому инжинирингу. Первая группа задействована в политике США по Ирану, вторая, которую американцы активно не порицают, строится на амбициозных идеях Эрдогана и опирается на «Братьев-мусульман». Европейцы мечутся между двумя группами и при этом упрекают Трампа в односторонних действиях по Ирану. В то же время им нужна Турция, которая шантажирует их беженцами, а недавно спровоцировала скандал, превратив Айя-Софию в мечеть. Катар нужен европейцам, потому что богат. Европа не одобряет перенос столицы Израиля в Иерусалим и поддержанный Трампом план Нетаньяху по аннексии оккупированных палестинских территорий, что противоречит нормам международного права и всем предыдущим договорённостям. Но молчит или высказывается сдержанно. После хаоса в Ливии, который европейцы сами и спровоцировали – ломать проще, чем строить – Европа действует двойственно, потому что не она раздает карты. Пользуясь этим, Эрдоган устремил свои взгляды на Триполи, что вызвало недовольство Эмиратов, ключевого партнера альянса против Тегерана (но в первую очередь альянс направлен на сдерживание политического исламизма). А в это время Россия делает что хочет или – скорее – что может. В соперничестве с Турцией она хочет закрепиться в Ливии. В Сирии она уже добилась больших успехов, как и Турция, воспользовавшись отсутствием единства на Западе. Даже специалисту трудно во всем этом разобраться. Хочу лишь подчеркнуть, что, когда речь заходит о ключевых темах, как Россия или Ближний Восток, отсутствие единой внешней политики ЕС становится очевидным.
Идея Урсулы фон дер Ляйен о «геополитической» Еврокомиссии – благое намерение. Может быть, ей вместе с главой Евросовета Шарлем Мишелем и верховным представителем по внешней политике Жозепом Боррелем и при поддержке лидеров стран-членов удастся возродить надежды Европы. Но сначала нужно заняться экономикой, которая серьёзно пострадала от пандемии. Коронавирус ещё больше усилил страхи тысячелетия, о которых я говорил в прошлогодних «Перспективах». Третье тысячелетие начинается непросто.

ЭВОЛЮЦИЯ МИРОВОГО ПОРЯДКА ДЕЛАЕТ САММИТ «ПЯТЁРКИ» СБ ООН НЕЭФФЕКТИВНЫМ
ПОЛ СОНДЕРС
Старший научный сотрудник Центра национальных интересов (г. Вашингтон). Ранее – исполнительный директор Никсоновского центра, заместитель редактора The National Interest. Работал в Государственном департаменте 2003–2005 г.г.
К юбилейной сессии Генассамблеи ООН – скептический взгляд из Вашингтона на перспективы идеи, которая казалась весьма многообещающей в начале года.
В условиях растущей военной напряжённости между великими державами в Восточной Азии, Центральной Европе и на Ближнем Востоке президент России Владимир Путин и другие лидеры предложили провести саммит пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН – Великобритании, Китая, Соединённых Штатов, Франции, России, чтобы найти способ двигаться вперёд. Хотя снижение эскалации и избежание прямого вооружённого конфликта, безусловно, желательно, саммит «пятёрки» вряд ли предложит действенные решения. Хуже того, у США пока нет собственных идей по управлению международным порядком, который разваливается.
Январский призыв Путина провести саммит «пятёрки», как и идентичное предложение президента Франции Эммануэля Макрона только подчеркнули продолжающуюся гражданскую войну в Ливии. В прессе вскоре появились предположения, что Путин может попытаться совместить саммит с масштабным военным парадом в Москве, запланированным на май по случаю 75-летия победы союзников в Европе, на который российский руководитель пригласил многих мировых лидеров. По мере приближения парада, перенесённого на июнь из-за пандемии, Путин изложил амбициозные цели саммита «пятёрки» в статье для The National Interest, включая разработку общих принципов, обсуждение того, как поддерживать и укреплять мир, безопасность, а также управление глобальной экономикой. В статье Путин пишет, что лидеры остальных четырёх стран согласились на встречу. По данным официального информационного агентства ТАСС, министр иностранных дел Сергей Лавров в августе заявил, что «в настоящее время мы работаем над аспектами предстоящего мероприятия. Точной даты пока нет». В соответствии с тем, что МИД России назвал «российско-китайским стратегическим партнёрством», Лавров и его китайский коллега, как сообщается, координируют действия при подготовке к саммиту.
Если эти пять стран согласуют дату анонсированного события (чему может помешать либо COVID-19, либо международная политика), насыщенная повестка, предложенная Путиным, столкнётся с рядом проблем, включая глубокие разногласия по конкретным международным проблемам, низкое взаимное доверие и кризис международных институтов, которые всё больше и больше становятся непригодными для управления глобальным миром и безопасностью. Вдобавок ко всему, сам Путин едва ли находится в том положении, когда он может организовать нечто со столь далеко идущим целями и потенциально масштабными последствиями.
Самая большая проблема заключается в том, что взгляды «пятёрки» на сюжеты, вызывающие максимальную напряжённость отношений, сильно расходятся. И это всё более очевидно в тех областях, где Запад, Китай и Россия вступают во взаимодействие и где сталкиваются сферы влияния, на которые они претендуют.
Вашингтон и Москва разошлись в том, что касается архитектуры безопасности Европы уже более двух десятилетий назад. Их противоположные позиции проявились в спорах вокруг конфликтов в Боснии и Косово в 1990-е гг., из-за западных решений по расширению НАТО, российского противодействия этому расширению, интервенции России в Грузию в 2008 г., захвата Крыма в 2014 г. и продолжающегося военного вмешательства на Востоке Украины. Соединённые Штаты и Россия также очень по-разному понимали, как обеспечить стабильность на Ближнем Востоке, особенно это касалось войны США в Ираке в 2003 г., авиаударов Соединённых Штатов и НАТО по Ливии в 2011 г., которые способствовали усугублению гражданской войны в Сирии и привели к вмешательству России в 2015 г. для предотвращения падения режима президента Башара Асада. Разногласия между Соединёнными Штатами и Китаем не столь остры, но тоже многочисленны, включая напряжённость вокруг статуса Гонконга и Тайваня, морских территориальных претензий Китая и развёртывания американских систем противоракетной обороны в Восточной Азии.
Недоверие усугубляет все эти разногласия и становится повседневной чертой в отношениях Америки с двумя её главными соперниками – Китаем и Россией. Соединённые Штаты опасаются китайского телекоммуникационного оборудования или приложений для смартфонов и тем более не верят целям Пекина в западной части Тихого океана. Что касается России, то многие западные официальные лица и наблюдатели уже давно стремятся избежать «новой Ялты» – договорённости с Москвой, которая намеренно, по умолчанию или наивности позволит России утвердить свою сферу влияния, как это случилось на Ялтинской конференции в феврале 1945 г. между Рузвельтом, Черчиллем и Сталиным. Это не позволяет отделить путинскую идею саммита от целей России в Центральной Европе. Недавнее заявление российского президента о том, что его правительство может направить сотрудников силовых органов в Белоруссию для помощи президенту Александру Лукашенко в сдерживании протестов после выборов, вызвало серьёзные опасения относительно целей Путина там.
Последняя проблема как раз связана с Советом Безопасности ООН. Предлагая саммит «пятёрки», а не встречу какого-то другого собрания мировых лидеров, российский президент сослался на их роль постоянных членов Совбеза и историю ООН как на институциональную попытку управлять международными конфликтами таким образом, чтобы предотвращать войну и поддерживать мир. Как стало очевидным за последние два десятилетия, Совбез действует настолько эффективно, насколько ему позволяют пять постоянных членов. Если они расходятся во мнениях – в последние годы, возможно, наиболее явно из-за гражданской войны в Сирии, но и из-за ядерных программ Ирана и Северной Кореи – Совет Безопасности парализован. Совбез изо всех сил пытался решить эти вопросы, поскольку у одного или нескольких членов «пятёрки» на кону стояли важные интересы. Однако когда один или несколько членов «пятёрки» – стороны в споре, проблемы в работе СБ становятся чрезвычайно сложными.
Стабильный международный порядок – с ООН, аналогичным международным институтом или же без них – возможен только в том случае, если основные игроки международной системы в целом готовы жить в соответствии с набором согласованных принципов и правил. Но сегодня Соединённые Штаты и их союзники настаивают на том, что Пекин и Москва нарушают принятые принципы и правила, а КНР и Россия говорят почти то же самое о внешней политике США после окончания холодной войны.
На системном уровне не имеет значения, кто здесь прав или неправ – важно то, что соблюдение принципов и правил (которые никогда не были железными, даже на пике своего развития, и, вероятно, отражали больше силу, чем ценности) подрывает и разрушает международный порядок.
Более того, даже по мере процесса развития мирового порядка определение «основных игроков» меняется. Страны «пятёрки» играют свои роли в Совете Безопасности (и в путинском предложении), потому что они были ключевыми участниками (в разной и спорной степени) в разгроме держав оси во Второй мировой войне.
Сегодняшний мир выглядит кардинально иначе как внутри «пятёрки», так и с точки зрения глобального распределения власти и богатства.
Это, например, уже способствовало растущему авторитету «Большой двадцатки» и является ещё одним поводом подвергнуть сомнению усилия по пересмотру мирового порядка посредством группы пяти стран, занявших свои места за столом переговоров 75 лет назад. Глобальная эволюция – одна из причин того, что многие предложения по реформированию Совбеза сосредоточены на новых ролях Бразилии и Индии как крупных стран с большой и растущей экономикой.
Порядки и институты не могут бесконечно действовать без регулярной адаптации к реальности – будь то между государствами или внутри них. Разрыв между институтами и реальностью неизбежно ведёт к возникновению напряжённости и в итоге – конфликта, поскольку некоторые приходят к заключению, что заслуживают большего, а другие этому сопротивляются. Устранение таких пробелов никогда не бывает лёгким; этот процесс по своей сути требует изменения институтов для перераспределения власти, причём некоторые выигрывают, а некоторые проигрывают. Со временем сделать это становится всё труднее, если разрыв между институтами и реальностью увеличивается, поскольку необходимые изменения становятся более дорогостоящими для бенефициаров существующих механизмов. В конце концов, обычно, реальность побеждает, разрушая институты, что часто обходится дороже всего тем, кто больше всех выигрывал от старого порядка.
Поскольку Соединённые Штаты были одними из главных «победителей» в существующем порядке и в его институциональных проявлениях, они, вероятно, столкнутся с самыми болезненными решениями и самыми серьёзным рисками, если глобальные институты и реалии будут слишком сильно расходиться.
В результате успех или провал любых усилий по реформированию, пересмотру или обновлению международного порядка будет в наибольшей степени зависеть от Америки и её лидеров, что само по себе ставит президента России в чрезвычайно слабое положение по организации и руководству процессом. По сути, предложенный Путиным проект может увенчаться успехом только в том случае, если Соединённые Штаты будут его контролировать и им руководить. Но на фоне нынешних острых разногласий в Штатах это предложение не выглядит самым удачным. Тем не менее идея Путина о саммите «пятёрки» должна вызывать у американцев гораздо меньшее беспокойство, чем отсутствие у собственного правительства и истеблишмента альтернативных идей для управления развивающейся глобальной системой.
Перевод: Анна Портнова
Russia Matters

Разноцветная безответственность
Текст: Федор Лукьянов (профессор-исследователь НИУ "Высшая школа экономики")
Двадцать лет назад, 24 сентября 2000 года, произошло событие, предопределившее политическую эпоху. В Союзной Республике Югославия (на тот момент она включала в себя Сербию и Черногорию) прошли досрочные президентские выборы. По неофициальным данным, победу на них одержал лидер национал-демократической оппозиции Воислав Коштуница, который значительно опередил бессменного главу страны с конца 1980-х годов Слободана Милошевича. Однако Центризбирком объявил, что Коштуница не набрал 50 процентов, и назначил второй тур. Через две недели под давлением массовых протестов Милошевич подал в отставку, его оппонента провозгласили победителем.
Эти перемены подвели черту под драматической историей дезинтеграции Югославии (формально она прекратила существование в 2003 году, а в 2006-м распалась и созданная вместо нее конфедерация Сербии и Черногории). Однако события в Белграде имеют не только региональное значение. Именно отрешение от власти Милошевича считается первым примером того, что позже назвали "цветными революциями". Впоследствии подобные потрясения с разной степенью успеха происходили в Грузии, Киргизии, Молдавии, на Украине.
Примечательно, что в отличие от всех этих примеров внешние силы не отрицают своего участия в Югославии. За 20 лет немало написано о том, как западные дипломаты, активисты и спецслужбы помогали свергнуть Милошевича. Это не считается чем-то зазорным. В остальных случаях европейские и американские представители решительно открещиваются от предположений, что они приложили руку к сменам или попыткам смены режимов. Откровенность применительно к Югославии, вероятно, объясняется тем, что Милошевич совершенно официально и открыто считался в Европе отвратительным анахронизмом, от которого надо избавиться. Воздушная кампания НАТО 1999 года де-факто лишила Сербию Косова, однако белградский вождь удержался на своем месте. Соответственно, ликвидировать его было делом чести западных правительств. Отсюда и подкупающая искренность, какую не проявляли в дальнейших эпизодах.
"Цветная революция" - любая ненасильственная смена власти в качестве реакции на несправедливые, с точки зрения политически активной части общества, проявления. Обязательным условием является присутствие определяющего внешнего элемента. И дело даже не только и не столько в прямом вмешательстве наподобие финансирования политических сил, акций, создания определенной инфраструктуры. Важнее наличие стороннего арбитра, авторитет которого воспринимается как безусловный, а вердикт - как окончательный. Само по себе недовольство результатами выборов способно вызвать выступления, но качественно иную действенность они приобретают, когда этот самый арбитр (в постсоветском случае прежде всего Евросоюз, но и в целом Запад, включая США) выносит решение о легитимности одних и нелегитимности других. Эта морально-политическая поддержка становится основанием для резкой активизации претендентов на власть, они апеллируют к "высшей инстанции", заключение которой обжалованию не подлежит.
Пик "цветных революций" пришелся на 2000-е годы - период доминирования западных институтов и этических представлений. Сербия стала не только первым, но и самым успешным примером, прежде всего по той причине, что заинтересованность Европы в решении вопроса с Милошевичем была высокой, обустройство Балкан относилось к приоритетам. Все остальные сюжеты, включая даже и украинский, такой важности для западных столиц не имели, хотя приемы применялись те же самые.
Период "цветных революций" закончился с началом упадка западного доминирования. Во-первых, моральный авторитет атлантических структур перестал быть неоспоримым в связи с внутренними проблемами Запада. Во-вторых, западные (особенно европейские) сторонники демократизации других стран оказались не готовы идти на серьезные риски. Как только появилось жесткое сопротивление (Россия в украинском случае, Китай в случае Гонконга или внутреннее противостояние в Сирии), желание ввязываться в борьбу до победного конца резко убыло. Показательный пример последнего времени - Венесуэла. Несмотря на отчаянное социально-экономическое положение страны и сомнительные таланты чавистского правительства, попытка в 2019 году разыграть там при помощи США классическую "цветную революцию" со всеми видами внешней поддержки оппозиции провалилась.
"Цветные революции" поощряли безответственность стран, где происходили события. Претенденты полагались на решающую роль внешних сил, фактически делегируя им право определения курса. А защитники статус-кво объясняли собственные проколы внешним вмешательством, по сути, тоже отстраняясь от ответственности. Ни к чему хорошему это не вело. В новых условиях и тем, и другим, по крайней мере, придется глубже задумываться о последствиях собственных действий - и для себя, и для своих стран.

ПРИСУТСТВИЕ ПРИ РАЗРУШЕНИИ
РИЧАРД ХААС
Президент Совета по международным отношениям.
КАК ТРАМП РАЗВАЛИЛ ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ США
Что будет, если Трампа переизберут? Мировому порядку, просуществовавшему 75 лет, непременно придёт конец; вопрос только в том, что займёт его место.
«Присутствие при сотворении» – мемуары на восьмистах страницах, написанные Дином Ачесоном, госсекретарём при президенте США Гарри Трумэне. Название с его библейским отголоском было нескромным, но, в защиту Ачесона, заслуженным.
Опираясь на планы, разработанные ещё при президенте Франклине Рузвельте, Трумэн и его ведущие советники построили не что иное, как новый международный порядок после Второй мировой войны. Соединённые Штаты приняли доктрину сдерживания, определявшую внешнюю политику США в течение четырёх десятилетий борьбы с Советским Союзом в период холодной войны. Этот курс превратил Германию и Японию в демократические государства и создал целую сеть альянсов в Азии и Европе. В рамках Плана Маршалла американская политика обеспечивала помощь, необходимую Европе, чтобы снова встать на ноги, и, в соответствии с доктриной Трумэна, направляла экономическую и военную помощь странам, уязвимым перед коммунизмом. Был учреждён целый ряд международных организаций, включая Организацию Объединённых Наций, Международный валютный фонд, Всемирный банк и Генеральное соглашение по тарифам и торговле (предшественник Всемирной торговой организации). Также возник современный аппарат внешней и оборонной политики, включая Совет национальной безопасности, ЦРУ и Министерство обороны.
Невозможно представить себе, чтобы один из руководителей национальной безопасности администрации Дональда Трампа написал мемуары, в названии которых есть слово «сотворение». Проблема не только в том, что за последние три с половиной года мало построено. Строительство просто не было главной целью внешней политики этой администрации. Напротив, президент и часто меняющийся состав чиновников вокруг него были гораздо больше заинтересованы в том, чтобы разорвать всё на части. Более подходящим названием для мемуаров этой администрации было бы «Присутствие при разрушении».
Сам по себе термин «разрушение» не является ни комплиментом, ни критикой. Разрушение может быть желательным и даже необходимым, если существующее положение вещей несовместимо с интересами народа и существует альтернатива, которая одновременно выгодна и достижима. Но если руководствоваться этими критериями, разрушение, начатое администрацией Трампа, не было ни оправданным, ни разумным.
Когда дело дошло до внешней политики, Трамп (как и в случае со здравоохранением и Законом о доступном здравоохранении) унаследовал несовершенную, но ценную систему и попытался упразднить её, не предлагая никакой замены. В результате Соединённые Штаты и весь мир оказались в значительно худшем положении. Это разрушение оставит неизгладимый след. И если оно будет продолжаться или ускоряться (а есть все основания полагать, что это произойдёт в случае избрания Дональда Трампа на второй срок), то «разрушение» вполне может стать наиболее подходящим термином для описания этого периода внешней политики США.
Искажённый объектив
Трамп вошёл в Овальный кабинет в январе 2017 г., будучи убеждённым, что внешнюю политику США необходимо сломать. В своей инаугурационной речи, произнесённой со ступенек Капитолия, новый президент очень мрачно рассказал о достижениях Соединённых Штатов: «На протяжении многих десятилетий мы обогащали иностранную промышленность за счёт американской, субсидировали армии других стран, допуская при этом очень прискорбное истощение наших вооружённых сил. Мы защищали границы других стран, отказываясь защищать собственные. Мы потратили триллионы долларов за рубежом, в то время как американская инфраструктура развалилась и пришла в негодность. Мы сделали сильными и богатыми другие страны, в то время как богатство, сила и уверенность нашей страны растворилась за горизонтом… С этого момента Америка – прежде всего».
После трёх с половиной лет у руля внешней политики Трамп, по-видимому, не увидел ничего, что могло бы изменить его мнение. Обращаясь к выпускникам-курсантам в Вест-Пойнте в начале 2020 г., он применил аналогичную логику к использованию военной силы: «Мы восстанавливаем фундаментальные принципы, согласно которым служба американского солдата заключается не в том, чтобы восстанавливать иностранные государства, а в защите – и решительной защите – нашей нации от внешних врагов. Мы заканчиваем эру бесконечных войн. На смену ей приходит новый, ясный взгляд на защиту жизненно важных интересов Америки. В обязанности американских войск не входит разрешение древних конфликтов в далёких странах, о которых многие даже не слышали. Мы – не мировые полицейские».
Многие из основополагающих элементов подхода Трампа к миру можно почерпнуть из этих двух речей. По его мнению, внешняя политика – это в основном дорогостоящее отвлечение внимания. США слишком много делали за границей, и из-за этого им было хуже дома. Торговля и иммиграция уничтожали рабочие места и сообщества. Другие страны – прежде всего, союзники – использовали Соединённые Штаты в своих интересах, Америке же нечем было похвастаться, даже когда другие извлекали из этого выгоду. Издержки американского лидерства существенно перевешивали выгоды.
В этом мировоззрении отсутствует какое-либо понимание того, что, с точки зрения США, было примечательным в предыдущие три четверти века: отсутствие войны между великими державами, распространение демократии на бóльшую часть мира, девяностократное увеличение американской экономики, продление продолжительности жизни среднего американца на десять лет. Также нет признания того, что холодная война (определяющая борьба той эпохи) закончилась мирно на условиях, которые едва ли могли быть более благоприятными для Соединённых Штатов; что всё это было бы невозможно без американского руководства и союзников США; и что, несмотря на эту победу, Соединённые Штаты по-прежнему сталкиваются с проблемами в мире (помимо «радикального исламского терроризма» – единственной угрозы, которую Трамп выделил в своей инаугурационной речи), затрагивающие страну и её граждан, и что партнёры, дипломатия и глобальные институты будут ценным активом в их решении.
Множество других сомнительных предположений проходит сквозь мировоззрение Трампа. Торговля воспринимается как абсолютный негатив, который помог Китаю воспользоваться преимуществами Соединённых Штатов, а не как источник многих квалифицированных ориентированных на экспорт рабочих мест, большего выбора с более низкими издержками для американского потребителя и более низкими темпами инфляции внутри страны. Внутренние проблемы Соединённых Штатов в значительной степени принято объяснять затратами на внешнюю политику. Издержки в человеческих жизнях и долларах, действительно, были высокими, но доля экономического прироста, расходуемого на национальную безопасность, за последние десятилетия упала и сейчас намного ниже того, что было во время холодной войны. Американцы прожили период, когда они могли одновременно наслаждаться безопасностью и процветанием. Оснований придираться к войнам в Афганистане и Ираке предостаточно и без того, чтобы списывать на них состояние американских аэропортов и мостов. И хотя американцы тратят на здравоохранение и образование гораздо больше, чем их сверстники во многих других развитых странах, средний американец находится в худшем положении.
Всё это означает, что сворачивание присутствия в мире не обязательно приведёт к тому, что дома будут делать больше правильных вещей.
Это искажённое представление о национальной безопасности США можно понять, только рассматривая контекст, который породил «трампизм». Соединённые Штаты вышли из холодной войны без соперников, но и без единого мнения относительно того, что им делать со своей непревзойдённой мощью. Сдерживание – компас, которым руководствовалась внешняя политика США в течение четырёх десятилетий – в новых обстоятельствах оказалось бесполезным. И политики, и аналитики изо всех сил пытались найти новую основу.
В результате самая могущественная страна на Земле приняла непоследовательный подход к миру, который со временем привёл к перенапряжению и истощению. В 1990-е гг. Соединённые Штаты вели успешную ограниченную войну, чтобы обратить вспять агрессию Ирака в Персидском заливе, и осуществляли гуманитарные интервенции на Балканах и в других местах (некоторые относительно успешно, другие нет). После террористических атак 11 сентября 2001 г. президент Джордж Буш – младший направил большое количество войск в Афганистан и Ирак – обе войны оказались опрометчивыми (Ирак с самого начала, Афганистан с течением времени), человеческие и экономические издержки затмевали любые выгоды. В годы правления Барака Обамы США инициировали и продолжили несколько дорогостоящих интервенций, но в то же время дали понять, что не уверены в своих намерениях.
Разочарование по поводу предполагаемого чрезмерного перенапряжения за рубежом было усилено внутренними тенденциями, особенно после финансового кризиса 2008 года. Доходы среднего класса не росли, а массовые потери рабочих мест и закрытие заводов вызвали узконаправленную, но острую враждебность к торговле (несмотря на то, что основной причиной негативных изменений был рост производительности труда, связанный с технологическими инновациями). В целом существовало широко распространённое мнение о том, что истеблишмент потерпел неудачу как из-за пренебрежения защитой американских рабочих внутри страны, так и из-за проведения чрезмерно амбициозной внешней политики за рубежом, оторванной от жизненно важных интересов страны и благополучия её граждан.
Уход от того, что в целом работало
Внешняя политика четырёх президентов после окончания холодной войны – Джорджа Буша – старшего, Билла Клинтона, Джорджа Буша – младшего и Барака Обамы – объединила основные школы мышления, которые определяли подход Соединённых Штатов к миру со времён Второй мировой войны. К ним относятся реализм (акцент на глобальной стабильности, в основном за счёт поддержания баланса сил и попытки формировать внешнюю, а не внутреннюю политику других стран); идеализм (придание большего значения продвижению прав человека и формированию внутриполитической траектории других стран) и гуманизм (сосредоточение внимания на сокращении бедности и болезней, а также заботе о беженцах и переселенцах). Четыре президента отличались друг от друга акцентами, но имели много общего. Трамп порвал со всеми ними.
В некотором смысле подход Трампа действительно включает элементы давних течений в американской и особенно республиканской внешней политике – в частности, националистической односторонности XIX века президента Эндрю Джексона, изоляционизм до и после Второй мировой войны таких фигур, как сенатор-республиканец Роберт Тафт из Огайо, и более поздний протекционизм кандидатов в президенты Пэта Бьюкенена и Росса Перо.
Но что отличает Трампа больше всего, так это его упор на экономические интересы и узкое понимание того, что они собой представляют и как их нужно преследовать. Его предшественники считали, что если Соединённые Штаты будут помогать формировать мировую экономику, используя свою власть и лидерство для обеспечения стабильности и установления правил торговли и инвестиций, то американские компании, рабочие и инвесторы станут процветать. Война в Персидском заливе, например, велась ради нефти не в том смысле, чтобы американские компании получили контроль над поставками, а для обеспечения того, чтобы нефть была доступна для подпитки американской и мировой экономики. В результате обе заметно выросли.
Трамп же, напротив, обычно сетует на то, что Соединённые Штаты совершили ошибку, не захватив иракскую нефть. В более фундаментальном смысле он одержим двусторонними торговыми балансами, увеличением американского экспорта и уменьшением импорта, хотя дефицит имеет мало значения, пока другие страны играют по правилам, США могут брать займы для покрытия дефицита. (У всех стран есть сравнительные преимущества и разные нормы сбережений и расходов, которые приводят к дефициту в одних странах и профициту в других.) Он ругает союзников за то, что те не тратят больше на свои вооружённые силы, несправедливо упрекая членов НАТО, что, тратя менее 2% своего ВВП на оборону, они тем самым оказываются в долгу у Вашингтона.
Он поспешил отменить крупные военные учения, важные для американо-южнокорейского альянса, отчасти потому, что считал их слишком дорогими. В торговых переговорах с Китаем он больше заботился о том, чтобы заставить Пекин взять на себя обязательства по конкретным закупкам американской сельскохозяйственной продукции, чем о решении более крупных структурных проблем, хотя урегулирование последних было бы гораздо более выгодным для американских компаний и для экономики США в целом.
Следствием такой ориентации на узко понимаемые экономические интересы стало почти полное пренебрежение другими целями внешней политики. Трамп проявляет мало интереса к защите прав человека, продвижению демократии, облегчению гуманитарных трудностей или решению глобальных проблем, таких как миграция, изменение климата или инфекционные заболевания (последствия такого незаинтересованного отношения к последнему стали особенно и трагически очевидны в последние месяцы). Когда дело дошло до Саудовской Аравии, он не позволил вопиющим нарушениям прав человека помешать продаже оружия. Он вяло реагировал на российское военное вторжение в Сирию, вмешательство Москвы в политику США или недавние свидетельства того, что российские агенты платили талибам за убийства американских солдат.
Контраст между Трампом и предыдущими президентами не менее заметен, когда речь заходит и о средствах внешней политики. Два президента-республиканца и два президента-демократа как раз перед ним в целом верили в многосторонность, будь то через союзы, соглашения или институты. Это не означало, что они полностью избегали односторонних действий, но все понимали, что в большинстве своём многосторонние соглашения усиливают влияние Соединённых Штатов, а договоры привносят определённую степень предсказуемости в международные отношения. Многосторонность также объединяет ресурсы для решения общих проблем таким образом, что никакие индивидуальные национальные усилия не могут сравниться с ними. Трамп же, напротив, имеет привычку выходить из многосторонних обязательств или угрожать им. Даже неполный список включает Транстихоокеанское партнёрство, Парижское соглашение по климату, иранскую ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий или СВПД), Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ЮНЕСКО, Совет ООН по правам человека, Всемирную организацию здравоохранения и договор по открытому небу. Соединённые Штаты Трампа также отказались присоединиться к глобальному миграционному пакту или возглавляемым Европой усилиям по разработке вакцины против COVID-19.
Аппетит к разрушению
Узкое и неадекватное понимание Трампом интересов США и наилучших способов их преследования формировало подход администрации и к другим вопросам – хотя в большинстве случаев ему препятствовало. Когда речь заходит о военных, аппетит Трампа к разрушению наиболее очевиден – он проявляется в фактическом или угрожаемом выводе сил, часто без особого размышления о том, почему они вообще там были или каковы могут быть последствия вывода. Все президенты принимают решения о применении военной силы в индивидуальном порядке. Трамп в этой области, как и Обама, в значительной степени опасался новых военных конфликтов; его применение силы против Сирии и Ирана было кратковременным и ограниченным по масштабу, а угрозы обрушить «огонь и ярость» на Северную Корею быстро сменились на дипломатию и встречу в верхах, несмотря на продолжающуюся работу Северной Кореи над своими ядерными и ракетными арсеналами.
Между тем его призывы к выводу войск относились к зонам конфликта, а также к территориям, где американские войска размещались десятилетиями для предотвращения войны. В Сирии курдские партнёры Соединённых Штатов оказались в затруднительном положении, когда Трамп в конце 2018 г. внезапно объявил о выводе американских войск; а в Афганистане, похоже, мало думали о том, что может случиться с правительством в Кабуле после ухода американских войск. Но одно дело сделать вывод, что США допустили ошибки в Афганистане и Ираке и должны избегать таких войн в будущем, и совсем другое – приравнять эти интервенции к размещению американских войск в Германии, Японии или Южной Корее, которые десятилетиями помогали поддерживать там стабильность. Заявление администрации в июне о том, что она выведет 9500 военнослужащих из Германии (по-видимому, вызванное отказом канцлера Ангелы Меркель поехать в Вашингтон на встречу «Большой семёрки» в условиях глобальной пандемии, а не соображениями национальной безопасности) полностью соответствовало прохладному отношению Трампа к военным обязательствам за рубежом. То, что это решение было принято без предварительной консультации с Берлином, так же как решение об отмене крупных военных учений с Южной Кореей было принято без консультации с Сеулом, только усугубило уже дурную ситуацию.
Эти шаги отражают и более широкое безразличие Трампа к союзникам. Альянсы требуют, чтобы к безопасности других относились так же серьёзно, как и к своей собственной. «Америка прежде всего» даёт понять, что союзники на втором месте. Неустанное внимание Трампа к возмещению расходов на зарубежное военное присутствие Соединённых Штатов усугубило сигнал о том, что американская поддержка союзников стала транзакционной и условной. Его тёплое отношение к врагам и конкурентам – он всегда был более дружелюбен с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, чем с их демократическими коллегами – усугубило проблему, особенно учитывая нежелание Трампа подтвердить верность Пятой статье Договора о коллективной обороне НАТО. Даже вмешательство России в американскую демократию не помешало Трампу проявлять большую симпатию к Путину, чем к европейским лидерам. Лишь в одном заметном случае администрация действовала против Путина, поставляя оружие Украине, но любые заверения были дискредитированы тем фактом, что дальнейшая помощь была обусловлена обязательством нового президента Украины наводить справки о вероятном оппоненте Трампа от демократов на выборах 2020 года.
Что касается торговли, то администрация в основном отвергала многосторонние пакты (в том числе ТТП), которые объединили бы страны, представляющие 40% мирового ВВП, и заставили бы Китай соответствовать более высоким экономическим стандартам. Она регулярно прибегала к односторонним тарифам, навязывая их союзникам и используя сомнительные юридические оправдания. И хотя Америка не вышла из ВТО, администрация затянула пояса этой организации, отказавшись утвердить судей для арбитража, рассматривающего торговые споры. Единственным исключением является Соглашение между США, Мексикой и Канадой, которое заменило Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (USMCA). Это любопытное исключение, поскольку документ лишь незначительно отличается от резко критикуемой НАФТА и его положения в значительной степени заимствованы из текста отвергнутого ТТП.
Что касается Китая, то долгожданная готовность Трампа бросить вызов Пекину в вопросах торговли была смазана тем, что можно описать только как непоследовательную политику. Администрация использовала конфронтационные формулировки, но, отказавшись от ТТП, ослабила любые реальные рычаги воздействия, которые у неё могли быть, непрерывно критикуя (а не привлекая) союзников в Азии и Европе и явно демонстрируя свою жажду узкой торговой сделки, обязывающую Китай к согласию на увеличение американского экспорта в преддверии предвыборной кампании Трампа. Администрация действовала запоздало или непоследовательно в своей критике Китая за его репрессии в Гонконге и отношение к уйгурам в Синьцзяне, но, прежде всего, она была пассивной, когда Китай укреплял свой контроль над Южно-Китайским морем. Между тем сокращение расходов на фундаментальные исследования в стране, введение новых ограничений на количество квалифицированных иммигрантов, допускаемых в Соединённые Штаты, и неумелое решение проблемы пандемии COVID-19 сделали страну менее конкурентоспособной по сравнению с Китаем.
На Ближнем Востоке разрушение Трампа также свело на нет цели США и увеличило вероятность нестабильности. На протяжении пяти десятилетий Соединённые Штаты позиционировали себя как честного посредника в израильско-палестинском конфликте; все понимали, что Вашингтон был ближе к Израилю, но не настолько, чтобы не давить на него, когда это необходимо. Убеждённая в необходимости нового подхода, администрация Трампа отказалась от любых притязаний на нейтральную роль, поставив крест на реальном мирном процессе ради серии свершившихся фактов, основанных на ошибочном убеждении, что палестинцы слишком слабы, чтобы сопротивляться, а суннитские арабские правительства будут смотреть в другую сторону, учитывая их желание работать с Израилем против Ирана. Администрация ввела санкции против палестинцев, переместив американское посольство в Иерусалим, признав аннексию Голанских высот Израилем, и выдвинула «мирный план», который подготовил почву для аннексии частей Западного берега Израилем. Такая политика может посеять нестабильность в регионе, лишить его возможностей для установления мира и поставить под угрозу будущее Израиля как демократического и еврейского государства.
В ситуации с Ираном администрация сумела изолировать себя больше, чем Тегеран. В 2018 г. Трамп в одностороннем порядке вышел из СВПД, введя при этом новый раунд санкций. Они наносят ущерб экономике Ирана, а убийство Касема Сулеймани (командира отряда Кудс Корпуса стражей исламской революции Ирана) стало препятствием для их региональных амбиций. Но ни того, ни другого не было достаточно, чтобы заставить Тегеран кардинально изменить своё поведение внутри страны или за рубежом либо свергнуть режим (что, по-видимому, и было реальной целью политики администрации). Иран теперь начал пренебрегать ограничениями на свои ядерные программы, установленными СВПД, и, вмешиваясь в дела Ирака, Ливана, Сирии и Йемена, продолжает попытки изменить большую часть Ближнего Востока.
Новая норма
В начале президентства Трамп столкнулся с трудной ситуацией: обостряющееся соперничество великих держав, всё более напористый Китай, неспокойный Ближний Восток, ядерная Северная Корея, многочисленные конфликты внутри стран, в значительной степени нерегулируемое киберпространство, сохраняющаяся угроза терроризма, ускоряющееся изменение климата и многое другое. Накануне его инаугурации была опубликована моя книга «Мировой беспорядок», о которой я упоминаю только для того, чтобы подчеркнуть, что 45-го президента ждало множество трудных испытаний. Сегодня беспорядок значительно разросся. Большинство проблем, унаследованных Трампом, усугубились, поскольку многие из них он просто игнорировал, и пренебрежение не улучшило ситуацию. Положение Соединённых Штатов в мире ухудшилось из-за их неумелого обращения с пандемией COVID-19, отрицания изменения климата, неприятия беженцев и иммигрантов, а также продолжающей беды в виде бесконтрольного применения оружия и проявлении расизма. Страна считается не только менее привлекательной и дееспособной, но и менее надёжной, поскольку отказывается от многосторонних соглашений и дистанцируется от союзников.
Американские союзники, со своей стороны, стали иначе относиться к Соединённым Штатам. Альянсы основаны на надёжности и предсказуемости, поэтому вряд ли хотя бы один союзник будет смотреть на Америку так, как раньше. Посеяны семена сомнения: если это случилось однажды, то может и повториться. После отречения от престола трудно вернуть себе трон. Более того, следующего президента будут сдерживать продолжающаяся пандемия, крупномасштабная безработица и глубокие политические разногласия – и всё это тогда, когда страна изо всех сил пытается бороться с расовой несправедливостью и растущим неравенством. Чтобы сосредоточить внимание на восстановлении внутренних сил и ограничении амбиций за рубежом, придётся встретиться со значительным давлением.
Однако частичное восстановление внешней политики США всё ещё возможно. Соединённые Штаты могут взять на себя обязательства по ремонту отношений с союзниками по НАТО и в Азии. Они могли бы повторно вступить в соглашения, из которых вышли, начать переговоры о пакте, который наследовал бы ТТП, и возглавить реформу ВТО. Стоит скорректировать иммиграционную политику.
Но возврата к тому, что было, нет. Четыре года, возможно, не большой срок в истории, но достаточный, чтобы всё необратимо изменилось.
КНР стала богаче и сильнее, Северная Корея имеет больше ядерного оружия и более совершенные ракеты, климатические изменения идут дальше, посольство было перемещено в Иерусалим, а Николас Мадуро ещё больше укрепился в Венесуэле, как и Башар Асад в Сирии. Это и есть новая реальность.
Более того, восстановление в любом масштабе будет недостаточным с учётом того, насколько беспорядок распространился при Трампе. Соединённым Штатам понадобятся новые рамки для борьбы с более агрессивным и репрессивным Китаем, а также инициативы, которые сократят разрыв между масштабом глобальных вызовов – изменением климата и инфекционными заболеваниями, терроризмом и распространением ядерного оружия, кибервойной и торговлей – и меры, предназначенные для их решения. Повторного присоединения к неполноценному Парижскому соглашению, к СВПД, срок действия которого скоро истекает, или к несовершенной ВОЗ, было бы недостаточно. Вместо этого новая администрация должна будет заключить другие соглашения как по изменению климата, так и по Ирану, и сотрудничать с остальными, чтобы реформировать ВОЗ или создать новый орган, который возьмёт на себя часть глобального бремени здравоохранения.
А если Трампа переизберут? Воодушевлённый победой на выборах, которую истолкует как мандат, он, вероятно, удвоит внимание к центральным элементам внешней политики, определившим его первый срок. В какой-то момент разрушение набирает такую скорость, что пути назад уже нет. «Сотворение разрушения» может стать «сотворением поражения».
Бесчисленные нормы, союзы, договоры и институты ослабнут или увянут. Мир станет более гоббсовским – борьбой всех против всех. (Это было фактически анонсировано в мае 2017 г. в статье для The Wall Street Journal, написанной двумя высокопоставленными чиновниками администрации Трампа: «Мир – это не “глобальное сообщество”, а арена, на которой государства, неправительственные субъекты и бизнес взаимодействуют и соревнуются за преимущество».) Конфликты станут более привычным явлением, а демократия – менее. Распространение оружия ускорится, поскольку союзы потеряют способность успокаивать друзей и сдерживать врагов. Могут возникнуть сферы влияния. Торговля станет более управляемой, в лучшем случае будет расти медленнее, но, возможно, даже сократится. Доллар США начнёт терять свою уникальную роль в мировой экономике, а такие альтернативы, как евро, и, возможно, юань и различные криптовалюты, станут всё более важными. Задолженность США может стать серьёзным препятствием. Мировому порядку, просуществовавшему 75 лет, непременно придёт конец; вопрос только в том, что займёт его место.
Очень многое зависит от того, каким курсом пойдут Соединённые Штаты. Даже частичное возобновление сделало бы внешнюю политику Трампа чем-то вроде отклонения, и в этом случае её влияние было бы ограниченным. Но если его стиль внешней политики сохранится ещё на четыре года, Трампа станут рассматривать как действительно значимого президента. В таком сценарии модель, которой придерживались Соединённые Штаты со времён Второй мировой войны до 2016 г., окажется аберрацией – относительно кратким исключением из более давней традиции изоляционизма, протекционизма и националистической односторонности. История не позволяет смотреть на эту последнюю перспективу никак иначе, как с тревогой.
Перевод: Анна Портнова
Опубликовано в журнале Foreign Affairs №5 за 2020 год. © Council on foreign relations, Inc.

Веники Березовского
резать бюджет или ликвидировать офшоры?
Сергей Ануреев Елизавета Пашкова
"ЗАВТРА". Сергей Владимирович, дефицит российского бюджета сейчас приблизился к 700 млрд. рублей в месяц. Но, возможно, никаких проблем с бюджетом не было бы, если бы деньги не выводились в оффшоры?
Сергей АНУРЕЕВ. Действительно, объём оттока капитала из России совпадает с размерами нашего бюджетного дефицита. По данным платёжного баланса за второй квартал наша страна заплатила 19 млрд. долларов доходов на иностранные инвестиции, то есть на такую сумму наши компании выплатили процентов по кредитам и дивидендов по акциям.
"ЗАВТРА". Выплатили иностранным компаниям?
Сергей АНУРЕЕВ. Да. К этому нужно добавить деньги, которые заплатили в погашение основной суммы долга — а это 9 млрд. долларов. При этом наши предприятия ещё и приняли дополнительные обязательства на 8 млрд., что удивительно, особенно во время карантина.
"ЗАВТРА". Опять же, взяли в кредит в зарубежных банках?
Сергей АНУРЕЕВ. Сложно сказать, кто у кого что взял. Но формально по платёжному балансу наши предприятия заняли 8 млрд. долл. При том, что финансовые рынки стояли, санкции продолжали действовать, но каким-то чудом наши предприятия смогли привлечь из зарубежья эти миллиарды долларов.
Сложив проценты и дивиденды, которые уплачивают наши предприятия за рубеж, и те деньги, которые они выплачивают в счёт погашения основной суммы долга, получим за второй квартал 28 млрд. долл. Разделив эту сумму на три месяца, получим по 700 млрд. рублей — как раз месячный дефицит российского бюджета. Мы, конечно не можем прямо развернуть эти 28 млрд. долл. в доходы бюджета, но обложить их налогами подобно налогам на внутреннее потребление или труд — было бы справедливо.
"ЗАВТРА". Но вы ни разу не произнесли слово "оффшоры". Получается, их здесь и нет?
Сергей АНУРЕЕВ. Чтобы ответить на этот вопрос, воспользуемся официальной статистикой, размещённой на сайте Банка России. За 2020 год данных пока нет, но есть за 2019-й, в соответствии с которыми за год в нашу страну поступило без малого 32 млрд. долл. иностранных инвестиций. Посмотрим, какие страны являются нашими основными кредиторами? На первом месте — Кипр, откуда поступило 8 млрд. Затем идут Нидерланды — 6 млрд., Великобритания — 5 млрд. Потом Ирландия, Гонконг и так далее. Заметим, что в первой десятке стран только у Франции и Австрии по их налоговому законодательству нет откровенно оффшорных компаний.
"ЗАВТРА". Поясните, пожалуйста, что такое оффшорная компания?
Сергей АНУРЕЕВ. Это компания, зарегистрированная на территории с заведомо низким налогообложением. Такими территориями могут быть не только отдельные государства, но и регионы, как, например, в России в 90-е и в самом начале 2000-х, когда Агинский Бурятский автономный округ нуллифицировал налог на прибыль. Или Чукотка…
"ЗАВТРА". Поэтому Роман Абрамович и был там губернатором?
Сергей АНУРЕЕВ. Да. У нас тогда из 24%-ного налога на прибыль 7,5% шло в федеральный бюджет, а 16,5% — в региональный. И крупные предприниматели договаривались с маленькими регионами о том, что они будут через них минимизировать налоги. И сейчас многие бизнесмены продолжают выдумывать, где они "реально" находятся. То есть они могут вести дела в Москве, бывать в Лондоне и быть формальным резидентом, например, Монако, поскольку налоги там значительно меньше. Таким образом, эти бизнесмены манипулируют своим налоговым резидентством, чтобы платить налоги в тех местах, где они минимальны.
"ЗАВТРА". То есть оффшор — это уход от налогов?
Сергей АНУРЕЕВ. В первую очередь, да. Можно это как угодно объяснять: инвестиционный климат, иностранные инвестиции — это всё словеса. Оффшоры — это именно уход от налогов. И это не только наша проблема. Это и американская, и европейская проблематика. Мы же не можем сказать, что в США плохой инвестиционный климат и что они остро нуждаются в иностранных инвестициях. Но проблема оффшоров для них тоже актуальна, поскольку это прежде всего "оптимизация" налогов.
"ЗАВТРА". Вы упомянули Кипр, который является общеизвестным оффшором. А Нидерланды — тоже оффшор?
Сергей АНУРЕЕВ. Да. Но здесь надо различать "чёрные" и "белые" оффшоры. "Чёрные" можно сравнить с "обналичкой" в нашей стране в начале 2000-х годов, когда организовывались фиктивные фирмы, по сговору с банками получавшие наличные. И это стоило для лиц, которые уходили от налогов, от 0,5% до 1%. То есть "чёрные" оффшоры "оптимизируют" налоги в ноль или почти в ноль.
"ЗАВТРА". Как на Кипре?
Сергей АНУРЕЕВ. Кипр в последнее время стал "серым" оффшором, поскольку он вошёл в ЕС и был вынужден поднять свои налоги, но они всё равно остаются заведомо ниже, чем, например, во Франции или у нас.
Кстати, в России благодаря усилиям компетентных органов "обналичка" сильно сократилась в размерах и значительно подорожала. То есть "оптимизаций" налогов под 1% сейчас почти нет, как минимум надо платить в объёме подоходного налога.
"ЗАВТРА". Но для нас повышение налогов на Кипре ничего не даёт, ведь эти налоги уплачиваются Кипру.
Сергей АНУРЕЕВ. Разумеется, переход Кипра из "чёрного" статуса в "серый" обогатил Кипр, а не Россию. Кипр стал получать налогов больше, и по-прежнему эти налоги остаются на Кипре как ключевом инвесторе в нашу страну.
Рассмотрим теперь ситуацию с Нидерландами. В научном журнале МВФ вышла публикация с оценкой различных оффшоров под заголовком "Что является подлинным, а что нет в глобальной системе прямых иностранных инвестиций". Там дан список оффшоров: Нидерланды, Люксембург, Гонконг, Швейцария, Сингапур, Ирландия. Потом идут Бермуды, Виргинские острова, Каймановы острова и т. д.
"ЗАВТРА". Почему первыми стоят Нидерланды?
Сергей АНУРЕЕВ. В их налоговом законодательстве есть такая особенность: если к ним пришла прибыль, сформированная в другой стране, то она не облагается налогами. То есть если вы заработали деньги в самих Нидерландах, будете платить там по полной программе, по прогрессивной шкале, но если вы эту прибыль заработали где-то в другом месте, то вам говорят: "Добро пожаловать, иностранные инвестиции, вы у нас никакие налоги платить не будете".
"ЗАВТРА". То есть наша компания регистрируется в Нидерландах, работает на территории России и таким образом…
Сергей АНУРЕЕВ. Мы сейчас не будем касаться юридических аспектов этих схем, потому что это отдельный вопрос, что собой представляют документы по оффшорам и как компетентные органы всё это вылавливают. Скажем просто, что есть некие отношения по бизнесу между компаниями, зарегистрированными в Нидерландах, и компаниями, зарегистрированными в России. Мы уже говорили, что Нидерланды, согласно данным Банка России, являются второй страной по объёму иностранных инвестиций, к нам приходящих, и налогообложение Нидерландов позволяет не платить никакие налоги за деньги, вошедшие в Нидерланды с других территорий. Ещё одна важная особенность этой страны в том, что у неё действует соглашение об избегании двойного налогообложения с 95 странами. В том числе, с Кипром, Мальтой и далее по списку. Именно поэтому во исполнение предложений президента Путина по искоренению оффшоров мы начали процесс выхода из соглашений о двойном налогообложении с откровенными оффшорами.
"ЗАВТРА". А в чём смысл таких соглашений?
Сергей АНУРЕЕВ. Например, соглашение об избегании двойного налогообложения с Нидерландами было заключено в 1996 году и подавалось тогда как некий прорыв в привлечении иностранных инвестиций. Оно позволяет многие налоги минимизировать у нас и платить их по минимуму там.
В этих соглашениях есть пункт, что мы можем уведомить в одностороннем порядке о выходе из соглашения за полгода до выхода. Таким образом, мы в первую очередь уведомили три самых явных европейских оффшора – Кипр, Мальту и Люксембург — о прекращении действия такого рода соглашений, а в середине августа заявили о пересмотре такого соглашения с Нидерландами. Кстати, как только президент Владимир Путин ещё в разгар самоизоляции по коронавирусу заявил антиоффшорную тематику, обострилась ситуация с малазийским боингом. Трагедия в небе над Донбассом произошла шесть лет назад, но почему-то именно весной этого года правительство Нидерландов активизировалось в международных судах. Случайно?
"ЗАВТРА". Вряд ли.
Сергей АНУРЕЕВ. Более того, есть очень интересные данные на официальном портале правительства о нашем экспорте. Ведь у нас принято говорить об оттоке капитала, но не менее важна проблема лжеэкспорта и лжеимпорта.
"ЗАВТРА". Уточните, пожалуйста, что вы понимаете под оттоком капитала?
Сергей АНУРЕЕВ. Речь идёт о механизме фиктивных иностранных инвестиций. МВФ в указанной выше статье дал статистику по странам, где таких инвестиций больше половины. По России они насчитали их в размере 58%.
"ЗАВТРА". Почему же это отток, ведь деньги пришли в нашу страну?
Сергей АНУРЕЕВ. Они зашли по фиктивным схемам, чтобы потом выйти по-настоящему. Помните знаменитый фильм "Олигарх" про Березовского? Там была такая сцена: у него в кабинете на постаменте стоял веник. Эти веники они использовали в качестве орудия бартера в конце 80-х годов, когда меняли их на автомобили, ещё на что-то. По документам, конечно. На самом деле никому эти веники не нужны были. Это был просто инструмент.
"ЗАВТРА". То есть фиктивные инвестиции заходят…
Сергей АНУРЕЕВ. Как веники Березовского, а потом выходят уже по-настоящему в виде денег, которые реально выплачиваются из нашей страны. То есть нужно что-то фиктивное купить. Вот, например, у нас импорт, по данным платёжного баланса за второй квартал, практически не упал. И это при том, что во время карантина был резкий спад потребления, остановились многие предприятия. А импорт упал совсем несущественно. Значит, либо ошиблись счетоводы, которые считали платёжный баланс, либо что-то не доглядели налоговые органы. Я не поверю, что при таком обвале потребления импорт упал всего на 5%. Какая часть этого импорта была фиктивной и продолжала "уводить" деньги из страны?
"ЗАВТРА". А как эта система связана с оффшорами?
Сергей АНУРЕЕВ. Давайте посмотрим на статистику нашего экспорта. Больше всего мы экспортируем в Китай. За 2019 год наш экспорт в эту страну составил 57 млрд. долларов. Вторыми идут Нидерланды, 44 млрд. Скорее всего, значительная часть экспорта в Нидерланды связана с оффшорными возможностями этой страны.
"ЗАВТРА". А кто-то обращает внимание на такую роль Нидерландов?
Сергей АНУРЕЕВ. Недавно Европейская комиссия обвинила американские IT-гиганты в минимизации налога на прибыль через Нидерланды и Ирландию. Но Европейский суд отменил решение Еврокомиссии о взыскании 13 млрд. долл. с американской компании Apple за минимизацию налогов через Ирландию. Вот вам результат в цивилизованной Европе! У них тоже есть проблема оффшоров, и как-то у них не очень получается с ней бороться…
А вот ещё интересный пример — российский Сити-банк. По официальной информации с сайта Банка России, промежуточным владельцем нашего Сити-банка является Сити-банк, зарегистрированный в Нидерландах. А конечным местом регистрации Сити-банка является штат Делавэр, который является одним из "белых" американских оффшоров. Этот маленький штат не гнушается налоговой "оптимизацией". То есть главная контора Сити-банка зарегистрирована в оффшорной юрисдикции Соединённых Штатов.
"ЗАВТРА". А когда на Западе начали бороться с оффшорами?
Сергей АНУРЕЕВ. Во время кризиса 2008-2009 годов крупные европейские страны и США бросились помогать экономике и резко нарастили бюджетный дефицит и государственный долг. Через несколько лет они опомнились и стали искать способы побороть этот самый государственный долг. В качестве одного из решений была выбрана оффшорная проблематика.
На саммитах стран "Большой двадцатки" неоднократно обсуждалась эта тема, выпускались пресс-релизы, где все 20 стран писали, что это проблема номер один, что надо дружно бороться с оффшорами. В 2014-2015 годах уже были приняты конкретные решения о том, что надо давить на оффшоры и требовать, чтобы они раскрывали всю информацию. Были разные скандалы, например, у английской королевы находили какой-то оффшор в Панаме. Но надо понимать, что любая собственность, которая принадлежит Великобритании, формально зарегистрирована на английскую королеву.
Само "Панамское досье" — это отголосок решений стран "Большой двадцатки" о том, что "давайте хотя бы разбираться, что творится в оффшорах". Но говорят уже сколько лет, а сдвигов особых не видно.
"ЗАВТРА". Если в те же Нидерланды идёт такой огромный приток капиталов, то там уровень жизни должен быть невероятно высоким! Но наверняка всё это и из Нидерландов утекает куда-то?
Сергей АНУРЕЕВ. Конечно! Этим пользуются отдельные юридические и финансовые структуры, которые обслуживают эти потоки. То есть деньги пришли в Нидерланды, которые выступили в качестве страны-транзитёра, и ушли дальше. Люди, которые обслуживают это, то есть нидерландские юристы, бухгалтера, финансисты, получают свою зарплату, и их, на самом деле, очень немного. И когда мы говорим про негативную роль Нидерландов, мы не имеем в виду простых нидерландцев, которые находятся под очень серьёзным налоговым прессом, гораздо большим, чем в нашей стране.
"ЗАВТРА". Если в борьбе с оффшорами даже усилия "Большой двадцатки" не помогают, значит, есть гораздо более серьёзные международные структуры, которые в этом заинтересованы.
Сергей АНУРЕЕВ. Разумеется, иначе упомянутое решение Европейской комиссии о наложении штрафа на Apple не было бы отменено.
Кое-что в этом вопросе высвечивает случай Олега Тинькова. Почему американцы вначале заявили о том, что будут первыми в борьбе с оффшорами, а потом как-то эту тему спустили на тормозах? В налоговом законодательстве США есть парочка интересных вещей, о которых мало кто помнит.
Во-первых, у них подоходный налог является налогом №1. У нас нефть и газ составляют до половины доходов федерального бюджета, а у них — подоходный налог с физических лиц по прогрессивной шкале.
Во-вторых, независимо от того, в какой стране проживает владелец американского паспорта, он обязан все налоги платить в США. Именно поэтому американское правительство оштрафовало Тинькова на огромную сумму за финансовую операцию, которую он провёл в Лондоне, проживая в России.
"ЗАВТРА". При этом имея американское гражданство…
Сергей АНУРЕЕВ. То есть для США ситуация с оффшорами разрешилась достаточно просто: они стали получать данные из оффшорных юрисдикций и облагать своих граждан по американским законам. То есть им нужна прежде всего информация: что и где делают их граждане.
"ЗАВТРА". То есть у них акцент на налогообложение не компаний, а именно физических лиц?
Сергей АНУРЕЕВ. Да, и поэтому тот же Сити-банк не страдает в рамках американского налогового законодательства, если юридическое лицо Сити-банка что-то "заваривает" с Нидерландами, Делавэром и т. д. А вот конкретные топ-менеджеры и акционеры Сити-банка, то есть физические лица, облагаются по полной программе.
А у нас действуют соглашения об избегании двойного налогообложения. И если российский бизнесмен половину времени находится за территорией РФ, реально или номинально, то он не являетесь налоговым резидентом РФ и может платить подоходный налог, где придётся.
Поэтому для США важна не сама борьба с оффшорами, а база данных по оффшорным юрисдикциям. И они эту базу получили.
Вы, кстати, давно последний раз открывали вклад в российском банке?
"ЗАВТРА". Довольно давно.
Сергей АНУРЕЕВ. Если вы сейчас пойдёте открывать вклад, то вас попросят подписать бумагу, что вы не являетесь резидентом США. То есть американцы заставили наши банки следить за тем, чтобы их граждане не хранили деньги в России. Они жёстко отслеживают по всему миру любые финансовые операции, они контролируют доллар, SWIFT и крупнейшие платёжные системы: MasterCard и Visa. Они знают про своих граждан практически всё.
"ЗАВТРА". Понятно, почему они не заинтересованы в борьбе с оффшорами.
Сергей АНУРЕЕВ. Им важно было решить свои проблемы, но так, чтобы другие страны продолжали мучиться с оффшорами.
А представляете, как завопят те, кто у нас любит поговорить об инвестиционном климате, если у нас появится такая же строчка в налоговом законодательстве, как в США? Мол, если вы имеете российский паспорт, извольте платить налоги в России, независимо от того, где вы фактически пребываете. Сколько всего сразу в прессе поднимется шум на тему, какой у нас плохой инвестиционный климат и какое у нас, вообще, государство плохое в плане налоговых изъятий?!
"ЗАВТРА". Получается, в США нет налогообложения юридических лиц? Налоги платят только физлица?
Сергей АНУРЕЕВ. Налогообложение юридических лиц есть, но, например, доля налога на прибыль в доходах бюджетной системы США — это процентов 10. Когда-то у них ставки налога на прибыль доходили до 50%, но сейчас они их снизили до 15-20%. И многие страны вынуждены соревноваться с США за так называемый инвестиционный климат. Наши оппозиционные политики любят говорить: "В России плохой инвестиционный климат, понижайте налоги!" Так вот, американцы понижают налоги на корпорации, делая упор на обложение физических лиц.
"ЗАВТРА". А как сделать так, чтобы физлицо заплатило налоги на прибыль, полученную компанией?
Сергей АНУРЕЕВ. Есть два классических способа: зарплата топ-менеджеров и дивиденды по акциям. В США дивиденды облагаются налогом в составе доходов физлица по прогрессивной шкале. И этим объясняется, почему американское правительство тратило огромные деньги на поддержку фондового рынка во время коронакризиса. Дело в том, что каждое физлицо подсчитывает свой общий котёл по налогам. Туда входит заработок, который оно получило как наёмный менеджер, доходы, например, от сдачи в аренду или продажи чего-либо, а также дивиденды и реализованные курсовые разницы по ценным бумагам, которыми оно владеет. Если физлицо получило убытки по своему инвестиционному портфелю, оно может нуллифицировать другие части своего подоходного налога за счёт этого убытка. И если бы все инвесторы показали убытки от падения американского рынка ценных бумаг на 25-28%, которое было в момент дна коронакризиса, то американский бюджет не досчитался бы огромнейших сумм подоходного налога. Поэтому в американском правительстве решили "спалить" 2 трлн. долларов на возврат фондовых индексов в докоронакризисное состояние и не дать американцам нуллифицировать налоги на 4 трлн. долларов.
"ЗАВТРА". А российские бизнесмены нуллифицуруют налог на прибыль в Нидерландах…
Сергей АНУРЕЕВ. Да, если акционером их компании является компания из Нидерландов, то налог на прибыль будет сильно отличаться от налога, если бы акционером была российская компания. Для этого к нам и заходит огромный объём иностранных инвестиций из оффшорных налоговых юрисдикций, чтобы говорить: "А у нас вот оттуда-то такие-то акционеры, и они там должны платить эти налоги".
"ЗАВТРА". Не могли бы вы привести конкретные примеры сделок в оффшорах?
Сергей АНУРЕЕВ. Не так давно в СМИ было опубликовано расследование о том, как газета "Ведомости" переходила от одних собственников к другим. Заголовок публикации характерен: "Демьян Кудрявцев заработал на сделках с изданием 14 миллионов евро". В этом расследовании утверждается, что смена собственников газеты происходила в кипрских оффшорах, и именно там прежние владельцы (а это не только Кудрявцев, но и такие респектабельные структуры, как "Уолл-стрит джорнэл" и "Файнэншл Таймс") получили эти 14 млн. евро, чтобы заплатить низкие налоги.
Ещё один пример — это бизнес крупнейших аудиторских компаний "большой четвёрки": Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG. Когда-то они были именно аудиторскими компаниями, то есть проверяли финансовую отчётность предприятий и выражали своё мнение о её достоверности. Под эту отчётность наши российские компании и банки привлекали деньги из-за рубежа. Но поскольку мы сейчас находимся под санкциями, у нас легальных западных денег практически нет — ведь здравомыслящий инвестор, понимая, что ему раз в квартал конкретно напоминают о санкциях, не будет у нас ничего размещать.
Поэтому аудиторские заключения сейчас особо никому не нужны. И какой же теперь главный бизнес в аудиторских компаниях "большой четвёрки", где самые большие зарплаты в этих компаниях, куда идут самые талантливые выпускники ведущих российских вузов? Это налоговое консультирование и трансфер-прайсинг. Трансфер-прайсинг означает, что компании в рамках некоей группы, вроде бы друг с другом не аффилированные, играют ценами контрактов, чтобы кто-то, где-то, что-то купил, как веники Березовского, а другой это что-то продал таким образом, чтобы деньги из мест с большой налоговой нагрузкой перешли в места с малой налоговой нагрузкой.
"ЗАВТРА". И какие меры должны быть приняты в связи со всем этим?
Сергей АНУРЕЕВ. Прежде хотелось бы сказать о том, как трудно тем людям, которые с этим борются. Мы говорили, что в 2000-х годах проблемой №1 была "обналичка". Так вот, когда с ней началась борьба, был убит первый зампред Банка России Андрей Андреевич Козлов, один из честнейших руководителей, который был в авангарде этой борьбы.
Далее. В разгар банковского кризиса в Исландии и на Кипре, в двух знаменитейших оффшорах, у неизвестных инвесторов зависли деньги. И в наших крупнейших деловых СМИ, одно из которых, например, находится в Москве у метро "Калужская", выходили заказные статьи против министра финансов Силуанова. А почему? А потому что Силуанов отказывался выдавать государственные деньги кипрским и исландским банкам, за счёт которых наши бизнесмены, которые туда "выкатили" деньги, получили бы их обратно. И СМИ открыто угрожали нашему министру финансов, что если он этого не сделает, то его уволят.
Очевидно, что когда у нас начнётся реальная борьба с оффшорами, руководители Банка России и Министерства финансов получат такие ушаты грязи, в которых разобраться, кто прав, кто виноват, будет очень трудно.
"ЗАВТРА". Может быть, для этого надо какую-то внятную информационную политику проводить пресс-службам этих ведомств? Ведь наши граждане безусловно поддержат борьбу с оффшорами.
Сергей АНУРЕЕВ. Согласен, но чтобы проводить такую кампанию в СМИ, нужно быть не только финансистом, но и талантливым журналистом. Людей, которые одновременно хорошо разбираются и в финансах, и в журналистике, крайне мало.
Теперь перейдём к вопросу, какие решения могут быть приняты. Можно пойти по американскому пути: независимо от местонахождения облагать всех российских граждан, причём даже бывших. Ведь Тинькова оштрафовали не за то, что у него есть сейчас американский паспорт, а за то, что он от него отказался, а при отказе… Знаете, как в Египте для туристов: залезть на верблюда стоит доллар, а слезть с верблюда стоит 5 долларов. Тиньков, наверное, заплатил немало денег, чтобы получить американский паспорт, но чтобы слезть с верблюда, ему пришлось заплатить ещё больше.
И у нас надо сделать так: если какой-то бизнесмен, который заработал деньги в России, вдруг захотел стать резидентом другой страны, то должен заплатить всё полностью. Это первое решение. Второе решение — сделать оффшоры нон-грата, то есть любая операция с оффшорами (неважно, кипрскими, нидерландскими или ещё какими) должна быть табу. Оффшорный контрагент не должен иметь доступа ни к кредиту в госбанке, ни к господдержке, ни к заказам, финансируемым из госбюджета, ни к подрядам Газпрома и других госкорпораций.
"ЗАВТРА". А как это можно сделать?
Сергей АНУРЕЕВ. Подобные решения были реализованы Банком России, когда он боролся с "однодневками", использовавшимися для того, чтобы "рисовать" банковскихе капиталы.
Когда нас обвиняют в плохом инвестиционном климате, говорят, что слишком много отзывов лицензий, много банков закрыто, надо понимать, что многие банки закрывались потому, что они использовались для нечистоплотных схем, связанных с оффшорами. Банк России наработал обширную методологию, как бороться с цепочками сомнительных транзакций и выявлять фиктивные фирмы в этих цепочках. Методология есть, специалисты есть, и если будет на то политическое решение, подкреплённое гарантиями личной безопасности конкретных людей, то всё это можно сделать за квартал.
Похожая ситуация была, когда у нас вводилось законодательство о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Тогда тоже было много стонов со стороны бизнесменов о том, что всё плохо, инвестиционный климат ущемляется. Но меры были приняты, и Росфинмониторинг очень много чего знает про наших бизнесменов. Проблема была в значительной степени решена.
Был ещё один пример стремительного решения налогового вопроса в пользу государства. В начале 2000-х годов через Мост-банк Гусинского проходило много налоговых платежей, и в том банке считали, что этим они защищены от любых претензий правительства, поскольку быстро перенаправить налоговые поступления в Банк России не получится по причине использования налоговых реквизитов Мост-банка сотнями тысяч налогоплательщиков. Но специалисты Банка России решили эту проблему за один вечер, просто дописав программный код, который перенаправил платежи с реквизитами Мост-банка на счета казначейства в Банке России. Утром руководители и собственники Мост-банка пришли на работу и выяснили, что они больше не могут шантажировать правительство.
Эти практики можно использовать и в борьбе с оффшорами. Но сразу возникают вопросы: а как нам быть с боингом в Нидерландах? А с Сити-банком? То есть когда мы принимаем такое решение, мы должны понимать, что от нас уйдёт Сити-банк. И уйдёт, разумеется, с оркестром и песнями на тему, какой у нас, дескать, плохой инвестиционный климат. У нас будет не один боинг, нас обвинят ещё во множестве грехов. Потому что, к сожалению, это не только наша проблематика, очень большие структуры на этом зарабатывают. Надо быть готовыми к потокам негативных публикаций в СМИ про конкретных людей, которые в нашей стране будут этим заниматься, и про Россию в целом.
Поэтому технически побороться с оффшорами — нужно три месяца, и проблема будет закрыта. А вот политически, и самое главное, с точки зрения пиара, с точки зрения объяснения через журналистов, зачем это нужно и как это делается, — это намного сложнее. То есть данная проблема не финансистов, которые знают, как это сделать, а проблема, в первую очередь, политиков и журналистов, в том числе оппозиционных политиков и журналистов, которые выстроятся первыми с криками об ухудшении инвестиционного климата и прочих "ужасах режима".
"ЗАВТРА". Недавно в прессе сообщалось о выработке с Кипром нового соглашения об избегании двойного налогообложения, которое может стать модельным для других стран. Насколько это соглашение решает проблему офшоров?
Сергей АНУРЕЕВ. Первоначально со стороны России заявлялось о прекращении действия этого соглашения, однако, к сожалению, в результате переговоров соглашение было сохранено, хотя в нём и были подняты ставки некоторых налогов, но с исключениями и льготами для эмитентов акций и облигаций и финансовых организаций. С таким перечнем исключений и льгот вряд ли российский федеральный бюджет получит до 150 млрд. руб. в год, как на то рассчитывает Минфин.
В обсуждении этих изменений и комментариях в прессе "первую скрипку" играли специалисты по налоговому планированию компаний "большой четвёрки", а не представители добросовестных налогоплательщиков, у которых нет оффшорных связей, или бюджетополучателей, опасающихся урезания бюджетных расходов.
Посмотрим через год, когда станет доступна статистика за первое полугодие 2021 года, как обновлённое соглашение повлияет на российский платёжный баланс. Но, несмотря на все недостатки, это всё же первый шаг в нужном направлении, пусть и очень маленький.
"ЗАВТРА". В кипрском обновлённом договоре основной упор делается на проценты и дивиденды. Достаточно ли внимания только к этим двум видам операций?
Сергей АНУРЕЕВ. Лжекредиты и лжеинвестиции являются значимыми инструментами ухода от налогов, но далеко не единственными. Мы с вами в начале беседы говорили о минимальном (всего на 5%) падении импорта на фоне коронакризиса, при том, что производство и потребление падало во время самоизоляции на 10-30%, говорили об огромном экспорте в Нидерланды. Но проблематика лжеимпорта и манипуляций с ценами экспортных контрактов публично обсуждается крайне редко, а по этим схемам в оффшоры уходят гораздо большие суммы по сравнению с лжеинвестициями. Разве что по молочной продукции, винам, обуви и шубам, по этикеткам и маркировке этих продуктов принимаются очевидные шаги по ограничению импорта материалов с целью налоговой оптимизации.
Скорее всего, и по этим вопросам нас ждёт долгий путь к полноценному решению.
"ЗАВТРА". Будем надеяться, что будут и политическая воля, и какие-то усилия журналистского сообщества.
Сергей АНУРЕЕВ. Это необходимо, ведь, к сожалению, сейчас не последний финансовый кризис. Мы можем спокойно сводить наш платёжный баланс и не допускать бюджетного дефицита при низкой цене на нефть. Наша проблема сейчас — не дешёвая нефть, а оффшоры со всем комплексом иностранных лжеинвестиций, лжеимпорта и лжеэкспорта.
Беседовала Елизавета Пашкова

Клаус Эрнст: Россию нужно подключить к анализу тестов Навального в ФРГ
Пятнадцатого сентября российский блогер Алексей Навальный опубликовал свое первое после выхода из комы фото и подтвердил, что его состояние улучшилось. Однако в странах Запада по-прежнему продолжают призывать к наказанию России в связи с предполагаемым "отравлением". Глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст рассказал в интервью РИА Новости о том, нужны ли санкции против РФ, как он видит сотрудничество Берлина и Москвы по этому инциденту, стоит ли увязывать ситуацию с проектом газопровода "Северный поток-2" и чем чреват отказ от него.
— Правительство Германии объявило, что все больше лабораторий в Европе подтверждают, что образцы крови Навального содержат яд группы "Новичок". Должно ли федеральное правительство также передать результаты этих исследований российским экспертам?
— Я бы сказал, что это само собой разумеется, если, как было объявлено, оно (правительство ФРГ) хочет поддержать российскую сторону в расследовании. Результаты этих исследований должны быть детально представлены российской стороне.
— Почему федеральное правительство колеблется до сих пор в этой связи?
— Не знаю. Я не хочу сейчас ничего предполагать за федеральное правительство. Возможно, речь идет о вопросах секретности. Но я очень надеюсь, что правительство Германии как можно скорее подключит российскую сторону к анализу этих результатов. Нельзя требовать разъяснений и в то же время скрывать собственные сведения.
— СМИ описали в минувшие выходные шесть сценариев того, как Германия еще может предотвратить "Северный поток-2". На ваш взгляд, есть ли способ остановить "Северный поток-2" таким образом, чтобы Германия не понесла экономических потерь?
— Я не читал этой статьи, но я определенно считаю неправильным, если федеральное правительство приняло бы сейчас меры, чтобы остановить этот проект. Энергетическое партнерство с Россией возникло в те времена, когда отношения между ФРГ и Россией, тогда Советским Союзом, были намного хуже, чем сегодня. Это были времена холодной войны. И это энергетическое партнерство успешно пережило все кризисы, потому что оно отвечает интересам обеих сторон. Российская сторона, кстати, никогда не использовала экспорт газа в качестве средства давления, как и немецкая сторона. Это было бы совершенно новым качеством (отношений), если бы это было сделано сейчас. Я могу только предостеречь от этого.
Если посмотреть в целом на санкции, которые ЕС проводит против России в течение шести лет, то научное исследование Кильского института мировой экономики и университета Линнань в Гонконге показало, что только 56% торговых потерь из-за этих санкций несет Россия. Остальной ущерб, составивший около 42 миллиарда долларов только за период с марта 2014 года по конец 2015 года, был почти полностью нанесен ЕС. Так что санкции вредят нам самим, Европе, почти так же сильно, как и России. Этот эффект авторы исследования описали термином friendly fire (англ. дружественный огонь), то есть обстрел собственных людей. Это не в интересах Германии и Европы. Вот почему я считаю, что несмотря на острую проблему с Навальным, которую необходимо решать в любом случае, никакие новые санкции против России в повестку дня входить не должны.
— Сейчас складывается впечатление, что немецкие политики считают, что "Северный поток-2" вовсе не в интересах Германии. Например, члены партии "Зеленые" заявляют, что нужно полностью отказаться от российского газа. Что вы думаете об этом?
— В этом нет ничего нового. "Зеленые" всегда были против этого газопровода. Они думают, что он нам не нужен. Мы хотим полного обеспечения за счет возобновляемой энергетики, ЕС только что вновь расширил свои цели в этой области. Мы хотим к 2050 году практически полностью избавиться от выбросов CO2. Нам нужен газ как переходная технология, если мы хотим справиться с отказом от угля и ядерной энергетики, сохранив при этом нашу промышленность и мобильность. Путь к абсолютной экологически чистой энергетике лежит через природный газ в качестве промежуточной технологии.
— Какие шаги нужно предпринять сейчас, чтобы снова прийти к разумному диалогу?
— В первую очередь, конечно, Россия должна провести расследование. Для меня нет сомнений в том, что Навальный был отравлен. Если три института независимо друг от друга обнаружили этот яд в его теле, то я предполагаю, что это так и есть. Однако пока не ясно, как это произошло и кто это был. Полное разъяснение этого вопроса также в интересах России. Россия должна быть заинтересована в сохранении отношений с Европой на партнерском уровне. Со стороны Германии должно быть сделано все, чтобы поддержать это расследование, которое должны провести русские. На мой взгляд, к этому расследованию относится и опрос Навального. Но в то же время мы должны разделять вещи, которые не имеют ничего общего друг с другом. Это относится к "Северному потоку-2".

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОБМАН
РОБЕРТ КАПЛАН
Заведующий кафедрой геополитики Института исследований внешней политики.
ЭЛБРИДЖ КОЛБИ
Руководитель Marathon Initiative. Служил помощником заместителя министра обороны по вопросам планирования и развития боевого потенциала в 2017–2018 году.
СОПЕРНИЧЕСТВО США И КИТАЯ – ВНЕ ИДЕОЛОГИИ
Примечательная статья американских коллег, в которой, наконец, чётко сказано, что Китай и США обречены на соперничество, даже если КНР каким-то чудом станет демократией.
Хотя система американской двухпартийности пребывает в специфическом состоянии, кое-что всё же объединяет обе партии – глубокая озабоченность в отношении Китая. В феврале этого года на Мюнхенской конференции по безопасности спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, отвечая на вопрос о том, согласна ли она с политикой президента Трампа в отношении Китая, сухо, но убедительно заявила: «У нас есть согласие по этой теме». Показательно, что новый закон, поддерживающий Гонконг и Тайвань и вводящий санкции против китайских чиновников, прошёл в Конгрессе очень легко.
В отличие от прошлых лет, сегодня в вашингтонских коридорах власти у Китая очень мало друзей, если вообще есть.
Даже за пределами Конгресса по всему политическому спектру формируется широкое согласие в отношении Китая как источника угрозы для Соединённых Штатов. Многие видят причину этого прежде всего в том, что КНР – репрессивное однопартийное государство, управляемое последователями марксистско-ленинской идеологии, чей лидер Си Цзиньпин накопил больше личной власти, чем кто-либо в Пекине со времен Мао Цзэдуна. Как администрация Трампа, так и кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден раскритиковали Китай за его отвратительную политику в области прав человека, которая включает в себя, среди прочих зверств, заключение миллиона мусульман-уйгуров в концентрационные лагеря. Ведущие эксперты в сфере внешней политики, ориентированные на Демократическую партию, Курт Кэмпбелл и Джейк Салливан, писали в прошлом году: «Китай в конечном счете может представлять собой даже более серьёзный идеологический вызов, чем Советский Союз… Восхождение Китая к статусу сверхдержавы будет способствовать укреплению автократий. Китайская модель соединения авторитарного капитализма и системы цифрового слежения может оказаться даже более прочной и привлекательной, чем марксизм».
Нельзя сказать, что критика Китая несправедлива. Соединённые Штаты действительно находятся в состоянии жесточайшей конкуренции с КНР, что требует от них занять жёсткую позицию по многим направлениям. Но Вашингтон никогда не должен уклоняться от поддержки принципов республиканского правления и уважения человеческого достоинства.
Несмотря на это, не идеология лежит в основе отношений между Соединёнными Штатами и Китаем – даже если некоторые элементы марксистско-ленинской элиты КНР думают по-другому.
Сам масштаб китайской экономики, населения, а также территории и их потенциальная мощь вызвали бы глубокую озабоченность США, даже если бы Китайская Народная Республика представляла собой демократию. Фокусироваться при анализе этих отношений исключительно на проблеме идеологии значило бы неминуемо исказить саму их природу – что имело бы потенциально катастрофические результаты.
Истоки китайского поведения
Китай – огромное государство, крупнейшая из великих держав, появившихся в международной системе с конца XIX века, включая сами Соединённые Штаты. КНР стремится занять позицию гегемона в Азии, – регионе, являющемся на сегодняшний день крупнейшим рынком в мире. Хотя Коммунистическая партия Китая (КПК) более идеологична, чем многие представляют, мотивы Пекина в достижении этих целей в значительной степени лежат вне идеологии.
Китай, вероятнее всего, стремится сформировать благоприятную для своей экономики региональную торговую зону – современный аналог существовавшей когда-то системы сбора дани, которая в XIV–XIX веках являлась основой господства Китая в Восточной Азии. Сегодня, когда контуры мира всё больше определяются растущими торговыми барьерами, Китай получит огромное преимущество в формировании широкого рыночного пространства, соответствующего его стандартам и крайне выгодного для его работников и компаний. Стремление КНР к гегемонии также имеет стратегическую цель. Китайское представление о себе как о крепости, окружённой противниками, главным образом, союзниками США, существует уже довольно давно. Теперь Пекин намерен заставить соседние государства интегрироваться в его систему безопасности. И вот теперь, после «века унижения» Китай стремится встать в полный рост, утверждая свою власть в Азии и за её пределами.
Ни один из этих императивов не является строго идеологическим. Нацистская Германия и имперская Япония тоже стремились к региональной гегемонии, как это делали послевоенный Советский Союз, постреволюционная Франция в начале XIX века и Соединённые Штаты в Северной Америке в XIX веке. А либеральная Великобритания управляла империей через систему преференциальной торговли, как и Третья Французская Республика.
Но какими бы естественными ни были устремления Китая, у Соединённых Штатов есть очень чёткий, первостепенный интерес в том, чтобы помешать Пекину в их реализации. Этот интерес исключительно важен для американцев: возможность торговать и иным образом экономически взаимодействовать с азиатскими партнёрами. США просто не могут позволить себе быть исключёнными (или подвергаться серьёзной дискриминации) из этого обширного, всё ещё растущего рынка. Если бы это произошло, китайские компании получили бы доступ к гораздо большей доле рынка, всё больше превосходя американских конкурентов. Соединённые Штаты стали бы объектом китайского силового давления, а американское процветание и в – конечном счёте – безопасность оказались бы под угрозой.
К счастью, многие другие государства в Азии и за её пределами также демонстрируют интерес в том, чтобы Китай не смог достичь положения полноправного регионального гегемона. Причем геополитическая палитра этих государств весьма разнообразна: начиная с Австралии и Японии и заканчивая Индией и Вьетнамом. Все они, независимо от их внутриполитического устройства, заинтересованы в сохранении своей автономии от доминирующего китайского влияния. Во главе с США эти государства могут сформировать общую коалицию, чтобы блокировать попытки Китая реализовать свой гегемонистский потенциал в Азии.
Ошибочное мышление
Создание такой коалиции будет затруднено, если американские политики будут продолжать рассматривать конкуренцию с Китаем в первую очередь как идеологическую. Хуже того, это может привести к гораздо более негативным последствиям, чем можно предполагать. Идеологическая борьба по определению превращает соперничество в рэстлинг на выживание, делая его интенсивность и риск ещё больше. Сама природа идеологической парадигмы требует, чтобы Соединённые Штаты работали над преобразованием китайского государства и системы, в свою очередь давая Пекину всё больше поводов идти на потенциально катастрофические меры, чтобы предотвратить поражение. Правда заключается в том, что Вашингтон может жить с Китаем, управляемым КПК, но только до тех пор, пока он уважает интересы США, а также интересы их союзников и партнёров.
Анализ, основанный на чрезмерной идеологизации, может блокировать потенциал для более стабильных отношений, если коммунистический Китай готов уважать американские интересы. Соединённые Штаты уже проходили этот путь. В 1954 г. госсекретарь Джон Фостер Даллес отказался пожать руку китайскому премьеру Чжоу Эньлаю, что усугубило ситуацию, сделало Вашингтон неспособным использовать советско-китайский раскол и привело к втягиванию во вьетнамскую кампанию. Восемнадцать лет спустя президент Ричард Никсон и советник по национальной безопасности Генри Киссинджер в разгар культурной революции вели переговоры с Мао и Чжоу, чтобы открыть новый фронт в конфронтации с Советским Союзом. Президент Джордж Буш – старший направил советника по национальной безопасности Брента Скоукрофта для переговоров с КНР всего через месяц после резни на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Все эти американские лидеры понимали, что в соперничестве великих держав настаивать на идеологическом согласии или полной победе – глупая затея и, вполне возможно, пролог к катастрофе.
Истолкование конкуренции как преимущественно идеологической имеет тенденцию превращать всякую проблему в другой стране в повод для дискуссии о том, какая политическая система лучше. При этом такое истолкование преувеличивает важность фундаментально второстепенных по своему значению событий. Во время холодной войны такое мышление «поддержи любого друга» привело США к погружению в свой «долгий национальный кошмар» во Вьетнаме, где они вели войну, ставшую неоправданной высокой ценой за оспаривание советской гегемонии над промышленно развитыми районами Европы и Азии.
Соединённым Штатам будет сложно, если не невозможно, взаимодействовать с менее либеральными или недемократическими государствами, если идеологический императив будет брать верх. Но многие из наиболее важных стран, которые могли бы присоединиться к коалиции государств, противоборствующих региональной гегемонии Китая, либо не являются демократиями, такие как Вьетнам, либо, как Индия и Малайзия, являются демократиями, которые многие критикуют как нелиберальные. Ни одна страна в критически важном регионе Юго-Восточной Азии не является образцовой демократией. Преувеличение роли идеологии в конкуренции с Китаем будет препятствовать сотрудничеству с этими государствами и даже чревато их отчуждением, что значительно затруднит процесс сдерживания Китая. У Соединённых Штатов нет серьёзных оснований иметь в своей коалиции Данию или Нидерланды, но ситуация кардинально меняется, если мы говорим об Индонезии, Малайзии, Сингапуре, Таиланде или Вьетнаме.
Представление о конкуренции как о явлении фундаментально идеологическом также обманчиво. Это чревато потворством несбыточной надежде на то, что, как только либеральная демократия распространится по всему миру, стратегическое соперничество прекратится и США смогут спокойно сотрудничать с государствами-единомышленниками в безопасном мире. Эта ложная, тысячелетняя надежда порождает нереалистичные ожидания, вместо того чтобы готовить Америку к устойчивому вовлечению и соперничеству в мировой политике.
Распад Советского Союза и последующая траектория развития России должны были научить американцев тому, что даже если такой грозный, идеологически непримиримый противник сдастся и трансформирует свою политическую систему, эти внутренние преобразования вовсе не обязательно снимут основную стратегическую напряжённость. Современная Россия вполне может быть более решительно настроена против Запада, чем Советский Союз в 1980-е годы, после разрядки, Хельсинкских соглашений и прихода к власти Михаила Горбачёва.
Иерархия потребностей
Соединённые Штаты оказались на подобном перекрестке в начале холодной войны. Некоторые политики, например, президент Дуайт Эйзенхауэр, следовали стратегии совмещения, с одной стороны, жёсткой линии в отношении Советского Союза, с другой – принципа избирательности в конфронтации, направляя внешнюю политику США в сторону того, что называлось «средний путь». Другие, такие как авторы Меморандума NSC-68 1950 г. (важнейшего доклада Совета национальной безопасности времён холодной войны), верили в экспансивный, системный подход к противостоянию с ССС, мышление, благодаря которому американцы оказались втянуты во Вьетнам. Сейчас, в условиях нового противостояния великих держав, Вашингтон находится в аналогичном положении, и кажется очевидным, что выбор должен быть сделан в пользу стратегии Эйзенхауэра.
Идея, которую мы предлагаем, это не ограниченный одним лишь эгоистично-практическим императивом курс в стиле реал-политик. Соединённые Штаты должны отстаивать свободу, принципы республиканского правления и ценность человеческого достоинства. Поддержка этого привлечёт к американскому знамени широкие социальные группы по всему миру, а также поможет продемонстрировать опасность преклонения перед Пекином и послужит стимулом для активизации коллективных усилий. Но мы должны признать, что и сам Китай мыслит, по крайней мере, в общем виде, именно идеологическими категориями.
Однако внешняя политика состоит из иерархии потребностей. Внешняя политика – особенно в государствах с республиканской формой правления – должна служить интересам граждан страны. Хотя американцы могут желать, чтобы китайское общество стало более свободным и справедливым, их правительство не должно нести ответственность за это, особенно учитывая издержки и риски продолжения чрезмерно идеологизированного конфликта с Пекином. Соединённые Штаты, безусловно, могут и должны разграничивать себя и Китай, подчеркивая важность принципов уважения человеческого достоинства и политических прав. Но политики должны сохранять ясное видение ситуации и демонстрировать разумную избирательность, особенно когда ставки так высоки.
Перевод: Елизавета Демченко

ПОДЪЁМ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОРРУПЦИИ
ФИЛИП ЗЕЛИКОВ
Профессор истории и госуправления Центра Миллера в Университете Вирджинии. Американский дипломат, исполнительный директор комиссии по терактам 11 сентября. Работал в пяти администрациях Белого дома.
ЭРИК ЭДЕЛЬМАН
Советник Центра стратегических и бюджетных оценок, старший советник Фонда защиты демократий. Заместитель министра обороны США по политическим вопросам с 2005 по 2009 год.
КРИСТОФЕР ХАРРИСОН
Консультант по финансовым и политическим рискам. Советник Министерства обороны и Госдепартамента в период президентства Джорджа Буша – младшего.
СЕЛЕСТА УОРД ГВЕНТЕР
Заместитель помощника министра обороны в администрации Джорджа Буша – младшего. С осени 2020 года сотрудник Центра внешнеполитических стратегий Техасского университета A&M.
КАК ГОСУДАРСТВА ПРЕВРАТИЛИ ВЗЯТКИ В ОРУЖИЕ
Весьма симптоматичная статья, которая хорошо вписывается в картину мира, формируемую американским политическим истеблишментом в отношении государств-противников. Факты и интерпретации оставляем на совести авторов, некоторые нелепости видны невооружённым взглядом, но наиболее интересно, что крайне именитые авторы статьи видят коррупцию исключительно в контексте Трампа и роящихся вокруг него автократов. Никакие другие американские администрации и политики, вероятно, ни о чём таком и помыслить не могли.
Взяточничество – не новость, возможно, это вторая древнейшая профессия. Влиятельные люди и их окружение всегда использовали откаты, «деньги в обмен на услуги» и другие коррупционные схемы, чтобы обогатиться и получить нечестное преимущество. Коррупция всегда представляла угрозу для верховенства закона и препятствовала защите гражданских и экономических прав.
Новое – трансформация коррупции в инструмент государственной стратегии. В последние годы ряд стран – прежде всего Китай и Россия – нашли способ превратить коррупцию, которая раньше была характерной чертой их политических систем, в оружие на глобальной арене. Страны делали это раньше, но в таком масштабе – впервые.
Результатом стал незаметный, но существенный сдвиг в международной политике. Соперничество между государствами обычно было связано с идеологией, сферами влияния и национальными интересами, побочные выплаты того или иного рода были одной из возможных тактик. Однако теперь они стали ключевым инструментом государственной стратегии, способом добиться определённого политического результата и воздействовать на ситуацию в конкретных странах. Эта форма коррупции базируется на асимметрии. Любое правительство может нанять скрытых агентов или подкупить чиновников в другой стране, но относительная открытость и свобода демократических обществ делает их особенно уязвимыми для подобного враждебного воздействия, а их недемократические конкуренты просчитали, как использовать эту слабость.
Борьба с коррупцией всегда оставалась в стороне общественных и академических дискуссий о внешней политике. Считается, что это проблема правоохранительной системы и эффективного государственного управления, то есть она сдерживает политическое и экономическое развитие, но не выходит на уровень государственной стратегии. Однако сегодня коррупция превратилась в политическое оружие. Способы борьбы с ней должны войти в мейнстрим международной политики всех уязвимых государств, включая США.
Коррупционный прорыв
Стратегическая коррупция отличается от традиционных форм, которые принято называть бюрократической и большой коррупцией. Бюрократическая коррупция – широко распространенное явление на госслужбе, когда требуется «плата за услугу»: например, во многих странах, чтобы получить водительские права или разрешение строительной инспекции, нужно дать взятку. Этот вид взяточничества препятствует экономическому развитию, поскольку люди со связями получают прибыль от инвестиций в ущерб реальному росту.
Большая коррупция происходит, когда представители бизнеса или криминала (или олигархи) напрямую платят высокопоставленным чиновникам в обмен на преференции или контроль над ключевыми секторами экономики, где можно получить большую прибыль, – чаще всего это банки, телекоммуникации и природные ресурсы, такие как нефть и газ. Обе формы традиционной коррупции подрывают слабые государства, ведут к их распаду и гражданскому конфликту – этот процесс сейчас можно наблюдать в Алжире, Боливии, Иране, Ираке, Ливане и Венесуэле.
При бюрократической и большой коррупции тот, кто даёт взятку, и тот, кто берёт, просто пытаются обогатиться. При стратегической коррупции жадность по-прежнему присутствует, по крайней мере у некоторых игроков, но коррупционные действия в конкретной стране предпринимают иностранцы в соответствии с национальной стратегией своей страны. Иногда эти схема подразумевают нарушение закона, в том числе гражданами страны-объекта. В других случаях действия технически являются законными, но предполагают «искажение или нарушение целостности исполнения государственных обязанностей», как сказано в определении коррупции в Оксфордском словаре. Поэтому одни акты коррупции наказываются по закону, другие остаются на усмотрение граждан, если о них становится известно.
Первые усилия по борьбе со стратегической коррупцией в США были направлены именно на это. Акт о регистрации иностранных агентов (FARA) вступил в силу в 1938 году и стал результатом расследования Конгрессом фактов коммунистической и нацистской пропаганды в США. По закону представители иностранных спонсоров должны были регистрироваться, чтобы их деятельность была «безжалостно публичной».
В 1960-х после новых расследований Конгресса в FARA был внесён ряд поправок, которые в основном касались спонсирования политического лоббизма, а не пропаганды. Следующие несколько десятилетий иностранное влияние в корыстных целях оставалось малозаметным явлением, чаще всего это были попытки диктаторов приобрести влияние в Вашингтоне и других западных столицах.
Ситуация начала меняться в 1990-е годы. Неожиданно появилось много новых покупателей. С крахом коммунизма возникло более двадцати новых правительств. Все они хотели завести друзей в Вашингтоне, столице единственной мировой супердержавы. И находили консультантов и юристов, готовых дать совет за большие деньги. Особенно прибыльным новым бизнесом стало содействие американским и глобальным инвестициям в новые страны. Пока Соединённые Штаты склонялись к экономическим санкциям в качестве политического инструмента, иностранцы всё больше нуждались в регуляторных механизмах.
Разрегулированность глобальной финансовой системы в 1970-1980-е гг. позволяла с лёгкостью перемещать и инвестировать деньги во всех направлениях, а потом выводить их обратно. Открытые процветающие страны – Канада, Великобритания и США – привлекли миллиарды долларов, которые ежегодно отмывались через анонимные компании, инвестиции в недвижимость и другие схемы. В 2001 г. Организация экономического сотрудничества и развития назвала анонимные компании главным средством сокрытия нелегальных транзакций по всему миру. Соединённые Штаты, где не было законодательства, требующего прозрачности «конечных владельцев-бенефициаров» корпоративных структур, постепенно превратились в безопасную финансовую гавань для отмывания денег, финансирования терроризма, клептократов и контрабандистов. Поэтому резкий рост транснационального криминала после окончания холодной войны способствовал не только традиционной, но и стратегической коррупции. В конце концов, как сказал журналист Оливер Буллоу, «плохие деньги всегда соединяются с шальными деньгами».
Кумулятивным результатом всех этих изменений стал экспоненциальный рост коммерции с участием иностранных групп интересов. Американцы со связями (реальными или только заявленными) в политических кругах получили возможности для любых форм коррупционного поведения. Политические консультанты и бывшие чиновники, занявшиеся очень прибыльной и практически нерегулируемой торговлей, постоянно проходили проверку на этичность и патриотизм. Одни относились к этим вызовам осторожно, прислушиваясь к чувству долга, другим было всё равно.
Идеальная авантюра Руди и Дмитро
Возможно, самый известный случай стратегической коррупции последних лет – это украинский скандал, который привёл к процедуре импичмента президента Дональда Трампа в 2019 году. Многие американцы считают это внутренним политическим скандалом, но важно понимать его иностранные корни.
Процедура импичмента началась из-за попыток Трампа летом 2019 г. увязать дальнейшие отношения с Украиной с готовностью Киева помочь ему раскопать компромат на Джо Байдена, обвинить прежнее украинское правительство (а не Кремль) в хакерских атаках на Национальный демократический комитет в ходе президентской кампании 2016 г. и подорвать обоснованность обвинений против одного из менеджеров своего предвыборного штаба Пола Манафорта. На самом деле история началась задолго до всех этих усилий Трампа, а её авторы – не американцы.
В 2018 г. некая группа решила опорочить американского посла на Украине Мари Йованович и добиться её отзыва. В группу входили два натурализованных американских гражданина с украинскими корнями – Лев Парнас и Игорь Фруман, их американский юрист и партнёр Руди Джулиани (он же личный юрист Трампа) и два бывших сотрудника правоохранительных органов Украины – Юрий Луценко и Виктор Шокин. Парнас, Луценко и Шокин передали компрометирующую информацию о Йованович и Байдене – часть позже оказалась ложной – Джулиани и Питу Сешнсу, конгрессмену-республиканцу от Техаса. Джулиани обеспечил освещение в СМИ, которое позже активизировалось при поддержке Трампа и его сына Дональда Трампа – младшего.
Но за этой группой стояли более крупные игроки, определявшие повестку кампании. По данным прокуратуры Нью-Йорка, предъявившей прошлой осенью Парнасу и Фруману обвинения в заговоре и нарушении правил финансирования избирательных кампаний, эти двое, хотя у них было мало собственных средств, жертвовали сотни тысяч долларов комитетам в поддержку кандидатов через подставную фирму при содействии иностранных фондов. У них были и другие планы. По данным Associated Press, в марте 2019 г. Парнас и Фруман предложили Андрею Фаворову, одному из руководителей «Нафтогаза», сделку – импортировать американский сжиженный природный газ. По итогам сделки Фаворов должен был заменить главу компании Андрея Коболева. Парнас и Фруман говорили Фаворову, что Йованович будет сопротивляться сделке, но убеждали, что скоро её отправят домой.
Вряд ли этих двоих можно назвать фрилансерами. Как пишет журналист Кэтрин Белтон в книге «Люди Путина» (Putin’s People), Парнас и Фруман работали на Дмитрия Фирташа, украинского олигарха, который при поддержке Кремля получил контроль над торговлей газом между Туркменией, Россией и Украиной. (Прокуратура Нью-Йорка заявила, что Фирташ выделил Парнасу не менее миллиона долларов). Согласно данным The Washington Post, по предложению Парнаса и Фрумана «Нафтогаз» должен был списать сотни миллионов долларов, которые Фирташ задолжал компании.
Политические цели интриги и вероятное участие Фирташа превращают эту историю из обычной грязной сделки в пример стратегической коррупции. Фирташ – известная фигура на Украине. Многие годы он контролировал торговлю с Украиной для «Газпрома», который, по мнению экономиста и эксперта по России Андерса Ослунда, «стал главным геополитическим инструментом России на постсоветском пространстве и в Восточной Европе». Для России эффективный контроль торговли и транзита газа через Украину – важнейшая национальная цель. Фирташ был человеком «Газпрома» в Киеве. Как отмечает Ослунд, «Фирташ скорее был агентом влияния Кремля, а не бизнесменом».
Фирташ был арестован в Вене в 2014 г., после того как американские федеральные прокуроры обвинили его в попытке подкупа чиновников в Индии. Российский бизнесмен из окружения президента Владимира Путина дал Фирташу 125 млн евро для выхода под залог. С тех пор Фирташ пытается избежать экстрадиции из Австрии с помощью многочисленных американских адвокатов, включая представителей обеих партий. Среди них Джозеф Ди Дженова и Виктория Тонсинг, юристы, тесно связанные с Джулиани. Фирташ говорил, что заплатил за их услуги более миллиона. Адвокаты отрицали, что Фирташ был замешан в дела Парнаса и Фрумана. The Washington Post утверждает, что им удалось договориться о необычной встрече с генпрокурором США Уильямом Барром по поводу экстрадиции Фирташа. (Деньги – не единственное, что получили американские партнёры Фирташа; как утверждает The New York Times, его юристы в Австрии передали Джулиани документы, изобличающие действия Байдена.)
Ди Дженова и Тонсинг появились на Fox News не для того, чтобы объяснить позицию Фирташа, они предупредили миллионы американцев о злом банкире Джордже Соросе, который пытается контролировать политику США на Украине. Сорос, говорили они, манипулирует американскими дипломатами. Адвокаты Фирташа упоминали о фондах, которые финансирует Сорос, чтобы продвигать свои представления об «открытом обществе». Что бы кто ни думал о преференциях Сороса в американской политике, его фонды проделали огромную работу для поддержания прозрачности и верховенства закона в Восточной Европе. Кремль и его друзья старались разрушить результаты этой работы и выбрали Сороса как объект жёсткой, часто антисемитской пропаганды.
Украинский скандал, пишет Белтон, «продемонстрировал одновременно хрупкость американской политической системы и то, как она подрывается изнутри. “Кажется, вся американская политика предлагается на продажу, – говорил бывший российский банкир со связями в органах безопасности. – Как оказалось, всё зависит от денег, а эти [западные] ценности просто лицемерие”».
Создаётся впечатление, что тратя миллионы долларов и предлагая информацию как приманку для Трампа, команда Фирташа пыталась не допустить его экстрадиции, передать контроль над энергетическим сектором Украины более податливому человеку и избавиться от американских чиновников, которые этому мешали. Кроме того, она распространяла теории заговора, которые давно стали основой российской пропаганды. Цели Фирташа были практически идентичны целям Кремля, и это не совпадение. Это повестка, появившаяся отнюдь не в США.
Коррупция с китайскими особенностями
Не только режим Путина использует коррупцию как инструмент для продвижения своих национальных интересов. Пекин ведёт аналогичную игру. Вспомните историю с китайской энергетической компанией CEFC China Energy. Реальный характер деятельности компании и её руководителя Е Цзяньмина остаётся загадкой. Е Цзяньмин занимался инвестициями и налаживал контакты с властями по всему миру, в том числе в Чехии. В 2018 г. эксперт из Праги, следивший за деятельностью Е Цзяньмина, сказал The New York Times: «Уже ясно, что это не просто китайская коммерческая компания, у них есть связи в спецслужбах». Как отмечала CNN, «компания настолько тесно связана с китайским правительством, что иногда их трудно отделить друг от друга».
Ситуация стала ещё загадочнее в 2017 г., когда власти США арестовали высокопоставленного сотрудника CEFC Патрика Хо по обвинению во взяточничестве и отмывании денег. Хо, бывший министр правительства Гонконга, активно пропагандировал инициативу «Пояс и путь», амбициозный инфраструктурный проект, который должен связать Китай с Африкой и Европой сетью автомобильных и железных дорог, а также морских путей, что будет способствовать торговле и экономическому развитию.
Хо полагался не только на ораторское искусство. В 2014 г. он вручил президенту Чада Идрису Деби 2 млн долларов в подарочных коробках. Спустя два года он дал взятку в 500 тысяч долларов президенту Уганды Йовери Мусевени. Взятки должны были открыть китайскому бизнесу путь на нефтяной и газовый рынки этих стран. Хо продвигал не только «Пояс и путь». По данным американских прокуроров, он также занимался незаконной продажей оружия в Ливии и Катаре и предлагал помощь Ирану в выводе из Китая средств, подпавших под санкции.
Через несколько месяцев после ареста Патрика Хо глава CEFC China Energy Е Цзяньмин исчез. По слухам, он задержан в Китае, а компания перешла под контроль государства.
Ещё со времён конфликта с Британской империей китайские лидеры знают, как действовали британцы в XIX веке: мощь империи базировалась не столько на солдатах и оружии, сколько на контроле над портами, каналами, железными дорогами, рудниками, судоходными маршрутами, телеграфными линиями, коммерческими стандартами и биржами. Студенты, изучающие историю Британской империи, лишь покачали головой, услышав что-то знакомое в заявлении министра иностранных дел Джибути Махмуда Али Юсуфа в прошлом году: «Да, наш долг Китаю составляет 71% нашего ВВП, но нам нужна эта инфраструктура». Китай сегодня строит глобальную систему сухопутных и морских маршрутов в соответствии со своими нормами и стандартами сотрудничества, финансируют её китайские банки, а способствуют этому взятки и подкупы, достигшие эпического масштаба.
Эксперты расходятся во мнении о том, представляет ли «Пояс и путь» угрозу для американских интересов. В любом случае нужно понимать, что коррупция лежит в основе этого проекта, который характеризуется отсутствием прозрачности и огромными деньгами, а в результате высокопоставленные чиновники по всему миру оказываются на крючке у Компартии Китая. Инфраструктура трёх континентов связана с авторитарным правительством в Пекине, которое, как известно, занимается сбором персональных данных и подавлением несогласных. Не все местные чиновники воспринимают ситуацию так же беззаботно, как глава МИД Джибути, на некоторых нужно воздействовать по-другому.
Возможно, именно поэтому Китай использует более системный подход к стратегической коррупции в Австралии. В последние годы тема попыток КНР изменить местный политический ландшафт доминирует в австралийских СМИ. Богатые жертвователи со связями в Пекине спонсируют австралийские политические организации и предвыборные кампании, воздействуют на общественное мнение и дают деньги политикам, которые восхваляют Китай. В 2018 г., когда СМИ обнаружили подобные скрытые пожертвования у австралийского сенатора, – который, кстати, консультировал своего китайского спонсора по борьбе со слежкой, – политику пришлось уйти в отставку.
В 2005 г. китайский дипломат Чень Йонлинь, получивший политическое убежище в Австралии, написал, что Китай «предпринимает системные усилия по проникновению в Австралию на структурной основе». Австралийские власти согласны. В прошлом году, уходя с поста генерального директора австралийской разведки, Дункан Льюис публично предупредил о коварных планах Китая. «Не только в политике, но и в общественной жизни, и в бизнесе чувствуется иностранное проникновение, ниточки ведут за океан», – заявил Льюис. Можно сказать, что Австралия столкнулась с той версией стратегической коррупции, которая обеспокоила американцев в 1930-е гг. и вынудила принять FARA. В 2018 г. в Австралии был одобрен закон о прозрачности схем иностранного влияния, который базируется на FARA, но с некоторыми усовершенствованиями.
«Небольшой конфликт интересов»
Не только противники США используют коррупцию как оружие. Турция – пример номинального союзника, который прибегает к аналогичным методам. В прошлом году прокуратура США обвинила второй по величине госбанк Турции Halkbank в организации масштабной схемы для обхода режима международных санкций против Ирана – в исламскую республику ввозилось золото в обмен на нефть и газ. Турецкая сторона утверждала, что у американского суда нет юрисдикции. В итоге Halkbank отказался признать свою вину и ожидает рассмотрения дела в Нью-Йорке. Турция не просто хотела подорвать усилия по изоляции и ослаблению иранского режима, что является одной из целей внешней политики Вашингтона. Анкара стремилась добиться определённого политического результата.
В 2016 г. турецко-иранский бизнесмен Реза Зарраб, замешанный в заговоре, был арестован в США. Существовала вероятность, что он признает вину и расскажет об участии турецких чиновников в своей схеме. Но Джулиани и его давний друг Майкл Мукасей, генпрокурор в администрации Джорджа Буша – младшего, согласились защищать Зарраба и приложили все силы, чтобы его освободить.
Прежде чем разрешить двум юристам представлять интересы Зарраба, судья провёл несколько слушаний, чтобы выявить потенциальный конфликт интересов. Юридическая фирма Джулиани была зарегистрирована как агент Турции, и судья отметил, что он может не получить одобрения, так как дело «возможно, противоречит интересам Турции». В феврале 2017 г. Джулиани и Мукасей отправились в Турцию, чтобы обсудить дело Зарраба с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. По данным The Washington Post, осенью того же года состоялась встреча двух юристов с Трампом, на которой они лоббировали освобождение Зарраба. Предлагалось обменять его на Эндрю Брансона, американского пастора, арестованного турками по ложным обвинениям.
По данным The Washington Post, Трамп согласился, и в Овальный кабинет пригласили госсекретаря Рекса Тиллерсона. Он был удивлён присутствием Джулиани и Мукасея и отказался идти на сделку. Не пошло бы на это и Министерство юстиции. Глава аппарата Белого дома Джон Келли, по слухам, тоже был обеспокоен попытками Джулиани, Мукасея и Трампа вмешаться ход расследования. Обмен не состоялся (Брансон был освобожден в 2018 г.), Зарраб в итоге признал свою вину и дал важные показания, позволившие предъявить обвинения Halkbank.
С тех пор Halkbank и турецкие чиновники пытаются спасти финансовую организацию от многомиллиардного штрафа, который по аналогичному делу был наложен на французский BNP Paribas. Уход Тиллерсона, Келли и других потенциальных противников сделки упростил задачу, помимо Джулиани появились и другие посредники. Зять и советник Трампа Джаред Кушнер стал активно взаимодействовать с родственниками турецких лидеров, в том числе с зятьями Эрдогана. В прошлом году сенатору-республиканцу от Южной Каролины Линдси Грэму позвонил пранкер, представившийся министром обороны Турции. В разговоре Грэм отметил, что Трамп «понимает» озабоченность Турции ситуацией с Halkbank и «хочет помочь».
Неизвестно, что Турция предлагала Трампу по неофициальным каналам. Но в ноябре 2019 г. бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в частной беседе выразил уверенность, что «существуют личные или деловые отношения, определяющие позицию Трампа по Турции». Есть и другие факты в пользу этой точки зрения: Трамп уважительно и мягко относится к Эрдогану, что явно контрастирует с его манерой общения с другими лидерами союзников США – например, с бывшим британским премьером Терезой Мэй или канцлером Германии Ангелой Меркель. В 2012 г. после открытия Trump Towers Istanbul дочь Трампа Иванка в твиттере поблагодарила Эрдогана за участие в церемонии. Как пишет The Washington Examiner, сам Трамп как-то сказал по поводу Турции: «У меня есть небольшой конфликт интересов, потому что у меня большое здание в Стамбуле».
Удивительно, что государственный банк номинального союзника США ослушался Вашингтон и стал помогать Ирану обходить санкции. Но ещё неприятнее тот факт, что когда об этой деятельности стало известно, её участники стали искать и нашли американских посредников, готовых защитить их от наказания со стороны правительства Соединённых Штатов. Речь идёт не просто о плате за услугу. Это плата за политику, это стратегическая коррупция. И пока она приносит успех: Halkbank не заплатил крупных штрафов за нарушение санкций против Ирана.
Предостерегающий пример Лондона
Для США и их союзников стратегическая коррупция представляет три угрозы. Во-первых, это прямая и очевидная угроза неблагоприятных политических исходов. Во-вторых, существует риск, что противники будут использовать коррупцию для наращивания своего глобального влияния, как это делает Китай, развивая «Пояс и путь». Эти действия ведут к постепенному сворачиванию усилий Вашингтона и союзников после окончания холодной войны способствовать процветанию развивающегося мира путём прозрачности, политических реформ и экономической либерализации. В прошлом, следуя этим рекомендациям, страны могли повысить свой статус в западных институтах и присоединиться к сообществу наций. Теперь построенная Пекином система создала глобальную сеть из олигархов, которые обязаны своим положением и благополучием китайским патронам. С ростом влияния китайской системы и расширением её географического охвата происходит разрушение не только перспектив развития затронутых стран, но открытых торговых отношений и сотрудничества в сфере безопасности с другими государствами.
Третья угроза исходит от таких стран, как Китай и Россия, которые используют государственные компании и нелегальные финансовые потоки для прямого проникновения в западные правительства и институты. Канадские банки, британские риелторские фирмы, американские лоббисты и PR-компании сегодня служат интересам авторитарных режимов – осознанно или неосознанно. В США из-за постоянных разоблачений, связанных с иностранным влиянием, граждане стали считать свою политическую систему коррумпированной – американская политика продаётся тому, кто предложит большую цену, даже если это противник.
Конечно, это делается умышленно. Как отмечается в исследовании Центра стратегических и международных исследований 2016 г., «российское влияние сосредоточено на ослаблении внутреннего единства обществ и укреплении представлений о дисфункции западной демократической и экономической системы. Это происходит путём воздействия на институты демократического управления и их подрыва изнутри». Поэтому, как предупреждает эксперт Ларри Даймонд, «масштабная эндемическая коррупция представляет главную внутреннюю угрозу демократии и делает её всё более уязвимой для разрушения внешними силами».
Чтобы помнить о том, что происходит, когда стратегическая коррупция становится бесконтрольной, американцам достаточно взглянуть на Великобританию. Путин считает, что полностью приручил ближайшего стратегического партнёра Вашингтона и может беспрепятственно привозить туда экзотическое оружие для совершения политических убийств. Чтобы максимально расширить себе свободу манёвра, Путин и его окружение используют слабости британской системы. Анонимная регистрация собственности в Соединённом Королевстве позволила российским олигархам скупить Лондон и его финансовый сектор, где они держат свои грязные деньги. Британские законы о клевете отдают предпочтение истцам гораздо чаще, чем это возможно по американским нормам, и российские олигархи безжалостно используют это преимущество, чтобы цензурировать информацию о своих схемах. Так, в 2014 г. издательство Cambridge University Press отказалось от планов опубликовать книгу американского политолога Карен Давиши «Клептократия Путина» (Putin’s Kleptocracy), опасаясь града судебных исков со стороны упомянутых в книге россиян, – которые естественно будут поданы влиятельными британскими юристами.
Как вычистить дом
Растущая угроза стратегической коррупции остаётся незамеченной или недооценённой в Министерстве обороны и Госдепартаменте. Нельзя отдать эту проблему исключительно федеральным прокурорам и надеяться на лучшее, ответ должен сместиться в центр внешней политики и политики национальной безопасности. Для этого потребуется общественная кампания по мониторингу коррупции, усилия законодателей по устранению уязвимостей в правовой и политической системах Соединённых Штатов и отказ от приоритета экономических санкций, которые будут становиться всё менее эффективными, если американские противники могут предложить альтернативные средства поддержки.
Политические шаги, на которые придётся пойти Вашингтону, чтобы не повторить судьбу Лондона, не будут выглядеть эффектно: для них не требуется новейшее точечное оружие или спецназ. Но они жизненно необходимы. Для начала нужно пересмотреть традиционную повестку продвижения прозрачности. Первым шагом федерального правительства и штатов должно стать ужесточение норм для компаний с ограниченной ответственностью: анонимность позволяет им скрывать средства сомнительного происхождения и владение роскошной недвижимостью. В прошлом году Палата представителей приняла закон о корпоративной прозрачности, который, помимо прочего, предусматривает обнародование сведений о бенефициарах зарегистрированных фирм и корпораций. Это шаг в правильном направлении. Конгресс также должен провести новые слушания по FARA и внести необходимые поправки.
США также нужны правовые нормы, затрудняющие подачу безосновательных исков о клевете с целью препятствовать критике. 29 штатов уже приняли подобные законы, но этого недостаточно. Требуется федеральное законодательство.
Борьба со стратегической коррупцией иногда размывает традиционные границы между контрразведкой, правоохранительной системой и дипломатией. Поэтому проблемы могут возникнуть, даже если федеральное правительство находится в руках нормальной президентской администрации и функционирует хорошо. Коррупционные расследования способны перейти пределы и стать политизированными. Но американские спецслужбы и Госдепартамент должны осознавать опасность стратегической коррупции. Защитой от этой угрозы не может заниматься исключительно генпрокурор и Министерство финансов.
Нормальная президентская администрация уже начала бы расследование кампании против Йованович, детально изучив Фирташа и его партнёров и задействовав дополнительные ресурсы помимо ФБР. Но даже не имея инсайда в Белом доме, нетрудно себе представить, как дорого обойдётся подобное расследование тем, кто за него возьмётся. С делом Halkbank возникнут аналогичные проблемы. Могут быть похожие случаи, о которых мы пока не знаем.
Но средства для борьбы с коррупцией существуют, и будущая администрация, возможно, решится применять их честно. Ответственная исполнительная власть может воспользоваться функциями Совета по надзору за конфиденциальностью и гражданскими свободами, который был создан в 2004 г. для защиты от рисков чрезмерно усердных и политизированных расследований. Есть и другие, старые средства, например институт главных инспекторов (которые попали под удар при нынешнем президенте) и расследования Конгресса (если ему удастся вернуть доверие общества, практически утраченное за последние десятилетия).
Опасность стратегической коррупции не должна быть вопросом партийной повестки. Борьба с коррупцией может объединить левых и правых, выступающих за экономическую прозрачность – для защиты потребителей, инвесторов и граждан в целом – и желающих искоренить клановый капитализм. Эти общие ценности объясняют, почему борьба с коррупцией является объединяющей темой для групп гражданского общества всего политического спектра – от Transparency International до инициативы против клептократии Гудзоновского института.
Хотя импичмент Трампа не увенчался успехом, украинский скандал сохраняет определённый потенциал. Вместо поляризации общества и дисфункции органов власти этот скандал, как и другие, может способствовать перезапуску политической повестки. Украинский скандал – не просто тревожный сигнал для нынешнего президента. Это предупреждение о том, насколько уязвимы правительства перед новым политическим оружием – стратегией извлечения преимуществ из свобод для их дискредитации.
Опубликовано в журнале Foreign Affairs № 4 за 2020 год. © Council on foreign relations, Inc.

Дракон оказался бумажным
Китайское влияние на внутриполитические процессы в Белоруссии
Николай Вавилов
В период острого политического кризиса в российских СМИ появилась дикая конспирологическая теория. Нам сообщили о попытке Китая установить полный контроль над теряющим политическое влияние белорусским лидером. И эта теория на какой-то момент стала доминирующей в российском медиа-пространстве.
Однако на деле «китайский дракон» оказался бумажным, и главным виновником такой весьма негативной для Белоруссии повестки в России, да и в самой Беларуси, стал сам Лукашенко. Лидер бывшей советской республики самостоятельно годами раздувал миф о гигантском китайско-белорусском партнёрстве.
Крайне вредный миф о доминировании Китая над Лукашенко сыграл с ним, впрочем, как и с Януковичем, и с любым постсоветским политиком малых государств – злую шутку: скрытая, а она всегда скрытая, политика Пекина не привела к большей любви России и Запада к малому славянскому государству – а наоборот сработала на панический сценарий сноса «пропекинского» политика, который мог бы, даже в теории нести малопонятные и оттого пугающие интересы Восточного дракона на границы Европы.
Европа тысячелетиями выстраивала свою внешнюю политику на страхе чудовищных орд с Востока – однако запутавшиеся в лавировании между потенциальными кредиторами лидеры постсоветских государств-лимитрофов в критический момент переигрывали сами себя, вступая в кабальные переговоры с Пекином.
Так случилось с Януковичем, своими же руками внедрившего третий фактор Китая в противостояние Запада и России на Украине и заставивший противоборствующие стороны сработать на аннигиляцию «китайского сценария» для Украины в виде де-факто передачи Крыма под контроль китайским военным корпорациям. Так почти случилось с Лукашенко, который вовремя одумался и дал резкий задний ход, почти умоляя Россию вступиться за его шатающийся трон в рамках системы ОДКБ.
Есть ли «китайское будущее» у пока ещё союзного России государства, каким его рисовали белорусские СМИ? Каковы реальные объемы и характер китайско-белорусского сотрудничества?
Начать, пожалуй, надо не с китайских врачей Лукашенко из Службы охраны ЦК, которая подробна описана в моей новой книге «Китайская власть», а с китайских кредитов, на которые якобы перешла Беларусь, заместив российские кредиты.
В жёлтой прессе, часто подменяющей конспирологией реальное положение вещей, появились данные о том, что объём белорусского долга перед КНР превысил российский и достиг 7.6 млрд долларов. Реальный объём кредитов КНР составляет 3,4 млрд долларов.
Но это лишь полдела в понимании проблемы: кредитные линии китайцев, судя по всему, в большей их части выданы в офшорных юанях и лишь эквивалентны долларам – а фактически выданы Лукашенко под покупку китайских же товаров и китайских же станков, которые подрывают то самое белорусское экономическое чудо, которое нам в течение 20 лет пытаются продать как советский социализм сотни внутрироссийских лоббистов «белорусского чуда».
Сущность вредоносной бизнес-схемы семьи Лукашенко заключается в том, кредиты в юанях возвращаются через сильно демпингованный экспорт белорусских товаров в Китай, например, белорусский алкоголь поставляется в Китай по цене гораздо ниже себестоимости, формально преследуя цель «застолбить перспективный рынок Китая», а на деле собирая по крохам все те же китайские бумажки, которыми «страна победившего постсоветского социализма» возвращает кредиты в юанях.
Может ли юаневая денежная масса, оседающая в Белоруссии в виде подрывающих её же промышленность китайский экспорт (а он вырос в Беларусь за последний год почти в два раза – к слову Китай остается лишь четвёртым торговым партнером страны, уступая даже Украине) заменить российские или европейские (читай франко-германские) кредиты или поспособствовать выдаче России процентов по телу долга в почти 8 млрд долларов?
Очевидно, что нет.
Хуже того: чтобы полученную за юани (в том числе последний кредит 3,5 млрд юаней) в Китае продукцию преобразовать в более менее конвертируемую валюту – евро или доллары – семейная схема вынуждена перепродавать эту продукцию в страны ЕАЭС, то есть стать беспошлинным поставщиков этой продукции в Россию.
Скажем ещё проще: Россия должна была заплатить за интеграцию Белоруссии и Китая.
Впрочем, как говорят на российском телевидении, ничего нового.
В сущности в этом и кроется понимание того, почему из открытой кредитной линии Госбанком развития Китая на 12 млрд долларов Лукашенко столь робко использовал лишь небольшую долю – все эти кредиты планировались как юаневые, а учитывая то, что внутренний рынок самой Беларуси меньше чем, рынок самого захудалого китайского уезда с населением 10 млн человек, то сбывать эту китайскую продукцию можно было либо на Запад, что само по себе невозможно из-за закрытых для Лукашенко границ, либо в Россию – что и планировал «последний из советских могикан», повернув севший на болотную мель экономический корабль Беларуси.
И с виду такая схема казалась крайне привлекательной: если гордая республика смогла наладить в своих морях выращивание креветок, то ради дружбы и интеграции Большая Россия стерпела бы и это.
Так, во всяком случае, грезилось последователю дела Януковича в Минске.
План, а точнее несбыточная мечта по спасению «советского заповедника», заключалась в превращении Беларуси европейский Гонконг – зоны реэкспорта в Россию и из России, разумеется, за счёт России.
Примерно такой же план по спасению в период «потопа глобального экономического кризиса» имеет почти каждая бывшая советская республика, являющаяся функцией от геополитики советской конвергенции с Западом, которой сегодня приходит решительный конец. Как и в большинстве случаев сотрудничества с Китаем на разном уровне – от малого и крупного бизнеса до уровня руководителя гордой советской республики – план не учитывал главного – позиции Китая по данному вопросу.
Позиции сложной многоуровневой системы согласования второй по величине экономики в мире Восточной империи, в два раза старше Византии, которые неподготовленные умы склонны упрощать до уровня дружественных поздравлений с избранием на пост президента, благопожеланий посла или механических изречений официального представителя МИД КНР, в состав любого заявления которой по любому конфликту входят хештеги - «мирное решение проблемы», «против вмешательства третьих стран» - будь то Сомали, Сирия или Беларусь.
Грёзы о китайском друге Си Цзиньпине, которые последнему не было смысла развенчивать, настолько сильно овладели сознанием белорусского лидера, что на стажировку за китайским в качестве посла опытом был отправлен будущий вице-премьер белорусского правительства.
Удивительная многоуровневость, словно шар из слоновой кости, китайской власти так и не позволила белорусским стратегам сделать правильные выводы о реальном отношении Пекина об отношении к Беларуси. Сам Лукашенко, его фантазия, настолько преувеличило сотрудничество с Китаем, заставило его говорить о дружбе с Си Цзиньпином и их теплых отношениях, что не на шутку насторожило основных «партнёров» Пекина в борьбе за Европу – Россию, США и Германию.
Помимо кредитного взаимодействия, которому мы уделили внимание выше, Беларусь, пыталась развивать отношения с Пекином в сфере инвестиций, военно-технического сотрудничества и позиционировала себя как транспортный хаб китайских товаров в Европу.
Забегая вперед скажем, что все эти стратегии были либо мыльным пузырем, либо носили для развития самой Беларуси ничтожное значение.
Наиболее разрекламированный проект сотрудничества парк «Великий Камень» является типичным примером лукашенковской деревни – большой по размеру, пустой внутри. Из заявленных при создании парка промышленности и высоких технологий 150 тысяч рабочих мест для белорусов – сегодня в парке работает всего лишь несколько тысяч человек.
Гора родила мышь.
После высоких заявлений и грандиозных планов, впрочем, это характерно не только для Беларуси, в парк пришли маргинальные компании, что в целом происходило по аналогии и с другими проектами китайско-белорусского сотрудничества в промышленности: Китаю не нужна белорусская промышленность, у него есть своя, Китаю не нужны белорусские рабочие места – ему нужно обеспечивать рабочими местами китайцев, которые пострадали от событий начала 2020 года больше, чем любая другая страна.
Крупнейшему производителю грузовиков в провинции Хубэй совсем нет резона спасать Белаз и МАЗ, а уж тем более уступать им долю китайского или мирового рынка, ради «большого друга Си Цзиньпина».
Инвестиционное сотрудничество Пекина и Минска было ничтожно, особенно при сравнении тех же вливаний Пекина в проекты в Сербии, Венгрии и Чехии. Однако ничтожное фиктивное и маргинальное сотрудничество обретало какой-то великий смысл в речах лавирующего между кредиторами лидера Беларуси.
Второй геополитической фикцией была идея Беларуси как хаба китайских товаров в Европу: транзитные поезда, следующие по железнодорожным маршрутам «Китай – Европа» проходили через Беларусь в Польшу и Германию без остановки и прибыли для страны, если не считать совсем неприятную для китайских партнёров белорусов остановки поездов на перегрузке в Польше – здесь американский союзник устраивал китайским товарам публичную экзекуцию, ведь они посмели пойти не через акватории Индийского и Тихого океана, где господствовал американский флот.
О задержках китайских товаров, идущий в Германию, не писал только ленивый – всю идею скоростного сухопутного маршрута, в обход Малаккскому проливу и Суэцкому каналу – ломала Польша на границе с Белоруссией. Фиктивному хабу китайских товаров вряд ли суждено было сбыться.
А как же военно-техническое сотрудничество? Та самая ракета, которую Лукашенко сделал «с другом Си Цзиньпином». И здесь белорусскую сторону ожидало далеко не братское, но по-китайски партнёрское отношение. Любопытно, и к этому мы вернёмся позже, но ВТС Беларуси и Китая также происходило с участием Хубэй, выходцем из которой, а точнее из ее столицы Ухань, является нынешний китайский посол в Беларуси.
В отношении ВТС Китай пошёл в Беларуси тем же путем, что и в кредитном сотрудничестве.
Вытащив из Белорусского ВПК технологии по созданию крылатых ракет воздушного базирования в обмен лишь создал, в провинции Хубэй, городе Сяоган (сосед Ухани) совместное предприятие по производству многоосных тягачей, а также предприятие для производства гидромеханических передач для тяжелых автомобилей в Минске в 2009 году.
Получив желаемое, и без сомнения, задействовав в своём ВПК сотни белорусских инженеров, Китай плавно свернул сотрудничество с Минском на высоком уровне – оно больше не требовалось, специалисты успешно передавали свой опыт Китаю и без необходимости благословения белорусского лидера.
Результатами сотрудничества стала система залпового огня «Полонез» - по сути доработка китайских ракет А200 с использованием белорусских шасси завода МЗКТ. Кто будет закупать китайские ракеты на белорусских шасси? Вопросов не вызывает. В дальнейшем Пекин планирует сделать Беларусь и покупателем других своих вооружений через подобное «сотрудничество».
Спутник «Белинтерсат-1» также является примером выжимания технологического потенциала страны для использования в интересах Китая. А вовсе не для возрождения и дальнейшего развития белорусской науки и техники. Это технологическое сотрудничество ничем принципиально не отличается от аналогичного сотрудничества Украины и не ведёт к переносу производств в Беларусь или создания здесь китайской промышленно-технологической базы.
Это точечное сотрудничество, направленное на вынос всего полезного с территории республики с минимальными затратами. И без стратегической цели развивать территорию или её научный кластер. Примечательно, что Китай не боится пользоваться знакомым российской стороне технологиями в реализации своих ракетных и космических программ – Россия не рассматривается как потенциальный агрессор. Интересно, что столь чувствительная сфера как военное сотрудничество по системе «Полонез» и вывод белорусского спутника была реализована Лукашенко после Крымских событий – в 2015 и 2016 году.
На аналогичный период приходится начало тесного взаимодействия Лукашенко с политическими силами КНР, максимально отдалёнными от нынешнего председателя КНР: в частности с темой телевизионного вещания КНР на страны Европы связан визит бывшего главы китайской пропаганды при Ху Цзиньтао и одного из основных политических противников Си Цзиньпина Лю Юньшаня.
И именно здесь мы максимально близко подобрались к вопросу о роли Беларуси в глазах непосредственно высшего руководства КНР.
Стратегия Си Цзиньпина в отличие от его политических оппонентов внутри Компартии строится на выстраивании прямых отношений с руководством России и учетом её интересов в постсоветском пространстве, в том числе в Беларуси.
Это стало очевидно, когда после возвращения Крыма в состав России – Китай не предъявил России ровным счётом никаких претензий за потерянные контракты в Крыму и развернул в этом направлении максимально возможное сотрудничество с Россией, в том числе и в инфраструктурных проектах, в рамках которых даже рисковал попасть под санкции – речь идет о привлечении китайских корпораций к строительству Крымского моста.
Поэтому достаточно странно слышать критику российско-китайского взаимодействия и не признания Крыма КНР в составе РФ – Китай сделал больше чем признание, он пошёл на отказ от собственных интересов, ничего не потребовав от России взамен – кроме, разумеется стратегического союза и миролюбивой политики России в отношении Китая на его северной границе.
В отличие от Си Цзиньпина, опирающегося на армию и желающего союза с Россией целиком, включая временно потерянные территории – и вовсе не из-за любви к России, а из-за стратегической необходимости иметь защищенный северный тыл во время конфронтации с США и их союзниками по периметру границ, – его оппоненты из проамериканского партийно-хозяйственного аппарата, которых мы впервые в качестве внутрипартийной оппозиции подробно описали в книге «Некоронованные короли красного Китая» ещё в 2016 году, так вот оппоненты Си Цзиньпина в лице комсомольских лидеров выстраивали совершенно иную стратегию в отношении бывших советских республик.
Понимая, что союза с Россией и с её нынешним руководством не достичь ни при каких условиях – потому что этому союзу противятся американские партнёры комсомола – а также понимая, что Запад поведёт одну из сторон или обе стороны сразу к конфликту на российско-китайской границе – комсомольская линия в отношении внешней политики в постсоветском пространстве заключалась в создании из наиболее ослабленных окраин, в том числе и регионов Дальнего Востока РФ, где активно продвигается китайская повестка и влиятельна диаспора, центров собственного влияния в противовес стратегическому межгосударственному сотрудничеству между Москвой и Пекином.
Такая контрполитика Комсомола на постсоветском пространстве отразилась и в контактах Лукашенко по конкретным направлениям его инвестиционной, военно-технической и иных повестках. Возможно, что Хубэй и город Ухань, вокруг которых и крутится по сути идущее в разрез политики Си Цзиньпина сотрудничество Беларуси с Китаем – вовсе не случайное совпадение.
Понимание китайской политики и действий оппонентов в китайской политической системе возникает, когда в замкнутой системе, лишенные возможности прямой и губительной конфронтации соперники используют пространства и договорённости друг друга для полного видоизменения первоначального вектора действий своего оппонента – использования его же целей и договоренностей, но уже в свою пользу, не вступая в прямую конфронтацию.
Действительно, если рассмотреть реальные итоги более чем 20-летнего сотрудничества КНР и Беларуси – то результаты выглядят не так впечатляюще, за исключением лишь вторжения КНР в сферу космического сотрудничества, которое произошло с подачи Беларуси и сразу же после Крымских событий, которые, видимо, сильно повлияли на осознание ситуации белорусским лидером.
Тем не менее, понимая, что стратегическая линия высшего военного руководства КНР состоит в стабилизации российско-китайских отношений, можно предположить, что в случае масштабной интеграции России и Белоруссии существующее сотрудничество Китая и России лишь дополнится новым локальным участком с небольшой коррекцией правил и учётом интересов китайской стороны. Ровно также, как это было в Крыму.

Поднебесная глазами сверстника
Вышла книга Юрия Тавровского "Америка против Китая"
Текст: Константин Волков
Начавшаяся весной 2018 года торговая война Америки против Китая поначалу выглядела как очередной конфликт, неизбежный при тесном взаимодействии двух крупных и тесно связанных экономик.
Однако довольно скоро стало ясно, что речь идет о гораздо более серьезном противостоянии. В ход пошли термины "новая холодная война" и даже "межцивилизационная схватка". Эксперты все чаще сходятся во мнении, что конфликт Америки и Китая станет главным противоречием грядущих десятилетий, определит экономические, политические и социальные контуры XXI века.
На днях на эту тему в издательстве "Книжный мир" вышла весьма своевременная книга "Америка против Китая. Поднебесная сосредотачивается на фоне пандемии". Книгу написал китаевед, писатель, путешественник Юрий Тавровский. Она анализирует глубинные причины нарастающего противостояния двух великих держав, каждая из которых претендует на ведущее место в настоящем и будущем человечества. При этом основное внимание уделяется Китаю как стране - соседу России, связанному с нами как десятилетиями взаимодействия в прошлом, так и сходством судеб в настоящем и будущем. Книга содержит не только размышления автора, уже полвека изучающего Китай, но также яркие наблюдения из частых путешествий по разным уголкам Поднебесной, бесед с простыми и непростыми китайцами.
Юрий Тавровский возглавляет Экспертный совет Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития. В последние годы вышли другие работы этого автора: "Си Цзиньпин. По ступеням Китайской мечты", "Си Цзиньпин. Новая эпоха", "Новый Шелковый путь - главный проект XXI века", "Чудесный Китай", "Китай и соседи. Новое тысячелетие".
О содержании книги "Америка против Китая. Поднебесная сосредотачивается на фоне пандемии" говорят названия глав:
Черный лебедь COVID-19 • Извилистый путь к успеху. Первые 30 лет КНР • По ступеням "Китайской мечты". Начало реформ Си Цзиньпина • "Китайская мечта" заполняет духовный вакуум, мобилизует нацию • Маршрутом "Великого возрождения" - XIX съезд КПК • Неожиданные препятствия на пути "Китайской мечты" • Первые залпы торговой войны • "Война технологий" важнее "войны товаров" • Гонконг и Тайвань - мины замедленного действия • США и КНР. Внешние и внутренние фронты холодной войны • Россия и Китай - взаимодействие из поколения в поколение • Так сосредотачивался Си Цзиньпин • Прогноз до 2035 года. Будущее КНР глазами сверстника.
В тему
Юрий Тавровский, председатель экспертного совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития:
- Надо учитывать, что китайская экономика завязана на внешний мир. А в нем сегодня… И спрос на многие товары упал, и сырье не поступает из некоторых стран. Китай не изолировался Великой стеной от внешнего мира, но он является сейчас оазисом в море COVID-19. Вокруг пустыня, всюду дуют самумы, песчаные бури, а в КНР нормализация.

КИТАЙСКИЕ САНКЦИИ: ТЕПЕРЬ ОФИЦИАЛЬНО?
АНАСТАСИЯ ПЯТАЧКОВА
Младший научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ «Высшая школа экономики».
Если международное давление на Китай будет продолжать усиливаться, то он будет вынужден осваивать весь доступный спектр санкционных инструментов. Журнал «Россия в глобальной политике» совместно с Центром комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики» и клубом «Валдай» продолжает публикацию серии статей об изменениях на международной арене, связанных с пандемией COVID-19.
Fake it till you make it
Китай долгое время рассматривался в первую очередь именно как реципиент санкций. С этой точки зрения положение КНР в последнее время заметно ухудшилось. Со стороны США были приняты меры против целого ряда китайских компаний и организаций (включая университеты), студентов и чиновников, закрыто китайское консульство в Хьюстоне. Помимо заявлений о лишении Гонконга статуса привилегированного партнёра и подписания Закона о санкциях против Китая из-за притеснения уйгуров, регулярно на уровне риторики и возможных дальнейших санкционных шагов затрагиваются и другие чувствительные для КНР темы – Тибет, Южно-Китайское море, Тайвань.
Инициаторами ограничений выступают не только США, но и другие государства. На фоне развернувшегося этим летом приграничного конфликта с Индией был, в частности, введён запрет на использование 59 китайских приложений (в их числе TikTok, WeChat). В конце июля появилась информация о дополнении списка на 47 приложений, а в ближайшее время будет проведена проверка ещё более 250 (по некоторым оценкам их свыше 275). Было объявлено об отказе нескольких мобильных операторов от использования китайского оборудования: NTT в Японии, Jio в Индии, SK и KT в Южной Корее и некоторых других. Расширился список стран, запретивших использование продукцию Huawei при создании 5G-сетей (в него, кстати, недавно вошла Великобритания).
Одновременно всё более заметна роль Китая и в качестве инициатора ограничительных мер. Китай в целом предпочитает вводить санкции неофициально, избегая таким образом открытой конфронтации. Меры, как правило, лимитированы по времени и применяются точечно в отношении определённых групп товаров или направлений деятельности.
Первые признаки использования инструментов экономического принуждения в современном Китае относятся к середине 1990-х годов, относительно регулярный характер такие меры приняли к середине 2000-х, а уже в 2010-х количество случаев, мотивов и набор применяемых инструментов стали постепенно расширяться. Китай неоднократно вводил ограничения против Вьетнама и Филиппин в контексте обострения конфликта в Южно-Китайском море. Также санкции применялись против Монголии в связи с визитом Далай-ламы в 2016 году, Южной Кореи (в 2016–2017 годах после установки системы THAAD) и Японии (на фоне территориального конфликта в 2009–2012 годах). Особая ситуация сложилась в Северной Корее, где Китай принимал участие в многосторонних санкциях ООН.
Может сложиться впечатление, что КНР использовала санкции только против более слабых стран или соседей, которые с ней тесно связаны территориально и экономически. Такой вывод не совсем корректен: характерный кейс – введение ограничений на импорт норвежского лосося после вручения Нобелевской премии мира известному китайскому диссиденту Лю Сяобо в 2010 году.
Говоря о недавних примерах китайских санкций, можно отметить две новых тенденции:
1) на фоне преобладания неформальных санкций появляются формальные;
2) конфликт с США провоцирует введение системных долгосрочных санкций.
Взаимные ограничительные меры КНР и США на протяжении длительного времени развивались в духе своеобразной «игры в конфронтацию» – как будто никто не хотел ухудшения отношений, но оно планомерно происходило.
Особенность в том, что в кардинальном пересмотре взаимодействия в большей степени заинтересована только одна сторона – США.
Конечно, Китай тоже внёс свой вклад в размежевание, и было бы неверно представлять его исключительно как пострадавшего. Тем не менее в политике КНР было заметно желание минимизировать напряжённость. В начале взаимодействия с администрацией Дональда Трампа Китай шёл на беспрецедентные уступки во время переговоров по Северной Корее. На момент подписания январской торговой сделки также видны шаги навстречу США. В момент усиления нажима в период пандемии КНР долгое время почти не давала симметричного ответа, очевидно списывая американские действия на предвыборную кампанию. Даже несколько месяцев назад в экспертном сообществе не было определённости с тем, ограничится ли Китай риторикой или будет предпринимать более решительные меры.
На практике в условиях, когда одна сторона де-факто выбирает конфликт (= размежевание), вторая в одиночку не способна сохранить сотрудничество в прежнем виде.
Хрупкое и временное поддержание равновесия возможно за счёт всё более неприемлемых уступок, однако на фоне непрекращающегося давления на недружественные шаги всё равно в итоге приходится отвечать. Так, с китайской стороны сначала наблюдалось ужесточение риторики (в том числе в СМИ в виде мультфильмов и карикатур), затем стали предприниматься более конкретные ответные действия, в числе которых, в частности, санкции против американских чиновников, военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, ответное закрытие консульства в Чэнду (без учёта ранее остановившего работу по инициативе США консульства в Ухане в связи с пандемией).
Ущерб от санкций со стороны экспертов на данный момент в основном определяется как временный и не очень существенный. Это главным образом объясняется тем, что из-за взаимозависимости сторон возникают объективные ограничения по возможностям использования санкций, к тому же иногда существуют пути обхода санкций. Иногда озвучиваемые шаги и вовсе остаются на уровне политической риторики: например, КНР заявляла о подготовке «чёрного списка» американских компаний, но меры против них пока так и не были введены. Однако неизбежно фиксируется как минимум краткосрочное падение стоимости попавших под санкции компаний, ищутся пути замены американских компонентов в китайских товарах (например, микрочипов), происходит вывод компаний и производств из КНР. Это будет иметь долгосрочный структурный эффект для китайско-американского взаимодействия.
Безусловно, двусторонние отношения обладают большим запасом прочности. В частности, министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что несмотря на последствия пандемии, 74% американских компаний планируют расширить инвестиции в КНР. Порой в размежевании пытаются найти положительные моменты: Дональд Трамп, в свою очередь, заявлял, что разрыв с экономикой Китая позволит США сэкономить 500 миллиардов долларов.
Тем не менее официальное объявление санкций, наряду с изменением стратегически значимых документов, символизирует явное наличие конфронтационных мотивов.
Если стоит задача осуществить размежевание, то санкции – один из самых подходящих для этого инструментов.
Пока КНР в основном использует «отзеркаливание»: действует реактивно, хоть и более жёстко. Заметно расширение масштабов и инструментов санкций по сравнению с предыдущим периодом: в дополнение к экономическим и технологическим в большей степени, чем ранее, подключаются политические, идеологические и социально-гуманитарные.
Сигналы от Китая могут поступать не напрямую, а опосредованно, через американских союзников. Здесь КНР чувствует себя более уверенно в плане инициирования санкций. Так, в ответ на комментарий Австралии о необходимости расследования причин распространения коронавируса Китай ввёл 80% пошлину на ячмень, а также ограничил импорт говядины. Китайским студентам и туристам поступали рекомендации не посещать Австралию. В КНР был казнён австралийский гражданин за торговлю наркотиками. В вопросе с Индией Китай пока пытается избежать системной конфронтации. Однако в случае дальнейших шагов с индийской стороны Китай окажется перед необходимостью предпринять ответные меры.
Таким образом, главная опасность возникшей ситуации не столько в текущем ущербе, сколько в институционализации враждебных намерений. Политическая составляющая санкций в Китае уже почти не ретушируется, а сами меры из неофициальных и ограниченных по времени постепенно становятся системными и открытыми. Если международное давление на Китай будет продолжать усиливаться, то он будет вынужден осваивать весь доступный спектр санкционных инструментов.

БЕРЕГИТЕСЬ «ПУШЕК АВГУСТА» – В АЗИИ
КЕВИН РАДД
Бывший премьер-министр Австралии, президент Института политики Азиатского общества в Нью-Йорке.
КАК НЕ ДАТЬ НАПРЯЖЁННОСТИ МЕЖДУ США И КНР ПЕРЕРАСТИ В НАСТОЯЩУЮ ВОЙНУ
Всего за несколько месяцев американо-китайские отношения, кажется, вернулись в более раннюю, или даже более первобытную, эпоху. В Китае Мао Цзэдуна в очередной раз восславили за то, что тот когда-то решился вступить в войну с американцами на Корейском полуострове. В Соединённых Штатах Ричарда Никсона обвиняют в том, что он создал глобального Франкенштейна, выведя коммунистический Китай на мировую арену. Всё это звучит, как будто и не было полувекового периода американо-китайского примирения в конце ХХ – начале XXI века.
Бряцание оружием как со стороны Пекина, так и со стороны Вашингтона стало жёстким, бескомпромиссным и, кажется, бесконечным. Отношения колеблются от кризиса к кризису – от закрытия консульств до самых последних подвигов китайской дипломатии «воина-волка» и призывов официальных лиц США к свержению Коммунистической партии Китая (КПК). Скорость и интенсивность всего этого ослабили чувствительность даже опытных наблюдателей к масштабам и значению изменений в большой политике американо-китайских отношений. Мир сейчас находится в самой опасной точке со времён кризиса в Тайваньском проливе 1950-х годов. Нынешнее положение оторвано от стратегических предпосылок предыдущих 50 лет, но не обрело привязки к какой-либо взаимосогласованной структуре, способной их заменить.
Вопрос, который сейчас тихо, но нервно задаётся во множестве столиц, – чем всё это закончится? Впервые после окончания Корейской войны исход, считавшийся когда-то немыслимым (реальный вооружённый конфликт между США и Китаем), представляется возможным. Иными словами, мы стоим на пороге не только новой холодной, но, вероятно, и горячей войны.
Риски будут особенно высоки в течение следующих критически важных месяцев – начиная с нынешнего момента и заканчивая ноябрьскими президентскими выборами в Соединённых Штатах, поскольку и президент Дональд Трамп, и председатель Си Цзиньпин действуют в условиях беспорядочного переплетения императивов внутренней политики, национальной безопасности и антикризисного управления. Внутриполитическое общественное мнение в обеих странах приобрело токсичный характер. Список проблемных зон в двусторонних отношениях весьма продолжителен – от кибершпионажа и превращения доллара в оружие до проблемы Гонконга и Южно-Китайского моря. Каналы для политического и военного диалога на высоком уровне оказались атрофированными именно тогда, когда они больше всего нужны. А оба лидера сталкиваются с внутриполитическим давлением, которое может побудить их обратиться к рычагу национализма.
В этих условиях и Пекину, и Вашингтону следует задуматься над предостережением: «Будьте осторожны в своих желаниях». Если они не сделают этого, то следующие три месяца могут слишком легко подорвать перспективы международного мира и стабильности на ближайшие тридцать лет. Войны между великими державами, в том числе и непреднамеренные, редко заканчиваются хорошо – для кого бы то ни было.
Смена власти
К нынешнему неустойчивому состоянию привели многочисленные факторы. Одни из них носят структурный характер, другие связаны с текущей повесткой. Наиболее фундаментальным является изменение баланса военной и экономической мощи между Соединёнными Штатами и Китаем. Благодаря неравномерному характеру военного и экономического роста США, постоянному стратегическому присутствию Америки на Ближнем Востоке и совокупным последствиям финансового кризиса 2008–2009 гг. Пекин пришёл к выводу, что обладает гораздо большей свободой манёвра в отстаивании своих интересов. Эта тенденция ускорилась при Си Цзиньпине, который с момента прихода к власти в 2013 г. значительно повернул страну влево, националистический вектор, наоборот, направил вправо, а также принял гораздо более агрессивную внешнеполитическую стратегию и в региональном, и в глобальном масштабах.
Соединённые Штаты отреагировали на это изменение китайского позиционирования, которое отмечено повышенным уровнем агрессии. Декларативная политика Пекина ясно показала, что 35 лет стратегического взаимодействия закончились и началась новая, ещё не вполне определённая эра стратегического соперничества. В дипломатическом плане она развязала наступление на права человека в Гонконге, на Тайване и в Синьцзяне. Она открыла торговую, технологическую и кадровую войну, а также начала противостояние в финансовой сфере. И вооружённые силы обеих стран оказались вовлечены во всё более агрессивную игру в открытом море, в воздухе и киберпространстве.
И если стратегия Си ясна, то стратегия Трампа столь же хаотична, как и остальная часть его президентства. Но, как бы то ни было, в конечном итоге мы имеем отношения, в которых обнажилась политическая, экономическая и дипломатическая изоляция, тщательно сглаживаемая последние полвека. Причём она сведена к самой грубой форме: несдерживаемому противостоянию за доминирование на двустороннем, региональном и глобальном уровнях.
В текущем политическом сезоне внутреннее давление как в Пекине, так и в Вашингтоне ещё больше затрудняет кризисное управление. В Китае и без того замедляющаяся экономика, продолжающиеся последствия торговой войны, а теперь и кризис COVID-19 поставили руководство Си под рекордное внутреннее давление. Многие в КПК возмущены его жестокой антикоррупционной кампанией, которая была частично использована для устранения политических врагов. Масштабная военная реорганизация столкнулась с сопротивлением сотен тысяч ветеранов, которые оказались среди проигравших. Степень противостояния, с которой сталкивается председатель КНР, отражается в большом количестве крупных кадровых перемен в разведке, службах безопасности и армии. И это было ещё до «кампании по исправлению партии», которую Си начал в июле, чтобы оттеснить оппонентов и укрепить свою власть.
Политическое руководство Китая в очередной раз сбежало в прибрежный курортный город Бэйдайхэ для ежегодного августовского рекреационного выезда КПК. Там ветераны партии вполне могут оспорить стратегию Си по управлению экономикой, внешней политикой и здравоохранением государства. Но Си, как мы знаем, является искусным политиком, посвящённым в тонкости самых тёмных сторон своего макиавеллевского ремесла. Ответ на любой значительный вызов его авторитету, скорее всего, будет упреждающий и диспропорциональный – отсюда и кампания по исправлению партии. Но в этих обстоятельствах у Си также возникнет соблазн занять ещё более жёсткую позицию во внешней политике, особенно против Соединённых Штатов.
Внутренняя политика является движущей силой и в США. Учитывая, что через два месяца американские избиратели отправятся на избирательные участки, Китай, как никогда раньше, занял центральное место в этой гонке. В настоящее время КНР включена в президентскую политику почти по всем основным вопросам предвыборной кампании, вплоть до происхождения COVID-19 и катастрофических последствий пандемии для Соединённых Штатов, где показатели летального исхода, по состоянию на середину 2020 года, составили более 150 тысяч американцев; экономический кризис с уровнем безработицы 14,7 процента, ростом банкротств на 43 процента и поразительным государственным долгом; не говоря уже о будущем американского глобального лидерства.
В течение первых трёх лет администрация Трампа оставалась разделена в отношении проблемы Китая, причём сам президент регулярно вмешивался, чтобы смягчить полную реализацию жёсткой политики, изложенной его бывшим советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером и сформулированной в Стратегии национальной безопасности США от декабря 2017 года. Но, начиная с марта, Трамп, лишённый общественной поддержки, начал обвинять Китай во всем спектре своих внутриполитических, экономических и социальных бедствий. Его горячая риторика подкреплена действиями на местах: вооружённые силы США, например, начали более решительно реагировать на действия Китая в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе. Между тем оппонент Трампа, бывший вице-президент Джо Байден, решительно настроен не дать Трампу обойти себя по вопросу Китая, что создаёт исключительно взрывоопасную политическую обстановку. Происходящее значительно ограничивает возможность учитывать разнообразные внешнеполитические тонкости, не говоря уже о военном компромиссе на случай возникновения какого-то острого кризиса.
В дополнение к более глубоким изменениям в отношениях всё это создает опасный политический и стратегический коктейль: ослабленный Трамп, бескомпромиссный Байден и Си, находящийся под сильнейшим давлением и готовый в любой момент потянуть за националистический рычаг. Поэтому обе стороны должны тщательно изучить кризисы, которые могут возникнуть в течение следующих нескольких месяцев (в частности, в Гонконге, Тайване и Южно-Китайском море), и каким конкретно образом любой из них способен перерасти в нечто гораздо худшее. Готовы ли Пекин и Вашингтон к серьёзной эскалации, чтобы защитить свои внутренние позиции, сознавая политическую цену, которую каждая из систем будет вынуждена заплатить, чтобы не выглядеть в глазах оппонента слабой? Или же они оснащены институционально и политически готовы к постепенной деэскалации, чтобы избежать настоящей катастрофы?
Одна страна – одна система
1 июля Китай ввёл в действие драконовский закон о национальной безопасности Гонконга, который криминализует «сепаратистскую», «подрывную» и «террористическую» деятельность, а также предусматривает уголовную ответственность за любое сотрудничество с «иностранными державами», подпадающее под указанные категории. Используя Закон о поддержке демократии и защите прав человека в Гонконге 2019 г., госсекретарь США Майк Помпео уже заявил, что Гонконг больше не пользуется «высокой степенью автономии», как это предусмотрено принципом «одна страна, две системы». Вслед за этим 14 июля Трамп подписал Закон об автономии Гонконга. В течение следующих 12 месяцев новый закон утвердит «введение санкций в отношении иностранных лиц, которые вносят материальный вклад в подрыв автономии Гонконга со стороны Правительства Китайской Народной Республики, а также иностранных финансовых учреждений, которые осуществляют значительные операции с такими иностранными лицами». Для физических лиц эти санкции будут включать запреты на поездки, а также на проведение банковских операций; для финансовых учреждений, имеющих дело с включенными в перечень лицами, последует целый ряд жёстких штрафных мер, потенциально ставящих под угрозу их способность функционировать в пределах американской юрисдикции.
Пока неясно, кто из китайских чиновников будет включён в список в соответствии с законом. Однако, учитывая, что в принятии решения по закону о национальной безопасности участвовал Постоянный комитет Политбюро – высший орган, принимающий решения в рамках КПК, все семь его членов (включая Си) являются потенциально уязвимыми. Аналогичным образом, китайские финансовые учреждения, обслуживающие китайских лидеров, могут быть отстранены от работы в США или юрисдикциях союзных им государств. Существует также риск того, что указанные учреждения будут отстранены от деноминированной в долларах международной торговой системы (хотя это по-прежнему вызывает споры между высокопоставленными чиновниками Министерства финансов и Белого дома). Китайские чиновники сейчас открыто обсуждают, как уменьшить уязвимость своей страны перед глобальной финансовой системой, которая по-прежнему в огромной степени зависит от доллара. Во время общения с иностранными партнерами Китай стал подчеркивать свои «финансовые красные линии», которые, если их пересечь, могут спровоцировать серьёзный кризис.
Если в ближайшие месяцы ситуация в Гонконге радикально ухудшится, приведя к тюремному заключению демократических лидеров, таких как Джошуа Вонг, подавлению оставшихся свободных СМИ или даже крупномасштабному насилию, – Соединённые Штаты, скорее всего, ответят серьёзными дипломатическими и экономическими санкциями и подтолкнут союзников сделать то же самое. Но вероятность, что вокруг проблемы Гонконга развернётся полномасштабный кризис, мала; здесь Великобритания, а не США, является внешней державой, с которой был заключён договор о политическом статусе города, и поэтому как бы ситуация ни была плоха, для прямого американского вмешательства не было бы никакой международно-правовой основы. Тем не менее ухудшение ситуации и агрессивная реакция Вашингтона сделают американо-китайские отношения еще более хрупкими, что только затруднит разрешение других кризисов в двусторонних отношениях, в том числе в области безопасности.
Один Китай или два?
Тайвань уже давно является самой большой проблемой в американо-китайских отношениях. С точки зрения КПК, основанной на переплетении идеологии и национализма, «возвращение Тайваня в нежные объятия родины», как выразились бы ветераны партии, завершило бы революцию 1949 года. Но для Тайваня эволюция собственной идентичности за последние несколько сотен лет, прогрессивная демократизация острова за тридцать лет и продолжающийся электоральный успех Демократической прогрессивной партии (ДПП), которая выступает за независимость, сделали перспективы мирного воссоединения с КНР всё более отдаленными.
Президент Тайваня Цай Инвэнь продолжает отвергать китайскую версию так называемого «Консенсуса 1992 г.» – соглашения, согласно которому существует только «один Китай», даже если обе стороны расходятся во мнениях, что на самом деле означает термин «Китай». Пекин, в свою очередь, считает, что отказ ДПП принять этот консенсус исключает любые дальнейшие переговоры о конкретной форме концепции «одной страны, двух систем», которые могли бы применяться к Тайваню в будущем. То, что воспринимается как разгром принципа «одна страна – две системы» в Гонконге, сыграло важную роль для переизбрания Цая в ноябре прошлого года. Это также способствовало общему упрочению тайваньцев в своих настроениях относительно любой формы воссоединения с материком; недавние опросы общественного мнения показывают, что рекордные 90 процентов жителей Тайваня теперь идентифицируют себя скорее как тайваньцы, чем как китайцы.
В американо-китайских отношениях тайваньский вопрос был урегулирован в соответствии с условиями трёх коммюнике, заключённых в период между 1972 и 1982 гг. в ходе процесса нормализации отношений, а также в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем 1979 года. В этом законе говорится, что «Соединённые Штаты предоставят Тайваню средства обороны и оборонные услуги в количестве, которое может потребоваться для того, чтобы Тайвань мог поддерживать достаточный уровень обороноспособности». В Законе также говорится, что Соединённые Штаты будут «рассматривать любые усилия по определению будущего Тайваня иными, нежели мирными средствами, включая бойкоты или эмбарго, как угрозу миру и безопасности в западной части Тихого океана и как угрозу, вызывающую серьезную озабоченность Соединённых Штатов». Такой подход потребует от Конгресса «поддерживать способность США противостоять любому обращению к силе или другим формам принуждения, которые могли бы поставить под угрозу безопасность, а также социально-экономическую систему народа Тайваня». Хотя данный Закон не является договором о взаимной обороне, сменявшие друг друга администрации полагались на заложенную в нём «стратегическую двусмысленность», чтобы сдерживать любые китайские намерения о воссоединении силовым путём.
Администрация Трампа увеличила масштабы и частоту поставок оружия Тайваню, в том числе расширила систему противоракетной обороны Patriot на острове и предложила новые наступательные возможности, такие как истребитель F-16V. Начала также меняться и формальная номенклатура отношений – впервые при официальном обращении к Цаю использовано почетное «президент», а публичные контакты между американскими и тайваньскими официальными лицами расширены. Вдобавок ко всему, Вашингтон обнародовал провокационные видеозаписи ранее необъявленных американо-тайваньских военных учений.
Пекин утверждает, что Вашингтон становится опасно близок к тому, чтобы пересечь его «красную линию» в отношении проблемы международного статуса Тайваня, тем самым ставя под угрозу саму основу американо-китайских отношений. В свою очередь, используя общее недовольство китайской общественности нынешним руководством Тайваня, Пекин усилил дипломатическое, экономическое и военное давление на Тайбэй. Учения, манёвры и развёртывание сил Народно-освободительной армии Китая вокруг острова и его воздушного пространства стали более интенсивными и навязчивыми.
Китай также начал сокращать материковый туризм на Тайвань, чтобы повысить давление на экономику острова, – прямое возмездие за политику Цай. Из риторики Си Цзиньпина, в которой явно прослеживается элемент нетерпения, всё более очевидно, что он хочет, чтобы Тайвань вернулся к китайскому суверенитету в течение его политического срока. Сможет ли он это сделать или нет – отдельный вопрос. Если Си добьётся успеха, он сравняется, а может быть, даже превзойдёт Мао по вкладу в партийную и национальную историю. (Безусловно, это поднимает вопрос, насколько долгим будет правление Си: он достигает лимита двух сроков подряд, которого придерживались его предшественники, в 2022 г., но решение 19-го съезда партии в 2017 г. отменило ограничения по сроку полномочий, и Си, похоже, готов остаться до середины 2030-х гг., когда ему будет уже за 80.)
Хотя и китайские, и американские военные учения исходят из того, что Китай одержит верх в любом крупном конфликте в Тайваньском проливе, Пекин сохраняет осторожность, стремясь избежать ненужного политического или стратегического риска. В конце концов, потерпеть неудачу в таком столкновении или же победить слишком большой ценой потенциально означало бы положить конец лидерству Си и подорвать легитимность партии. Соответственно, любого военного давления Китая на Тайвань, скорее всего, следует ожидать позже, в 2020-е гг., когда Пекин убедится, что военный баланс ещё больше сместился в его пользу – настолько, чтобы эффективно сдерживать США и, возможно, заставить Тайвань капитулировать без боя.
На данный момент все три стороны – Пекин, Тайбэй и Вашингтон – предпочли остаться в рамках широкого коридора допустимого поведения. И хотя администрация ДПП в Тайбэе решительна, она не безрассудна. Тем не менее в нынешней политической обстановке администрация Трампа может пойти на эскалацию, допустим, разрешив американским ВМС войти в Тайваньский порт. Политически китайскому руководству было бы невозможно игнорировать провокационный эффект такого действия. Вполне возможно, что Китай может нанести ответный удар, начав «низкоинтенсивный» конфликт с центром на прибрежных островах Тайваня, таких как Острова Дунша или Тайпин (оба в Южно-Китайском море) или Остров Уцю (недалеко от побережья материка).
Больше никакой «линии девяти пунктиров»
Южно-Китайское море представляет собой гораздо больший риск военных недоразумений в ближайшие месяцы. Семь стран претендуют на различные пересекающиеся наземные и морские секторы этого моря: Бруней, Китай, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Тайвань и Вьетнам. В 2016 г. Постоянная палата третейского суда вынесла решение по делу, возбуждённому Филиппинами, которое полностью отвергло правовую и историческую основу притязаний Китая на суверенитет («линия девяти пунктиров») над большей частью Южно-Китайского моря. Гневно отвергнув это решение, Пекин одновременно начал политическую и экономическую «дипломатию очарования» (особенно заигрывания с новым филиппинским правительством Родриго Дутерте), не прекращая военно-морскую деятельность, береговую охрану и рыболовство в спорных районах. Стратегия КНР в отношении Южно-Китайского моря стала показательной в китайской политике «серой зоны»: использование береговой охраны и рыболовных операций для установления де-факто территориальных и морских претензий, при этом избегать прямое развертывание военно-морских сил без крайней необходимости. Таким образом, Китай со временем укрепил свои притязания, не рискуя быть вовлечённым в открытый военный конфликт со своими соседями.
До 2016 г. Соединённые Штаты предпринимали незначительные военные действия в ответ на китайские проекты по насыпанию островов в Южно-Китайском море. (Пекин построил семь искусственных островов между 2013 и 2015 г. и впоследствии милитаризировал некоторые из этих аванпостов, вопреки заверениям, которые Си дал Бараку Обаме. С тех пор ВМС США усилили свои полурегулярные операции по обеспечению свободы судоходства в этом районе, увеличив их число с двух в 2015 г. до девяти в 2019 году. Соединённые Штаты также продолжают воздушные разведывательные полёты вдоль китайского побережья и через Южно-Китайское море.
По мере того, как мир погружался в пучину коронакризиса, позиции Китая и Америки в конфликте вокруг Южно-Китайского моря продолжили ужесточаться. В апреле Китай объявил о создании двух дополнительных административных единиц – в соответствии со своей общей стратегией сочетания военизированных операций в «серой зоне» для утверждения претензий де-факто на суверенитет с утверждениями об установленном де-юре юридическом и административном контроле. Что ещё более важно, темп и интенсивность военно-морских и воздушных разведывательных миссий США заметно возросли; Вашингтон развернул два авианосца в Южно-Китайском море, и к ним присоединились военно-морские силы союзников из Австралии и Японии. Китай, в свою очередь, развернул дополнительную эскадрилью истребителей-штурмовиков на Парасельских островах в северной части Южно-Китайского моря.
Затем, 13 июля, Вашингтон объявил о серьёзном изменении своей позиции относительно правового статуса территорий, являющихся давними притязаниями КНР в Южно-Китайском море. В прошлом Вашингтон, сам не ратифицировавший Конвенцию ООН по морскому праву, сохранял нейтралитет в отношении законности индивидуальных претензий. Теперь же США впервые официально отвергли юридическую силу всех китайских морских притязаний. (Австралия последовала этому примеру десять дней спустя, сделав официальное заявление в ООН). Такое изменение формально сближает Соединённые Штаты с государствами Юго-Восточной Азии, которые оспаривали обширные морские претензии Китая; ранее США действовали только в защиту свободы судоходства в Южно-Китайском море, а не на основании законности отдельных претензий.
Совокупность этих шагов ещё больше повысила градус напряженности между американскими и китайскими военными. Китай отомстил в конце июля: административная поправка к давним правилам судоходства изменила обозначение обширного района Южно-Китайского моря с «прибрежного» (offshore) на «береговой» (coastal) и китайские ВВС начали развёртывать дальние бомбардировщики для полётов воздушного наблюдения над этими спорными районами.
Существующий меморандум о взаимопонимании по согласованным процедурам предотвращения и регулирования столкновений в воздухе и на море был разработан ещё при администрации Обамы, до почти полного краха доверия между Пекином и Вашингтоном. Нет никакой уверенности в том, что эти протоколы будут эффективными при быстром наращивании военно-воздушных, военно-морских и других военных сил и средств в районе, где уже имеется опыт, когда столкновения между американскими и китайскими военными кораблями и самолётами избегались в последний момент. Таким образом, регион Южно-Китайского моря стал напряжённым, нестабильным и потенциально взрывоопасным театром военных действий в то время, когда накопившиеся претензии довели лежащие в его основе двусторонние политические отношения до самой низкой точки за последние полвека. Огромное количество военно-морского и военно-воздушного оборудования, развернутого обеими сторонами, делает непреднамеренное (или даже преднамеренное) столкновение всё более вероятным. Стандартные оперативные процедуры, а также правила ведения боевых действий как для китайских, так и для американских военных, как правило, строго засекречены. Общая картина зафиксированных предотвращенных коллизий показала, что американская авиация или военно-морские корабли поворачивают и меняют курс в последнюю минуту, чтобы избежать столкновения. Однако неясно, были ли указанные согласованные процедуры или протоколы китайского военно-морского флота и военно-воздушных сил ориентированы на более наступательную позицию.
Вопрос как для американских, так и для китайских лидеров заключается в том, что произойдёт сейчас в случае серьёзного столкновения? Представим на секунду, что сбит самолёт или военно-морское судно потоплено или выведено из строя, – какие дальнейшие шаги сторон согласованы во избежание немедленной военной эскалации? Китайский собеседник напоминает о недавних виртуальных учениях, организованных независимым аналитическим центром, который собрал отставных китайских и американских политиков и военных офицеров для рассмотрения такого сценария. Результаты тревожные. Хотя военные с обеих сторон могли договориться о протоколе для безопасного извлечения повреждённого военно-морского судна, невоенные участники, более внимательные к политическим интересам своих правительств, с треском провалили эту задачу. Одна группа практиков сумела снизить напряжённость ситуацию, а другая сделала как раз наоборот.
В реальном сценарии, вне искусственной обстановки онлайн-учений, преобладающие внутриполитические обстоятельства в Пекине и Вашингтоне легко подтолкнут обе стороны к эскалации. Политические советники утверждают, что локальная военная эскалация может быть «сдержана» в рамках определённых параметров. Но, учитывая крайне напряжённые общественные настроения в обоих государствах, а также высокие политические ставки для лидера каждой страны, нет достаточных оснований для оптимизма по поводу сдерживания.
Лунатики XXI века
Нам часто твердят о необходимости помнить уроки истории. Да, история редко повторяется в одной и той же форме. Но националистам в Пекине и в Вашингтоне, которые, вероятно, не вполне осознают, насколько серьёзны ставки, хорошим чтением на уикэнд стала бы книга моего соотечественника Кристофера Кларка о провале антикризисного управления и дипломатии в 1914 г., получившая запоминающееся название «Лунатики».
Основной урок событий, которые привели к Первой мировой войне, состоит в том, что относительно незначительный инцидент (убийство австрийского эрцгерцога в Сараево в конце июня 1914 г.) может в течение нескольких недель перерасти в войну между великими державами. Образное описание Кларка – это история неумолимой эскалации конфликта, неэффективной дипломатии и грубого топорного национализма вкупе с отсутствием как у населения, так и у лидеров всякого представления о том, что реальный конфликт вообще возможен – до тех пор, пока «пушки августа» не доказали обратное.
Для Соединённых Штатов проблема Китая реальна и требует согласованной, долгосрочной стратегии, затрагивающей все области политики и реализуемой в координации с союзниками. Китайский вызов также потребует формирования новых рамок американо-китайских отношений, основанных на принципах «управляемого» стратегического соперничества: политической, экономической, технологической и идеологической конкуренции с единообразно понимаемыми «красными линиями», открытыми каналами коммуникации на высшем уровне, чтобы не допустить случайной эскалации, а также сотрудничеством по глобальной повестке в тех областях, где такое взаимодействие было бы взаимовыгодно (например, в области борьбы с эпидемиями и изменением климата).
Но сейчас главная задача состоит в том, чтобы благополучно провести следующие несколько месяцев, избежав конфликта в разгар президентской кампании в США и периода противоречивой внутренней политики в Китае. Лидеры обеих стран должны помнить, что националистический ура-патриотизм несколько приглушается, когда в воздухе звучат выстрелы.
Перевод: Елизавета Демченко

Нота оптимизма в мелодии образования
людей должны учить люди, а не машины
Георгий Малинецкий
Выдающийся учёный Ричард Фейнман в своё время преподавал физику в Бразилии. В этой стране были студенты, профессора, университеты. Одна беда — физику они не знали. От слова «совсем». Дело в том, что студентам было велено заучивать то, что толковали профессора, а потом пересказывать это преподавателям, чтобы успокоить последних. Ребят, которых хотели разобраться в предмете, шпыняли и третировали, потому что они отнимали время у занятых людей. Понимать всю эту «талмудистику» было необязательно, потому что никто применять её в Бразилии не собирался. Фейнман понял ситуацию, постарался объяснить её всем, кому смог, а затем взялся за дело. Пояснял, показывал, читал лекции. Но продолжалось это недолго. Отозвал его Госдеп, дав понять, что физика посылали отдохнуть и развлечься, а он решил сделать из Бразилии мировую державу…
У нас дела с образованием обстоят иначе. Наверное, все в детстве читали сказку «Конёк-горбунок». Обычно вспоминают про Ивана-дурака, волшебного конька или перо Жар-птицы, забывая про старинушку, у которого было три сына. А он-то и есть ключевая фигура. Именно он поставил задачу, дал указание охранять поле, осуществил обратную связь между положением дел в хозяйстве и действиями персонала.
Судя по всему, в российском образовании появляется обратная связь, и это даёт надежду. «Заграница нам поможет!» — энергично восклицал Остап Бендер. И нам она уже помогла. Важно просто отнестись к этому всерьёз. Старшее, советское поколение полагает, что у нас отличное образование. Молодёжь думает, что у нас «как во всём мире». И то, и другое неверно. Понять это помогла международная программа по оценке образовательных достижений (Programme for International Student Assessment, PISA). В этой программе исследуются возможности и компетенции среднего 15-тилетнего школьника страны. Цель программы — ответить на вопрос: «Обладают ли 15-ти летние школьники знаниями и умениями, необходимыми для решения широкого диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений». В 2018 году в исследовании PISA участвовали 600 тысяч школьников из 79 стран. У детей не спрашивают теорем, формул, правил, а просят применить имеющиеся у них знания к решению несложных задач по математике, естественным наукам и чтению.
Мы всегда гордились своим математическим образованием. Но не всё так хорошо, как думается. Результаты 2018 года таковы: 1-я десятка: П-Ш-Ц-Ч (Китай) (В этой стране исследования проводились в городах Пекин, Шанхай, Цзенсу, Чжэцзя.); Сингапур; Макао (Китай); Гонконг (Китай); Тайбэй (Тайвань); Япония; Южная Корея; Эстония; Нидерланды; Польша. Россия находится на 30-м месте, Беларусь — на 38-м, Украина — на 43-м. Наши результаты ниже, чем средний показатель стран-членов Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), в которую входит 37 государств, в том числе и лидеры. По естественным наукам мы на 33-м месте, а по чтению (на родном языке!) — на 31-м.
Исследования PISA проводятся каждые три года, поэтому интересна динамика результатов России. Возьмём ту же математику: 2000 год — 22-е место, 2003-й — 29-е, 2006-й — 34-е, 2009-й — 38-е, 2012-й — 34-е, 2015-й — 23-е, 2018-й – 30-е.
Отсюда следует ясный вывод — 30 лет перманентных реформ привели наше образование, которое в советские времена было одним из лучших в мире, к развалу. Лидерами в мировом среднем образовании являются сегодня страны, делающие ставку на высокие технологии, на быстрое развитие: Китай, Сингапур, Тайвань, Япония, Южная Корея. Наше образование ниже среднего в мире, как и положено стране-сырьевому донору, которой сейчас является Россия и которым Запад хочет видеть её и дальше.
Высшая школа при всём желании не может устранить многое из того, что упущено в средней. И мы очень часто пытаемся давать высшее образование тем, кто не имеет среднего. Происходящее не является случайным — оно носит системный характер для всего постсоветского пространства. Это вопрос государственной стратегии, видения нашего будущего, и он не решается заменой Иванова на Петрова, а Петрова на Сидорова. На Украине и в Белоруссии, вроде бы и реформы, и люди другие, но, судя по тесту PISA, они находятся там же, где и Россия… Как и для нас, для них нет места «в калашном ряду».
Помню, как ломали советскую среднюю школу. Одним из идеологов развала был профессор А.Г. Асмолов. Он видел школу как «сад культуры достоинства, сад современности для бесстрашного поколения сложных, свободных людей, готовых к изменениям реальности, сад вариативного образования XXI века», где «не ребенок должен готовиться к школе, а школа должна готовиться к ребенку». Вещи, связанные со знаниями, умениями и навыками, он считал второстепенным моментом в этом процессе — мол, «школа переводится в греческого как «досуг»... и школа станет досугом опять». Асмолов пророчил: «Знаете, что такое одарённый ученик? Это ученик, который учит учителя... Нас ждёт образование будущего — пространство парадоксов».
И под эти разглагольствования о вариативности и досуговости школьного образования была разрушена советская система. Помню круглые столы: «Культура достоинства против культуры полезности». Не важно, что человек ничего не умеет, — важно, чтобы он это делал «достойно». Но ситуация меняется — в стране принимаются Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОСы), чтобы сориентировать школы, что дети должны знать. И тут уже А.Г. Асмолов протестовал: мол, с помощью ФГОСов школа будет «выращивать роботов». Достоинства и вариативности в тех, кого подготовят, видно мало, ведь каждому своё… Но, как видим, что-то меняется.
Последствия образовательного развала Россия чувствует на себе. Многие отрасли ощущают кадровую катастрофу. Космосом руководит журналист, промышленностью — социолог, и этот список можно продолжать до бесконечности. Не так давно в пилоты российских самолётов звали гастарбайтеров… В этот год из жизни ушло много моих коллег, друзей, знакомых. Всё чаще слышишь о врачах: «не поняли», «не сумели», «не знали». Раньше с этим не сталкивался. Но не удивляюсь. «Учим не тех, не тому и не так», — всё чаще говорят преподаватели медицинских вузов. И действительно — как можно отбирать будущих врачей, которым мы доверим свои жизни, по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ), который заставляет принимать тех, кого в глаза не видели, и кто, может быть, не очень готов к учёбе по медицинским специальностям?!
Наглядный урок преподнесла нашему отечеству борьба с COVID-19. Почти всё, что было сделано, удалось благодаря случайно оставшимся советским кадрам, научным организациям, системным решениям. Видно, неплохо учили и работали в советской стране.
В этом году ушёл со своего поста директор Департамента образования Москвы И.И. Калина, возглавлявший его 10 лет. Он вошёл в историю тем, что, вопреки мнению учителей, родителей, учеников и здравому смыслу объединял учебные заведения в комплексы. Объединение пяти школ в одну с присоединением детских садов позволяет избавиться от 60-70 учителей и многих администраторов. Не стало лицеев и гимназий, специализированных школ. Каток реформ уравнял школы, заставил к сильным, ведущим присоединить слабые. В московским Физтехе у первокурсников спрашивали, что будет, если скрестить ужа с ежом. Круто было отвечать, что 2 метра колючей проволоки. В Департаменте решили провести схожий эксперимент — многочисленные петиции, обращения в суд и прокуратору не подействовали. «Какой огурец в хороший рассол ни попадёт: маленький, большой, свежий, малосольный, — происходит усреднение, все становятся одинаково хорошими солёными огурцами. Поэтому не страшно даже слияние обычных школ с девиантными: если подростков с асоциальными поведением помещать в хорошую социальную среду (прежде всего, в школьную), то они тоже станут достойными учениками», — пояснял господин Калина. Педагогика, однако…
Другая новация — инклюзивное образование. Это когда детей с серьёзными диагнозами или отклонениями помещают в обычный класс. Хотя у нас было очень сильное специальное образование, отличные дефектологи, продуманные программы. И таким ребятам нужна другая среда, иные подходы, другая поддержка… Если учитель тем детям, которые совсем «не тянут» программу, вынужден ставить положительные оценки, то обычные ученики видят, что школьной отметке грош цена. На этом пути развалилось американское среднее образование, где учителей «из соображений политкорректности» принудили ставить удовлетворительные оценки детям, принципиально не делающим домашнее задание.
И вот, эпоха Калины кончилась, многие вздохнули с облегчением. Хочется верить, что обратная связь сработала. Впрочем, И.И. Калине предоставлено место советника мэра по образованию и начальника некого центра в Минобразе. Может быть, лучше его было направить по овощной части, огурцы солить?
Однако только в сказках, когда Щелкунчик побеждает мышиного короля — сразу всё преображается. Восстановить разваленное значительно труднее. Мне довелось выслушать множество жалоб на грубость, хамство, канцелярщину, бюрократию от учителей и директоров московских школ. Но писать или сказать на камеру практически все отказались: «Меня просто уволят, если узнают в департаменте… Если выгонят из этой московской школы, то в другую уже не возьмут, а это огромная потеря в зарплате…» Государство в государстве, и как вернуть его к здравому смыслу — пока совершенно непонятно.
Впрочем, есть люди, которые видят путь в будущее. Недавно вышла книга одного из создателей школы «Сириус» Ю.В. Громыко: «Российская система образования сегодня: решающий фактор развития или путь в бездну? Образование как политическая технология». В этой книге рассказано, и о том, как Китай учился организации образования у нас, и о том, чему стоит нам сейчас поучиться у Китая, и про что была написана диссертация самого И.И. Калины. Впрочем, Ю.В. Громыко находится в положении «бывшего лучшего королевского стрелка» в нашей системе образования. Но это положение можно изменить. Стратегии и перспективы найдутся.
Сложнее с учителями. В этих гигантских калино-комплексах иногда есть физико-математические классы. И директор одной из таких школ попросил меня найти учителей по физике и математике, которые умеют решать олимпиадные задачи, предлагая им очень приличную зарплату. Это оказалось удивительно сложным делом даже в Москве. Что уж говорить о других городах? Это наглядно показало заблуждение нашего прежнего правительства, считающего, что деньги могут решить все проблемы. Если нет людей, которые умеют решать и учить, то никакими деньгами тут делу не поможешь. Деньги можно сравнить с бензином для машины. Если неисправен мотор, то бензин не поможет машине поехать. США тратят огромные деньги на образование, но их результаты по PISA–2018 очень скромны (математика — 37-е место, естественные науки — 18-е, читательская грамотность — 13-е).
Ещё одна нота позитива связана с программами электронных школ и вузов. Высшая школа экономики (ВШЭ), в лице её ректора Я.И. Кузьминова и многих его коллег, считала, что время прежнего образования закончилось. Что электронное, дистанционное — лучше и более эффективно: мол, профессора ведущих вузов должны записать свои лекции на видео, чтобы эти записи прокручивать студентам. Ректор одного из продвинутых вузов объяснял на научной конференции, что у них теперь электронные профессора, преподаватели, доценты. Как выяснилось, в электронную форму у них не удалось перевести только ректора, главбуха и уборщиц. Московская электронная школа (МЭШ) — приоритет эпохи Калины. Об «электронном учебнике» от Чубайса, который должен был сотворить «Роснано», лучше не вспоминать. Да и захватывающие дух электронные перспективы образования, о которых говорит Герман Греф, тоже лучше оставить в покое.
И вот COVID-19 расставил всё по своим местам. Оказалось, что всё это — в лучшем случае, имитация. Тут уже запротестовали и родители, и учителя, и многие вузы. Никак не удаётся выучить заочно или электронно боксёров, хирургов и представителей многих других профессий. А вот «эффективных менеджеров», наверное, получится! «Я не могу учить детей, когда не вижу их глаз. У одного вопрос появится сразу, у другого — через неделю, у третьего — через год. И я их понимание и проблемы вижу», — объясняла родителям одна из ведущих преподавательниц математики. Людей должны учить люди, а не машины.
Ещё одним источником оптимизма для меня является журнал для младших школьников «Квантик» и для старших — «Квант». «Квант» издаётся больше 50 лет. Он ориентируется на тех, кто всерьёз интересуется физикой и математикой. Именно его читатели совершенствовали наш ракетно-ядерный щит, делали удивительные открытия. В советские времена его тираж достигал 350 тысяч экземпляров! «Квантик» был создан в 2012 году. Но его тираж — всего 4 тысячи, да и тираж «Кванта» сейчас невелик. Тем не менее, эти журналы есть, и благодаря ним можно многое вырастить. Есть дети, которые их читают, и помогающие детям родители. Очень надеюсь, что Россия повернётся лицом к будущему, и таких детей будет больше. Как заметил один из реформаторов: «В России так же тяжело уничтожить науку, как её создать». Во всяком случае ему это не удалось.
Наша задача гораздо проще, чем у Фейнмана. В отличие от него, нам нужно, совершенствуя образование и науку, вновь сделать Россию великой державой. И делать это нужно не в одиночку, а сообща. Очень надеюсь, что у нас получится.

Максим Ликсутов: планов по вводу платного въезда в Москву пока нет
Руководитель транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов в интервью РИА Новости рассказал о том, как изменилась транспортная нагрузка после выхода из режима самоизоляции, как изменилось отношение москвичей к масочному режиму, будут ли введены зональные тарифы в московском метро, станет ли въезд в Москву платным, а также поделился планами развития транспортной инфраструктуры. Кроме того, он рассказал, как будет развиваться сеть велопрокатов и будет ли столичная билетная система применяться в других регионах России.
— Максим Станиславович, вы много рассказывали в своих колонках в канале Дептранса про то, как изменился мир после пандемии. Скажите, а что именно изменилось?
— Как минимум то, что я начал сам вести свою колонку в нашем Telegam-канале "Дептранс Москвы". Если серьезно, очень многое, и тут надо подробно описать мое видение изменений на транспорте в нашем городе и во всем мире. За время самоизоляции каждый человек смог оценить, насколько в его жизни важно движение: либо ты сам куда-то все время двигаешься, либо ты сидишь на месте и двигается работающая на тебя "огромная транспортная машина" (курьеры, врачи, коммунальные службы, поезда, трамваи). Без движения не может быть жизни.
За время самоизоляции многие были лишены привычного доступа к "кровеносной системе" города. Сейчас же, после спада волны пандемии, люди начали возвращаться к активной жизни, больше передвигаться. Но помня о том, что заболевания еще есть, хотя намного меньше, многие выбирают свои личные автомобили, полагая, что так безопаснее. В итоге "кровеносная система" города закупоривается, так как на дороги выезжает еще больше личного автотранспорта, чем было до пандемии. Поэтому стало понятно, что раскупорить транспортную систему, облегчить пути перемещения горожан и дать воздуха "городским легким", можно лишь при помощи прямого общения с москвичами. Только жители лучше всего знают, что именно нужно изменить для того, чтобы им было удобнее добираться до места назначения, поэтому мы решили попробовать выйти на прямой контакт с москвичами. Поэтому и краудсорсинговый сбор предложений, поэтому и я начал сам готовить статьи и колонки.
История с краудсорсинговым сбором предложений от москвичей вообще показательная: всего за месяц мы собрали больше двух тысяч предложений, о многих из которых услышали впервые.
Мы уже реализовали 30 предложений, хотя только месяц назад закончили обрабатывать их. Другие решения уже в работе, стоит понимать, что для каждого нужно подготовить проект для реализации, а очень многие запросы были типовыми и неуникальными, пересекались друг с другом, а некоторые даже противоречили друг другу – по ним мы запускали голосование, предоставляя право выбора москвичам. Где можем делать быстро — отправляем сразу на реализацию. Не нужно относиться к этому как к привычному электронному сервису, где ты видишь заплатку на дороге и ждешь, пока ее устранят. С предложениями сложнее – они могут подходить тебе, но не нравиться твоему соседу. И в целом предложения некоторые довольно сложные, мы их отдали в наш городской институт Мостранспроект для того, чтобы они вообще могли посмотреть, насколько возможно такое реализовать, и, что особенно важно, как это решение отразится на жителях соседнего дома, автомобилистах, городских автобусах и на общей безопасности дорожного движения.
Одно можно сказать точно: когда мы попробовали собрать предложения, мы поняли, что зачастую сами местные жители намного лучше знают, что им нужно, так как пользуются этими маршрутами каждый день. Главное, что мы поняли, что тактика сбора предложений гораздо лучше сбора жалоб, поэтому мы точно будем развивать этот инструмент и он будет действовать постоянно, как и наш сайт для решения спорных моментов в предложениях. Так что мы теперь совсем близко к москвичам, буквально на прямом контакте, чтобы вместе менять город к лучшему.
— Насколько быстро люди возвращаются в городской транспорт? Есть ли у людей страх заразиться в нем? Что есть на транспорте Парижа, Лондона или Пекина, чего нет в Москве?
— Сейчас Москва по многим параметрам практически вернулась к показателям докоронавирусного времени. Это экономическая активность, бизнес, услуги, досуг, работа предприятий. Мы видим рост числа пассажиров на центральных станциях метро, больше пассажиров становится на пригородном ж/д, в наземном транспорте, в такси. В аэропорты также начали прибывать первые международные пассажиры.
Более того, 20 августа было зафиксировано максимальное число передвигающихся по Москве людей – 8 миллионов 510 тысяч. Это все уникальные пассажиры общественного и личного транспорта, совершившие в течение дня одну поездку или более.
Мы крайне внимательны к вопросам санитарной безопасности, во время пандемии мы изменили регламенты уборки, интенсивность дезинфекции, на станциях и остановках появились санитайзеры.
На московском транспорте крупнейшая сеть бесплатных санитайзеров. Во многих других городах они доступны только на отдельных станциях метро. У нас уже на всех станциях метро и МЦК, а также станциях МЦД и остановках наземного транспорта. Ежедневно ими пользуются 2,5 миллиона раз.
Поверьте, городской транспорт в Москве безопасен настолько, насколько это возможно, и точно защищен лучше, чем во многих европейских и американских мегаполисах.
Однако мы видим, что люди стали реже носить в транспорте маски по сравнению с маем. И я бы хотел сейчас обратиться ко всем нашим пассажирам – пожалуйста, надевайте маску в транспорте. Подумайте о тех, кто рядом с вами, подумайте о том, что они могут быть уязвимее вас. Ношение маски теперь это уже новый, можно сказать, этикет. Это уважение друг к другу.
Мы проводили большой вебинар с коллегами из Международного союза общественного транспорта и коллегами из других городов – Мадрида, Парижа, Баку и Лондона, везде так или иначе врачи убеждают людей носить маски в транспорте, также и в других закрытых помещениях, где много людей. Где-то ужесточают контроль, где-то повышают штрафы, но все сходятся в том, что кроме штрафов и контроля необходимо объяснить людям, почему маску следует носить. Что мы сейчас активно и делаем вместе с санитарными врачами.
В мире вводятся крупные штрафы, за нарушителями следит полиция. Например, в Великобритании штраф за отсутствие маски 100 фунтов (9000 рублей), во Франции – 135 евро (11 000 рублей), а в Гонконге вообще 5 тысяч гонконгских долларов – это почти 46 тысяч рублей.
В Москве же если наши контролеры видят пассажиров без средств индивидуальной защиты, в первую очередь они стараются объяснить необходимость их ношения в транспорте. В большинстве случаев пассажиры после устного предупреждения надевают маски.
Многие думают, что это мы с полицией специально так делаем и обязываем всех носить маски из вредности. А на самом деле к нам поступает очень много запросов от москвичей с просьбами усилить контроль ношения средств индивидуальной защиты – людям просто становится страшно заходить в транспорт, где другие люди не носят маски. Как мы можем не прислушиваться к их запросам? Мало того, даже Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекомендует носить маски в транспорте.
— Но все равно некоторых пассажиров штрафуют? А их количество выросло после 9 июня, дня отмены режима самоизоляции? Где реже пользуются СИЗ — в метро, автобусах, электричках?
— Безусловно, иначе никак. С 12 мая по 22 августа оштрафовано более 57 тысяч пассажиров за отсутствие масок и перчаток. После отмены режима самоизоляции количество оштрафованных пассажиров выросло почти на четверть.
В метро штрафуют чаще – с учетом большего пассажиропотока, при этом большинство пассажиров в масках, и я расцениваю это как взаимное уважение и заботу пассажиров друг к другу.
Нам, конечно, совершенно не хочется никого штрафовать. Но носить маску – это несложное правило, его вполне можно выполнять. И повторюсь – это уважение к другим пассажирам.
— Были также штрафы за движение без пропусков на автомобиле. И некоторые, полученные автомобилистами за ошибку в номере при оформлении пропусков, можно было аннулировать. Все ли такие "заявки" выполнены? Сколько их было суммарно?
— Мы отменили уже около 32 тысяч штрафов водителям (на 22 августа). Все поступающие обращения от жителей мы рассматриваем в индивидуальном порядке, как нам и поручал мэр Москвы, и только после этого выносим окончательное решение. Подчеркну, что никакой цели собрать как можно больше штрафов у нас никогда не было.
— В сентябре планируется экспериментально ввести новые тарифы для проезда в метро вне часа пик. Расскажите, как это будет организовано для пассажиров? Придется ли покупать специальные билеты, проезд будет обеспечен по карте "Тройка" или иначе?
— Пилотный проект по введению дифференцированных тарифов мы планируем запустить в сентябре на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Таганско-Краснопресненская линия – одна из наиболее востребованных и загруженных, а Некрасовская линия участвует в проекте, так как на южном участке она дублирует фиолетовую. Кто-то может из-за скидки отказаться от поездок по Некрасовской в пользу Таганско-Краснопресненской, тем самым мы можем не получить нужный эффект, поэтому пилот пройдет на двух линиях.
Решили, что скидка на проезд будет до 50%, то есть 20 рублей для тех, кто поедет на метро в определенное время – с момента открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15.
Проект рассчитан на 8 месяцев, до апреля 2021 года. Мы на каждом этапе будем оценивать его эффективность. Международный опыт снижения стоимости поездки во вне пик показывает уменьшение пассажиропотока в пиковые часы до 10-12%.
Мы провели опрос горожан: около половины опрошенных готовы изменить время своих поездок. Рассчитываем на уменьшение загрузки поездов на 7%
Главная и основная цель – снижение пассажиропотока в часы пик. Это даст больше возможностей для соблюдения социальной дистанции, а метрополитену будет легче соблюдать график движения.
Механика будет простой – никаких специальных билетов покупать не придется. По билету "Кошелек" карты "Тройка" при входе, например, сразу спишется не 40 рублей, а 20 рублей. По абонементным билетам "Тройки" будем начислять бонусные рубли на "Кошелек" раз в неделю. По банковской карте прорабатывается снижение стоимости в выбранные часы до 22 рублей.
— Может ли этот эксперимент коснуться и других линий в ближайшее время? Рассматривается ли разделение метрополитена на зоны, как это сделано в крупных европейских столицах?
— Наши опросы показывают, что эффект должен быть, но нужно понимать, что одно дело опросы, а другое – выехать на полчаса раньше на работу. Будем смотреть на результаты и только после их анализа думать о возможном расширении. Ждем, конечно, и реакции московских работодателей. Со своей стороны постараемся с каждым из них еще отдельно поговорить, чтобы пошли навстречу своим сотрудникам, если у тех возникнет желание приезжать в другое время.
Билетная система сейчас поддерживает зоны в наземном городском транспорте и на МЦД. Применять зональные тарифы в метрополитене – таких планов у нас сейчас нет.
— Можно сказать, что эксперимент по снижению цены за проезд на фиолетовой линии это некое поощрение. Планируете ли каким-то образом поощрять тех автовладельцев, которые покупают компактные автомобили: не будет ли для них каких-то послаблений по парковке или других акций?
— В 2000-х в Москве была пилотная программа для владельцев компактных автомобилей, однако необходимых положительных эффектов она не дала, даже, наоборот, многие начали покупать такие машины в качестве второго автомобиля. Сейчас во всем мире предпочтение отдается электромобилям. В Москве для таких машин парковка бесплатна. Кроме того, в конце прошлого года по распоряжению мэра Москвы отменен транспортный налог на такие автомобили.
У нас есть соглашение с "Россетями", по которому мы будем формировать зарядную инфраструктуру для личных автомобилей. В этом году планируем установить не менее 200 единиц зарядных станций, потом еще 100-200 штук ежегодно.
— Будут ли какие-то новшества в развитии наземного транспорта в ближайшее время? Больше новых маршрутов или пересмотр в целом маршрутной сети в разных районах Москвы?
— Наша задача сейчас — продолжать обновлять парк наземного транспорта, закупая самые экологичные и вместительные машины – электробусы и трамваи. Уже в 2023 году трамвайный парк Москвы будет на 100% состоять из новых вагонов. И количество пассажирских мест в трамваях увеличится на 27%. Плюс это, конечно, постоянная работа по запуску новых маршрутов и изменению существующих.
Для маршрутов, которых коснулись эти изменения, мы вводим новые графики движения, согласованные друг с другом, трамваи ходят регулярнее и быстрее. Среднее время ожидания в течение дня составит не более 5-6 минут, в позднее вечернее время — не более 10 минут.
Вообще, мы хотим сделать так, чтобы наземный транспорт был максимально быстрым и удобным, а главное, надежным и развивался с учетом расширения метро и МЦД.
В планах осенью перевести на тактовое расписание еще 65 автобусных и 15 электробусных маршрутов в центре, на севере, северо-востоке и востоке города. Чтобы движение было регулярное и предсказуемое, и пассажиры всегда знали, что на их остановку точно придет автобус или электробус и ждать его практически не придется. Например, в час пик маршрут может работать с интервалом 5 минут, днем – 10 минут, поздним вечером – 15 минут.
Сегодня на тактовое расписание уже переведены все трамвайные и 90 автобусных маршрутов на северо-западе Москвы. Кроме того, трамвайные пути отделены от проезжей части, а соблюдение правил дорожного движения контролируют камеры фотовидеофиксации. Что важно, количество пассажиров на этих маршрутах увеличилось на 10%.
— Еще звучат предложения от активистов пустить трамвай по Садовому кольцу. Есть ли такие планы у города? Насколько это реально реализовать?
— Конечно, это предложение довольно интересное, но сделанное исключительно с позиции кажущейся красоты идеи, без учета экономической составляющей. В представленном проекте никак реально не оценены стоимость проекта, его влияние на движение в целом для Москвы и востребованность связей, которые может обеспечить трамвай, наличие существующих линий метро, да и жителей домов, которые живут вдоль Садового кольца, тоже не спросили. Спрашивать их важно, так как они вообще могут быть недовольны нововведением, могут лишиться каких-то вещей вроде проездов и парковок.
Более того, при строительстве путей надо будет изменить большое количество инженерных подземных сетей. Да и зеленые насаждения и деревья не могут находиться в такой близости от путей, закрывая обзор водителю. То, что представляют коллеги, безусловно, заинтересованные в улучшении Москвы, это хорошая, но очень сырая идея, которая в первую очередь является красивой картинкой, без необходимых расчетов и предпроектных проработок.
В качестве альтернативы можно было бы организовать на внутренней стороне Садового кольца выделенные полосы для автобусов. Но опять же – устроит ли большинство жителей подобное решение? Это вопрос сложный и не требует быстрых и необдуманных решений. Надо обсуждать с москвичами, с экспертами и, конечно, провести полный анализ всех эффектов – позитивных и негативных. Но мы всегда однозначно поддерживаем приоритет в движении именно для городского транспорта.
— Весьма традиционный вопрос об организации транспорта: рассматривается ли платный въезд в Москву или в центр города? Есть ли в подобном необходимость?
— Планов по вводу платного въезда в Москве на данный момент нет. Несмотря на постоянный рост числа личных автомобилей, а в Московском регионе с 2010 года их стало больше на два миллиона, количество выезжающих ежедневно на дороги города машин удается приводить в баланс благодаря популярности и повышению комфорта общественного транспорта, внедрению платных парковок, пересмотру организации дорожного движения, внедрению ИТС, развитию альтернативных видов транспорта и постоянному развитию качественного пешеходного пространства.
— Какие станции МЦД планируется открыть для пассажиров до конца текущего года или в начале следующего?
— В конце этого года — начале следующего пассажирам второго диаметра станут доступны еще две новые пересадочные станции: "Щукинская" и "Печатники". Станцию "Щукинская", которая заменит на диаметре станцию "Покровское-Стрешнево", интегрируют с одноименной станцией Таганско-Краснопресненской линии. Пересадка займет всего три минуты. А с нового остановочного пункта "Печатники" можно будет пересесть на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии и строящуюся станцию Большой кольцевой линии.
В ходе реконструкций на месте старых остановочных пунктов появляются городские вокзалы. Например, в этом году на МЦД-2 уже завершилась реконструкция станции "Нахабино". Раньше на ее месте была старая ж/д станция с минимальным уровнем комфорта, но благодаря масштабным работам она превратилась в крупнейший пригородный вокзал в Европе площадью 8,9 тысячи квадратных метров. Фактически остановочный пункт отстроили заново. Уверен, что благодаря реконструкции пропускная способность станции вырастет и составит в 2025 году около 30 тысяч человек и будет иметь серьезный запас на много лет вперед.
Также в этом году завершится реконструкция на остановочных пунктах: Долгопрудная и Баковка на первом диаметре, Подольск на втором диаметре. В конце 2020 – начале 2021 года первых пассажиров примут две новые станции на перспективных маршрутах МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" и МЦД-4 "Киевско-Горьковский": "Ховрино" на Ленинградском направлении ОЖД и "Аминьевская" на Киевском направлении МЖД. Все строительные работы ведутся по специальной технологии, без остановки движения поездов, что очень непросто. Наши коллеги из ОАО "РЖД" все делают на очень высококачественном уровне.
— Какие планы на 2021 год по закупке электробусов, трамваев, вагонов метро и развитию велоинфраструктуры?
— Трамвайный парк продолжают пополнять вагоны нового поколения "Витязь-Москва" – сегодня в столице работают более 370 таких трамваев. Объявлен конкурс на поставку еще более 200 современных вагонов – поставщика определят по итогам электронного аукциона. Московский парк пополнят 130 односекционных вагонов и более 70 трехсекционных. В 2021 году мы планируем получить 109 трамваев, 95 – в 2022 году.
На следующий год запланирована покупка еще 600 электробусов. Мы ждем также на тестирование и электробус особо большой вместимости. Вагоны метро, согласно новому контракту, будут поступать в таком порядке: в 2021 году – 337, в 2022 году – 336, в 2023 – 328.
Что касается велопроката, наша цель — разместить сеть во всех районах города. Будем продолжать добавлять по 1000 велосипедов ежегодно, Мэр Москвы Сергей Собянин поддерживает все эти проекты.
— Сообщалось, что будет объединение билетной системы Москвы с Московской областью, Тулой и Петербургом. Для Питера еще планируется и интеграция системы оплаты парковок. Как это будет действовать? Повлияет ли на стоимость проезда и стоянки?
— Московскую билетную систему можно интегрировать в любой город в России, и мы обеспечим полную поддержку всей IT-платформы, что позволит регионам сэкономить серьезные средства, время и получить готовое, надежное и протестированное решение.
Жители смогут по приезду в Москву не покупать дополнительных билетов, а москвичи могут оплатить проезд в городском транспорте региона своим привычным проездным. Думаю, это будет очень востребовано и удобно. Мы также оставляем все возможности нашей карты "Тройка" при объединении – доступ в московские музеи, на катки, программу лояльности и другие сервисы. Тарифы и цены устанавливать будут только местные власти, это остается за регионами, это не наша компетенция.
С Петербургом мы пока на стадии обсуждения. Им очень интересны наши решения по части и билетной системы, и то, как организована работа с парковочным пространством. У нас богатый опыт, обе системы отмечены международными наградами. Про парковки могу с уверенностью сказать, и многие со мной согласятся, было бы очень удобно иметь одно мобильное приложение с единым парковочным счетом для двух мегаполисов, учитывая экономическую активность поездок Москва-Петербург, а если присоединятся и другие, мы поможем всем, кто обратится.
— Почему бы тогда не объединить всю билетную систему РФ на базе карты "Тройка"? Это было бы всем удобно.
— В России сейчас используется множество различных билетных систем, при том, что на территории одного региона иногда даже несколько разных. Все это затрудняет создание и целенаправленное развитие удобного для пассажиров единого сервиса оплаты проезда и сопутствующих услуг. Билетная система карты "Тройка" построена на билетных решениях, принадлежащих правительству Москвы, ее работа полностью автономна, возможна на неустойчивых каналах связи или их временном отсутствии.
Сейчас в Москве разрабатывается единая новая билетная система, в основу которой положены мировые тренды и технологии в области оплаты проезда.
Москва готова предложить данное решение регионам, которые сразу получат все наработанные преимущества карты "Тройка". Это мультимодальные поездки и комплексные тарифы, множество способов оплаты и видов билетных носителей, включая смартфоны, личный кабинет пассажира с возможностью управления своими транспортными картами, восстановления карты при утрате и многое другое.
Безусловно, это все возможно при интересе со стороны региональных властей. При этом они получат прозрачный и понятный учет и полноценный контроль со стороны правоохранительных органов. Каждый регион может подключить именно те функции и билетные решения, которые ему необходимы.
— Что будет сделано для безопасности дорожного движения и снижения ДТП, увеличения пропускной способности?
— Сегодня темы снижения смертности в ДТП в Москве в 2,6 раза выше показателей по Центральному федеральному округу и России в целом – в Москве 16%, в ЦФО и РФ – 6%. Это хороший результат нашей совместной работы с ГИБДД.
Например, за шесть месяцев 2020 года построено и реконструировано 63 светофора, организовано 26 пешеходных переходов, на 12 участках была изменена схема дорожного движения и на шести участках снижен скоростной режим и на пяти скорость мы смогли увеличить, и это не отразится на безопасности.
Мы планируем сделать движение на МКАД безопаснее и разработали специальную программу. Подготовлены изменения в проекты организации дорожного движения на время проведения дорожных работ, прорабатывается вопрос дополнительного освещения и новая система навигации, запланирована установка дополнительных комплексов фотовидеофиксации, увеличим количество и качество камер видеонаблюдения, чтобы еще оперативнее реагировать на любые ситуации на МКАДе: незапланированную остановку транспортного средства, плохо выделенный участок строительных работ и многое другое. Для снижения числа ДТП, связанных с наездом на стоящие автомобили, на МКАДе планируется создать аварийные карманы и ускорить процесс оформления ДТП.
Еще на 17 перекрестках Москвы этим летом появится вафельная разметка, доказавшая свою эффективность. На 100 перекрестках, где была нарисована такая разметка, сократилось количество аварий, а проезд на перекрестке стал быстрее, поэтому мы организовываем ее на новых участках для безопасности всех участников дорожного движения.
— Ранее сообщалось, что власти Москвы завершают интеграцию баз с РСА для проверки наличия полисов ОСАГО с помощью камер. Как идет этот процесс и когда московские камеры начнут фиксировать это нарушение?
— Мы провели неоднократное тестирование. Все, что зависит от нашей инфраструктуры, все готово и проверено. Теперь решение за РСА и ГАИ России. Считаю, что администрирование наличия полиса ОСАГО через комплексы фотовидеофиксации защитит автомобилистов, которые имеют полисы ОСАГО, от нарушителей.
— Как вы в целом оцениваете загруженность московских дорог на сегодня? Она снизилась в часы пик?
— Автомобилей в августе стало больше – и в часы пик, и в течение дня. Например, 18 августа было на 5% больше машин, чем в прошлом году. То есть на дороги выехали еще 140 тысяч дополнительных авто. Многие отказались от отпуска в этом году в связи с пандемией и остаются в Москве, поэтому мы видим такой рост.
Во время самоизоляции заторы в Москве были 1-2 балла. После того как в июне начали снимать ограничения, число машин на дорогах восстановилось практически сразу к докоронавирусному времени. Сегодня есть одно основное решение по снижению нагрузки на дороги – продолжать активно развивать все виды городского транспорта. Он у нас в Москве и так уже один из лучших в мире, но мы будем и дальше делать его быстрее, комфортнее и доступнее, чтобы большинство москвичей выбирали его. Также продолжим создавать удобные цифровые сервисы и делиться данным со всеми, кто делает мобильные приложения, чтобы сделать движение в Москве еще удобнее для всех.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

























