Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
Главные отличия.
Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Встреча с президентом Российской академии медицинских наук Иваном Дедовым.
Обсуждались, в частности, вопросы развития системы здравоохранения, возможности повышения заработной платы в научной медицине.
Во встрече также приняли участие директор Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д.Рогачёва, академик РАМН Александр Румянцев, директор Центра сердца, крови и эндокринологии имени В.Алмазова, академик РАМН Евгений Шляхто, главный врач Центра планирования семьи и репродукции Марк Курцер и сотрудники Эндокринологического научного центра Минздравсоцразвития России Анатолий Кузьмин и Екатерина Шереметьева.
* * *
В.ПУТИН: Добрый день, уважаемые коллеги!
Мы давно договаривались с Иваном Ивановичем увидеться примерно в таком составе. Иван Иванович предлагал встретиться, поговорить по проблемам Академии медицинских наук, но не как учреждения, а как площадки, где проводятся соответствующие исследования, причём самого высокого уровня, где специалисты работают в высокотехнологичной медицине, применяют или планируют применять новые методы лечения.
Я посмотрел предлагаемые на сегодня темы для разговора. Конечно, неспециалисту трудно в этом разобраться, но я постараюсь не только вас внимательно выслушать, но и сформулировать затем согласованные с вами поручения Правительству, с тем чтобы и Министерство здравоохранения, и другие ведомства среагировали на ваши предложения, на ваши планы развития медицины, на то, что предлагает Академия медицинских наук, для того, чтобы поднять на более высокий уровень качество предоставляемых нашим гражданам медицинских слуг.
Давайте начнём. Иван Иванович, пожалуйста, прошу Вас.
И.ДЕДОВ: Спасибо, Владимир Владимирович, за то, что Вы нас сегодня приняли. Здесь не только известные члены Академии и руководители научных центров, научно-исследовательских, но и молодёжь, которая имеет вопросы. Академия медицинских наук, спасибо Вам большое, развивается, мы провели выборную сессию – 68 новых академиков и членов-корреспондентов, достаточно молодых, это такая новая, свежая кровь.
А я хотел бы вернуться к тем Вашим статьям, которые были опубликованы как раз в предвыборную кампанию, и задачам, которые были поставлены перед медициной и медицинской наукой, прежде всего, конечно, целевые показатели демографической ситуации: это снижение смертности, повышение продолжительности жизни, снижение инвалидизации, безусловно, борьба с социально значимыми заболеваниями, орфанными (наследственными) заболеваниями. Вот эти задачи реальны, они выполнимы.
Сегодня на самом деле очень много сделано. Медицинская наука всегда была сопровождением здравоохранения, авангардом, создавались великолепные коллективы, которые сегодня работают. Мы получили мощное ускорение в последнее время и в модернизации, и в информатизации. Строится очень много высокотехнологичных медицинских учреждений. Вы очень своевременно, мне кажется, сделали акцент на профилактическое направление сердечно-сосудистых, онкологических [заболеваний], на поддержку материнства и детства. Всё это, безусловно, сказывается. Это всё развивается очень динамично.
Мои коллеги сегодня затронут много интересных и для Вас как Президента аспектов, потому что жизнь сегодня всё новые вызовы ставит перед медицинской наукой, перед медициной. И появляются фантастические возможности для реализации тех демографических показателей, которые стоят. Конечно, они выполнимы при том внимании, которое оказывается сегодня [медицине], и при финансовой поддержке.
Я сегодня хотел бы остановиться на том, что креативные центры, очень мощные, сильные, по разным причинам оказались в разных ведомствах: в Академии, в Минздраве, в агентствах. Мне кажется, наступило время всё-таки собрать их в единый кулак, чтобы можно было создать творческие коллективы, платформы, которые бы определяли направления: кардиология, онкология, эндокринология, материнство и детство.
Сегодня есть по пять-десять однопрофильных институтов. Конечно, это дублирование тематики, это неэффективное использование технологических и имущественных комплексов и, конечно, кадровый вопрос. Поэтому было бы очень важно сегодня посмотреть и как раз подумать относительно того, чтобы создать некий очень похожий, может быть, на зарубежный, как в Америке, национальный институт здоровья, чтобы была хорошая подчинённость, финансирование, управление такой структурой. Возможности, конечно, сегодня колоссальные в этом отношении.
Сегодня развивается не только медицина высоких технологий, но это медицина и спортивная, это, конечно, персонализированная медицина, потому что сегодня можно предсказать – это предсказательная медицина – риски заболеть сердечно-сосудистыми, онкологическими, орфанными заболеваниями. Мы можем показать вам крайне интересные вещи, так называемые предымплантационные. Можем уже взять и посмотреть, есть ли наследственные заболевания, и можно исключить эти вещи. Сегодня ребёнок, больной муковисцидозом, – это где-то 20 тысяч долларов в год [на лечение]. И всё равно это крест серьёзнейший, безусловно. А мы можем сегодня подарить этим семьям так называемый ядерный ген, уже обозначенный, можем подарить радость здорового ребёнка. Вот эти геномные, постгеномные технологии сегодня позволяют это блестяще делать.
Конечно, есть проблемы. Мы построили очень много замечательных совершенно перинатальных центров. Мы подписали конвенцию о том, что маловесные дети, особенно с экстремально низкой массой, должны выживать. Если вчера без конвенции одна была ситуация, то на выходе нужна особая стыковочная педиатрия. Поэтому это очень важный кадровый вопрос – выходить и потом передать ребёнка, чтобы не было потом социальных обвинений. Это важный вопрос, мы его, безусловно, обсуждаем.
Так же как и удивительные возможности, которые сегодня появляются внутриутробной диагностики разных наследственных заболеваний, которые тоже можно исключать. В Вашем кабинете не раз поднимали вопрос об ЭКО [экстракорпоральном оплодотворении]. Конечно, это очень важная технология, и сегодня она открывает возможности клеточных технологий, репаративной медицины.
Так что проблем очень много. Мы не случайно сегодня пригласили как раз специалистов в области охраны материнства, детства, онкологии, сердечно-сосудистой патологии, гематологии для того, чтобы с Вами поделиться, рассказать что-то интересное, показательное, подготовили много интересных иллюстраций.
В.ПУТИН: Кто продолжит?
М.КУРЦЕР: Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, я волнуюсь, поэтому могу быть сбивчив. Я хочу сказать, что сегодня, например, акушерская служба, наша акушерская часть Академии, которую я представляю, работает в других условиях, у нас всё за последние несколько лет поменялось. В первую очередь поменялось в связи с тем, что принята конвенция, принят и издан приказ Министерства здравоохранения, у нас определены с 1 января другие критерии живорождённости: теперь мы считаем ребёнка с 500 граммов – если вес 500 граммов, то ребёнок входит во все наши показатели смертности, летальности, заболеваемости и так далее. Это очень важный шаг, была большая дискуссия, делать это или не делать, но сегодня наша статистика стала соответствовать западноевропейским странам, Америке. Мы это сегодня видим. Это один из критериев.
Второе. Хочу сказать, что мне по роду работы по приглашению удалось поездить по России. И, несмотря на то что, например, я не был привлечён к созданию сети перинатальных центров, я был поражён, приезжая в областные, иногда не областные, а территориальные центры, что по парку оборудования они ничем не отличаются. Вот это меня поразило. Я приходил в перинатальные центры Самарской области, был в других областях, и они абсолютно идентичны – весь перечень: следящая, дыхательная аппаратура, кювезы, дыхательный наркоз, операционные столы, процент использования обезболивания для пациентов. Это важная вещь для того, чтобы наши пациентки приняли решение о повторных родах, страх перед болью не застилал, скажем, многодетность, – это всё изменилось.
И третий, на мой взгляд, шаг, с которым я столкнулся, посещая регионы или принимая на себя пациентов с тяжёлой уже патологией, очень правильно, что в отчёт территорий – перед Вами губернатор отчитывается – введены в нашей службе два очень важных показателя: это материнская и перинатальная смертность. У нас, как у организаторов акушерства и гинекологии, появилась очень серьёзная возможность, мы можем объяснять, что «ваш регион будет худшим, если вы не сделаете это, не сделаете то».
Я имею основную базу в Москве, и для меня это огромное подспорье, потому что, когда отчитывается Министр здравоохранения, и наш показатель начинает меняться, у меня появляется возможность финансирования, принятия организационных, методических решений и так далее.
Был принят в согласовании с нами со всеми – это был дискутабельный документ – порядок оказания медицинской помощи; она стандартизирована, и всё это, конечно, нам сегодня очень облегчило работу.
Есть ещё вопросы нерешённые – думаю, что об этом будут говорить мои коллеги: это вопросы подготовки кадров, престиж профессии. Я не буду говорить, что, например, если акушерами и гинекологами многие хотят быть, то детский реаниматолог – это очень узкая специальность на сегодня. Практически в каждом акушерском стационаре, где рождается ребёнок, у него может возникнуть угроза жизнедеятельности, нужно провести реанимационные мероприятия, и возле этой же койки должен быть детский реаниматолог, это особая профессия. Я не буду этого касаться, но это требует пристального внимания государства и соответствующим образом увеличения количества часов, поощрения.
Я хочу сказать, что мы сейчас тоже, мои коллеги будут говорить, стали использовать вебинары. Это семинары, которые проводятся по инернету. Мы рассказываем о своих методиках.
Задача акушеров-гинекологов заключается в том, чтобы наши учёные, то есть мы, работники Академии, разрабатывали методики – и не просто разрабатывали, а внедряли вне зависимости от региона, с тем чтобы мы могли снизить все эти риски. Иван Иванович говорил, я сейчас, может быть, немножко повторюсь, это в первую очередь моногенная диагностика заболеваний, в некоторых семьях, как бы это ни казалось странным, но отказаться от естественного зачатия и делать это с помощью ЭКО, когда мы можем выбрать здорового ребёнка, а не больного – болезненность эмбриона снизить.
Второе. Я хочу сказать, что сейчас совместно и с большой Академией, совместно с Академией, в которую включён и Иван Иванович, и с Александром Григорьевичем мы занимаемся диагностикой ДНК плода в крови матери до семи недель беременности. То есть существует методика, по которой мы сейчас работаем, когда мы берём кровь у матери, и с помощью того, что мы определяем сначала ДНК в эритроцитах и лейкоцитах материнских (запоминает наша машина), потом мы центрифугируем их в плазме, уже знаем, что это ДНК матери. Если мы находим новые ДНК – это ДНК плода. И мы можем исключить болезни Дауна, Эдвардса, Патау. И в семь недель есть возможность уже объяснить, когда мы эту беременность можем оставлять или не оставлять.
Также я хочу сказать, что современные технологии – это выхаживание 500-граммовых детей. На сегодняшний день у нас тоже достигнуты большие результаты. Это уже комплексное лечение, это уже не когда только педиатр в родильном доме – неонатолог лечит. На сегодняшний день пришли методики, которые и в Центре имени Алмазова используются. Мы широко используем торакотомию, перевязываем баталов проток для того, чтобы быстрее снять с искусственной вентиляции лёгких. Мы уже в родильном доме начинаем проводить лазеркоагуляцию сетчатки, чтобы не становились слепыми дети. Это основной бич, это патология органов чувств и так далее.
Я хочу сказать, что сегодня такое внимание нам помогает. А возможности, что сказал Иван Иванович: уже создание мультидисциплинарных центров, когда не один акушер-гинеколог будет биться с полиорганной недостаточностью очень сложного 500-граммового пациента, – в нашей профессии очень нам может помочь.
И.ДЕДОВ: Мы намечаем сейчас выездную сессию как раз по клеточным технологиям, по имплантационным технологиям, когда мы можем предсказывать риски, и не только уже в период беременности, но ещё до беременности. Создавать надо здоровые семьи – там, где есть орфанные заболевания, где предки были больны. Вот эти риски – это абсолютно фантастика, что сегодня появилось, – можно исключить и дарить здоровых детей.
В.ПУТИН: Марк Аркадьевич, Вы посещали перинатальные центры в регионах. Вы сказали про парк оборудования. Да, действительно, мы стараемся закупать самое современное оборудование, в том числе и отечественное. Кстати, отечественного становится всё больше и больше. Как Вы оцениваете уровень подготовки специалистов?
М.КУРЦЕР: Вы знаете, хочу сказать, что в большинстве регионов, с которыми я общаюсь (я являюсь по своей общественной должности внештатным главным акушером-гинекологом Москвы), то есть я не так часто, как главный акушер-гинеколог России, выезжаю, но я, имея определённые устойчивые связи, посещаю определённые центры: я был в Тюмени, был в Тольятти и в Самаре. В части родильных домов, я могу сейчас сказать не совсем корректную вещь, но если есть настоящий лидер, есть главный врач, который болеет за дело, который создаёт популярность своего учреждения, который находит мотивации, – я встречаюсь иногда с удивительными коллективами и удерживаю себя, чтобы не предложить заведующему отделением переехать в Москву, настолько мне нравится их работа, но я не делаю этого.
В некоторых лечебных учреждениях я обнаруживаю немножко другое. Я не могу понять, то ли он скован, потому что приехали мы, с нами, как правило, министр здравоохранения области присутствует, много людей, большое внимание, то ли это влияет, то ли какая-то скованность, не могу сказать. Но во всех лечебных учреждениях я вижу, что новорождённые абсолютно правильно находятся в кювезах, никто не лежит несогретым, правильная влажность. Все используют целлофан, чтобы уменьшить потери, – как амнион; дети лежат в специальной позе, используется дыхательная аппаратура.
И, что меня ещё больше всего поразило (вся реанимация невозможна без лабораторного и инструментального исследования), везде я вижу рентгеновские аппараты отечественного производства. Большинство и мы работаем с прекрасными кювезами Уральского оптико-механического завода, который очень хорошо выпускает. И также я вижу, что там лаборатория, рабочая лаборатория.
И.ДЕДОВ: Вопросы кадров остаются. И мы это обсуждали, Владимир Владимирович. У нас очень серьёзный был разговор. Обсуждали такие коллективы, платформы, которые готовы взять на себя всю цепочку: от идеи до коммерческого продукта. Мы говорили относительно детства и кадров. Это высочайшие технологии! Каждый день из девяти месяцев надо биться за ребёнка, я как эндокринолог могу сказать, на каком этапе и что мы получим (по некоторым данным), какого ребёнка. Мы можем 90 процентов иметь детей с разными дефектами. Это мощнейшее обременение. Поэтому, конечно, кадры; конечно, мы должны включаться. Те технологии, которые отработаны сегодня, в академическом сообществе, в наших центрах, в Санкт-Петербурге, конечно, надо использовать. Мы уже не раз встречались и на эту тему говорили.
А вот это сопровождение сегодня – лабораторное и прочее, оно выровнено. Другое дело, что надо, может быть, – у вас три состава, в других наших институтах по три-четыре состава – выходить в регионы и помогать. Я думаю, что так. Это не только касается перинатальных центров, но и высокотехнологичных центров, которые вводятся. И мы с большим трудом начинаем кого-то убеждать. В Пензе, я помню, мы кого-то агитировали, нашли наконец. Сегодня в институтах, здесь и в федеральных центрах, по три-четыре состава. В хирургическом он стоит до 40 лет, всё держит на третьих руках. А там у него есть возможность [работать].
Владимир Владимирович, хочу ещё раз благодарить Вас за то, что мы получили шанс для развития Академии. Наверное, мы ещё раз убеждаемся, надо создавать региональные отделения – Дальневосточное, Уральское, Южное отделения. Там немного требуется, но там база, а это всё-таки точки роста, и это престиж. Потому что сегодня в основном московские школы, 80 с лишним процентов членов Академии – это московская школа, невольно свои школы протежируют своих. С периферии талантливым людям – безусловно, это же выбор – пробиться сложно. А это – как когда-то, и опыт показал это, когда создавались отделения Академии наук. Поэтому я буду Вас просить подержать.
В.ПУТИН: Хорошо.
Давайте попросим Евгения Владимировича продолжить.
Е.ШЛЯХТО: Владимир Владимирович, спасибо большое, что есть возможность сегодня поговорить и высказать то, чем мы живём, что хочется сделать больше, и очень важно, что сегодня есть такая возможность.
Мне часто приходится выступать за границей, я представляю кардиологическое общество [Российское кардиологическое общество], и люди просят рассказать о здравоохранении в России. Показываю наш центр [Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова], говорю: наш центр – это пример того, как развивается здравоохранение последние десять лет. Ещё показываю им старое здание, которое реконструировано на улице Пархоменко. Они этому сильно удивляются.
Вне всякого сомнения, за последние годы достигнуты гигантские успехи. Мы переломили и демографическую ситуацию, и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снижается, центры в каждом регионе. Может, кардиохирурги со мной не согласятся, но я считаю, что у нас нет проблем с плановой кардиохирургией. У нас есть очередь, но проблем больших, остроты нет. У нас, может быть, с экстренной есть проблема, но с плановой – мы её закрыли. У нас, например, проводится 800 операций на миллион населения, почти как в Европе.
Но на фоне успехов в клинической медицине, великолепного оснащения центров и создания условий для научной деятельности сейчас высветилась ситуация: нам, конечно, нужно модернизировать науку. Я не оригинален, проблемы есть везде, на Западе точно такие же проблемы: экономический кризис, уменьшение финансирования, уменьшение патентов, всё то же самое. Но у нас есть шанс вот сейчас, что называется, вместе с ними решать эти проблемы.
Есть такое направление – трансляционная медицина, где фундаментальная медицина и практика завязаны вместе, практически по каждому направлению одновременно в одном учреждении проводятся исследования. У человека широкая аорта, у него есть высокая вероятность смерти. Скажем, 50 миллиметров – это показание для операции, а если у человека есть мутация гена, то уже 45 миллиметров – и аорту надо оперировать. То же самое мы делаем в эксперименте.
Я говорю о том, что инновационное развитие здравоохранения возможно только на научной базе. Это и экономия денег, и средств, это и новые технологии, таргетная доставка лекарств, и новые биомаркеры. Пример трансляционной медицины. Шесть лет назад была получена Нобелевская премия за микроРНК, сейчас это уже лекарства – антагомеры. Их ещё у нас нет, но они уже есть в мире. Мы сейчас этим занимаемся.
И спасибо большое Вам, что есть гранты. Я хочу сказать, что вообще, кто хочет, те, честно говоря, научные гранты получают. У нас одновременно сейчас в центре 14 грантов, 44 научных темы, которые нам финансирует Минздрав. То есть в этой части наука очень сильно развивается. Но есть общие вопросы в рамках трансляционной медицины, например биобанки (центры коллективного пользования), то есть такие вещи, которые не надо каждому создавать – они должны быть на регион, или региональная медицинская академия, – эти вещи, мне кажется, должны быть созданы.
Ещё очень важный вопрос, который всё время меня беспокоит как университетского человека (я считаю, что моё сердце – в университете, а голова – в центре Алмазова). За счёт такой интеграции у нас всё неплохо получается, и у нас есть возможности для подготовки кадров, мы можем больше сделать. У нас точно есть проблемы с высокотехнологичной медициной: неонатологи, реаниматологи, особенно в педиатрии. Поэтому эта часть, связанная с использованием научно-исследовательских институтов, подготовкой кадров, точно может быть более эффективной.
Ещё очень важная вещь, которой я занимаюсь, спасибо большое и Вам, и Минздраву, – мы реализуем систему этапного оказания помощи. Наш центр должен делать основной этап, мы у себя создали госпитальную реабилитацию, и санаторная реабилитация тоже должна быть, но под нашим наблюдением. На каждом этапе не надо делать одно и то же, должна быть преемственность технологий, экономия средств. Мы сейчас посчитали стоимость лечения больного из квоты – мы можем экономить до 70 тысяч рублей за счёт последовательности, не надо повторять исследования, не надо повторять технологии. Я, скажем, точно знаю, что на третьем этапе, если я здесь плохо сделал, то я получу проблемы, поэтому это замкнутый цикл. Мне кажется, что эта модель может быть интересна.
В.ПУТИН: Спасибо.
А.КУЗЬМИН: Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, спасибо Вам за возможность поделиться своими мыслями, задать Вам вопрос. Но вопрос у меня достаточно житейский: это социальное положение молодых научных сотрудников. Я являюсь сотрудником эндокринологического центра, работаю под руководством Ивана Ивановича, недавно защитил кандидатскую диссертацию. У меня есть достаточно большое желание и дальше продолжать научную деятельность.
В.ПУТИН: А зарплата меленькая.
А.КУЗЬМИН: Это один из компонентов моего вопроса. По штатному расписанию оклад мой...
И.ДЕДОВ: 4 тысячи 400 рублей.
В.ПУТИН: Совсем уж мало.
И.ДЕДОВ: 4400. Я не знаю, кто определил такие ставки и для кандидата наук, и для доктора наук. Сегодня ведь никакой ранжировки нет – 4400. У него семья, скоро ребёнок будет.
Я не случайно говорю, поскольку я его знаю хорошо, он один из очень серьёзных лауреатов, получивший премию за рубежом, он получил первую премию. Тем не менее – 4400 плюс 3000.
Я не знаю, кто определил для учёного без степени или доктора наук – 4400? И потом рента за кандидатскую пожизненно, будет заниматься или не будет заниматься, ну и всё. А там семья. Поэтому, конечно, это проблема для научных сотрудников, в том числе медицины.
Я почему его сегодня пригласил, потому что ему предлагают куда: на фирму – ему сразу дают машину, дальше – 4400, в другой валюте. И он уже наукой не занимается. За рубеж его приглашают. Я еле его оставил. Сейчас он подрабатывает: он шесть или пять дежурств дежурит в месяц, там он получает, выкручивается.
Мы стараемся спасать, но это проблема, Владимир Владимирович, это проблема. Даже студент сегодня больше получает. Ординатура: вот сейчас девочка сидит, аспирантка, ординатор – что ей тоже делать? Это тоже проблема, потому что студенты сегодня получают больше, чем ординатор.
Поэтому эта проблема стоит. И, когда мы говорим о кадрах: и там кадры, и здесь кадры, безусловно, и не только в высокотехнологичных отраслях, нам же нужно кадры первичного звена выстраивать, – действительно, селекция должна быть: кто пойдёт в фундаментальную, кто в фармбизнес, кто будет заниматься клинической медициной. И мы должны, безусловно, о чём сейчас говорил Евгений Владимирович, всё продумать.
Сейчас мы готовы предложить в том числе постдипломную практику. Сколько времени, на каких базах, чтобы мы такого высокотехнологичного кардиолога, кардиохирурга подготовили, кто должен нести обременение, кроме всего прочего, – сейчас мы всё это готовим. И спасибо, Вы инициировали, так сказать, вопросы кадров, Вы постоянно задаёте их нам, и этот вопрос стоит. И не только, думаю, в медицине, не только в медицинской науке.
В.ПУТИН: В среднем по медицине сколько получают?
И.ДЕДОВ: Если в Москве, то в среднем 60 тысяч. Вот девочка сейчас хочет от нас уйти, потому что там врач – 60 тысяч, а у нас – 7 тысяч, в федеральных центрах. И, сколько мы ни говорим, 80 процентов федеральных центров Москвы, так же как и Санкт-Петербург, наверное, – это москвичи, тем не менее мы ограничены этим федеральным бюджетом.
Москва не софинансирует, хотя мы встречались, мы говорили. И, безусловно, мы теряем кадры. Медицинские сёстры, как только мы их подготовили, – туда; она тоже планирует, говорит: «А там 60 тысяч». В среднем в Москве – 60 тысяч. А у нас сколько?
В.ПУТИН: Я думаю, что в Москве поменьше, чем 60 тысяч. Это отдельные получают.
Е.ШЛЯХТО: Средняя зарплата, которая была озвучена на совещании, – 60 тысяч.
И.ДЕДОВ: Я понимаю, что, может быть, там посложнее, это первичное звено. У нас всё-таки научные центры, мы всё-таки плановые хозяйства.
В.ПУТИН: Катя, Вам где предлагается?
Е.ШЕРЕМЕТЬЕВА: Частная медицина.
В.ПУТИН: А у Вас специальность какая?
Е.ШЕРЕМЕТЬЕВА: У меня два постдипломных образования: эндокринология (под руководством Ивана Ивановича) и акушерство и гинекология.
В.ПУТИН: И в какой сфере предлагают работать на практике?
Е.ШЕРЕМЕТЬЕВА: Эндокринология.
А.КУЗЬМИН: В основном это происходит в связи с нехваткой финансовых средств, приходится заниматься участием в клинических исследованиях, это тоже помогает для решения этой задачи. И конечно, многие, пообщавшись с исследователями, предлагают работать как клинические мониторы и в дальнейшем, что касается медицинской части, в фармацевтических компаниях.
В.ПУТИН: Но это уже не наука.
И.ДЕДОВ: Конечно, на этом всё заканчивается. Молодёжь сегодня великолепно информатикой, информационными технологиями владеет, потом они поработали за рубежом.
Мы много теряем, Владимир Владимирович. Много ведь идёт слежения, сканируют, потом приглашают, приглашают, приглашают. И конечно, соблазн есть, хотя, безусловно, сейчас лучше стало. И я ему тоже сказал: сиди и работой, потому что перспектива тоже будет.
В.ПУТИН: Тем не менее нужно посмотреть на доходы, на уровень заработной платы. Мы вернёмся к этому.
И.ДЕДОВ: Конечно, безусловно, мы помогаем им, потому что иначе мы потеряем. Где-то 25 тысяч он получает, наверное, но это что – это гранты, которые мы получаем, и так далее. И вообще я уже просил Вас, но я думаю, что фонд развития медицинской науки надо создавать. Мы из РФФИ, гуманитарного, практически ничего не имеем. Там Академия наук, там есть гуманитарные, а медицина... А это, конечно, было бы мощным подспорьем, тем более что Вы поддержали идею этих фондов.
У нас только два фонда и медицинская наука. А что мы получаем? Медицинскую часть через Минздрав мы получаем.
Е.ШЛЯХТО: Через Минздрав получаем.
И.ДЕДОВ: Что мы получаем на науку? Зарплаты, начисления к зарплате и всё, а зарплата вот такая: средняя зарплата, если фундаментальный институт в Академии, – 17 тысяч со всеми грантами, а конечно, в клинической у нас больше, у нас молодёжь 25-30 тысяч имеет.
В.ПУТИН: То есть не так всё ужасно.
И.ДЕДОВ: Нет-нет.
Е.ШЛЯХТО: У нас 35 тысяч в среднем у тех, кто вовлечён в клинику.
В.ПУТИН: В Питере?
Е.ШЛЯХТО: В Питере, да. Считаю, что хорошая зарплата. Я уж не говорю про кардиохирургов, которые получают больше, чем директор.
В.ПУТИН: Да?
И.ДЕДОВ: И ты переживаешь?
Е.ШЛЯХТО: Нет-нет, я очень рад.
И.ДЕДОВ: И у меня хирурги или репродуктологи, которые ЭКО создают, получают так же. Мы сегодня берём вот эти предымплантационные технологии на получение эмбрионов, это же фантастика. Это фантастика, что сегодня можно взять несколько яйцеклеток и посмотреть – есть, нет заболевания. Это удивительные вещи совершенно.
Биобанки сегодня создаются, уникальные вещи совершенно, уникальные: то, что природа создаёт, – сегодня создаёт человек. Это и кровь, и ДНК, это и особые опухоли.
В.ПУТИН: Ясно.
Александр Григорьевич, у вас как?
А.РУМЯНЦЕВ: Владимир Владимирович, мы работаем.
Мы через три месяца после того, как взяли первого больного в январе, вышли уже на плановую работу. Работаем, работы много, работа тяжёлая. Вам большой привет от коллектива, благодарности за предоставленные возможности по работе.
На Ваш вопрос по зарплате хочу сказать: на сегодняшний день я как директор стараюсь из всех источников, каких только можно, собрать деньги, чтобы заплатить людям деньги, чтобы удержать коллектив.
Врачебный состав: средняя зарплата – 35 тысяч в месяц; учёный состав: 16 тысяч в месяц, я просто честно говорю. Конечно, конкурировать с Москвой, где больше зарплата за счёт других источников, невозможно. Но мы понимаем, что, имея такую базу уникальную, мы должны серьёзно работать в области высоких технологий и в выборе специальных генных лекарств, и в той работе, которую мы делаем с Марком Аркадьевичем, связанной с перинатальной диагностикой сложных заболеваний.
В прошлом году один из наших коллег, первый в этом вопросе, Дэнис Лоу, китаец из Гонконга, опубликовал в журнале «Нейчер» работу, в которой провёл полное геномное секвенирование материала, полученного из крови мамы плода, который она носит. Это уникальные вещи! Есть возможность фактически построить диагностику многих заболеваний, в том числе и в области перинатальной диагностики, предупредить развитие на уровне профилактики целого ряда заболеваний. Более того, есть возможность вмешаться в это и то, о чём говорил Иван Иванович, – построить концепцию персонифицированной медицины, потому что сегодня мы уже о многом знаем и можем точечно оказать влияние.
Мы вовсю ведём трансплантацию. Все операции в центре: от нейрохирургических до гинекологических, ортопедических – 18 хирургов разных специальностей оперируют. То есть план на сегодняшний день выполняем на 200 процентов.
В.ПУТИН: Как ваши иностранные волонтёры трудятся?
А.РУМЯНЦЕВ: Мы получили все документы из миграционной службы, спасибо большое. Они с сентября месяца приедут на работу, пять человек, как мы договорились.
В.ПУТИН: Всё-таки, видите, не только наши уезжают, но и приезжают к нам.
А.РУМЯНЦЕВ: Их интересует такая уникальная возможность, концентрация больных. У нас 330 сложных пациентов, мы за эти шесть месяцев получили и описали двух неизвестных ранее в мире больных. То есть связывались с мировой общественностью, искали причины этих заболеваний. Я хочу сказать, что работа сверхинтересная, сверхинтенсивная.
Но мы столкнулись с тем, о чём говорил Иван Иванович, – конечно, прежде всего это подготовка новых кадров, работающих на новом уровне. Специалисты в области лучевой диагностики, ПЭТ-диагностики [позитронно-эмиссионной томографии], радиационной диагностики, клеточных технологий, – их же надо где-то обучать. Мы уже имеем возможность обучать в наших центрах, но работаем сейчас так же, как Евгений Владимирович со своим центром, кооперируясь с университетом. Он с «Первым [медом]» – Санкт-Петербургским университетом…
Е.ШЛЯХТО: У меня там кафедра большая.
А.РУМЯНЦЕВ: Мы стараемся каким-то образом привлечь людей, но проблема подготовки кадров стоит.
И ещё одна проблема. Мы видим теперь, что постепенно, в детской практике особенно, смертельные ранние заболевания превращаются в хронические болезни, требующие постоянного ведения. Мы очень нуждаемся в реабилитационной базе. Ваше поручение, которое было дано по санаторию «Русское поле», оно исполняется.
В.ПУТИН: Что-то делается?
А.РУМЯНЦЕВ: Делается. Но надо принять решение, чтобы всё это реализовать, и мы там тогда организуем уникальный реабилитационный центр, чтобы закончить всю эту программу. Все остальные поручения, которые были даны, выполнены.
В.ПУТИН: Там доукомплектование нужно было техникой.
А.РУМЯНЦЕВ: Мы получили письмо и готовим теперь материалы на 2013–2015 годы, потому что в этом году со средствами уже всё почти закончено, я так понимаю. Я был и у Вероники Игоревны [Скворцовой], с ней разговаривал, представил ей документы, так что поддержку получим. Но реабилитация детей, восстановление – очень важная вещь.
Сегодня в развитых западных странах, которые имеют высокотехнологичную помощь нашего уровня, каждый десятый ребёнок живёт, перенёсший такое тяжёлое смертельное заболевание. Происходит феномен накопления, который требует специальных реабилитационных мероприятий.
В.ПУТИН: Мы доведём до конца это.
А.РУМЯНЦЕВ: Спасибо большое.

Америка в плену инерции
Будущее глобального лидерства Соединенных Штатов
Резюме: Приближаясь к кризису «середины жизни» в ранге господствующей сверхдержавы, Соединенные Штаты, подобно стареющей звезде Голливуда, не хотят признать, что не могут вечно играть одну и ту же роль. Чувствуя, что «что-то не так», Америка все еще находится в состоянии отрицания, под сладким наркозом огромного богатства и влияния.
Мир, ввергнутый в водоворот кризисов, социальных волнений и неопределенности, мечтает о мудром лидере. Непререкаемое лидерство США со времен Второй мировой войны до начала нынешнего века основывалось на способности этой страны встать во главе мировой системы экономических и политических отношений и быть локомотивом роста. Но когда американские политики заявляют сегодня, что хотят руководить миром, нужно спросить у них: способны ли они играть такую роль?
На лидерство может претендовать страна, которая смогла бы мобилизовать мировое сообщество для решения фундаментальных проблем человечества, создать условия для его поступательного развития. Такое лидерство предполагает понимание того, что здоровье всей глобальной экосистемы является залогом своего собственного успеха.
Выступая 14 октября 2011 г. в Нормандии по случаю вручения премии Токвиля, Збигнев Бжезинский, наверное, один из лучших современных американских стратегов, открыто поставил под сомнение способность Соединенных Штатов заботиться о будущем мира. Цитируя лауреата Нобелевской премии в области экономики Джозефа Штиглица, Бжезинский утверждает, что первоначальное процветание и лидерство Америки опиралось, по выражению Алексиса де Токвиля, на «правильно понимаемое своекорыстие» – то есть «общее благополучие мира фактически является предпосылкой для благополучия и процветания американского общества».
По мнению Бжезинского, в мире, который мучительно пытается приспособиться к новым реалиям – растущей независимости различных акторов, изменению баланса экономической мощи и влияния, политическому пробуждению масс – способность Америки к лидерству будет зависеть от умения «правильно» соотнести собственные интересы и успехи мирового сообщества. Мир нуждается в природных ресурсах, страдает от вопиющего неравенства и хаотичной миграции, прежде всего жаждет стабильности и безопасности, без которых невозможно развитие. Устойчивое процветание требует создания предсказуемых условий, основанных на власти закона и всеобщем мире во благо всех народов.
Может ли Америка быть лидером, отстаивающим интересы всех стран? Насколько адекватно американское видение того, как следует решать фундаментальные проблемы международного сообщества? И не станут ли США, напротив, фактором нестабильности в будущем мире?
Американские альтернативы
В 2004 г. в своей книге «Выбор: мировое доминирование или мировое лидерство?» Бжезинский изложил две альтернативы для Соединенных Штатов. Самое время посмотреть, какой путь был избран, а также оценить направление дальнейшего движения. Сегодня изменились не только США, но и весь мир. Если роль «защитника свободного мира» потеряла актуальность, а глобальное владычество, о котором пишет Бжезинский, более неприемлемо, да и не по карману, что предпримет Америка?
Лидерство – это не право на получение некой ренты, которую остальные народы должны вносить в американскую казну. Его необходимо заслужить. Соединенным Штатам придется сделать выбор: хотят ли они поставить будущее мировой экосистемы выше собственных узко понимаемых интересов?
Но чтобы «правильно осмыслить» свои стратегические интересы, Америке прежде всего нужно иметь желание их обсуждать. Новая модель лидерства потребует нового консенсуса среди американских элит о роли, которую страна призвана играть в меняющемся мире и, возможно, нового национального самосознания.
Первые предложения были сделаны в прошлом году капитаном Уэйном Портером и полковником Марком Майклби, выступившими под псевдонимом «Мистер Y». В своей статье «Национальная стратегическая идея» (опубликована по-русски под заголовком «США как стезя обетования и маяк надежды» в журнале «Россия в глобальной политике, № 3, 2011 г.) они оптимистично оценивают перспективы отношений между Вашингтоном и остальным миром. «Мистер Y» предлагает посмотреть на проблемы безопасности и процветания Америки в долговременной перспективе, с точки зрения нового поколения. Он исходит из необходимости отстаивать непреходящие национальные интересы – безопасность и процветание – в рамках единой «стратегической экосистемы» у себя дома и за рубежом. В условиях глобальной конкуренции, взаимных интересов и сложностей взимного влияния, залог успеха будущей внешней политики авторы видят в новых инвестициях во внутреннее, особенно экономическое, процветание страны. «Мы не можем отделить наше процветание и безопасность от процветания и безопасности глобальной системы, – пишет «Мистер Y». – В наших интересах добиться процветания всего мира».
Неудивительно, что призыв к новому подходу звучит из уст военных. Новое поколение военной интеллигенции, к которой принадлежат и авторы цитируемой статьи, – это лучшие и наиболее «просвещенные» представители современного американского общества. Подобно тому как в 1980-е гг. советские службы разведки и безопасности были той частью истеблишмента, которая лучше других понимала истинную привлекательность и возможности СССР, 30 лет спустя «глобализировавшийся» американский офицерский корпус искренне озабочен тем, как Америка сможет вписаться в меняющийся мир.
«Мистер Y» предлагает новое видение глобальной роли своей страны, но сегодня он находит отклик лишь у незначительного меньшинства тех, кто стоит у руля политической системы США. Президент Обама, по всей вероятности, разделяет многие взгляды «Мистера Y», но этого нельзя сказать о подавляющем большинстве американских политиков. Гиганская системная инерция и традиционные интересы групп влияния направляют политический курс в русло, которое подрывает глобальную стабильность и повышает вероятность будущего конфликта Соединенных Штатов с остальным миром.
Проблема в том, что «перезагрузка» в отношениях с миром, равно как и внутреннее возрождение США, требуют политической воли, долгих согласованных усилий и нового национального консенсуса. Для продолжения отношений с миром, к которым Америка привыкла, особых усилий не требуется. Этот «вариант по умолчанию» и есть то поведение, к которому «приучена» вся американская внешнеполитическая система. Оно опирается на незыблемые постулаты, сформировавшиеся в течение последних 50 лет, когда Вашингтон фактически правил миром.
Приближаясь к кризису «середины жизни» в ранге господствующей сверхдержавы, Соединенные Штаты, подобно стареющей звезде Голливуда, не хотят признать, что не могут вечно играть одну и ту же роль. Сталкиваясь с многочисленными внутренними и внешними вызовами, уже чувствуя, что «что-то не так», Америка все еще находится в состоянии отрицания, под сладким «наркозом» ее огромного богатства и влияния.
Америка в эпоху перемен
Нынешний кризис американского самосознания имеет как экономические, так и социальные корни. В конце долгого экономического цикла страна сталкивается с новыми вызовами своей конкурентоспособности. Автомобильная, электронная промышленность и даже сектор информационных технологий, которые позволили американским корпорациям занять доминирующее положение в мире, больше не являются локомотивами быстрого роста. Технологии следующего цикла пока не готовы прийти им на смену в качестве главных производителей национального богатства. Тем временем, по мере того как центр экономической активности смещается на восток, традиционные и новые соперники все жестче конкурируют с американцами. Не в силах дальше поддерживать привычный образ жизни, глубоко погрязшие в долгах, США монетизируют свое уникальное положение поставщика международной резервной валюты для покрытия дефицита. Америке все труднее конкурировать с остальным миром за инвестиции.
Тем временем в демографическом плане Соединенные Штаты становятся другой страной. Консерватор Патрик Бьюкенен в своей новой книге «Самоубийство сверхдержавы: доживет ли Америка до 2025 года?» порицает изменения, вследствие которых исчезает Америка, дорогая ему и многим другим представителям так называемого атлантического поколения. Американцы европейского происхождения перестают быть большинством, бедняки множатся и находятся на грани отчаяния, а «плавильный котел» наций грозит превратиться в коллекцию этнических групп, соревнующихся за влияние. Все это, как представляется Бьюкенену, не вселяет оптимизма. Популярность его книги – симптом страха и неуверенности стареющих белых, правящих элит, с ужасом наблюдающих вторжение многочисленных пришельцев из внешнего мира.
Как американский политический класс будет реагировать на тектонические сдвиги? В этом смысле интересен подход Рональда Хейфеца, профессора факультета государственного управления имени Кеннеди в Гарварде и, наверное, одного из самых авторитетных экспертов по вопросам лидерства. Хейфец различает два вида лидерства: «техническое» и «адаптивное».
Одно дело разбираться с проблемами, решение которых, в общем-то, известно, и нужно лишь должным образом организовать людей. Такой стиль руководства можно назвать «техническим». Реакция Джорджа Буша на события 11 сентября – хрестоматийный пример лидера, сплачивающего народ и предпринимающего необходимые меры для того, чтобы отвести от страны «прямую и явную угрозу».
Но что делать, когда организация или государство сталкивается с вызовом, природа которого непонятна и на который нет готового ответа? «Адаптивное» руководство – это поиск новой парадигмы. Подобные ситуации почти всегда означают, что сама страна не только не способна решить проблему – она даже не видит и не понимает ее и вынуждена переживать болезненный внутренний кризис. (Германия после Второй мировой войны являет собой прекрасный пример такого «адаптивного» вызова.) Чтобы снова встать на ноги, стране, возможно, придется переосмыслить свое прошлое и настоящее, выработать новые общественные ценности и политический язык, а также понять, кто в действительности ее друзья и недруги. Роль «адаптивного» лидера заключается в том, чтобы спровоцировать и поддерживать стратегический диалог с целью объяснить широким слоям населения реальные стратегические интересы нации. «Адаптивный» стиль руководства требует исключительных качеств, способности слушать и, самое главное, умения терпеть и дать шанс новым идеям.
Страны, которые проходят через период мучительного самоанализа, не бывают счастливыми. Лидеры, ставшие инициаторами внутренней перезагрузки и обновления, обычно сталкиваются с решительной и ожесточенной оппозицией, взывающей к старым ценностям и истории. Согласно Хейфецу, организации – особенно те, которые раньше были чрезвычайно успешными, – упорно сопротивляются дискомфортным внутренним реформам. Им свойственно отрицать необходимость перемен, они пытаются избавиться от лидеров, поднимающих болезненные вопросы, и жаждут «спасителей», способных предложить быстрый и легкий выход. Это именно то, что случилось с немцами в Веймарской республике, когда они поверили харизматическому лидеру – Адольфу Гитлеру.
Страх перед системным сопротивлением заставляет многих руководителей прибегать к хорошо знакомым «техническим» решениям, когда на самом деле требуется «адаптивная» реакция. Большинство американских политиков отрицают необходимость перемен, упорно придерживаясь старых политических клише и мечтая о более решительном президенте. Вместо переосмысления взаимоотношений с миром элиты видят внешние угрозы, которые следует устранить.
Национальный стратегический диалог?
Национальный стратегический диалог для принятия «адаптивных» решений требует наличия трех необходимых составляющих: заинтересованных сторон, мотивации и лидеров.
«Мистер Y» полагает, что для победы в новом мире Америке нужно прежде всего «хорошо информированное гражданское общество». Главными заинтересованными лицами в диалоге о будущем обычно являются элиты и активная часть среднего класса.
Со времени окончания Второй мировой войны средний класс видел во внешнем мире хорошую площадку для ведения бизнеса и привлекательное место для отдыха и развлечений, которые к тому же были вполне по карману. Эти люди считали, что Америка несет другим народам модернизацию и демократизацию. США делали деньги на взаимодействии с внешним миром – американские компании его завоевывали. Для среднего класса это был положительный опыт, поддерживавший лестный образ отчизны, сложившийся в умах граждан.
С 2000-х гг. начались важные изменения. Во-первых, средний класс стал терять почву под ногами. Многие ведущие американские корпорации вывели производственные мощности из страны чтобы лучше конкурировать на мировых рынках. Финансовый кризис 2008 г. поколебал основу достояния среднего класса – недвижимость. На уровне инстинктов американский средний класс видит во внешнем мире недобросовестного конкурента, которого их стране к тому же приходится защищать за свой счет. Американцы утратили интерес к загранице, и это не осталось без внимания политиков. Задача элит – начать стратегический диалог о будущем курсе. Однако у них нет согласия по поводу того, что делать с остальным миром. Элиты США состоят из нескольких групп: бизнес-элита, чиновничья или административная, военная, научная и медиа-элита.
Интересы тянут бизнес-элиту в разные стороны в том, что касается выстраивания отношений с внешним миром, поскольку она делится на промышленную и финансовую часть. Рынок, на котором оперирует финансовая элита, поистине глобален. Ее представители одинаково комфортно чувствуют себя в Нью-Йорке, Гонконге, Париже и на Сен-Барте. Финансовая элита была главной движущей силой глобализации, ведомой Соединенными Штатами, хотя до конца прошлого века американские промышленные корпорации с таким же энтузиазмом участвовали в глобальной экспансии.
Однако, как пишет Джеймс Курц в статье «Внешняя политика плутократии», опубликованной в журнале The American Interest, в первой декаде нашего века банки Уолл-стрита предпочли инвестировать в продвижение уже проверенных технологий за пределами США или вкладывать капиталы в недвижимость. Они не хотели дожидаться, пока плоды принесут вложения в более рискованные технологии следующего индустриального цикла. Промышленная элита, ослабленная «выхолащиванием» производственной базы, пытается боротся с «недобросовестной» конкуренцией, требуя поддержки у правительства.
Курц приводит интересный аргумент. Анализируя отношения США с миром начиная с 1890-х гг., когда фактически начиналась американская экспансия, он утверждает: если речь заходит о внешней политике и международной роли, «большое значение имеет источник доходов плутократии – индустрия или финансы».
«Финансовая плутократия, – пишет Курц, – не сможет осуществлять действенное руководство в глобальной конкуренции между великими державами, прежде всего в силу ее пренебрежительного отношения к созданию сбалансированной промышленности в самих Соединенных Штатах. Второй фактор – это ее чрезмерная привязанность к мировой резервной валюте. Третий фактор заключается в том, что финансовая элита предпочитает малые войны и поддержание порядка в своей империи тому, чтобы готовить страну к сдерживанию других великих держав и большим войнам».
Военная элита, которую поддерживает элита промышленная, все отчетливее видит неизбежную в будущем конкуренцию с нарождающейся великой державой – Китаем. И население с помощью медиа-элиты все ближе подходит к принятию этого сценария. Совершенно иная точка зрения у финансовой элиты, которая полагает, что КНР сможет интегрироваться в мировую экономическую систему без крупных конфликтов. Задача финансистов – нейтрализовать «мировую дугу нестабильности», которая препятствует прибыльным инвестициям в быстрорастущие развивающиеся рынки. Их позицию разделяют представители научной элиты, корни которой тянутся в разные страны мира. Что касается чиновничьей элиты, ее представителей можно найти в обоих лагерях.
Если американская промышленная элита достаточно разнородна и разобщена, то финансовая – это тесно спаянное сообщество, сосредоточенное в центрах административной власти. Оно оказывает бесспорное влияние на людей, принимающих серьезные политические решения, – их дружба началась со студенческой скамьи в лучших университетах Новой Англии, продолжалась карьерным восхождением в таких компаниях, как Goldman Sachs или Baker & McKenzey, и укреплясь общим членством в престижном Совете по международным делам.
Симпатии широких масс населения явно не на стороне Уолл-стрит, но средний класс, готовый поддержать промышленную элиту, плохо организован для того, чтобы потеснить финансистов с влиятельных позиций. Маловероятно, что группы, находящиеся у власти, рискнут подрывать позиции финансовых структур, которые оказывают им поддержку в год выборов.
Разобщенность американских элит не дает возможности начать стратегический диалог. Джордж Фридман, генеральный директор компании «Стратфор», не слишком оптимистично оценивает их готовность приспосабливаться к новой парадигме. По его мнению, они «не понимают политического давления, под которым находятся элиты других стран,… совершенно не сознают степени отчуждения широкой общественности и думают, будто по всем проблемам можно договориться между элитами. У нас кризис элит».
Если средний класс сегодня занят собственным выживанием, а элиты борются за влияние, откуда в стране возьмется мотивация для переосмысления той роли, которую она играет в мире? Кого ни послушаешь – президента Обаму или его республиканских оппонентов – складывается впечатление, что Соединенные Штаты не видят для себя никакой другой функции кроме единственного лидера глобального сообщества. Идея исключительности и «божественной миссии» Америки пронизывает все политические дискуссии.
Нынешний политический класс – победитель коммунизма – просто не может принять мир, который не находится под его контролем. По его мнению, измениться должна не Америка, а все остальные. Даже в Давосе и Бильдерберге заметна растущая пропасть в представлениях между американской и международной политической верхушкой. Оптимистичный исторический опыт США, относительная географическая изоляция и все еще высокий, хотя и не растущий уровень жизни приводят к тому, что американоцентричная картина преобладает в Вашингтоне даже в век глобальных интернет-сообществ.
Збигнев Бжезинский обращает внимание на другое явление, снижающее «способность Соединенных Штатов реагировать на этот непредсказуемый, меняющийся мир». Говоря о влиянии большинства, он цитирует де Токвиля: «Я не знаю ни одной страны, где высказывалось бы меньше независимых суждений и было бы меньше реальной свободы дискуссий, чем в Америке». «Сегодня этот “деспотизм мысли” проявляется в игнорировании американской общественностью окружающего мира и в ее нежелании идти даже на кратковременные и равномерно распределенные социальные жертвы в обмен на долговременное обновление», – негодует Бжезинский.
«Политкорректность» – фактическое табу на некоторые темы в средствах массовой информации – и то, что «Мистер Y» называет «сортировкой» или навешиванием идеологических ярлыков на оппонентов, делают переосмысление глубоко укоренившихся стереотипов большинства практически невозможным. Политический тупик, ярко выраженные партийные пристрастия и популизм не способствуют серьезным общественным дебатам.
Но как быть с третьей предпосылкой для диалога о будущем: лидерством идей в области внешней политики? К сожалению, главный орган принятия политических решений, Конгресс США, не способен взять на себя ответственность лидера. Глубоко расколотый по партийному принципу, сосредоточенный на внутриполитических вопросах, он скорее играет роль трибуны для популистских лозунгов и арены для краткосрочных компромисов, чем центра серьезных дебатов. Для большинства конгрессменов, нацеленных на получение мандатов от своих округов каждый второй год, проблемы долгосрочной устойчивости на планете не являются приоритетом.
Академическое сообщество тоже не предлагает новых идей. Постулаты внешнеполитической мысли принадлежат прошедшей эпохе. Они зиждутся на двух столпах. Первый – вера в уникальность американской демократии и в миссию Америки защищать добро и преследовать зло во всем мире. Другой столп – представление о глобальности национальных интересов США. Если первый олицетворяет собой романтичное, почти религиозное призвание модернизировать мир по своему образцу, то второй предполагает только один центр силы на планете – американский.
Сегодня, когда у Вашингтона нет больше главного идеологического противника, призыв к демократизации может служить целям Соединенных Штатов только в тех странах, где нет представления о фундаментальных правах и свободах личности. Что касается остального мира, то американская идея о свободе и демократии просто стала частью общепринятых норм цивилизованного сообщества. Тем временем авторитет Америки в области соблюдения прав человека подорван во время «войны с террором», да и образ самой современной державы в мире, которым так дорожат США, заметно потускнел в глазах всех тех, кому довелось бывать в европейских и особенно бурно растущих азиатских столицах.
Как быть со вторым столпом американской внешней политики? Перечень «жизненных» и других важных интересов обновляется каждые несколько лет группой ученых, дипломатов и политиков, имена которых читаются как справочник «Кто есть кто в американском истеблишменте». Но какими бы блестящими личностями они ни были, их политический опыт и стереотипы приобретены в годы идеологической конфронтации. Перечень национальных интересов Соединенных Штатов ясно демонстрирует чего страна хочет от мира, но не дает никакого представления о том, чем она готова пожертвовать во имя его благополучия.
Внешняя политика на автопилоте
Страны – это очень сложные системы, сотканные из паутины организационной, материальной и, самое главное, человеческой взаимозависимости. Они имеют собственную инерцию устоев и традиций, свою логику государственного управления и организации практической жизни. Государственная политика создает человеческие и материальные активы, которые, в свою очередь, влияют на проводимый курс.
Накопленные возможности – учреждения, системы, оборудование и множество умных, квалифицированных и мотивированных людей – начинают жить собственной жизнью, искать свое место под солнцем, ставить перед собой определенные цели и становиться независимыми действующими лицами. Не секрет, что взгляды президента Обамы не разделяют большинство силовиков, голосующих за республиканцев. Люди, являясь частью системы, тем не менее действуют сообразно своим интересам и убеждениям, своим представлениям о том, что нужно их стране.
Если Конгресс молчит и бездействует, у администрации и ее ведомств появляется свобода в отстаивании тех национальных интересов, которые совпадают с их политическими приоритетами. При отсутствии политического руководства бал правит бюрократия. В то время как общественность обвиняет весь остальной мир в проблемах своей страны, внешняя политика США летит «на автопилоте».
Американское военно-политическое сообщество, несмотря на предпринятые недавно попытки приспособить его к происходящим в мире переменам, действует почти так же, как в 1947 г., когда был принят Закон о государственной безопасности. Вся система «заточена» на конфронтацию и агрессивное навязывание другим воли Соединенных Штатов. Ведомства, занимающиеся внешним миром – Государственный департамент, Министерства обороны, юстиции и финансов, Министерство внутренней безопасности и другие организации, такие как ЦРУ и Агентство международного развития – это независимые и зачастую конкурирующие между собой игроки. В отсутствии новой долгосрочной национальной доктрины они предоставлены сами себе и действуют в соответствии с прежним мандатом; инерция побуждает их двигаться в направлении, которое задано в прошлом. Каждое ведомство делает все, что в его силах, чтобы оправдать роль защитника американских интересов за рубежом и одновременно наращивать собственные влияние и бюджет.
Без национального стратегического диалога бюрократия не может понять, как работать с системой международных отношений, которую она больше не контролирует. Она не в восторге от того многополярного мира, который формируется в течение последних 10 лет. Эпоха конфронтации лучше подходила Америке как доминирующей мировой державе. С тех пор ее конкурентоспособность по отношению к Евросоюзу и Китаю снизилась, а соперничество за природные ресурсы обострилось. Если дальше идти тем же путем без изменений во внутренней политике, позиции США продолжат слабеть. Однако внешнеполитическая бюрократия не может влиять на выработку внутренней стратегии. Для повышения конкурентоспособности страны она вынуждена как-то адаптировать внешнеполитический ландшафт к возможностям Соединенных Штатов.
Вместо того чтобы сосредоточиться на долгосрочных интересах США в будущей «стратегической экосистеме», американские ведомства инстинктивно пытаются заставить мир стать более подходящим местом для конкурентных преимуществ Соединенных Штатов. Они защищают свои сегодняшние интересы в том узком смысле, как их понимает бюрократия. На практике это выражается в навязывании экстратерриториальности юрисдикции США, применении силы, не считаясь с суверенитетом других государств, и попытках контроля над мировыми природными ресурсами и инфраструктурой – от транспортной до информационной.
Соединенные Штаты реагируют на перемены в мире как рациональная система, занятая самосохранением, защищающая свои конкурентные преимущества. Однако, ведя себя эгоистично и близоруко, американская бюрократия создает стратегические проблемы собственной стране. Так, она предоставила американским компаниям полную свободу инвестиций в китайскую экономику, превратив КНР в главного стратегического конкурента намного быстрее, чем к этому оказались готовы США, азиатские соседи Китая и даже он сам. В итоге Вашингтон стоит сегодня перед непростым выбором: бросить все оставшиеся силы на конфронтацию с Пекином или сделать своего основного кредитора по сути наследником в правлении мировой системой.
Несмотря на долговременную потребность в России как будущем союзнике – балансире в Азии и партнере в стабилизации наиболее беспокойных регионов мира, которая, к тому же, вряд ли станет основным экономическим конкурентом, американцы продолжают подрывать российскую внутреннюю стабильность и внешнюю безопасность.
Тот же недальновидный оппортунизм привел к тому, что Соединенные Штаты сначала помогли радикальным мусульманским экстремистам стать региональной военной силой, затем принялись бороться с ними, возбуждая негодование в мусульманском мире, и наконец, по сути, содействовали приходу к власти на Ближнем Востоке и в Южной Азии исламских режимов.
Многие в США, включая самого президента Обаму, осознают противоречия, от которых страдает внешняя политика страны. Их заявления свидетельствуют о том, что они понимают потребность в новых подходах к глобальному сотрудничеству. Но американская система принятия решений такова, что без одобрения Конгресса никакие инициативы не могут быть воплощены в жизнь.
Американская внешнеполитическая машина хочет изменить мир, чтобы он играл по американским правилам и на американском поле. Подобная политика – скорее инстинктивная реакция бюрократии, не готовой менять свои привычки, чем следствие сознательного выбора Америки. К сожалению, именно такие политические установки легче всего «протащить» через Конгресс – ведь они создают впечатление, что Вашингтон все еще «рулит». Политика американской бюрократии идет вразрез с требованиями всеобщего процветания – она мешает приспособить «атлантический» мировой порядок к нуждам все более «неатлантического» мира.
Но насколько устойчиво глобальное положение США, если их возможности неуклонно снижаются в сравнении с финансовым потенциалом остальных, а влияние уменьшается по мере становления государств БРИКС и других развивающихся держав?
Краткосрочные интересы Соединенных Штатов противоречат их долгосрочным интересам. В настоящий момент лишь небольшая часть американских элит понимает, что это противоречие усугубляет конфронтацию США с остальным миром, тем самым подрывая основы возможнрго лидерства в будущем. Что случится, если вектор американской политики не изменится? В настоящее время идеи капитана Портера и полковника Майклби явно проигрывают в коридорах вашингтонской власти. Новый национальный консенсус неизбежен, но это будет не завтра.
Когда Фрэнсис Фукуяма объявил о конце истории, его слова совпали с мироощущением американских элит, наслаждавшихся ощущением триумфа. Им казалось, что ход событий наконец-то вошел в естественное русло. Пока мировая экономика развивалась, Америка снимала сливки с непрерывно растущих фондовых рынков, в страну текли реки дешевых китайских товаров, а частные дома росли в цене. Однако это процветание было в большей степени следствием привилегированного положения в мире, а не упорного труда. С тех пор, не желая жертвовать высоким уровнем жизни, Соединенные Штаты попыталась в полной мере воспользоваться своим положением, направо и налево расходуя деньги, занимаемые у мира, и используя свой вес и влияние, чтобы запугивать несогласных.
В конце концов человечество найдет свой путь – с Америкой во главе или без нее. В последнем случае могут сбыться худшие опасения Збигнева Бжезинского. Ослабление влияния США в конечном итоге спровоцирует переоценку американской общественностью позиций страны в мире. Когда это произойдет, Америке, правильно понимающей свои национальные интересы, с ее духом предпринимательства и восстановленной уверенностью в своей экономике, не понадобится постоянно искать врагов и давить на других чтобы добиться успеха.
А.О. Безруков – специалист по стратегическому планированию.

Китай: возвращение либералов
Похоже, что власти Китая приоткрыли дверь для реформ и перемен, а дверь, ведущая к возврату к маоизму, сейчас прикрыта.
Франсуа Годман
Два политических события сотрясли в этом году Китай.
Во-первых, жители деревни Вукан в южной провинции Гуандун после нескольких месяцев протеста добились отставки местных коррумпированных лидеров и сумели провести честные выборы.
Во-вторых, член политбюро ЦК Компартии Китая Бо Силай, чья маоистская риторика и склонность к применению насилия по отношению к неугодным пугали многих в Китае, был отправлен в отставку, после того как его заместитель попросил политического убежища в американском консульстве в Чэнду.
Эта два происшествия перевернули китайскую политику с ног на голову. Победа вуканцев вдохновила политических реформаторов начать открыто высказывать свои мысли. Либеральные призывы, которые, как казалось, за последнюю пару лет были полностью маргинализированы прессой, стали появляться на страницах официальных изданий. Одновременно китайская цензура впервые начала прикрывать националистические, популистские и консервативные веб-сайты.
То, что китайскому интернету позволили свободно обсуждать события вокруг Бо Силая, свидетельствует о переменах в Компартии. Похоже, что власти приоткрыли дверь для реформ и перемен, в то время как дверь, ведущая к возврату к маоизму, сейчас прикрыта.
***
Феноменальный успех Китая, достигнутый за последние 33 года, с момента начала реформ, которые «открыли» страну иностранным инвестициям, заставляет многих думать, что однопартийное китайское правительство изобрело стабильный и надежный путь экономического и социального роста. То, что начиналось как эксперимент, превратилось в новую модель развития, так называемый «пекинский консенсус».
И действительно, китайская модель может выглядеть очень привлекательной альтернативой для тех стран, которым претят капризы демократии, экономические кризисы, вызванные либеральными теориями, а также частичная потеря суверенитета, которая неизбежно происходит в момент интеграции страны в международное сообщество. Открытая страна, но под контролем.
Либеральные партийные дискуссии по поводу путей развития прекратились в Китае в 1989 году после поворотных событий на площади Тяньаньмэнь. Китайские элиты отказались от игр в политические крылья и партийные фракции. Власть была добровольно передана «руководству партии». Одновременно был сделан акцент на защиту государственных секретов, что также серьезно ограничило свободу дебатов. Однако в последние десять лет в китайской политике появилось два новых тренда. Первую тенденцию лучше всего иллюстрирует идея «гармонии», которую активно пропагандирует председатель КНР Ху Цзиньтао. Китайские веб-активисты высмеивают этот лозунг как синоним запрета на любые публичные дебаты. И действительно, за время управления страной Ху Цзиньтао споры о путях развития страны стали исключительно внутрипартийными, причем они проходят за закрытыми дверьми. Его «гармония» — это закрытые веб-сайты, удаленные твиты, и полицейские, навещающие дома активистов-критиков для дружественной, предупреждающей беседы с целью «гармонизации».
Второй тренд стал результатом отравляющего эффекта от успехов так называемой «китайской модели». Появилось ощущение, что китайская экономика не просто не может рухнуть, но не может даже спотыкаться. Госпредприятия, строительные компании, местные бюрократы, торгующие землей, все исходят из предположения, что экономический подъем никогда не кончится.
Но проблема в том, что китайский подъем стал результатом благоприятного стечения обстоятельств. Как развивающаяся страна, Китай получил неограниченный доступ на мировые рынки, но при этом никто не обязал его открыть свою экономику для честной международной конкуренции. Подъем был достигнут благодаря исключительным уступкам, которые страна временно получила от мирового сообщества.
Экономический успех Китая способствовал консервации политического режима, политической стагнации: наверху наступил «конец истории», поскольку возникла иллюзия вечности партийной власти. Китай попал в ловушку успеха: за треть столетия подушевой доход страны вырос с 278 до $6200, число живущих ниже уровня бедности сократилось с 66 до 13%, страна стала второй крупнейшей экономикой мира после США, а также крупнейшим в мире экспортером.
***
Трудности, с которыми приходится справляться властям на фоне этого феноменального успеха, приходят не из либерального лагеря, не от реформаторов, которые требуют углубления и ускорения рыночных реформ. За последние два года в Китае резко обострились консервативные, националистические, популистские и ультралевые настроения.
Одни полагают, что подъем Китая должен сопровождаться более уверенной внешней политикой. При этом реформаторы выступают за международную кооперацию и соблюдение норм международного права, а националисты требуют возврата территорий и укрепления позиций Китая как сверхдержавы.
Другие критикуют огромные финансовые накопления китайского правительства, сделанные в долларах, а также рост социального неравенства. Они призывают к возврату плановой экономики.
В борьбе против реформ и политического либерализма консервативная часть элиты страны, в частности спецслужбы, активно пропагандирует якобы историческую склонность китайцев к авторитарному правлению, к твердой руке. Никто не знает, являются ли эти выпады частью «генеральной линии партии». В феврале ведущая консервативная газета страны Global Times, не отрицая обязанности всех граждан страны «верить линии партии», пожелала, чтобы руководство объяснило, в чем, собственно, эта линия заключается.
Вопрос непраздный, поскольку в ноябре 2012 года на очередном съезде КПК предстоит избрать семь новых членов в высший орган партии — постоянный комитет политбюро ЦК, состоящий из девяти человек.
Содержание закрытых дискуссий о линии партии обычно становится известным благодаря слухам, которые попадают на страницы гонконгской прессы. И за последние два года эти слухи очень сильно изменились: реформаторы и даже нынешние лидеры страны все чаще дискредитировались, хотя раньше либеральные взгляды поощрялись.
На этом фоне и произошли события в Вукане и Чэнду, а также неожиданный возврат к либеральной риторике в официальных выступлениях китайского руководства. Эти события нельзя называть революционными. Они лишь демонстрируют, что в стране появился страх перед возвращением политики «культурной революции», то есть политики, в которой задействованы массы, слепо выполняющие волю своего вождя. Консервативные силы отступили.
***
Падение Бо Силая, который любил манипулировать массовым сознанием, устраивать кампании травли и заниматься самовосхвалением, означает отказ тех, кто сейчас стоит на вершине власти, от искушения достать из кладовой истории старых демонов эпохи маоизма.
Но одновременно появилась и новая проблема — нарастание либеральных требований, которые довольно трудно сдерживать. В стране 550 млн пользователей интернета, в том числе 350 млн участников социальных сетей. В их активности и влиятельности уже можно было убедиться — скандал с некачественным молоком, распространение правдивой информации о катастрофах, как природных, так и техногенных, острые и быстро ставшие популярными комментарии по поводу истории с Бо Силаем.
Эти проявления гражданской активности вряд ли смогут с легкостью трансформироваться в какое-нибудь политическое движение, не говоря уже об организации, способной конкурировать с Компартией. Приливы и отливы общественного интереса находятся под неусыпным контролем режима, который позволяет одним новостям распространяться, а другим — нет.
Факт, однако, заключается в том, что впервые с 1989 года в Компартии активизировалось реформистское крыло. Политический климат в стране изменился. Обстановка чем-то начинает напоминать дискуссию 1986–1989 годов, хотя экономические проблемы, которые сейчас обсуждаются в Китае, не имеют ничего общего с тем, что было важным 25 лет назад.
Как полагает У Цзинлянь — экономист-реформатор, один из авторов рыночных реформ 1978–1989 годов, Китай сейчас достиг перекрестка: либо страна начнет быстро двигаться на пути к рынку, либо она вернется к плановой экономике, которой будут управлять маоисты и несколько дружественных им крупных предпринимателей.
Полный текст доклада Франсуа Годмана «Китай на перекрестке» опубликован на сайте Европейского совета по международным связям ecfr.eu

Дмитрий Медведев провёл заседание Попечительского совета Фонда «Сколково». Заседание прошло на территории МГТУ имени Н.Э.Баумана.
Глава государства ознакомился с работой научных лабораторий университета, присутствовал на открытии научно-образовательного центра «Фотоника и инфракрасная техника».
* * *
Д.МЕДВЕДЕВ: Уважаемые коллеги!
Хотел бы всех сердечно поприветствовать на территории МГТУ имени Н.Э.Баумана. Место это очень известное, это наш первый технический университет. Основанный в 1830 году, он и сегодня является одним из ведущих отечественных вузов. Вчера я говорил о некоторых амбициозных целях, которые нам неплохо бы перед собой иметь, включая такую: чтобы пять наших университетов вошли в первую сотню мировых университетских рейтингов. Считаю, что МГТУ может по этому пути развиваться и претендовать на соответствующие позиции.
Кроме того, МГТУ входит в число так называемых «якорных» партнёров нашего сколковского фонда. И конечно, университет (имею в виду МГТУ имени Н.Э.Баумана) и «Сколково» связывают и научные интересы, но и, надеюсь, будущее результативное сотрудничество. Уже за короткий период в МГТУ было зарегистрировано 14 малых инновационных предприятий, а четыре предприятия стали резидентами «Сколково». В университете создаются научно-образовательные центры мирового уровня.
Кстати, только что я побывал на символическом открытии одного из центров, который посвящён фотонике и инфракрасной технике. Мы сегодня посмотрели, как это всё выглядит, хотел бы сказать, что это производит впечатление, тем более что сделано всё за достаточно короткий срок на самом современном уровне. Там работают и студенты, и преподаватели, проводятся исследования в самых разных областях: как научно-прикладные, так и вполне коммерческие. Надеюсь, что будет эффект от этого.
Теперь два слова по нашему заседанию. Напомню, что в таком же составе мы встречались в прошлом году. Тогда мною были даны поручения, связанные с перспективами развития проекта «Сколково». В целом, по моей информации – я обсуждал это и с коллегами по Правительству, по Администрации Президента и с Виктором Феликсовичем Вексельбергом, который занимается реализацией проекта как руководитель, как президент Фонда, – дела идут неплохо. Но если говорить о конкретных направлениях деятельности, то мы с вами в прошлый раз ставили задачу активизировать сотрудничество с зарубежными партнёрами и превратить те меморандумы о сотрудничестве, которые были подготовлены, в полноценные соглашения о партнёрстве.
Сегодня можно подвести некоторые предварительные итоги. Они заключаются в том, что 17 крупнейших мировых корпораций приняли решение о создании собственных центров научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в Сколково, 427 компаний получили статус участника проекта. С начала работы Фонда было одобрено уже 100 грантов на общую сумму 6,3 миллиарда рублей. Так что старт есть. Он вполне нормальный, с учётом тех процессов, которые должны пройти.
Тем не менее я скажу и о некоторых сложностях. До сих пор ни одна компания с государственным участием (они здесь, кстати, тоже представлены) не начала работать со Сколковским институтом науки и технологий, несмотря на то что поручения на сей счёт были даны. Считаю, что им уже пора оперативно подключиться к этой работе, особенно, конечно, в части, касающейся оперативных и стратегических задач исследований на международном уровне.
Полагаю, что софинансирование фонда целевого капитала Сколковского института, а такая задача стоит, то есть нашего эндаумент-фонда, позволит государственным компаниям максимально быстро адаптироваться к соответствующим условиям и, конечно, получить доступ к передовым разработкам. Надеюсь, в ближайшее время об этом будет сделан необходимый доклад.
Кстати, создание Сколковского института – это ещё один конкретный результат проделанной работы. Не скрою: конечно, это хороший результат, мы им довольны. Надеюсь, что его президент господин Кроули об этом тоже несколько слов скажет.
За прошедший год было важно сформировать механизмы экспертной оценки и присвоения компаниям статуса «Сколково». Тем более что заявок очень много. Сколько всего было заявок?
РЕПЛИКА: Около 10 тысяч.
Д.МЕДВЕДЕВ: 10 тысяч заявок. Естественно, это большая, серьёзная работа по определению тех, кто может, и кто пока ещё не дотягивает по уровню или по каким-то причинам не отвечает критериям. Эта работа должна вестись объективно, открыто, прозрачно, естественно, честно.
Сейчас практически ежедневно участником «Сколково» становится как минимум одна новая фирма. Но в чём проблема – отсутствует единый «инновационный лифт», который объединяет все институты развития. У нас институты развития здесь представлены: по правую руку сидят. В каждом из этих институтов действует собственная экспертная служба. Наверное, соответствующие институты развития этими службами по праву гордятся, считают, что там работают классные специалисты, которые способны вынести непредвзятое и мотивированное суждение. И, тем не менее, это всё-таки расточительно. И компании, которые претендуют на наши гранты или кредит или налоговые льготы, вынуждены по два-три раза проходить через одни и те же процедуры. Это неправильно. Это та самая наша любимая бюрократия, которая, к сожалению, присутствует не только на уровне органов государственного управления, но и на экспертном уровне, когда два-три раза нужно проходить одни и те же процедуры. Это дополнительные трудности. Поэтому считаю, что нужна единая экспертная система, которая способна профессионально оценивать перспективность исследований, их коммерческую привлекательность. А сегодня такая система нужна и для отбора территориальных инновационных кластеров, которые сейчас находятся в поле зрения Министерства по экономическому развитию.
И в завершение. Качественные изменения, улучшения произошли в сфере информационного обеспечения деятельности инновационного центра. О «Сколково» – мы, кстати, в прошлый раз об этом говорили, я помню – теперь по сравнению с тем, что было год назад, знает гораздо больше людей и компаний как в России, так и за границей. Надеюсь, что это создаёт и необходимую лучшую атмосферу доверия, потому что доверие – это, по сути, главный ресурс, который всегда есть при осуществлении подобных проектов. Здесь нам, конечно, помогают наши всемирно известные партнёры, за что я хотел бы искренне поблагодарить, которые, по сути, создали для нас дополнительный промоушен, что важно на первых порах. И конечно, важна также открытая политика взаимодействия с резидентами, со всеми инвесторами и вообще со всеми заинтересованными лицами. Эту работу надо продолжить.
Вот коротко, что мне хотелось бы сказать. Уважаемые коллеги, давайте приступим к заседанию нашего Попечительского совета. И в духе открытости, как я понимаю, всё, что здесь будет сказано и сделано, сразу станет достоянием гласности. Так что, я уж не знаю, хорошо это или нет, но тем не менее у нас сегодня такой режим работы, когда практически всё, что говорится здесь, идёт в прямой эфир. Учитывайте это.
Виктор Феликсович, Вам слово.
В.ВЕКСЕЛЬБЕРГ: Спасибо, Дмитрий Анатольевич.
Уважаемые члены Попечительского совета, мы бы хотели вам представить отчёт о работе Фонда в 2011 году. По сути, это был первый полноценный год после учреждения в конце 2010 года нашей организации. Для того чтобы вам было чуть проще ориентироваться, на первом слайде здесь представлены наши целевые параметры, которые мы планируем достигнуть к 2020 году. Не буду детально их повторять, они вам хорошо известны, но будет проще соизмерять результаты 2011 года с общими целями, которые мы поставили перед собой к 2020 году.
Как уже сказал Дмитрий Анатольевич, на сегодняшний день, а точнее, на 31 марта зарегистрировано 427 резидентов, выдано 100 грантов на общую сумму более 6 миллиардов рублей. Дмитрий Анатольевич подметил: очень важно, что нами сформирована экспертная коллегия, которая насчитывает порядка 600 экспертов в самых разных областях. Хотелось бы подчеркнуть, что более 30 процентов наших экспертов – это представители науки, бизнеса, представляющие иностранные государства, и, значит, тем самым мы обеспечиваем определённую коммуникацию с международным экспертным сообществом, что для нас достаточно принципиально.
Хотелось бы отметить одну-единственную деталь, что поток предложений, которые мы получаем, зачастую сталкивается даже с отсутствием экспертов, несмотря на такую широкую панель.
Д.МЕДВЕДЕВ: С отсутствием экспертов, потому что их нет в соответствующей сфере или что?
В.ВЕКСЕЛЬБЕРГ: Да, их нет в соответствующей сфере. Так сказать, процесс формирования экспертной панели мы для себя считаем задачей очень важной, мы будем всё время её поддерживать, обновлять и стремиться к тому, чтобы она была максимально объективной, максимально независимой. Процесс построен таким образом, что полностью обеспечена анонимность, и поэтому достигается объективность. При получении статуса резидента нет необходимости контактировать ни с какими представителями Фонда, всё происходит в электронном виде.
Для создания экосистемы, которая является целью, мы развиваем свою деятельность в основных наших направлениях. Первое – это технопарк, который, несмотря на то что мы физически его построим только через три года, уже фактически приступил к своей работе. На сегодняшний день мы заключили договор с бизнес-школой «Сколково», арендовали помещение, разместили наши первые стартапы, 22 компании сегодня уже живут и работают.
Д.МЕДВЕДЕВ: Где наши стартапы размещены, прямо на территории бизнес-школы?
В.ВЕКСЕЛЬБЕРГ: Да, мы арендовали отдельное здание «Урал» и разместили там наши стартапы, они уже там находятся.
Параллельно мы оказываем самые разнообразные консультации, это консультации для компаний, которые только пытаются подавать заявки (более 700). Это и визовая, миграционная поддержка, это и помощь в ведении бухгалтерского учёта – то есть практически весь комплекс сервисных услуг, связанный с функционированием компании на её начальной стадии.
У нас есть большой комплекс программ, связанный с созданием центров коллективного использования, которые предусмотрены в рамках проекта и реализации технопарка. Здесь на слайде приведены их базовые составы. Это и ЦКП метрологии, микроанализа и прототипирования, и другие центры будут созданы, исходя из баланса реального спроса и предложения.
Хотелось бы отдельно выделить только один центр, который у нас не планировался, но по итогам работы биомедицинского кластера мы пришли к выводу, который, кстати, был озвучен на последнем заседании Комиссии по модернизации, о необходимости создания центра доклинических исследований. Мы хотели бы отдельно обратиться с предложением о размещении такого центра в рамках проекта «Сколково».
Д.МЕДВЕДЕВ: Мы с Вами предварительно проговаривали. Я не возражаю, там у нас ещё одна тема была.
В.ВЕКСЕЛЬБЕРГ: Нами создан Центр интеллектуальной собственности, считаем, направление чрезвычайно важное, потому что наши стартапы пока не имеют опыта работы, продвижения и защиты своих интеллектуальных продуктов. Центр уже приступил к работе, уже более 80 участников получили соответствующую поддержку. Наша цель на этот год – охватить более половины участников такими услугами, порядка 350, и уже сегодня мы подали более 40 заявок на регистрацию интеллектуальной собственности, имеющих отношение к нашим резидентам. Базовым партнёром здесь у нас является компания IВМ, которая накопила огромный международный опыт. Мы создали совместные рабочие группы. Эффективность достаточно высокая.
У нас будет отдельная презентация по университету. Хотел бы очень коротко сказать, что после длительных переговоров нам удалось подписать соглашение с MIT. Хочу сказать, что работа идёт очень конструктивно, обмениваемся информацией, уже подготовили широкий набор документов. В презентации Эда Кроули будут приведены очень интересные цифры, связанные с первыми инициативами по отбору проектов на исследовательские центры, а таких мы хотим отобрать три по первым отборам студентов, которые уже в этом году приступят к образовательным процессам и стажировкам на базе MIT, и по отбору профессуры.
Хочу только сказать одно-единственное: нас приятно удивляет чрезвычайно высокий уровень интереса, проявляемого к университету. Хочу сказать, что только среди подавших заявки на исследовательские центры – шесть нобелевских лауреатов. Это говорит об интересе и доверии к нашему университету.
Отдельным вопросом, конечно, для нас является вопрос софинансирования проектов через венчурный капитал. Здесь мы хотели бы подчеркнуть, что нами достигнуто соглашение с 36 венчурными корпорациями. Они взяли на себя обязательство инвестировать в наши проекты на сегодняшний день 14 миллиардов рублей. 51 участник уже получил такую поддержку в сумме 1 миллиард.
Дмитрий Анатольевич уже говорил, что мы реализуем намеченные планы по созданию исследовательских центров крупных корпораций, сегодня их 17, последнее [соглашение] было подписано на днях. Общее число 28.
Обращаю внимание на две очень важные цифры: общее число работающих в этих исследовательских центрах уже сегодня достигает 2 тысяч человек, это высококвалифицированные люди, обладающие опытом работы в исследовательских международных центрах, и они наряду с университетом и технопарком как раз составят костяк и тот мостик, который будет связывать наш Центр с международными рынками и с международным исследовательским сообществом.
Также у нас отдельно будет представлен отчёт о физическом строительстве нашего проекта. Здесь бы хотел подчеркнуть следующее: мы разработали и утвердили генеральный план, приступили к строительству инженерной инфраструктуры. Надеемся, что будем двигаться в графике: закончим летом строительство нашего первого здания, мы его называем «куб». Подчеркну, что это будет первое здание по самой высшей категории «зелёного» стандарта, только отдельные элементы которого есть у нас на ряде объектов. Интегрально это будет первый объект, который будет удовлетворять всем требованиям.
Д.МЕДВЕДЕВ: Виктор Феликсович, а мы этот «куб» закончим, там кто будет расположен внутри?
В.ВЕКСЕЛЬБЕРГ: Там будут все: там будут и стартапы, и частично администрация, и частично архитектура.
Д.МЕДВЕДЕВ: Я считаю принципиально важным, чтобы там были, как Вы сказали, все, чтобы там сразу появились стартапы, чтобы там началась жизнь, а не только многоуважаемые, но хорошо оплачиваемые чиновники, потому что в нашей стране обычно всегда так: первое, что строится, лучшее, – это, естественно, детям, а в роли детей, соответственно, руководители управляющей компании, Фонда или ещё кого-то.
В.ВЕКСЕЛЬБЕРГ: Дмитрий Анатольевич, не называйте нас чиновниками, мы с этим боремся.
Д.МЕДВЕДЕВ: Вы не чиновники, вы в данном случае представители некоммерческой организации, что меняет дело, конечно.
В.ВЕКСЕЛЬБЕРГ: Нами активно развивается программа виртуального «Сколково», потому что мы понимаем, как бы мы ни хотели, но только маленькая толика участников будет физически размещена на площадке «Сколково». И мы говорим о том, что «Сколково» – это не территория, а философия, и поэтому программа виртуального «Сколково» нами активно развивается, поддерживается. Создана социальная сеть, которая позволит коммуницировать с разными группами участников, мы будем проводить road-show, мы откроем кадровый центр, который будет поддерживать спрос на специалистов разного уровня, и реализуем проект «Инновационная карта России», то есть информацию о всех потенциальных клиентах и возможных участниках, существующих в России исследовательских центрах.
Очень важный элемент, Вы его затронули, – это кооперация с институтами развития. Хотел бы поблагодарить присутствующих здесь представителей этих институтов развития, это и «Роснано», и ВЭБ, и РВК. Нам кажется, что складываются вполне рабочие механизмы, но я считаю, что интеграции недостаточно и, наверное, нам нужно совместно подготовить новое предложение по формам такого сотрудничества и более глубокой интеграции процессов.
Мы хотим выступить с инициативой, которая уже обсуждалась, о создании единой информационной системы по инновационным проектам, чтобы не было ситуации, когда ходят между нами, представляя одни и те же проекты, Вы частично об этом сказали как о единой экспертизе. Мы уже достигли договорённости о перекрёстном участии в органах управления. Мы проводим совместные мероприятия. Мы имеем совместные образовательные проекты, но мне кажется, что степень интеграции требует более высокого взаимодействия, и надеюсь, что мы в ближайшем будущем представим совместные предложения.
Фонд ведёт активную международную деятельность, подписаны соглашения с рядом инновационных министерств: с австрийским и Великобритании, – подписаны соглашения с аналогичными ассоциациями о развитии в разных отраслях. Пытаемся тесно сотрудничать с технопарками, с четырьмя лучшими, как мы считаем, у нас сложились уже рабочие отношения в плане продвижения более активно на азиатские рынки. Надеемся, что ряд ближайших мероприятий в рамках ЕврАзЭС и грядущего форума у нас во Владивостоке нам позволит найти более тесные форматы такого сотрудничества.
Хотел бы подчеркнуть, что отзывы о нас (не могу не похвастаться) качественно изменились. Если сравнивать то, что говорили год тому назад, и то, что говорят сегодня о проекте, – большая разница. То есть негативных комментариев практически нет. Конечно же, нам очень важно быть вровень с теми задачами и целями, которые мы перед собой поставили, не подвести, не обмануть, и особенно важно сформировать круг наших единомышленников в лице наших ключевых партнёров. Тогда, я думаю, у нас результаты будут ещё лучше.
В заключение я хотел бы сказать, что мы, конечно, строим среду, но главное, должны появиться уже какие-то результаты деятельности. Год – всё-таки серьёзный срок, и хотел бы сказать, что работающий у нас Открытый университет, проводя лекции, уже может похвастаться тем, что слушатели университета на сегодняшний день стали участниками, резидентами нашего проекта. То есть после образовательной программы они сумели подготовить и структурировать свои предложения и уже в виде компаний стать успешными проектами.
Хотелось бы сказать, что у нас здесь, кстати, присутствуют представители стартапов, которые уже достигли результатов, которые можно отнести к успехам. Компания Rock Flow Dynamics – это компания, которая, получив грант, разработала программный продукт в области нефтегеофизики и продаёт на сегодняшний день этот продукт и в Америке, и в других странах. Объём продаж на ближайшую перспективу выглядит очень привлекательно, и нам бы очень хотелось, чтобы она в ближайшем будущем перестала быть резидентом «Сколково», перестала пользоваться льготами, я имею в виду предусмотренными законодательством, а, насколько вы помните, если объём реализации или объём прибыли превышает определённые пределы, то она теряет льготы. Поэтому хотелось, чтобы таких компаний было как можно больше.
Хотел бы обратить внимание, Дмитрий Анатольевич, Вы помните, в прошлом году мы предоставляли Вам проект группы СТМ по гибридному локомотиву. 27-го этот локомотив уже должен тронуться с Рижского вокзала, то есть проект живёт своей жизнью. И надеемся, что это тоже будет очередной успех нашего сотрудничества. И корпорация «Элтон», получив грант, уже реализовала свою продукцию крупной корпорации «Трансмашхолдинг». Она продала часть своего бизнеса, тем самым реализовала свою стоимость и на сегодняшний день превратилась в реальную индустриальную компанию, собственно говоря, с достаточно большим будущим. Мы желаем ей успеха.
На этом я хотел бы закончить своё выступление.
Д.МЕДВЕДЕВ: Спасибо, Виктор Феликсович. Спасибо за объяснение текущей ситуации насчёт негативных комментариев. Но всё-таки они пока присутствуют. Другое дело, я стал обращать внимание, что они в значительной мере всё-таки сейчас уже носят не содержательный, а политический характер. Это уже несколько иная плоскость отношений.
Продолжим работу. Я хотел бы передать слово господину Кроули, президенту Сколковского института науки и технологий.
Э.КРОУЛИ: Господин Президент! Уважаемые коллеги!
Сегодня я хочу доложить вам о значительных успехах, которых мы добились всего за шесть месяцев с основания Сколковского института науки и технологий Skolkovo Tech – уникального российского университета в международном контексте, поэтому я продолжаю по-английски.
(Как переведено.) Уникальность «Сколково» состоит в том, что оно находится среди инноваций. И здесь существует система для создания новых товаров или услуг, для развития знаний, для развития талантов и для развития инфраструктуры, необходимой для различных сфер науки, создания различного рода капитала, в том числе человеческого.
Здесь ключевую роль играет сам университет. У университета три задачи. Первая – создавать таланты, а именно выпускать студентов, которые получили соответствующее образование и занимаются инновациями. Другая задача состоит в том, чтобы генерировать идеи, а также действовать в качестве локомотива экономического роста. Виктор [Вексельберг] сказал, что самым главным в университете будет привлечение людских ресурсов, потому что именно это основной ресурс университета. Поэтому сейчас мы создаём планы для нашей деятельности, создаём программу, которая занимается отбором специально подготовленных преподавателей. Мы в этой работе опираемся на различные университеты всего мира, и 80 процентов из этих учёных получили образование в России и желают участвовать в нашей работе. Сегодня мы можем говорить о том, что девять из них представляют ведущие центры, такие как Гарвард, университет в Падуе, Российская академия медицинских наук и другие университеты. Это выдающиеся учёные, которые помогут нам привлечь и других.
Мы работаем в трёх областях – образование, предпринимательская деятельность, и в конце десятилетия, как вы знаете, у нас будет порядка 200 профессоров, а также 1200 студентов, которые будут иметь соответствующую квалификацию. Все они будут учёными, занимающимися исследованиями. В наших проектах мы также надеемся на развитие концепции создания центров, где имеются три компонента: международный университет, российский университет, а также наш институт. Роль международного института заключается в создании связей между различными сообществами в мире и в России. Две трети средств инвестируются в России, но также существует международный фактор.
Мы создаём также центр для инноваций и бизнес-деятельности. Он связан с нашими научно-исследовательскими центрами, с основными направлениями, которых пять. Как вы видите, центр, который занимается инновациями, связан с бизнес-сообществом «Сколково», он связан с инвесторами, как частными, так и корпоративными, связан с отраслями науки и технопарком.
Мы смотрим вперёд, и мы понимаем, что «Сколково» является виртуальным институтом, который является частью сети институтов, охватывающих земной шар. С помощью нашего фонда мы сможем работать и с малыми предприятиями, которые занимаются инновациями. Мы очень активно работали и с академиями наук, в том числе с Академией медицинских наук. Мы работали с различными другими институтами. Я уже посещал и этот университет, где меня тепло принимал ректор университета. Он также предложил кандидатов в качестве работников нашего центра, и некоторые из студентов этого университета будут участвовать в наших программах. И я также сегодня хотел бы объявить, что я приглашаю этот университет поработать над программой оценки экономического развития, потенциала России.
Мы работаем также и с правительственными органами, это помогает нам в создании самого кампуса, а также мы работаем с государственными компаниями. Это очень ценные связи. И мы считаем, что ответственность, которая лежит на нас в этой области, заключается в том, чтобы мы создавали ценности, которые мы можем разделить. И я хотел бы сказать об Алексее Пономарёве – бывшем заместителе Министра образования, который присоединился к нашей команде и будет работать вместе с нами.
Таким образом, можно сказать, что мы постепенно продвигаемся вперёд, и мы переходим к следующему этапу. Всего-навсего в сентябре мы начали нашу деятельность, в октябре у нас подписано соглашение с MIT, зимой мы создали Попечительский совет, сейчас мы создаём международный консультативный комитет. И мы уже можем доложить, что по исследовательским центрам у нас есть потребность в том, чтобы участники и из-за границы, и из России присоединились к этой работе, у нас уже 129 таких участников из 140 университетов 30 стран. И, как Виктор сказал, в этой группе уже отмечено присутствие и нобелевских лауреатов, и выдающихся учёных, академиков. Мы сейчас работаем над размещением грантов для того, чтобы укрепить эти связи.
Если говорить об образовании, то мы решили, что очень важно, чтобы этот процесс проходил быстро, чтобы была пилотная программа. Мы уже начали и завершили первый цикл обучения студентов. У нас были заявки от студентов. В первом потоке будут участвовать порядка 20 студентов, и эти студенты будут учиться в течение месяца в MIT, в августе. Затем у них будет новый опыт в области инноваций, затем они будут учиться и в Лондоне, и в Гонконге, и в различных других школах, включая и этот университет, и проведут целый год, познавая новое в области инноваций. Уже в 2013 году они вернутся в Сколково и помогут нам разработать программы обучения. Именно в этом и заключается смысл этой работы.
И, наконец, у нас был запрос о предложениях об инновациях от российских научно-исследовательских институтов, для того чтобы определить хорошо развитые технологии, которые можно использовать на коммерческих началах. Мы ожидали небольшое количество заявок, но мы получили 80, и в MIT их рассмотрели и очень высоко оценили с точки зрения научной перспективы, но также был сделан вывод о том, что они нуждаются в помощи в том, что касается вывода на коммерческий рынок. Это огромный прогресс за полгода. Хотел бы сказать, что это во многом благодаря хорошим отношениям с MIT.
В том, что касается инноваций, исследований, образования, нам необходимо создать сеть, и мы хотели бы создать не просто центр обучения, а мост между всеми этими институтами для того, чтобы укрепить отношения с Россией, с различными институтами по всему миру. Мы хотели предоставить возможность молодым студентам в России, чтобы они могли понять, что они могут остаться в России и всё равно продолжать заниматься своей научной деятельностью в различных её точках. Это наша мечта. Конечно же, мы строим прекрасный центр в Сколково. Мы надеемся, что мы въедем в него в 2014 году.
Итак, господин Президент, мы достигли огромного прогресса за шесть месяцев. Как Вы знаете, требуется очень много времени для того, чтобы создать университет. Мы хотели бы поблагодарить Вас за Вашу поддержку.

Программный сбой
Пересекаются ли политические программы кандидатов в президенты с экономической повесткой дня
Ключевые положения программ кандидатов в президенты касаются экономики. А что думают по этому поводу экономисты-профессионалы? Что из обещаний кандидатов в президенты может быть реализовано, а что сказано в пылу предвыборной борьбы и канет в Лету сразу после выборов?
Об этом на страницах «Итогов» дискутируют президент фонда «Центр стратегических разработок» Михаил Дмитриев, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин, гендиректор Бюро экономического анализа, профессор экономического факультета МГУ Андрей Шаститко и член Совета Федерации, экс-министр труда и соцразвития Александр Починок.
— Как вы относитесь к идеям некоторых кандидатов в президенты о новой приватизации и одновременно о выплате олигархами «отступных» за приватизацию 90-х?
Михаил Дмитриев: Новая приватизация должна идти неторопливо, чтобы активы были проданы эффективным собственникам, а не хищническим инвесторам. Что же до идеи расплаты за приватизацию 90-х, то она опасна. Правда, Россия тут не исключение: исследования стран Центральной и Восточной Европы показали, что там население настроено еще более агрессивно в вопросах передела собственности и возврата активов под контроль государства. Но реализация этого сценария породит новую волну недоверия. Ведь большая часть активов не раз переходила в другие руки, уже есть добросовестные приобретатели. А из ключевых олигархов 90-х кто-то разорился, был изгнан за рубеж, попал в тюрьму или продал активы. Из той волны осталось всего двое-трое! Что делать? Назначить пару козлов отпущения? И что это даст стране? Зато для инвесторов это встряска, порождающая тревоги за добросовестные инвестиции.
Евгений Ясин: Ставка на госсектор нецелесообразна, потому что он питается государственными деньгами, тогда как частный сектор питается частной инициативой. Поэтому новая приватизация нужна, а пересмотр итогов старой — нет. Вообще же кандидаты не отнеслись внимательно к экономической составляющей программ. Разве что Владимир Путин, но и он ничего серьезного, что реально способствовало бы развитию экономики на новом этапе, не предлагает. А другим, похоже, все равно: они знают, что не победят.
Андрей Шаститко: Нужна новая приватизация — не такая, как в 1990-е, — и выход государства из производственных активов там, где это возможно. Что же до предложений, чтобы обогатившиеся в 90-е олигархи поделились с государством, то они логичны только в контексте выборов. Кто, случись такое, даст гарантии, что дележа больше не будет и «доплачивать» не придется бесконечно?
Александр Починок: Роль государства как стимулирующего менеджера, создающего правила игры, в экономике должна возрастать, но долю госсектора надо сокращать. Вообще меня огорчили программы завсегдатаев нашей президентской гонки: там много сказано, как потратить деньги, но вот как их заработать? Единственное, что пришло им в голову, — новые налоги! С такими программами повышается вероятность оказаться на месте Греции. Авторы идеи новой национализации должны заявить, где они возьмут деньги, а сторонники новой приватизации — четко сказать, куда эти средства будут направлены. Желание получить «отступные» от приватизации 90-х оправданно, но трудно реализуемо: на многих предприятиях сегодня есть миноритарные акционеры, чьи права будут при этом нарушены.
— Все кандидаты обещают резкое увеличение социальных выплат. Этому можно верить?
М. Д.: Это политическая демагогия. В социальном секторе люди явно получают меньше того, что должны были бы получать. Но Россия на четвертом месте среди развитых стран по доле бюджетников. Это значит, что подъем зарплат на анонсированные Путиным десятки процентов математически нерешаемая задача — очень большая сумма получается. На самом деле этот пассаж взят из Стратегии-2020, и там указывается, что все эти повышения надо делать с учетом масштабной реструктуризации неэффективного бюджетного сектора. А просто обещать повысить выплаты — это откровенный популизм.
Е. Я.: Хорошо перед выборами пообещать всем и все. А с моей точки зрения, нужно делать ставку на то, чтобы помогать слабым, кто серьезно нуждается, остальным просто нужна хорошая обстановка, чтобы они могли зарабатывать. Для чего необходимо развитие предпринимательства, создание привлекательного инвестиционного и делового климата, снижение коррупции.
А. Ш.: Что еще могут обещать претенденты на высший пост перед выборами? Говорить о неприятных для большинства реформах? Не самоубийцы же они! Уйти от постоянного увеличения финансирования социалки можно только тогда, когда большинство избирателей согласятся с тем, что это нужно. Когда они наконец поймут, что выполнить обещанное — значит напечатать денег, а это инфляция. Тогда и политики будут осторожнее в обещаниях, и электорат более требователен к их исполнению.
А. П.: Нормально существовать без колоссальных социальных трат Россия не сможет. Кстати, Михаил Прохоров предложил подумать, как эти деньги заработать. Проблема в том, что нам нужно реформировать рынок труда. У нас дефицит трудовых ресурсов из-за убыли населения. Недаром Владимир Путин говорит о 25 миллионах новых рабочих мест. Но важно не только количество. Сейчас только 20 процентов работающих россиян могут нормально жить на одну зарплату. В мире есть примеры, когда власть делала ставку на то, чтобы росло благосостояние среднего класса: в Гонконге, например, официально заняты увеличением числа долларовых миллионеров. И расчеты показывают, что через десяток лет 47 процентов тамошнего населения будут миллионерами.
— Чем объяснить отсутствие в программах кандидатов внятной концепции борьбы с коррупцией?
М. Д.: Для кандидата от власти это логично. Иначе он будет выглядеть как унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла. Нынешняя власть, будучи главным источником коррупции, не может бороться сама с собой. Только демократизация страны, опора на население, которое уже устало от коррупции, и глубокое изменение системы власти могут помочь. В случае же оппозиционных претендентов отсутствие развернутых программ борьбы с коррупцией действительно выглядит странно.
Е. Я.: Борьба с коррупцией и призывы к национализации и повышению налогов — несовместные задачи. А если вы делаете ставку на частный бизнес и демократию, то вот вам шанс победить коррупцию.
А. Ш.: Мне кажется, что до всех кандидатов наконец дошло, что в лоб эту проблему не решишь. Она — побочный продукт других проблем. Можно контролировать контролеров, но коррупция от этого только вырастет. Самый надежный способ борьбы с ней — гласность и оперативное реагирование государства на информацию о коррупции. Сейчас есть только первое: имена коррупционеров известны, оперативной реакции нет.
А. П.: Формат президентской кампании не позволяет раскрыть эту тему. Борьба с коррупцией — понятная система действий, которую просто надо реализовать.
— Что бы вы добавили в программы кандидатов на пост главы государства?
М. Д.: В экономике и на рынке труда ситуация сегодня нормальная с учетом внешних условий мирового кризиса. Но приоритет — не экономическая политика, а честная власть. А об этом кандидаты говорят меньше всего, потому что ни один из них неспособен этого реально добиться.
Е. Я.: Нужно отказываться от чрезмерных государственных расходов, нужны меры по повышению деловой активности частного сектора и инициативы. Нужна демократизация страны — нормальные выборы, законность, политическая конкуренция и т. д. Если все это сделать, то рано или поздно успех придет. Но вместо этого мы видим постановку политиками невыполнимых задач, которые ведут только к увеличению расходов.
А. Ш.: Нужно прекратить нагромождение законов — многие из принятых не работают, а между тем принимаются все новые. Нужна реформа бюджетного процесса. И нужно что-то делать с отсутствием доверия между бизнесом и государством. Когда глава РСПП Александр Шохин говорил, что неплохо бы ведомствам реагировать на предложения бизнес-ассоциаций, это про то самое. И наконец, нужны гарантии прав собственности и контрактных прав для участников хозяйственного оборота.
А. П.: Нужно предлагать меры по снижению налогового давления, ликвидации коррупционного «налога», созданию условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций, а также для притока людей. Наконец, следует разработать динамичные стратегии развития страны.
Что в итоге
Профессиональные экономисты сходятся в том, что кандидаты в президенты в целом верно наметили болевые точки российской экономики. Однако меры по решению острых проблем, как правило, носят популистский характер и сводятся к различного рода маловыполнимым обещаниям. Кто бы ни занял президентское кресло, ему придется столкнуться с реальностью — тем набором проблем, которые существуют уже много лет: зависимостью бюджета от нефтегазовых доходов, неразвитым рынком труда, системной коррупцией, растущим бременем социальных и военных расходов.
Эксперты солидарны и в том, что за 20 лет в России так и не удалось создать нормальную инвестиционную систему. При этом двух десятилетий, например, Китаю вполне хватило для создания собственной мощной финансовой системы.
То же можно сказать и об уменьшении объемов коррупции. По оценкам специалистов, в одной только системе госзакупок разворовывается около триллиона рублей в год. Между тем продуманных механизмов реагирования на этот и другие вызовы, с которыми сталкивается российская экономика, в программах кандидатов экспертам обнаружить не удалось.

Впередсмотрящий
Герман Греф: «Моя главная надежда связана с тем, что в правительство придет сильная команда, которая не побоится взять на себя ответственность за непопулярные решения. Иного пути у России не остается»
Перешагнувший в прошлом году 170-летний рубеж Сбербанк России вступил в 2012-й с впечатляющими показателями и громадьем планов. О том, откуда родом старейший банк страны и куда идет, рассказывает президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
— Для ста семидесяти лет неплохо сохранились, Герман Оскарович!
— И дальше будем лишь хорошеть.
— Значит, годы не берут свое?
— Наоборот! С возрастом и опытом мы мудреем, расцветаем, делаемся гибче и прозрачнее… Все ради того, чтобы максимально удовлетворять запросы клиента. Его голос — решающий для нас!
— Ну да, вы показали по ТВ историю банка в картинках. Но вопрос, стоило ли вбухивать такие деньжищи в рекламу, остался. «Сбер» и без того номер один на российском рынке. Это как призыв в советское время летать самолетами «Аэрофлота»! А чем же еще, спрашивается? Вот и вы теперь: натуральный монстр с активами в четверть банковской системы страны…
— Мы хотели отметить юбилей так, чтобы это заметили. На мой взгляд, ролики получились симпатичные, связанные общей линией. Последний сюжет про Деда Мороза, снятый Тимуром Бекмамбетовым, поставил красивую точку в этой истории. Реклама — важная составляющая нашего нового имиджа. Вы говорите: монстр. Да, когда-то все взрослое население СССР было клиентами «Сбера». Потом часть людей ушла от нас из-за некачественного сервиса, плохих продуктов. Сегодня в России официально существует более тысячи банков, на финансовом рынке идет жесткая борьба. Есть неплохо работающие средние и региональные банки: стоит крупным игрокам чуть зазеваться, у них отъедают кусок пирога. Это происходило со «Сбером», чья доля на рынке с конца 90-х неуклонно снижалась. Нам лишь недавно удалось стабилизировать ситуацию с депозитами, улучшить показатели по кредитованию. Люди должны увидеть, что Сбербанк переходит в принципиально иное качество. Не устаю повторять: мы относимся к службе сервиса.
— «Чего изволите?»
— Именно! Сегодня предлагаем наши услуги без чувства неловкости. Некоторые из них определенно являются лучшими на рынке.
— Например?
— По мнению экспертов, нет аналогов запущенной версии Сбербанк ОнЛ@йн. Отдельный проект рассчитан на молодых клиентов в возрасте от 14 до 25 лет. Беспрецедентна бонусная программа лояльности «Спасибо от Сбербанка», целью которой является популяризация безналичных платежей. Никто не может предложить подобного. Мы выдали 60-миллионную карту Сбербанка, и сегодня каждый третий россиянин имеет ее.
— Но вам уже мало России. Планируете расширить экспансию на Европу?
— 15 февраля завершаем сделку по покупке австрийского Volksbank International. С марта у нас будет представительство в шестнадцати странах, включая США, Гонконг, Англию. Пока этим ограничимся. Не стоит себя переоценивать, надо научиться работать по западным стандартам. Рынок Восточной Европы для нас комплиментарен.
— Вступление России в ВТО создает вам дополнительные трудности?
— Усложнить себе жизнь можем лишь мы сами. Не стоит плакать и апеллировать к правительству, прося немедленно защитить наши интересы. Эти слезы всегда оплачиваются за счет клиентов. Ведь за подобными просьбами стоит плохо скрытое желание еще подержать монопольные цены на неконкурентоспособную продукцию. Не научились производить нормальные товары, поэтому давайте остановим заградительными таможенными пошлинами ввоз в Россию импорта и продолжим торговать своим добром по завышенным ценам. Потом объясним все заботой об отечественном производителе и сохранении рабочих мест. Красивая и пустая демагогия! Да, защита наших игроков рынка необходима, но действия должны быть адекватны. Если какие-то страны вводят протекционистские меры, надо реагировать мгновенно, отвечать синхронно. Самое важное — создать равные условия для конкуренции. Нельзя проигрывать иностранным оппонентам, но и излишние преференции нашим тоже ни к чему.
— За кордоном российским банкам чинят препятствия?
— Есть страны, на чей внутренний рынок очень трудно войти. Допустим, Китай, куда мы пробивались три года и только-только зарегистрировали представительство в Пекине. Следующий этап — открытие филиалов и лишь потом создание дочернего банка. В Поднебесной все сложно. Россия могла бы ввести аналогичные правила и для китайских финансовых институтов, которые хотят работать у нас, но мы открыты. Пожалуйста, приходите, конкурируйте. Считаю, надо меньше жаловаться, а больше заниматься делом, ставить высокие планки и преодолевать их. Только так! При желании могу пролить много слез в жилетку, рассказывая о тяжелой материальной базе и трудностях, с которыми сталкиваюсь каждый день. Это будет чистой правдой, но потребителя абсолютно не волнуют мои сложности. Ему важен не процесс, а конечный результат. Если я не в состоянии предоставить первоклассную услугу, клиент уйдет в другой банк и будет прав.
— Но вот смотрите: «Сбер» неоднократно снижал ставки по розничным кредитам, и все равно вы даете деньги под процент, который не чета западным банкам, где та же ипотека в разы дешевле.
— Естественно! Сравните ставку рефинансирования в развитых странах с той, которую предлагает наш ЦБ. Было 8,25, стало восемь процентов... Мы получаем деньги по принципиально иной цене. О чем тут долго рассуждать? Будет в России экономика, как на Западе, снизим ставки по кредитам для населения до уровня Европы и Америки. Пока говорить об этом не приходится. Могу сказать о другом: в 2010-м Сбербанк первым отменил комиссию за выдачу кредита и обслуживание счета. Мы последовательно увеличиваем суммы и сроки кредитования, параллельно снижая требования к заемщикам. Но пространство для маневра у нас ограниченно, приходится ориентироваться на уровень инфляции, приток инвестиций извне и бегство капитала из страны, текущее состояние ликвидности и прочие макроэкономические показатели. Повторю то, что произносил прежде: нужны последовательность в проведении реформ, стабильность и предсказуемость государственной политики. Сегодня премия за риск слишком высока. Так будет, пока Россия не слезет с нефтяной иглы. И нынешними ценами на газ не стоит сильно обольщаться. Это ненадолго, падение неизбежно. Если Китай просядет, спрос на нефть покатится вниз. Наверняка откроют альтернативные источники энергии, углеводородам постараются найти достойную замену. Но если спросите, достаточно ли делается для диверсификации российской экономики, отвечу: наверное, нет. Реформы назрели. В банковской сфере нужны консолидация и повышение стабильности. Необходимы действенные механизмы аккумулирования долгосрочных инвестиций населения — пенсионные счета, страхование и иные формы «длинных» денег. Пора выводить на современный уровень физическую инфраструктуру — к примеру, аэропорты и дороги, совершенствовать биржи и платежные системы… Словом, надо следовать в фарватере мировых тенденций, снижая издержки, повышая производительность, осваивая новые технологии. Если сами не начнем шевелиться, жизнь заставит.
— Иначе?
— Всегда очень осторожно даю экономические прогнозы, поскольку долго этим занимался и прекрасно представляю, сколь легко ошибиться, упустив из виду хотя бы одну деталь или обстоятельство. Так вот. В краткосрочной перспективе страна, вероятно, какое-то время еще протянет. Три — пять лет, не думаю, что больше. А потом — обвал, отрицательный платежный баланс, дефицит бюджета, девальвация и прочие «радости», о которых не хочется говорить. Поэтому ключевые задачи на обозримую перспективу — повышение эффективности госрасходов и их сокращение, снижение налоговой нагрузки, дебюрократизация экономики, ее открытость, качественные изменения в работе властей на местном и федеральном уровнях, реформа судебной системы, создание благоприятного инвестиционного климата, позволяющего компенсировать падение сырьевого экспорта… Страна должна кардинально измениться, стать другой. Увы, чудес в экономике не бывает, это область сугубо материальная, манна небесная по волшебству падать не станет. Поможет лишь тяжелая ежедневная работа на протяжении лет. Не забудем, что к внутренним проблемам добавляется нестабильность на внешних рынках, начиная с триллера в еврозоне, поэтому, как говорится, и почва шевелится, и ноги дрожат.
— К слову, про евро. Еще до последних потрясений, связанных с единой валютой Старого Света, вы говорили, что в ближайшей перспективе не видите альтернативы доллару. Значит, тем, кто хочет обезопасить сбережения, впору опять скупать «франклинов», как в 90-е?
— Пока цена на нефть держится, до глубокой девальвации дело не дойдет. Колебания курса рубля вероятны, но паниковать сегодня не стоит. Это спекулятивные ожидания. Если кому-то так спокойнее, можно диверсифицировать сбережения, часть хранить в рублях, что-то в евро, остальное в долларах, но ни в коем случае не советовал бы физическим лицам играть с валютой. Это сродни гаданию на кофейной гуще.
— Людей понять можно, они боятся потерять заначку на черный день. Сейчас вот выборов президентских ждут, никто толком не знает, что будет после марта.
— Апрель… Но я понимаю, о чем вы говорите. Моя главная надежда связана с тем, что в правительство придет сильная команда, которая не побоится взять на себя ответственность за непопулярные решения. Иного пути у России не остается. Надо оперировать долгосрочными трендами. Шанс остаться на плаву и не упустить ушедшую вперед флотилию мировой экономики у России есть, но терять время преступно. Впрочем, не склонен драматизировать ситуацию. Весь мир сейчас на разломе, ни одна страна не живет в шоколаде. Волна демонстраций и общественных протестов прокатилась по планете не случайно. Где-то свергли казавшихся вечными диктаторов, кто-то попытался захватить Уолл-стрит… Последние митинги в Москве вписываются в общую канву. Но дело не только в этом. Разномастные события объединяет главное — крах старой модели управления. Даже в таких весьма динамичных демократиях, как США, Германия, Англия, Франция, прежний механизм ломается. Значит, надо менять систему. Как бы кто-то ни старался давать умные советы другим, сам находясь близко ко дну. Много было сказано о новой эпохе, XXI веке, но перемены в обществе не привязаны к конкретным календарным датам. Нельзя начать жизнь с чистого листа в ближайший понедельник или с 1 января. Постепенно происходила технологическая и ментальная эволюция. Если потребность в переменах долго подавлять, возникнет дисбаланс. Сейчас крайне важно, чтобы власть уловила настроение общества и продемонстрировала готовность к диалогу. Главный конфликт не в том, что одни стоят на площади, а вторые сидят в Кремле. Люди хотят услышать быстрый и адекватный ответ на требования изменений в государственном управлении. Если это произойдет, на что очень надеюсь, Россия сможет двинуться в сторону демократических и рыночных преобразований. По крайней мере в последних выступлениях премьера Путина и Послании президента Медведева Федеральному собранию было предложено больше политических новаций, чем за несколько предыдущих лет. Это очень позитивный момент. Вопрос в балансе. Наверняка в угоду конъюнктуре кто-нибудь обязательно попытается зажечь бикфордов шнур. Важно, чтобы правительство России контролировало ситуацию и своевременно реагировало на вызовы. Серьезные потрясения никому не нужны, наша страна лимит на революции, хочется верить, уже исчерпала. Катаклизмы на руку лишь тем, у кого шлюпки наготове. Либо заранее отчалившим. Но таких, уверен, совсем немного.
— Понимаю, что вы сейчас рассуждаете и с позиций банкира. Мир денег не терпит суеты…
— Хотя порой решения надо принимать очень быстро. Я уже четыре года в «Сбере», время летит… Мой приход совпал с началом мирового финансового кризиса. В 2008-м у банков было огромное желание зажать накопленные активы, условно говоря, в кулаке и затаиться, пережидая бурю. Состояние, когда находишься словно между двух расплывающихся в разные стороны льдин. Маленький банк мог свернуться в калачик и спрятаться в укрытие. Если бы так сделал Сбербанк, половина наших клиентов обанкротилась бы, и экономика страны получила бы сильный удар. И остановиться нельзя, и продолжать тоже. Тяжелый момент! Но, как говорится, все, что не убивает, делает нас сильнее. И еще один старый афоризм, который мне очень нравится: любая проблема — это хорошо замаскированная удача. Нынешнюю волну кризиса мы переживаем гораздо спокойнее, поскольку радикально перестроили систему управления рисками. Думаю, у нас она лучшая в стране. Это позволяет адекватно оценивать ситуацию и возможные последствия тех или иных стрессовых сценариев. Мы просчитали их при планировании на 2012 год. Все предугадать невозможно, но основные варианты постарались учесть. Будем развивать собственный бизнес, по-другому хеджироваться бессмысленно. Мы хотели достичь активов в десять триллионов рублей к концу 2011 года, и эта сумма была превышена на пятьсот миллиардов. Можете представить?
— Честно? С трудом, Герман Оскарович.
— Располагая такими ресурсами, нельзя терять темп, уже не говорю о том, чтобы стоять на месте. Мы и в кризис не остановили ни один вид нашего бизнеса, может, за исключением проектного финансирования. Все остальное поддерживали. А сейчас ежедневно выдаем более 57 тысяч кредитов физлицам. Это примерно в два раза больше, чем год назад, и втрое выше уровня 2009-го. Подобное стало возможным исключительно благодаря внедрению современных технологий. В том числе риск-менеджмента. У нас рекордно низкий процент невозвратов, он постоянно падает. При этом сроки выдачи кредитов резко сокращены, время принятия решения для физлиц — от двух до семнадцати часов. По сути, мы совершили революцию в розничном кредитовании.
— Мирную, хочу заметить.
— Кредитный портфель Сбербанка — своеобразный proxy-показатель для российской экономики. Мы становимся все более клиентоориентированными, мобильными и технологичными, меняясь и развиваясь быстрее, чем многие другие институты в стране. Кто-то должен подавать пример. Нам роль лидеров нравится, но в конце концов все определяется потребителем. Если он доволен, значит, все идет правильно. Тот feedback, который получаем от клиентов, радует. Обратная связь подтверждает: люди замечают позитивные перемены в Сбербанке.
— Вполне представляли, с чем придется столкнуться, когда шли сюда, Герман Оскарович?
— Не до конца.
— Какие чудные открытия вас подстерегали?
— Мне казалось, в крупных корпорациях значительно лучше технологии и выше качество персонала…
— Четырех лет хватило, чтобы навести порядок?
— Такую махину за столь короткий срок не перестроишь. Это не старые стулья выбросить и новые поставить. Надо растить кадры…
— Поэтому и открыли корпоративный университет Сбербанка?
— Ну да. Это уникальный по масштабу охвата учебный центр для наших сотрудников всех уровней — от операционно-кассовых до топ-менеджеров. Проблема в том, что мы по-прежнему с трудом находим хороших отечественных специалистов. Те, которые есть, сильно переоценены. Иногда проще привезти экспата, западный работник зачастую обходится дешевле, чем наш. Такой вот парадокс. В России нет массовой подготовки персонала необходимой для рынка компетенции. Через год получим первый выпуск университета Сбербанка. Пятьсот шестьдесят человек — мощное подспорье!
— Кто платит за учебу?
— Если тесты и экзамены сданы, банк. Двоечникам придется раскошелиться.
— Вы лекции читаете?
— Только вступительную. Зато сам слушаю. Мы регулярно приглашаем лекторов с мировым именем, они выступают перед членами правления. И тренинги проводим. Все, как положено. Более того, сто процентов персонала у нас подлежат психологическому тестированию по определенной методике, позволяющей определить тип личности, системность мышления, креативность, лидерские способности, профессиональные качества, склонность к восприятию информации. Словом, все характеристики, включая лояльность, предрасположенность к правонарушениям. У нас есть полная база данных на четырнадцать с половиной тысяч менеджеров Сбербанка. Весь персонал разделен на три зоны: зеленую, где объединены люди с высоким потенциалом, желтую — сотрудники, чьи отдельные компетенции подлежат доработке, и красную — те, кого данной специальности обучать бессмысленно. Нужны предварительный анализ, диагностика, чтобы развивать сильные качества человека. Собственно, мы и определяем потенциал. Точность результатов очень высока.
— Поделиться опытом с властными структурами не хотите?
— Регулярно этим занимаемся. Проводили презентации для кадровых служб Кремля и Белого дома. И премьеру, когда он был у нас, рассказывали об эксперименте. Владимир Путин поручил сделать подобную методику для губернаторов. Тестовый вариант готов. Если его одобрят, займемся дальнейшей проработкой. Без этого в современном мире невозможно.
— Вы тоже тестирование проходили?
— Безусловно. Я ведь сказал: сто процентов сотрудников!
— И как?
— Работаю. И в ближайшие годы собираюсь продолжить, если акционеры не будут возражать. А теперь серьезно: самый большой вызов, который стоит перед нами, — трансформация человека…
Андрей Ванденко

Воссоздание индустриального мира
Контуры нового глобального устройства
Резюме: В наиболее сложном положении окажутся недавние антагонисты в холодной войне – Соединенные Штаты и Россия. США рассказывают себе сказки о том, что новое столетие будет таким же «американским», как и предыдущее. Россия, похоже, уверовала в то, что весь мир теперь зависит от ее ресурсов.
Случившийся 20 лет тому назад уход Советского Союза с исторической арены стал великим политическим событием, исполненным глубокого смысла. Прежде всего он был, разумеется, интерпретирован как победа демократии над авторитаризмом и либерального порядка над коммунистической утопией. Часто говорилось о превосходстве прагматизма над идеологией, как и о том, что закончилось время идеологизированных обществ. В сугубо геополитическом и военном аспектах вспоминали об успехе НАТО и поражении Организации Варшавского договора. В чисто хозяйственном смысле подчеркивали банкротство модели плановой экономики. Однако, помимо всех активно обсуждавшихся аспектов, существовал еще один, на который обращали куда меньшее внимание.
Экономика переходного периода
Экономические проблемы, приведшие к краху СССР, стали особенно заметны во второй половине 1980-х гг. – но в этот период Советский Союз был не единственной крупной державой, столкнувшейся с трудностями. Не только вторая, но и третья экономика мира переживала не лучшие времена. Япония, успехи которой незадолго до начала «эпохи перемен» вызывали в Соединенных Штатах не меньшие страхи, чем достижения Советского Союза в 1960-е гг., вошла в экономический «штопор» почти синхронно с советской экономикой. В результате если в середине 1980-х гг. Америке приходилось оглядываться на двух потенциальных соперников, то к концу 1990-х на горизонте не осталось ни одного.
Какая, может спросить читатель, существует связь между политическим банкротством авторитарной евразийской империи и временными экономическими трудностями высокоэффективной дальневосточной державы? Между тем связь очевидна: рубеж 1980-х и 1990-х гг. не перешагнули две страны, сделавшие ставку на предельное развитие индустриального типа хозяйства. Плановая и рыночная; полностью закрытая и ориентированная на максимальное освоение зарубежных рынков; глубоко милитаризованная и тотально разоруженная – две совершенно разных экономических системы споткнулись почти одновременно. И на последующие 20 лет стали главными лузерами глобальной хозяйственной системы: их общая доля в мировом ВВП сократилась с 19,6 до 8,8%, то есть более чем вдвое.
Объяснение произошедшему было дано практически немедленно, хотя и не получило такого публичного резонанса, как реакция на политические аспекты краха СССР. В небольшой книге с характерным названием «Безграничное богатство» (Unlimited Wealth. The Theory and Practice of Economic Alchemy) Пол Зейн Пилцер, самый молодой в истории вице-президент Citibank и профессор Нью-Йоркского университета, сообщил читателям о том, что западный мир нашел источник неограниченного богатства: в «постиндустриальную» эпоху наиболее успешные общества, создавая технологии, не тратят, а преумножают собственный человеческий капитал, а продавая технологии, реализуют не сам продукт, а его копии, что, разумеется, никак не сокращает общественное достояние. Поэтому богатство постиндустриального мира не ограничено – в отличие от запасов полезных ископаемых, человеческих и материальных ресурсов индустриального производства.
Всего через несколько лет один из самых известных японских экономистов, Тайичи Сакайя, согласился, что Япония действительно не создала хозяйственных, социальных и ценностных структур постиндустриального общества, остановившись на «высшей фазе индустриализма», что и стало причиной ее исторического поражения. Российские экономисты, понятное дело, занимались в те годы осмыслением совсем иных проблем и вопросов – но можно утверждать, что в глобалистике уже в первой половине 1990-х гг. сформировалось мнение, согласно которому своей доминирующей позицией западный мир обязан прежде всего эпохальному прорыву в сфере информационных и коммуникационных технологий.
Данные представления получили впечатляющие подтверждения. Первый же конфликт постиндустриального мира с традиционным – война в Персидском заливе в 1991 г. – продемонстрировал неоспоримое превосходство США и их союзников. С потерями в 379 человек они разгромили мощную армию, уничтожив не менее 30 тыс. и ранив более 75 тыс. иракских солдат. Несмотря на быстрый хозяйственный рост в Азии, Соединенные Штаты в середине 1990-х гг. впервые за послевоенный период начали наращивать свою долю в глобальном ВВП. Финансовые рынки в Америке и Европе демонстрировали стремительный взлет, тогда как нестабильность индустриальных экономик усиливалась. В 1997 г. начался «азиатский» финансовый кризис, затронувший практически все развивающиеся экономики – при этом рост ВВП в США составил в 1997–1998 гг. в среднем 4,5%, в ЕС – 2,8%. В 1998 г. впервые с 1969 г. федеральный бюджет Соединенных Штатов стал профицитным. С начала 1980-х гг. до минимальных значений конца 1990-х гг. нефть подешевела с 42–44 до 11,8 доллара за баррель в текущих ценах, золото – с 850 до 255 долларов за тройскую унцию, хлопок – со 114 до 32 долларов за тонну, а цены цветных металлов упали в среднем в 2,3–2,6 раза. В то же время индекс акций высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 за 1995–1999 гг. вырос в 6,1 раза. Всего за два месяца, с середины октября по середину декабря 1999 г. прирост рыночной капитализации одной лишь Amazon.com, компании по продаже книг в интернете, превысил общую стоимость 183 млрд кубометров газа, экспортированного Россией в течение 1999 года. Суммарная капитализация высокотехнологичных компаний США весной 2000 г. в 6,7 раза превышала ВВП Китая. Экономическое доминирование постиндустриального мира над остальным человечеством казалось куда более впечатляющим, чем военно-политическое превосходство западного блока над быстро распадающимся союзом социалистических стран за десять лет до этого. Автор данных строк в те годы полностью разделял триумфалистские надежды сторонников постиндустриальной трансформации, хотя и опасался того, что успехи западного мира спровоцируют непреодолимое неравенство, которое станет источником опасной глобальной политической нестабильности.
Однако еще через десять лет стало ясно, что доминирование это оказалось непрочным. Если в 1999 г. ВВП Китая в рыночных ценах был ниже американского в 21 раз, то по итогам 2010 г. – всего в 2,5 раза. Если доходы российского бюджета в том же 1999 г. едва достигали 1,3% от доходов американского, то в 2010-м они составили более 15%. В десятке крупнейших в мире экспортеров сегодня только пять западных стран, а десять лет назад их было девять. Валютные резервы пяти крупнейших незападных стран достигли летом 2011 г. 5,8 трлн долларов, тогда как дефицит бюджетов Соединенных Штатов и государств Евросоюза превысил 2,5 трлн долларов. И в той же мере, в какой тренды 1990-х гг. были следствием не столько геополитических, сколько экономических сдвигов, тенденции 2000-х гг. оказались результатом хозяйственных процессов, а не политических расчетов.
На первой фазе этого цикла можно было предполагать (это, собственно говоря, и делалось), что главными причинами «разворота» стали чисто рыночные, конъюнктурные факторы. Западный мир в конце 1990-х гг. оказал развивающимся индустриальным странам неоценимую помощь, когда не препятствовал обесценению их валют и выдал попавшим в сложную ситуацию государствам значительные кредиты. Общий прирост импорта одних только США из стран Юго-Восточной Азии в 1997–2002 гг. составлял по 35–40 млрд долларов ежегодно, а курс доллара к йене, вону или рупии в 1998–1999 гг. превышал нынешние показатели почти вдвое. Возобновление роста вызвало повышательный тренд на рынках сырья, и уже к 2002 г. цены на энергоресурсы вышли из «ямы» конца 1990-х гг. – но именно вернулись на прежние уровни, а не взлетели вверх. Затем некоторое время казалось, что дальнейший их рост спровоцировала война в Ираке, и он будет таким же скоротечным, как в 1990 году. Однако с 2006–2007 гг. большинству исследователей мировой экономики стало понятно, что речь может идти о смене долговременного тренда. И вскоре мы увидели массу книг, которые – в «зеркальном» отношении к трудам аналитиков начала 1990-х гг. – проповедовали «возобновление» истории, говорили о конце очередной демократической волны и готовили западное общественное мнение к новому этапу противостояния либеральных и авторитарных режимов.
Ошибки футурологов
Чего же не учли футурологи, которые в середине 1990-х годов смело рассуждали о наступлении нового мира и абсолютном доминировании постиндустриальной цивилизации и информационной экономики? На наш взгляд, ошибочными оказались несколько распространенных в те годы гипотез.
Во-первых, сторонники «информационного общества» де-факто исходили из того, что информация является не только крайне важным ресурсом и на нее существует практически безграничный спрос, но и из того, что этот спрос будет поддерживать относительно высокие цены на технологические новации и информационные ноу-хау. Между тем именно этого и не случилось. В отличие, например, от цены среднего автомобиля, которая в Соединенных Штатах с 1995 по 2010 гг. выросла с 17,9 до 29,2 тыс. долларов, или средней цены ночи пребывания в 4-звездочном отеле, выросшей с 129 до 224 долларов, средняя цена ноутбука за тот же период упала с 1,9 тыс. до 780 долларов, а минута разговора по мобильному телефону – с 47 до 6,2 цента. Технологии и высокотехнологичные товары стали стремительно дешеветь, и хотя технологическим компаниям и удается поддерживать высокую капитализацию, объемы продаж остаются не очень впечатляющими.
США, самая технологически развитая экономика мира, экспортирует технологий на 95 млрд долларов в год, что не превышает 0,65% ее ВВП. Apple, самая дорогая корпорация мира, стоит 370 млрд долларов, но продает продукции лишь на 108 млрд долларов. Услуги по предоставлению интернет-трафика все чаще становятся бесплатными, как и услуги многих информационных компаний. «Технологии» можно бесконечно много потреблять – в этом информационные романтики были правы. Но за них не обязательно много платить (а то и платить вообще) – в этом был их просчет. Более того: логика снижения цен в условиях фантастической конкуренции требует перенесения производства «железа» из развитых стран за рубеж. Соответственно, все большие выгоды получают не те, кто создает новые технологии, а те, кто производят основанную на них продукцию. В 2010 г. 39% экспорта Китая, оцениваемого в 1,6 трлн долларов, составили высокотехнологичные товары, созданные на основе американских и европейских изобретений. В итоге в развитых странах сосредотачиваются обесценивающиеся технологии, а в развивающихся – добавленная стоимость. Это, собственно, и есть главный фактор, не учтенный теоретиками «информационного общества».
Во-вторых, совершенно ошибочным оказался тезис о том, что информатизация экономики резко понизит спрос на ресурсы и уменьшит их цену. Данное заключение основывалось на практике 1980-х и начала 1990-х гг., когда масштабная волна материалосбережения действительно снизила потребность в ресурсах. Сегодня на дорогах Германии ездит на 55% больше автомобилей, чем в 1990 г., но потребляют они на 42% меньше бензина, чем двадцать лет назад. В целом потребление нефти за 2000–2010 гг. сократилось в Германии на 11,3%, во Франции – на 12,1%, в Дании – на 16,3%, в Италии – почти на 22%, хотя в среднем размер этих экономик за десятилетие вырос почти на треть. Примеры такого рода можно продолжить. Эта тенденция создает предпосылку для снижения сырьевых цен, но в то же время сокращает расходы на сырье и энергоносители по отношению к ВВП. Если в 1974 г. этот показатель в Соединенных Штатах составлял более 14,5%, то в 2007 г. в ЕС – около 4,3%. Таким образом, западные экономики на протяжении последней четверти ХХ века стали относительно невосприимчивыми к колебаниям сырьевых цен. И когда в начале 2000-х гг. возрастающий спрос на сырье повел цены вверх, никто не попытался этому противодействовать – в отличие от того, что случилось в 1970-е годы.
Более того, повышение качества жизни в постиндустриальных странах породило новые отрасли «зеленой» экономики, которые существенно выигрывали от роста сырьевых цен, так как их разработки признавались все более актуальными и нужными. В результате если в 2000 г. суммарный экспорт нефти и газа принес Саудовской Аравии, России, Нигерии, Катару и Венесуэле 193 млрд долларов, то в 2010 г. он обеспечил им не менее 635 млрд долларов – причем при физическом росте экспорта (в Btu) всего на 14,4%, а по итогам 2011 г. сумма может достичь 830 млрд долларов. Соответственно не только индустриальные, но и сырьевые экономики существенно упрочили свои позиции vis-И-vis постиндустриальных.
В-третьих, постиндустриальные общества, ощутив себя бесконечно могущественными, сделали акцент на сервисном секторе. Он приобрел гипертрофированные масштабы, и его продукция оказалась крайне переоцененной. В условиях глобализации по самым высоким ценам стали реализовываться услуги и товары, предоставление которых не могло быть глобализировано. Соответственно пошли вверх цены на жилье, коммунальные и транспортные услуги, гостиницы и еду в ресторанах. Предпосылкой для этого стало устойчивое снижение цен на импортируемые потребительские товары и информационную продукцию, что обеспечивало рост уровня жизни, а следствием – финансовая несдержанность, основанная на уверенности в постоянном повышении стоимости активов, расположенных в самых богатых и процветающих странах. Средняя цена жилого дома в США выросла более чем вдвое с 1995 по 2008 год. Все большей популярностью начали пользоваться кредиты, а финансовые институты шли на все большие риски. В результате в Америке за 20 лет объем выданных ипотечных кредитов вырос в 3,6 раза, а потребительских – в 3,1 раза. Экономика Соединенных Штатов и (в меньшей мере) иных постиндустриальных стран превращалась не столько в информационную, сколько в финансовую. В сфере финансовых операций, оптовой и розничной торговли, а также операций с недвижимостью в 2007 г. было создано 44,3% ВВП США.
Все это происходило на фоне того, что развитый мир становился для развивающегося поставщиком не столько технологий и товаров, сколько символических ценностей и финансовых услуг. Дефицит торговли товарами между Соединенными Штатами и остальным миром в 1999–2007 гг. составил 5,34 трлн долларов. Причем весь прирост дефицита был обусловлен ростом дисбаланса в торговле с Китаем, новыми индустриальными странами Азии и нефтеэкспортерами. Эти номинированные в долларах средства в значительной мере возвращались в Америку через продажу американским правительством, банками и частными компаниями своих долговых инструментов. К «неограниченному» богатству добавилась возможность беспредельного заимствования, причем на любых условиях; поэтому совершенно правы те авторы, кто считает, что ответственность за возникновение финансовых диспропорций, приведших к недавнему кризису, в равной степени лежит как на развитых, так и на развивающихся странах.
Подводя итог, следует констатировать: в 1990-е гг. постиндустриальный мир породил не неограниченное богатство, а условия для его создания. Он выработал технологии, радикально расширявшие экономические горизонты – но вместо того чтобы воспользоваться ими, предпочел передать их другим исполнителям и ограничиться ролью сервисной экономики и финансового центра. В этой деиндустриализации, против которой еще в 1980-е гг. возражали самые прозорливые исследователи, и лежит причина изменения глобальной экономической конфигурации. Если бы высокотехнологичное индустриальное производство осталось в развитых странах, не случилось бы взрывного роста Азии и других новых индустриальных стран. Не произойди его, не началось бы перепотребления энергоресурсов и сырья, так как экономики развитых стран по материалоэффективности в разы превосходят Китай или Бразилию. Не стоит забывать, что прирост потребления нефти в КНР в 2000–2010 гг. составил 204 млн тонн – почти треть общего потребления нефти в странах Европейского союза. Итог печален: постиндустриальный мир воспользовался лишь ничтожной долей того, что он создал.
По данным Всемирного банка, в государствах, где на НИОКР в совокупности тратится не менее 2,5% ВВП, рост производительности труда за последние 15 лет составил от 1,3% до 2,0% в среднегодовом исчислении. В том же Китае – главном импортере технологий – он достигал 8,2%. По расчетам профессора Йельского университета Уильяма Нордхауса, трансфер технологий в менее развитые страны, а также их несанкционированное копирование привели к тому, что американские инновационные компании за последние 10 лет получили в качестве прибыли всего… 2,2% от созданной на основе использования их изобретений прибавочной стоимости. В глобализированном мире, в котором доминирует свободная и ничем не ограниченная конкуренция, производство технологий становится своего рода производством общественных благ. Задача благородная и возвышенная, но экономически далеко не всегда оправданная.
«Три мира» XXI века
Итак, тенденции, наметившиеся в конце 1980-х и начале 1990-х гг. в экономической сфере, не стали устойчивыми – точнее, возникли контртенденции, которые в итоге оказались более значимыми. Сформировалась совершенно новая глобальная конфигурация, которую – да простят меня читатели за использование уже набившего оскомину приема – можно рассмотреть в форме сосуществования и конкуренции «трех миров».
На одном «полюсе» в этом новом порядке находятся явно «забежавшие вперед» постиндустриальные страны, в первую очередь США и Великобритания: для них сегодня характерна очень низкая доля обрабатывающей промышленности в ВВП (около 10–13%), гипертрофированно разросшийся финансовый сектор, хронически дефицитный характер бюджета и устойчивое отрицательное сальдо внешней торговли. Данные страны выступают при этом средоточием огромного интеллектуального потенциала и, несомненно, обладают большими возможностями для дальнейшего развития. Помимо Соединенных Штатов и Великобритании, к данной категории государств можно отнести некоторые не вполне благополучные государства Европы – Ирландию, Испанию, Италию и Грецию. Разумеется, такое группирование довольно условно, однако эти страны объединяет безразличное отношение к индустриальной политике и безответственное – к собственным финансам. На этот «деиндустриализировавшийся» мир приходится около 20 трлн долларов из оцениваемого в 76 трлн долларов мирового валового продукта, почти половина зарегистрированной интеллектуальной собственности, идеально выстроенная инфраструктура глобальных финансов и 216 из 500 крупнейших корпораций по последней версии рейтинга FT-500, оцениваемые рыночными игроками в 9,8–10,0 трлн долларов. Сегодня эта часть мира испытывает явный дискомфорт, порожденный неуверенностью в собственных силах и необходимостью искать новые «точки опоры» в изменяющейся международной архитектуре. Подобное чувство, однако, отчасти компенсируется ощущением цивилизационного и исторического единства, а также близости социально-экономических систем. Эти страны западного мира показывают остальным картину будущего, которое их ожидает, если тенденция к деиндустриализации возобладает.
На другом «полюсе» сосредоточена разнородная масса государств, поднятых из фактического небытия «приливной волной» повышающихся сырьевых цен. К ним следует отнести Россию, Саудовскую Аравию, Иран, Казахстан, Венесуэлу, Нигерию, Анголу, Туркмению, ряд латиноамериканских стран–поставщиков сырья, и некоторые другие. Общими чертами для них являются весьма высокая доля сырьевого сектора в экономике (более 75% в экспорте и не менее 50% в доходах бюджета), формирование бюрократии как доминирующей социальной группы и авторитарного стиля власти, предельная зависимость от иностранных технологий и инвестиций, а также прямо пропорциональный сырьевым доходам рост бюджетных расходов. На эту часть мира приходится около 5 трлн долларов совокупного валового продукта, но при этом незначительная доля коммерциализированной интеллектуальной собственности и куда меньшее число крупнейших корпораций – всего 19 из 500 с оценкой в 0,8–0,9 трлн долларов. Хотя справедливости ради следует заметить, что многие крупные компании в этих странах принадлежат государству и поэтому будет правильнее увеличить оба этих показателя в 2–2,5 раза. Как правило, в этой части мира не расположены значимые международные финансовые центры, а валюты привязаны к доллару или евро или не являются свободно конвертируемыми. Элиты ощущают себя баловнями судьбы, проповедуют крайне нерациональные модели потребления, а политическое сотрудничество подобных стран всецело декоративно и не способно привести к формированию сколь-либо прочных стратегических альянсов.
И наконец, в центре находятся как «восставшие из пепла» старые индустриальные государства (Германия и Япония), так и новые центры индустриализма (Южная Корея, Китай, Бразилия, Тайвань, Малайзия, Таиланд, Мексика, Польша, страны Восточной Европы и ряд других). Эти страны объединяет высокая доля обрабатывающей промышленности в ВВП (от 23 до 45%), устойчиво положительное сальдо торговли промышленными товарами, развитые внутренние рынки и относительно уверенное движение в соответствии со стратегическими концепциями, определяющими будущее того или иного государства. Сегодня эта группа доминирует на мировой арене с совокупным валовым продуктом в 26 трлн долларов и относительно высокими темпами его роста. Принадлежащие к ней страны в первую очередь выигрывают от разворачивающейся технологической революции; для них (и даже для Японии после 20-летней «коррекции») характерен разумный уровень капитализации внутренних рынков (в этих государствах сосредоточено 139 из крупнейших публичных компаний, оцененных инвесторами в 5,5–5,7 трлн долларов), а валюты являются безусловно доминирующими в своих регионах и, судя по всему, могут в будущем стать основными для новой глобальной финансовой системы. В то же время история, политические системы и формы социальной жизни этих стран настолько отличаются друг от друга, что рассматривать индустриальный центр мира как нечто внутренне единое сегодня не приходится.
Геоэкономика неоиндустриальной эпохи
Хотя индустриальные державы XXI века относительно разобщены, они образуют весьма интересную картину новой «регионализации». В отличие от ХХ столетия, в мире нет единого экономического центра, но нет и оснований предполагать, что вскоре между потенциальными лидерами может начаться борьба за обретение подобного статуса.
Глядя на географическую карту, можно уверенно говорить о трех индустриальных «монстрах», каждый из которых имеет мощную региональную проекцию. В первую очередь это, разумеется, Китай, окруженный рядом более мелких государств, постепенно вовлекающихся в создаваемые им промышленные и торговые цепочки. Доминирование Китая здесь очевидно: ВВП стран-соседей (Южной Кореи, Тайваня, Малайзии, Таиланда, Сингапура, трех государств Индокитая, Индонезии и Филиппин), исчисленный по паритету покупательной способности, составляет около 52% от китайского. Пекину на протяжении нескольких десятилетий будет хватать дел в этой «сфере сопроцветания»: она станет полем приложения как политических (окончательная интеграция Гонконга и присоединение Тайваня), так и экономических усилий (укрепление влияния в Индонезии и Вьетнаме, создание транспортной инфраструктуры и разработка полезных ископаемых в Мьянме, финансовая консолидация в Юго-Восточной Азии в целом).
При этом на окраинах китайской «делянки» присутствуют и два мощных потенциальных соперника – Япония и Индия, которые в конечном счете и определят ее границы. Глобальные устремления Пекина, если таковые проявятся, на протяжении ближайших десятилетий смогут ограничить Соединенные Штаты, которые выстраивают все более серьезный «альянс сдерживания» вместе с уже упоминавшимися наиболее значимыми соседями Китая.
Куда более интересный процесс мы видим в Европе. В 1990-х и первой половине 2000-х гг. Европейский союз, истоки которого восходят к временам франко-германского примирения, расширил границы на восток, начал с Турцией переговоры о присоединении и объявил о программе «Восточного партнерства». Все эти инициативы можно оценивать с разных точек зрения, но нельзя не видеть стремительного формирования новой индустриальной зоны на востоке ЕС, куда (а не в Китай) перебрасывается часть промышленных мощностей из базовых стран Евросоюза. Наблюдаемые ныне финансовые потрясения на таком фоне воспринимаются как кризис, постигший прежде всего страны, которые либо допустили деиндустриализацию (Ирландия, Греция), либо понадеялись на жизнь в долг (та же Греция и Италия), либо смирились с хроническим торговым дефицитом (Испания). Итогом кризиса несомненно станет «приведение в чувство» данных государств и возврат к более сбалансированной германской модели, предполагающей в том числе и сохранение мощного индустриального сектора. В данном случае мы видим куда менее выраженное «количественное» доминирование «ведущих» стран над «ведомыми».
Если отнести к первым Германию, Францию и Нидерланды, а ко вторым – Италию, Испанию, Польшу, Грецию, Чехию, Словакию, Венгрию, Болгарию, Румынию, страны Балтии, а также потенциально тяготеющих к ЕС Украину и Белоруссию, то на обеих чашах весов окажется приблизительно равный по объему ВВП. В данном случае, однако, вряд ли приходится сомневаться в успехе европейского проекта, так как уроки из нынешнего кризиса будут вынесены и усвоены, а привлекательность общеевропейских институтов и европейской модели сделает свое дело. Российскому читателю, традиционно скептически относящемуся к европейскому проекту, я хотел бы напомнить, что современная Европа – один из мощнейших промышленных центров мира, в 1,5–3 раза превосходящий США по объему выпуска основных промышленных товаров – от автомобилей и индустриального оборудования до металлов, химических и фармацевтических товаров. Успех европейцев в нынешних условиях будет означать и успех самой сбалансированной модели развития, сочетающей инновации с продвижением промышленности. Границы зоны проведения этого эксперимента также определены достаточно четко: на востоке – Россия, на юге и юго-востоке – страны арабского мира.
На юге Западного полушария ситуация также выглядит достаточно очевидной. В этой части мира есть свой естественный гегемон: Бразилия, на которую приходится 50,5% ВВП Южной Америки и 52,7% ее населения. На протяжении последних тридцати лет Бразилия демонстрирует впечатляющий прогресс: она стала третьей страной в мире по выпуску пассажирских самолетов и шестой – по производству автомобилей (большинство которых имеют двигатели, работающие как на бензине, так и на спирте); за двадцать лет она смогла увеличить в 4,5 раза доказанные запасы нефти и на основе собственных технологий организовать бурение самых глубоководных шельфовых скважин в мире. В Бразилии в 2002 г. были проведены первые на планете полностью «интернетизированные» выборы, а доля расходов на НИОКР превысила 1,5% ВВП. Сегодня почти в каждой латиноамериканской стране на прилавках магазинов доминируют бразильские промышленные товары.
Стоит, правда, сказать, что Бразилия всегда стояла на континенте особняком и ее португальский язык и культура, не говоря уже о явно доминирующем масштабе, вызывают смешанное отношение соседей. Но, думается, логика экономического развития возьмет верх: Аргентина, которая могла восприниматься как потенциальный соперник, большую часть последнего столетия идет по нисходящей траектории; Венесуэла погрязла в социалистических экспериментах и уже тридцать лет подряд показывает снижение подушевого ВВП; Китай далеко, а отношение к Соединенным Штатам в этой части мира всегда было более чем настороженным. В свою очередь, Бразилия еще более четко ограничена в своей потенциальной экспансии, чем Китай или ведущие европейские страны – и потому можно утверждать, что в «неоиндустриальном» мире XXI века ни один из «новых индустриальных полюсов» не столкнется с другими.
Каждый из этих полюсов, однако, будет реализовывать собственную экономическую стратегию. В Китае она, скорее всего, окажется основанной на массовом производстве относительно стандартизированной и дешевой продукции, направляемой как на внутренний рынок, нуждающийся в насыщении, так и за рубеж – прежде всего в США, страны ЕС, Россию, Японию и государства Ближнего Востока. Основываясь на такой политике промышленного роста, Китай, несомненно, займет место первой экономики мира, утерянное им в 1860-е гг. – как и подобает наиболее населенной державе планеты. В то же время КНР в ближайшие десятилетия вряд ли станет не только экспортером, но даже создателем значимых новых технологий.
В Европе промышленная стратегия будет ориентирована на производство товаров с крайне высокой добавленной стоимостью, предметов престижного и статусного потребления, высокотехнологичного оборудования, а также продукции, позволяющей использовать новейшие приемы энерго- и ресурсосбережения. Рынком для подобных товаров, как и в китайском случае, станет весь мир. При этом сохранится и производство широкой гаммы более «примитивной» промышленной продукции, потребляемой как в самой Европе, так и экспортируемой в соседние страны. Бразильский вариант окажется наименее «глобализированным» и наиболее «фронтальным»: в данном случае будут развиваться самые разнообразные отрасли, причем не только обрабатывающей промышленности, но также сельского хозяйства и добычи сырья.
Неожиданные аутсайдеры
Если исходить из описанной выше логики, в наиболее сложном положении в ближайшие десятилетия окажутся недавние антагонисты в холодной войне – Соединенные Штаты и Россия.
США – страна-лидер постиндустриальной революции, которая принесла американцам как огромные возможности, так и значительные проблемы. С одной стороны, Америка обладает громадной властью над миром и гигантским технологическим потенциалом, с другой – ее мощь более не может проецироваться так, как это делалось прежде, а технологии обогащают конкурентов даже быстрее, чем самих американцев. «Скакнув» в постиндустриальное будущее, Америка оказалась слишком зависимой, во-первых, от импорта огромного количества относительно дешевых товаров, и, во-вторых, от вечного притока кредитных средств или денежной эмиссии. Сегодня уровень жизни в Соединенных Штатах существенно выше того, на который может рассчитывать страна, производящая такие и такого качества товары.
Массовость, которая со времен Генри Форда была ключом к успеху для американцев, теперь работает против них: массовые брендированные товары должны быть дешевыми, чтобы хорошо продаваться, и массовые информационные продукты легко копируются пиратскими методами. В первом случае американцев обыгрывают конкуренты, во втором им не удается – и не удастся – установить выгодные для себя правила игры. И, похоже, путь назад в развитое индустриальное общество для США уже заказан: учитывая условия функционирования своей экономики, Америка могла бы попытаться побороться с Европой за ее «нишу», но тут ей вряд ли стоит рассчитывать на победу.
Россия – страна, деиндустриализировавшаяся по совершенно иному сценарию. Если Америка объективно переросла современную ориентированную на высокие потребительские запросы промышленность, то Россия до нее так и не поднялась. Объективно она не менее зависит от притока средств извне, чем Соединенные Штаты – только им в мире дают в долг или просто принимают в виде платежного средства доллары, а мы добываем их (пока) из земли. При этом, в отличие от США, мы зависим и от притока технологий и высокотехнологичных товаров, так как не производим и десятой доли того их ассортимента, который наши китайские соседи освоили за последние пятнадцать лет. И если американцам сейчас крайне сложно «развернуться» и в какой-то мере вернуться в индустриальное прошлое, то нам не удается добраться до нашего индустриального будущего.
И в том и в другом случае нужны жесткие политические решения, которые бывшие противники по великому противостоянию ХХ века принять не в состоянии. США рассказывают себе сказки о том, что новое столетие будет таким же «американским», как и предыдущее. Россия, похоже, уверовала в то, что тяжелые времена завершились, и весь мир теперь зависит от ее ресурсов, бесконечных и нужных всем без исключения. И вместо того чтобы переосмысливать допущенные ошибки, изучать возможности, которые могут открыться при соединении конкурентных преимуществ той и другой страны с индустриальной стратегией, политические элиты и Америки, и России застыли в оцепенении. Первая не может поверить во встретившиеся на ее пути трудности, вторая – нарадоваться привалившему счастью. Но, видимо, им обеим придется когда-то проснуться.
* * *
История доказывает: линейные прогнозы редко сбываются. Иллюзорные надежды на то, что новые технологические возможности создадут основы неограниченного богатства, не воплотились в реальную жизнь. Безбедно жить десятилетиями, единожды что-то придумав, не получится. Разумеется, мир изменился – но, как показывают события последних лет, не настолько, чтобы списать как негодные устоявшиеся хозяйственные закономерности. Мир XXI века остается миром обновленного, но индустриального, строя. И сейчас для правительств и интеллектуальной элиты каждой страны нет ничего более важного, чем понять, каким будет ее место в новом мире. Понять и добиться того, чтобы это место было возможно более достойным.
В.Л. Иноземцев – доктор экономических наук, председатель Высшего совета политической партии «Гражданская сила»

От холодной войны к горячим финансам
Распад СССР и конец мирового порядка
Резюме: Всеобщая взаимозависимость фактически переместила нас в иную систему координат, в которой политическая ценность государственной или частной власти не устанавливается путем директивы сверху, а подобно валюте определяется плавающим курсом и меняющимися отношениями с другими действующими лицами.
Задав молодым людям (родившимся в 70–80 гг. прошлого столетия) вопрос о времени окончания холодной войны, мы рискуем получить путаный ответ, в котором действительность подменяется событиями из киноленты о звездных войнах – Империя против Республики. Виной тому – расхожее представление о том, что СССР проиграл благодаря успешным действиям коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки, направленными на сдерживание, ослабление и раскол неприятельского военного блока.
Истоки и исход холодной войны
Понять, что такое холодная война, можно лишь ознакомившись с двумя мировыми. Первая мировая война оказалась самоубийственной для старых континентальных держав, тогда как быстро развивавшиеся США только усилились, и появилась новая политическая реальность – Советский Союз. Это была последняя война, развязанная Европой в интересах Европы.
В период между двумя мировыми войнами политическая и дипломатическая близорукость ведущих демократических держав, а также ярый антикоммунизм ряда европейских стран, стремившихся изолировать СССР, способствовали приходу к власти нацифашизма и, несмотря на глубокие идейные расхождения между Гитлером и Сталиным, подтолкнули два государства-изгоя того времени (Германию и Советский Союз) к стратегическому сотрудничеству.
Вторая мировая война довершила процесс падения четырех крупных европейских держав и закрепила власть Вашингтона и Москвы. Вот список победителей и проигравших в той войне, соответствие которого истинному положению дел было очевидно наиболее прозорливым людям того времени и тем более не вызывает сомнения задним числом, сегодня:
два реальных победителя: США и СССР;два псевдопобедителя – Франция и Великобритания;две реально проигравшие страны – Германия и Япония;одна условно проигравшая страна – Италия;один победитель в состоянии трансформации – Китай (от Гоминьдана к КПК).
При всей привлекательности мифа о том, что Сталин одурачил президента Рузвельта в Ялте и/или что Черчилль продал Восточную Европу Советам, суровая реальность состоит в том, что американцы очень хорошо знали и вычислили, что необходимо щедро вознаградить единственного союзника, который не зависел от американской логистики и денег. Так оно и случилось.
Если бы Вашингтон стремился предотвратить распространение советского влияния в Центральной Европе, он принял бы план Черчилля высадиться не в Нормандии, а в Словении с захватом Люблянского перевала, опередив тем самым Красную Армию на востоке Карпатских гор и отрезав Италию от союзных ей немецких войск. Вместо этого Вашингтон стер с лица земли Дрезден, Хиросиму и Нагасаки, дав понять Сталину, что чрезмерному авантюризму Советов за границами определенной для СССР сферы влияния могут быть противопоставлены превосходящие силы. Советский Союз, приняв разделение Европы, предложенное Соединенными Штатами, осуществил свои давнишние стратегические намерения на континенте (по сути создав буферную зону и плацдарм в центре Европы) ценой потери стратегического выхода к Средиземноморью.
В ответ на холодную войну, начатую Западом после знаменитой Фултонской речи Черчилля, Москва не предприняла ни одной серьезной попытки вторжения в Европу, несмотря на парады по Красной площади и грозные военные маневры. Сталин и его преемники свято соблюдали принцип железного занавеса, несмотря даже на кровавую расправу над греческими коммунистами (которым помогал лишь Тито, имевший очевидные территориальные амбиции), и попытки государственного переворота против итальянских коммунистов. (Имеется в виду правительственный кризис, спровоцированный христианскими демократами в 1947 г. с целью устранить коммунистов из коалиционного правительства в Италии. – Ред.)
Почти герметичное сдерживание в Европе сверхдержава предпочитала нарушать путем оказания косвенного давления (блокада Берлина и ракеты СС-20 два десятилетия спустя), а также с помощью подрывной политической пропаганды, хотя все прекрасно отдавали себе отчет в том, что последняя являлась скорее раздражающим фактором, чем реальной угрозой.
В сравнении с непродолжительным господством нацистов в Европе Советскому Союзу не хватало атлантического плацдарма, такого как Норвегия и Франция; ядерная атака и подлодки, оснащенные баллистическими ракетами, могли лишь частично компенсировать ограниченную стратегическую ценность Кронштадта и Белого моря. Маневрам Дальневосточного флота можно было легко воспрепятствовать через установление контроля над портами Кореи и особенно Японии (что было наглядно продемонстрировано в 1905 г. – Порт-Артур и Цусима).
Двадцать лет ушло на преодоление континентального менталитета и на то, чтобы в целях глобального соперничества с США создать мощный военно-морской кулак. Но только лишь адмирал Сергей Горшков начал пожинать первые плоды титанических усилий, Советский Союз развалился.
Кстати, пора уже похоронить пропагандистский миф о советской «империи». Идея создания СССР резко противопоставлялась многонациональной империи, какой тогда была царская Россия. Прежним провинциям был присвоен статус советских республик с собственными институтами местного самоуправления и предоставлением права выхода из состава Союза, пусть и чисто формального. Это не помешало новому тоталитарному режиму оставить глубоко русский отпечаток путем использования соответствующей символики и некоторых особенностей устройства власти в бывшей Российской империи. В той же роли Пьемонт выступил по отношению к старым итальянским монархиям и княжествам: реакционные силы того времени использовали национальный флаг, чтобы сбросить жестокий режим, точно так же, как это делали разбойники на юге Италии после объединения (1860 г.). Строительство многонациональной страны на основе советской культуры, как это происходило и в Югославии после 1945 г., привело к созданию своего рода социалистического «плавильного котла», в котором тем не менее преобладала культура русской нации.
Если отбросить необоснованный триумфализм, следует признать, что причины советского банкротства надо искать внутри границ Советского Союза, а не во внешнем мире:
Коррупция глубоко проникла в партию и государство – до такой степени, что в некоторых республиках Средней Азии впору было увольнять партийных боссов и на их место сажать генералов КГБ, которые считались более надежными и честными.Народное хозяйство все меньше и меньше удовлетворяло растущие потребности населения, становилось неэффективным в обеспечении граждан товарами первой необходимости и технологиями (не считая ВПК). Экономика во многом закоснела из-за отсутствия полноценного обмена с внешним миром – бразды экономического правления находились у государства, а с этой задачей оно по большому счету не было способно справиться.Идейная привлекательность коммунизма постоянно снижалась; политическое засилье аппаратчиков девальвировало те ценности, которые раньше позволяли обществу и государству идти в ногу со временем и с происходившими переменами.
Эти идейные, социальные и моральные изъяны не брались в расчет государственными стратегами, составлявшими ежегодные планы, и, как следствие, подавляющее большинство экспертов не почувствовало приближения одной из важнейших геополитических перемен с 1945 года. Остается лишь добавить, что привычка игнорировать признаки революционной ситуации начала проявляться как минимум с 1979 г. (со времен исламской революции в Иране) и дала о себе знать в ходе недавних событий всеобщего «арабского пробуждения».
Поражение в Афганистане, болезненная реакция на блеф Рейгана («звездные войны») и особенно скрытая поддержка со стороны Госдепартамента, ЦРУ, Национального управления рекогносцировки (космическая разведка США) и Агентства национальной безопасности папе римскому Иоанну Павлу II и опосредованно польскому движению «Солидарность» – важные факторы, призванные убедить советскую элиту (конкретно генсека ЦК КПСС Михаила Горбачёва) в том, что советская экономика не выдержит гонки.
Но падению Берлинской стены (1989 г.) и распаду Советского Союза (1991 г.) предшествовало менее заметное событие, которое во многом предопределило последующие: в 1981 г. президент Рональд Рейган и британский премьер-министр Маргарет Тэтчер объявили о грядущем ослаблении регулирования экономической деятельности. Впервые в современной истории государство отказалось от контроля над экономикой, чтобы гарантировать экономический рост.
Это явилось фундаментальным политико-идеологическим изменением, своеобразие которого заключалось в том, что вплоть до того момента, несмотря на различие форм собственности на средства производства (частной на Западе и государственной на Востоке), государство везде оставалось высшим органом, контролирующим экономическую деятельность. Тому свидетельство – не только роль Пентагона в американской промышленности, но и особенности государственного капитализма в Западной Европе, Японии, Австралии или Турции. В этом смысле отказ от государственного регулирования экономики явился первой брешью в Берлинской стене. Если Рейган и Тэтчер сняли политический контроль ради обеспечения непрерывного роста, то Горбачёву пришлось сделать то же самое, пытаясь обеспечить выживание советского общества и экономики.
После этого сначала экономика, а затем финансовый капитал стали автономной операционной системой и тотальной идеологией, полностью отделенной от политики. Интересно отметить, что после 1989 г. Усама бен Ладен, бывший бизнесмен, создал нерегулируемую террористическую организацию («Аль-Каиду»), наподобие частной финансовой фирмы, тогда как в прошлом терроризм целиком находился в ведении государства.
Вместо начала столкновения цивилизаций 1981 г. стал прологом краха западной цивилизации как мирового порядка и интеллектуального оформления глобальной политики и центров притяжения. В то же время разные действующие лица стремились по-разному заполнить вакуум, который образовался вследствие гибели основных идеологий – не только тоталитарных, но и демократических, выхолощенных в результате доминирования денег в политических процессах.
На бывшем Западе возобладали pensee economique unique (однобокое экономическое мышление) и его эко-левацкий двойник; во многих других странах социализм и блоковое мышление времен холодной войны были вытеснены национализмом, а в афро-азиатском мире на службу политическим целям была призвана религия.
В то же время 1989 г. спровоцировал тектонические сдвиги в таких сферах, как:
миграция населения из южных регионов планеты и бывших республик Советского Союза благодаря новоявленной свободе передвижения;лавинообразный поток информации и возможность получения разведданных из открытых источников (OSINT, Open Source Intelligence);технологии – от бывшего СССР до Запада и от Запада до развивающихся стран, поскольку прежний КОКОМ (Комитет по координации экспорта стратегических товаров в коммунистические страны) был заменен менее жесткими Вассенаарскими договоренностями, а соображения экономической конкуренции и прибыли стали важнее стратегического контроля над технологиями;финансовые и промышленные инвестиции.
Во многих отношениях суверенитет Вестфальского государства затрещал по швам под напором глобализации (легальной и нелегальной), националистических движений внутри разных стран, религиозных расколов, посягательства правительств на существующие институты, бюджетный баланс и свободы, а также в силу его элементарного устаревания (национальное государство зародилось три-четыре века назад).
Острые кризисы после 1991 г. (Югославия, Кувейт, война в Персидском заливе, конфликты в районе африканских Великих озер) стали противоречивым сигналом возвращения войны в Европу, усиления геополитической свободы от перегибов холодной войны и прогрессирующей политико-стратегической дезинтеграции Запада.
От биполярного мира к нефункциональному многополярному
На «победу» над СССР и изменившуюся ситуацию США ответили при президентах Джордже Буше-старшем и Билле Клинтоне, так сказать, «совещательным однополярным подходом». Он означал, что Соединенные Штаты остаются единственной сверхдержавой, осуществляющей эффективное руководство мировыми делами, противовесом которому является систематический поиск международного консенсуса в процессе кризисного менеджмента. При этом вышеупомянутые президенты чрезвычайно успешно отстаивали национальные интересы Америки, о чем свидетельствуют достигнутые ими за этот период цели:
замедление политического и стратегического роста Европейского союза;вытеснение из Африки европейцев с их постколониальными интересами;усиление американского контроля в Персидском заливе;придание гибкости трансатлантическим отношениям посредством коалиционных механизмов и возможностей варьирования при сохранении роли НАТО;достижение профицита государственного бюджета, несмотря на прямое и косвенное участие в нескольких войнах;укрепление практики и выгод финансового капитализма при активном участии европейских институтов и национальных политических лидеров.
В те же годы Африка и Латинская Америка начали все успешнее преодолевать внутренние проблемы. Россия, завершив сдачу Советского Союза и «упорядоченное отступление» к неонационалистическому, но все еще многонациональному бастиону, ценой ужасного обнищания населения и развала экономики пыталась стабилизироваться и, наконец, перейти от стратегической обороны к наступлению. В Индии началось неравномерное, но поступательное политическое и экономическое развитие.
Из краха Горбачёва наиболее ценные уроки извлек Китай, поскольку он преуспел в либерализации экономики, сохранив политическую монополию компартии и сумев избежать националистического раскола.
Десятилетие спустя вышедший из-под контроля и «приватизированный» джихадистский терроризм нанес непоправимый урон гегемонии США, ударив по символам американского могущества – Всемирному торговому центру и Пентагону. Мог ли президент Джордж Буш повести себя иначе в той ситуации? Если иметь в виду войну в Афганистане, то не мог. Многие из его предшественников, пожалуй, отреагировали бы еще жестче, стерев с лица земли государства, укрывавшие террористов. В любом случае, после гибели 2700 человек война была единственной приемлемой реакцией с точки зрения американского общественного мнения и, по правде говоря, любого нормального политика.
Иное дело глобальная война с террором. В противоборстве с «Аль-Каидой» в дело могли бы пойти разведывательные, полицейские, судебно-правовые и социальные меры подобно тому, как в годы холодной войны была организована борьба с терроризмом, спонсируемым государством, и как это до сих пор делается в Индии. С одной стороны, было бы достаточно локальной победоносной войны против штаб-квартиры «Аль-Каиды», а с другой, можно было сформировать всемирный альянс для противодействия терроризму всеми законными и незаконными способами, не задействуя всю военную машину.
С иракской кампанией сложнее. Еще вчера возражение против той агрессии приравнивалось к предательству священного дела Запада, сегодня же такая позиция считается здравым смыслом и хорошим тоном, потому что все оказалось напрасно. Есть искушение сказать, что Буш мог бы принять другое решение, но по здравом размышлении, пожалуй, следует признать, что не мог. Коллективный политический гений президентства Буша заключался в том, что ему удалось за 48 часов обратить катастрофический провал в прекрасную возможность перекроить карту мира и обеспечить еще как минимум десятилетие безраздельного владычества США. Но в этом и трагедия принудительного унилатерализма («кто не с нами, тот против нас») – его логика неумолима, отступить от нее невозможно.
Неоконсервативная элита, в соответствии с бытующим в ее среде умонастроением, рассчитывала на вечное мировое господство при консенсусе обеих партий, она была твердо убеждена в том, что после Советского Союза наиболее опасным конкурентом, которого необходимо нейтрализовать, является Китай. При этом война – лучший способ достижения доминирования, даже если она ведется с такими неуловимыми врагами, как террористы и наркомафия.
Случай Буша напоминает трагедию Карла V Габсбурга и Филиппа II Испанского, которые стремились сохранить единство мировой державы под своей разумной гегемонией. Справившись с главными врагами, они так и не смогли преодолеть упорного сопротивления мятежников, гёзов и еретиков. Только тогда речь шла о Голландии, а в наши дни – об Ираке. Долги и имперское перенапряжение – то, о чем предостерегал Пол Кеннеди.
Афганская компания, глобальная война с террором и агрессия в Ираке (война по выбору президента) позволили Бушу достичь трех целей.
Восстановить главенство политики над экономикой посредством предоставленной ему свободы самостоятельно выбирать между войной и миром.
Сбалансировать позиции президентской власти по отношению к судебно-исполнительной и законодательной ветвям, которые размывали институт президентства со времен Уотергейтского скандала в 1974 году.
Укрепить стратегический контроль над Персидским заливом, ослабленный в последнее десятилетние из-за скрытого, но нарастающего противостояния Ирана и Саудовской Аравии.
Тем временем НАТО превратилась в политический труп. В свете событий 11 сентября 2001 г. союзники выразили готовность ввести в действие статью V Вашингтонского договора (о коллективной обороне), но уже днем позже Соединенные Штаты дали понять, что любые действия в Афганистане будут предприниматься не на уровне альянса, а в рамках коалиции, успешно воссозданной десятью годами ранее. С тех пор НАТО представляет собой материально-техническое средство обеспечения операций, которые более или менее формально проводились под ее знаменами.
В 2004 г. Буш и бен Ладен проиграли войну в Ираке – по-разному, но вследствие одной и той же причины, а именно – утраты консенсуса и политической инициативы. Задержки с выборами в конце концов привели к объединению суннитов и шиитов в тактический союз против американской оккупации, тогда как беспорядочные взрывы бомб и политические возможности, открывшиеся в правительстве, убедили суннитов, что международные бригады «Аль-Каиды» политически бессмысленны.
После поражения в Ираке эпоха однополярного мира завершилась, и наступила пятилетка «бездержавной многополярности». При этом сохранялись традиционные центры власти («Большая восьмерка» и пять постоянных членов СБ ООН), но уверенно заявляли о себе новые (БРИКС и другие страны). Все это происходило в мире, который продолжал жить по старым канонам, но с существенными исключениями, поскольку новые правила еще не были сформулированы, а явный альтернативный лидер отсутствовал. В мире не воцарилось анархии, но не было и прочной властной конструкции. Так называемая «Большая двойка» (двоевластие Китая и США) оставалась лишь грезой для тех, кто ностальгировал по эпохе холодной войны.
В 2006 г. экономический аналитик Нуриэль Рубини указал на первые признаки того, что мыльный пузырь американской жилищной ипотеки вскоре лопнет. Исходя из разных предпосылок, но принимая во внимание структурный дисбаланс между китайской и американской экономикой, Рубини предсказывал в своем докладе, опубликованном в ежегодном сборнике Nomos & Khaos за 2006 году: «С высокой степенью вероятности в 2007 г. Тихоокеанский регион может стать эпицентром финансового тайфуна по причине слабости китайской и американской экономических систем, взаимодействия глобальных финансовых рынков и непоследовательного проведения экономической политики в зоне евро. Синергия этих факторов будет более серьезным вызовом для моделей социально-экономической и политической стабильности, чем (сравнительно умеренная) угроза джихадизма. Фундаментальные предпосылки для этого кризиса отчетливо просматриваются уже с сентября 2006 года».
Порожденная децентрализацией управления волна символически разрушила очередную башню ВТЦ. В историческом плане это свидетельствовало о том, что через 30 лет после начала децентрализации цикл подошел к логическому завершению, поколебав все Бреттон-Вудские институты, основанные на политическом лидерстве Америки и главенстве доллара. Очевидно, что немногие были готовы к пересмотру сложившихся договоренностей и доктрин.
Неслучайно все это время китайские лидеры пытались воскресить идею Кейнса о комплексной международной валюте (БАНКОР). Но в 1948 г. Кейнс представлял теряющую влияние и вес Британскую империю, тогда как доллар был валютой побеждающей демократической талассократии.
К 2008 г. экономический кризис стал общепризнанным фактом, и международная политика избавилась от иллюзии мертворожденных реформ ООН, представленных в 2006 г. ее тогдашним генеральным секретарем Кофи Аннаном. В ноябре 2008 г. в Вашингтоне состоялась первая встреча «Большой двадцатки», которая поначалу казалась запоздалым расширением «Большой восьмерки» до более реалистичного формата. Но это означало и выведение из игры ООН, утрату «Большой восьмеркой» своего значения и, что еще важнее, практическое свертывание мирового порядка в том виде, в каком мы его знали.
Миропорядок сохраняет прочность, когда две или более крупные державы разделяют общие правила (если не идеологию), по которым де-юре и де-факто строятся международные отношения; способны, если потребуется, ужесточить эти правила и защитить свои интересы; более или менее открыто определить иерархию других государственных и негосударственных сил. Если не принимать во внимание особый случай холодной войны, миропорядок вовсе не обязательно зиждется на стабильности, но может длительное время опираться на динамичное и нестабильное равновесие.
До образования империи Габсбургов, за которой последовала глобализация (первая в своем роде), вместо мирового порядка сосуществовали отдельные региональные порядки и анархии. После того как американская глобализация исчерпала себя, условий для появления нового миропорядка просто не существует. Сегодня мы имеем дело с нефункциональным многополярным миром.
Жить в международной системе координат
Всеобщая взаимозависимость фактически переместила нас в иную систему координат, в которой политическая ценность государственной или частной власти не устанавливается путем директивы сверху, а, подобно валюте, определяется плавающим курсом и меняющимися отношениями с другими действующими лицами.
Мы все еще имеем дело с бывшей сверхдержавой, сохраняющей значительную военную мощь, но ослабленную экономическими неурядицами и внутренними расколами. Существуют старые, новые и формирующиеся державы, новая политическая структура в виде «Большой двадцатки» и множество старых организаций, ни одна из которых не только не может и не желает навязывать другим общие правила, но не способна даже придумать правила, которые были бы приемлемы для всех.
Благодаря более свободному взаимодействию новая система координат обладает всеми возможностями для более действенного предотвращения сбоев и крупных кризисов. Но на данный момент в ней пока не сложились необходимая структура и внутренняя согласованность, которые обеспечивали бы исполнение этих функций. Вот почему мы живем в условиях многочисленных хаотично взаимодействующих друг с другом полюсов власти и рискуем увязнуть в болоте экономического кризиса и неурядиц на долгие десять лет.
Чтобы получить четкое представление о том, в каком мире мы оказались, необходимо признать, что политика сегодня похищена экономикой. Но выход имеется. Если быть кратким, скажу, что миру известны три модели управления, опасно балансирующие на грани между экономикой (особенно экономикой финансов) и политикой – это модели, соответственно, Владимира Путина, Барака Обамы и Сильвио Берлускони.
Модель Путина предполагает в большей или меньшей степени государственный контроль над экономикой. В связи с этой вроде бы успешной стратегией возникают такие угрозы, как зависимость от экспорта энергоресурсов, коррупция и проникновение мафии во властные структуры. А это серьезно осложняет действенный политический контроль легальных и нелегальных экономических схем.
Модель Обамы явно нацелена на посредничество между «Мейн-стрит» (рабочими, служащими и малым бизнесом. – Ред.) и Уолл-стрит. В конце президентского срока ему придется признать, что этот инновационный подход в духе (итальянских) христианских демократов провалился по одной простой причине: все главные члены его команды – выходцы из тех самых деловых кругов, которые спровоцировали кризис. Придется также признать, что дефицит государственного бюджета и дефицит текущих операций оказывали значительное влияние на политический выбор между войной и миром.
Модель Берлускони предполагает, что экономика важнее любых общественно-политических интересов. В последнее время недостатки примата экономики стали очевидны: высокий уровень государственного долга, практически полное отсутствие саморегулирования, вопиющая коррупция, проникновение мафии во властные структуры, неспособность выйти за рамки краткосрочных корыстных интересов при принятии важных решений.
Кризис евро – лишь наиболее свежий эпизод перетягивания каната между крайне слабыми правительствами и ненасытными рынками, где тесно переплелись частные и геоэкономические интересы.
Если начать с рынков, то, по наблюдению ОЭСР, в 2011 г. всего девять крупных игроков контролировали свыше 90% рынка деривативов (под которыми подразумеваются свопы кредитного дефолта, долговые обязательства, обеспеченные залогом, свопы обменного курса валют). Речь идет о J.P Morgan, Bank of America-Merrill Lynch, Citibank, Goldman Sachs, HSBC USA, Deutsche Bank, UBS, Credit Suisse и BNP-Paribas. Эта олигополия, которая ныне определяет положение на мировом рынке, разрушает репутацию национальных финансовых центров и игнорирует фундаментальные экономические показатели. (То же происходит с рынком рейтинговых агентств, где Moody’s, Standard & Poor’s и Fitch контролируют 85% мирового рынка. Не случайно в Китае действует только одно рейтинговое агентство «Дагонг».)
В прошлом году эти банки увидели возможность извлечения прибыли в зоне евро, грея руки на бедственном положении таких стран, как Португалия, Ирландия, Италия, Греция и Испания, и некоторые неевропейские государства и субъекты мировой экономики сделали вывод, что играть на понижение евро выгодно.
Разумное геоэкономическое объяснение хаоса, происходящего в зоне евро, заключается в том, что американские финансовые компании, базирующиеся в стране чистых импортеров и заемщиков, хотят привлечь больше средств после убытков, понесенных ими в кризис, начавшийся в 2006 году. При этом они боятся лишиться такой удобной платформы, как доминирующая в мире держава, с учетом того, что главенство доллара как фактор повышения финансовых возможностей входит в сферу их интересов. Они стремятся избежать чрезмерного обесценивания доллара, но определенно получают удовольствие от нагнетания давления на евро. Это устраивает американские политические институты, которые хотят выиграть время, чтобы преодолеть спад в экономике за счет Европейского союза. Тем временем страны БРИК и ведущие экономики арабского мира могут переждать бурю, уютно устроившись на берегу бурной реки.
Речь идет об экономической войне, но, в отличие от традиционных успокаивающих комментариев французских или американских аналитиков (в этих комментариях в расчет берутся только государства или государственные акторы), она ведется частными игроками на открытом и закрытом поле (с помощью теневой финансовой системы и специальных зон налогового рая), посредством программ высокочастотного автоматического трейдинга, уничтожающих более мелких и медленных участников.
Какие сценарии вырисовываются в краткосрочной и долгосрочной перспективе? Что касается евро, здесь можно выделить два правдоподобных и один возможный:
Терпящие бедствие страны Южной Европы будут полностью обескровлены, 4–5 экономик сохранят свои страновые рейтинги на уровне ААА и продолжат рост, но ЕС удастся сохранить, хотя он будет напоминать нынешнюю Боснию и Герцеговину – без будущего и политических перспектив.Раскол еврозоны и конец политического объединения европейских стран. Останется только особая немецкоговорящая экономическая зона, анклав в расчлененной Европе, наиболее лакомые куски которой, скорее всего, достанутся странам БРИК. Никакой Берлинской стены не возведут, все будет сделано без лишнего шума – европейские страны просто утратят суверенитет, даже если и сохранят свое политическое устройство по образцу Гонконга. В следующем десятилетии страны БРИК будут неспособны взять на себя мировое лидерство, это правда, но смогут прекрасно воспользоваться оплошностью Запада.Правительства ведущих держав Европы перестают ссориться и спорить и предпринимают все необходимые меры, чтобы обратить вспять негативную динамику и поставить надежный заслон перед глобальными спекулянтами. Среди этих мер – и займы ЕЦБ, и аудит долговых обязательств, и согласованные действия стран, погрязших в долгах, и перегруппировка и защита промышленных и экономических активов государств, терпящих бедствие, и осуществление реальной политической интеграции.
Пройдет еще немало времени, прежде чем можно будет говорить о более сложных перспективах развития мирового сообщества:
Главная забота – переход США от нынешнего состояния исключительности как бывшей сверхдержавы к статусу одной из многих уважаемых держав. Было бы разумно ускорить этот переход с помощью мягкой силы, отправив эту страну на «заслуженный отдых», дабы она не втянулась в реальную войну вместо нынешней экономической. Последняя в любом случае предопределит дальнейшее развитие мирового сообщества.
Если этого удастся избежать, можно представить себе реорганизацию многополярного мира по принципу «два океана – один центр». Основные игроки в Тихоокеанском и Атлантическом бассейне будут управлять мировым сообществом вместе с евразийскими игроками – то есть Россия–ЕС–США с Китаем. Новый мировой порядок будет зиждиться на сочетании взаимодополняющих сильных и, что еще важнее, слабых сторон, но потребует политического воображения и мужества, которого просто нет у современных политических деятелей.
Еще одна возможность – это равновесие сил в рамках многосторонних договоров о гарантиях. Иными словами, всемирные организации будущего могут взять на себя роль гаранта, которую раньше играла ООН, во избежание непредвиденных вооруженных конфликтов и конфронтации.
Глобальная регионализация, при которой на смену ООН придет сеть организаций и саммитов, обеспечивающая уважение к ряду совместных протоколов на региональном уровне, включая протокол о ядерном разоружении.
Последний сценарий предполагает, что, не считая полного краха бывшего Запада, страны БРИК также будут парализованы внутренними проблемами и не смогут продолжать стратегическое развитие. В результате мир становится все более раздробленным или перегруппируется вокруг наиболее дееспособных региональных «ядер», чтобы сохранить хоть какой-то порядок. Подобный сценарий может обернуться настоящим кошмаром с точки зрения распространения организованной преступности, вооруженной анархии и хаоса в политике и экономике.
Алессандро Полити – специалист по военной истории и стратегическому планированию, занимал должности советника министров обороны Италии и Греции.

Доля малая
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов: «Благодаря коррупции в стране сложился феодально-вассальный строй: тебе дают надел в личное пользование, но главное — смотри, чтобы система работала»
К Международному дню борьбы с коррупцией, отмечаемому по решению Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря, эксперты Transparency International обнародовали обновленный индекс восприятия коррупции. Россия в нем улучшила свои показатели, поднявшись за прошлый год на 11 ступеней — со 154-го на 143-е место (всего в нем 182 позиции). Правда, относительно этого улучшения эксперты не спешат радоваться: такой результат не означает, что коррупции в стране стало меньше, просто она трансформировалась. Об этом «Итоги» поговорили с главой Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым.
— Кирилл Викторович, что же такое коррупция в нашей стране и чем она отличается от коррупции в других странах?
— Отличие очень простое: если на Западе она провоцируется гражданином либо бизнесом, то у нас — системой управления. Большинство тех, кто в настоящий момент приходит на государственную службу, идут туда именно для того, чтобы зарабатывать деньги. Госслужба — это все что угодно: организованный бизнес, источник дохода, орудие производства, но уж никак не источник справедливости.
— Как вы считаете, люди идут в «систему», изначально ориентируясь на потенциальные выгоды?
— Примерно треть играют по корпоративным правилам, но готовы при определенных условиях от них отказаться, чтобы не рисковать. Еще треть — люди, которые не хотят с этим мириться. И оставшаяся треть действительно приходят во власть уже с определенной установкой. Это видно даже по студентам, которым я читаю лекции в вузах.
— То есть они намеренно идут учиться на госслужащих, предполагая в будущем брать взятки?
— Их мотивация такова: они хотят обладать неким статусом, быть успешными. Почему, например, столь высокий конкурс при поступлении на отделение госуправления юрфака? Потому что это прямая дорога в чиновники. Многим родители подсказывают, на кого учиться, надеясь, что таким образом устраивают ребенку хорошую жизнь. Приведу пример из жизни. Как-то, году в 2000-м, приехали ко мне знакомые из Смоленской области и привезли девочку, только окончившую школу. Совершенно простые люди, не имеющие никакого отношения к госслужбе. Они очень хотели, чтобы я помог устроить их дочь в таможенную академию. Спрашиваю: «А почему в таможенники-то, ведь у них очень низкая зарплата?» Отвечают: «Да вы что, у нас в области только таможенники хорошо живут». Если помните, в начале 90-х НИИ МВД проводил опрос среди подростков 14—15 лет на тему, кем бы они хотели стать в будущем. Девочки в основном выражали желание быть валютными проститутками, а мальчики — братвой. В начале 2000-х эти опросы повторили: девочки теперь хотели быть таможенницами либо налоговыми инспекторшами, мальчики хотели идти в правоохранительные органы и спецслужбы. Идея лучшей жизни не изменилась, изменились только механизмы ее достижения.
— Что все-таки послужило первичным фактором для укрепления коррупции в стране?
— В последнее время об этом ведется особенно много теоретических споров. Принято говорить, что тому способствовало разрушение демократических механизмов. Я считаю, не это главное. Причина не столько в подходах к формированию кадрового состава бюрократии, сколько в формировании самого общества. Оно со всем соглашается и все терпит. Знаете, есть такой научный термин: скрытый социальный договор. Это когда потребительская корзина растет — и вроде бы все хорошо. Пока скрытый социальный договор остается в силе, мы так и не будем обращать внимания на то, что ежегодно из страны уводятся 300 миллиардов долларов.
Есть и еще одна, очень серьезная, но скрытая причина коррупции — это процесс нарушения регенерации элиты. Элитой у нас теперь называют в основном нечистых на руку людей, проповедующих идеологию обогащения любыми средствами.
— Наверное, какое общество, такая и элита.
— Не согласен, потому что наша бюрократия оторвана от общества. Фактически она вытягивает общественные деньги из национального оборота и строит на них свое счастливое будущее за рубежом. Их цель — здесь работать, но не жить. При этом они понимают прекрасно, что у нас за это не понесут никакой ответственности. Ярким примером служит история с затягиванием ратификации Конвенции ООН против коррупции. Государственно-правовое управление президента и ряд других ведомств категорически воспротивились 20-й статье конвенции, где приводится определение незаконного обогащения как разницы между официальными доходами и реальными расходами, которую публичное лицо не может обосновать. Во всей конвенции по большому счету это единственный пункт, который может быть эффективен и, следовательно, является крайне болезненным для коррумпированных чиновников. На каком уровне у нас сейчас привлекают к ответственности? Едва-едва подняли до среднего, пощипали нескольких замгубернаторов и региональных представителей федеральных структур.
— Какие сектора госслужбы наиболее коррупционно емкие?
— Низовая коррупция, или бытовая, о которой у нас чаще всего говорят, то есть коррупция среди врачей, учителей, муниципальных служащих, рядовых милиционеров — не самая страшная для социума форма противозаконности, хотя также имеет опасные последствия. Но это верхушка айсберга. А вот чем следовало бы заняться всерьез, так это коррупцией системной и политической, которые наиболее ярко проявляются в управлении государственной собственностью, распределении бюджета, природных ресурсов, а также всего того, что попадает в зону интересов силовых структур.
Если говорить о системной коррупции, то она имеет устойчивые межведомственные связи и тарифы на услуги. Например, мы точно знаем расценки в судах. Обеспечение отсрочки или переноса судебного заседания — от 10 000 долларов, получение определения о приостановке рассмотрения дела — от 15 000 долларов, получение необходимого решения, удовлетворение требований — от 35 000 долларов.
В органах внутренних дел свои расценки. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела либо его закрытие — от 50 000 долларов. Возбуждение уголовного производства — та же сумма. Затягивание дела, а также проведение выездной проверки по уголовному делу — от 25 000 долларов. В прокуратуре, например, отмена постановления следователя о возбуждении уголовного дела или, наоборот, об отказе в возбуждении — от 50 000 долларов... И это еще, как говорится, цветочки.
— А что же тогда ягодки?
— Тарифы в политической коррупции. Они, правда, «гуляют» — накануне недавних выборов цены значительно выросли. Низовая ставка — несколько миллионов долларов. За столько можно стать депутатом регионального масштаба.
— Что подогревает коррупцию в системе государственного управления?
— Помните, еще Алексей Кудрин докладывал президенту, что государство взяло на себя 1500 избыточных функций и 260 дублирующих. Были попытки трех административных реформ, задачей ставилось снижение количества госчиновников, а произошло, наоборот, их увеличение. Отношения в сфере управления государственной собственностью сегодня складываются таким образом, что по большому счету эта сфера представляет собой организованное сообщество, которое реализует лоббистские возможности в законах и подзаконных актах, принимаемых Госдумой. Недавно к нам приходили люди из одной известной табачной компании и жаловались на законопроект, который, по их мнению, призван не граждан защитить от табакокурения, а поставить под контроль производящие компании. Контролировать оборот производства и распределения табачных изделий теперь должна некая федеральная служба, отвечающая за экономическую безопасность. Вот оно — создание избыточной функции. А все потому, что там большие деньги: по официальным данным, у нас курит 40 процентов населения.
— Какой вид коррупции самый труднодоказуемый в плане привлечения к ответственности?
— Безусловно, политическая. Но вопрос не в том, что нет доказательств и фактов, а в том, что этим просто никто не будет заниматься. Благодаря коррупции в стране сложился феодально-вассальный строй: тебе дают надел в личное пользование, но главное — смотри, чтобы система работала. Простой пример. Есть в Москве очень большая старая больница, где работают многие хорошие специалисты. Туда пришел новый главврач, у которого имеются устойчивые связи с Минздравсоцразвития. Бюджет на ремонт этой больницы сразу увеличился почти на миллиард рублей. И новый главврач убежден, что фактически вкладывает государственные деньги в СВОЮ клинику. В медицине уровень коррупции пока еще не достиг критических значений, к которым стремится, но есть области, где коррупция напрямую связана с незамедлительными негативными последствиями.
— Например?
— Например, борьба с терроризмом. Чем больше ты борешься с терроризмом, тем больше получаешь полномочий и денег. Например, вводится режим контртеррористической операции, в день на него может бесконтрольно тратиться по несколько миллионов рублей. Получается, спецслужбам выгодно расширять полномочия. После теракта в Домодедово готовятся поправки в законодательство о том, что частные предприниматели должны отвечать за режим безопасности. И фактически каждый сотрудник ФСБ получает широкие возможности для решения своих коммерческих вопросов. Он сможет прийти к бизнесмену и сказать: родной, ты не тот металлоискатель поставил, давай-ка вот в этой компании закупи рамочки, потому что только они отвечают требованиям...
— У российской бюрократии есть еще и такая особенность: она часто использует силу. Решили рейдерским путем отобрать предприятие, но мало того — неугодного бизнесмена нужно посадить, загнобить...
— Случай с Магнитским — яркая иллюстрация. Основанием для его ареста явились данные из ФСБ о том, что он собирается скрыться. За два дня до того у него изъяли паспорт, но судья сказал: а может, у него второй паспорт? Да так любого можно посадить — на всякий случай. Отталкиваясь от случая с Магнитским, я высказал президенту свои опасения по поводу доминанты ФСБ на правоохранительном поле. Выходит, ее задача курировать все системы, в том числе и судебную. По сути, они контролируют контролеров, а должны заниматься другим — получать оперативную информацию, которая впоследствии ляжет в основание уголовного дела.
— Есть такая шутка: в России пока кому-нибудь взятку не дашь, борьба с коррупцией не начнется...
— Действительно, работа идет с большим трудом. Национальный антикоррупционный комитет образовался еще в 1998 году. На тот момент в ФСБ было подразделение, которое занималось борьбой с коррупцией в таможенной сфере. Увы, на примере той структуры я застал начало формирования системных коррупционных отношений. Я покинул стены спецслужбы и познакомился с уже бывшими на тот момент помощниками Ельцина Георгием Сатаровым, Михаилом Красновым. У нас возникла идея создать независимое аналитическое подразделение, которое могло бы проводить стратегическую оценку проблемных коррупционных явлений, систематизировать их как практики. Аналогичную идею тогда же вынашивал Сергей Степашин, он хотел создать полноценную структуру по противодействию коррупции по типу тех, что действуют в Гонконге и Сингапуре. За 80 дней своего премьерства он не успел реализовать задуманное, но буквально на второй день после отставки мы собрались у него на даче и договорились создать общественную организацию — Национальный антикоррупционный комитет. С самого начала мы работали в двух направлениях. Прежде всего по обращениям граждан, то есть мы имеем дело с реальными случаями. В день к нам обращаются порядка 20—30 человек, в основном из регионов. Второе направление — это теория, сбор материала. Сейчас готовим ресурс, где разместим информацию по конкретным чиновникам, уличенным в коррупции. Кстати, список Магнитского показал, что именно этого боятся.
— Нет ощущения, что вы бьетесь как рыба об лед?
— Вот что интересно. Допустим, мы готовим некие документы и передаем их президенту. Дальше он обращается к государственным органам и спецслужбам. Они дают информацию, которая им выгодна. В настоящий момент мы не можем сказать, что руководство страны получает объективную информацию, потому что есть интересы определенных групп. Мы честно написали об этом в докладе президенту. Если система саботирует любые посылы, которые могут нанести ей ущерб, то давайте тогда уже называть вещи своими именами: соберем сходку, на которой авторитеты будут принимать нужные им решения.
— Как можно этому противостоять?
— Можно взять пример ФБР, где на первом этапе борьбой с коррупцией занялась налоговая служба. Они собирали факты, которые потом разбирались в суде. Я вынашиваю мысль о создании такой же службы и у нас — например, в рамках ФСО. Для начала достаточно было бы штата в 15—20 человек. Параллельно можно делать и конкретные шаги. Недавно премьер-министр заявил, что Федеральный закон № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» не работает. Система госзакупок по своей сути коррумпирована. Если мы возьмем госкорпорации, банки, то увидим много фамилий, которые созвучны с фамилиями наших высокопоставленных чиновников, причем это структуры, распределяющие ресурсы. Бюрократия связана, друзья друзей растягиваются по цепочке. С коллегами в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека мы обсуждали идею Сергея Степашина о том, что Счетная палата должна несколько изменить свои функции и контролировать бюджетный процесс на стадии его формирования на предмет обоснованности и целесообразности. Мы предложили Дмитрию Анатольевичу наделить Счетную палату такими полномочиями, пояснив, что тем самым есть возможность значительно ослабить коррупционные механизмы в этой системе. Другого варианта исправить ситуацию нет.
Григорий Санин
Екатерина Маслова

Дмитрий Медведев провёл совещание с руководством и следователями МВД, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и представителями гражданского общества.
Обсуждались перспективы развития законодательства, проблемы, выявляемые правоприменительной практикой при расследовании различных категорий дел, в том числе о коррупции.
Отдельное внимание в ходе встречи уделено условиям труда и социальному обеспечению следователей, материально-техническому оснащению правоохранительных органов.
Кроме того, Дмитрий Медведев вручил государственные награды ряду сотрудников прокуратуры и Следственного комитета. Награды присвоены за заслуги в укреплении законности и правопорядка, высокие личные показатели в служебной деятельности.
* * *
Д.МЕДВЕДЕВ: Всем добрый день!
Я неоднократно проводил встречи, в которых принимали участие представители оперативных структур, принимали участие судьи. Сегодня здесь присутствуют работники прокуратуры, Следственного комитета, следственного подразделения Министерства внутренних дел, следователи, государственные обвинители и некоторое количество общественников, а также представители парламента и гражданских объединений.
Мультимедиа
Вступительное слово на совещании по вопросам совершенствования законодательства и проблемам правоприменительной практики 23 ноября 2011 года Московская область, Горки
Смысл этой встречи в том, чтобы поговорить о текущей жизни, но прежде чем мы это сделаем, я, конечно, хочу отметить работу сотрудников правоохранительных органов, следственных структур, с которыми я до этого не встречался. С учётом того, что именно вы непосредственно занимаетесь расследованием уголовных дел, хотел бы искренне вас поблагодарить за мужество (оно нужно не только тем, кто с пистолетом бегает, хотя там тоже мужество нужно), за принципиальность, которую нужно проявлять при расследовании практически любого дела, и верность профессиональному долгу.
Конечно, я вас позвал не ради того, чтобы просто поблагодарить, хотя мы это сделаем ещё в конце нашего мероприятия: я хотел бы не только поблагодарить, но и отметить кое-кого здесь. Но я хотел бы поговорить о делах, послушать ваши предложения.
В общем, проблематика сегодня понятная. Я хотел бы обсудить текущее состояние законодательства, которое, может быть, с вашей точки зрения, требует совершенствования, какие недостатки вы видите, какие недостатки выявляет правоприменительная практика по расследованию различных категорий дел, включая и коррупционные дела, которые вызывают большое количество вопросов у наших граждан. Обсудить также условия труда следователей, их материально-техническое обеспечение, бытовые вопросы. В общем, я рассчитываю на предметный и вполне откровенный разговор по этим темам.
За последние годы и по моей инициативе, и по инициативе наших партий, парламента в целом было принято много законов, которые совершенствуют следственную практику. Изменения были проведены и в уголовные законы, в уголовно-процессуальный закон. Эти изменения были разнообразными, мы можем обсудить и тенденции развития уголовного и уголовно-процессуального законодательства, тем более что я обсуждал эту тему неоднократно с оперативными работниками во время встреч с сотрудниками МВД, Федеральной службы безопасности, прокуратуры. Было принято много других законов, включая антикоррупционные акты.
Пользуясь случаем, также хотел бы сообщить, что я подписал только что новый Федеральный закон, который направлен на совершенствование государственного управления в области противодействия коррупции. Он призван повысить эффективность проверок деклараций государственных служащих, я об этом говорил некоторое время назад. По запросам правоохранительных органов банки будут обязаны предоставлять сведения о финансовых операциях должностных лиц, декларировать доходы будут также сенаторы, то есть члены Совета Федерации, депутаты всех уровней, а также региональные и муниципальные чиновники.
Кроме того, некоторое время назад я эту идею предложил, она вызвала довольно активное обсуждение, но в конце концов была поддержана – моя идея по увольнению с государственной службы по признаку утраты доверия в связи с совершением соответствующих правонарушений. Вот такая новая тема.
Кстати, ещё один вопрос. Хотел бы тоже, чтобы руководители правоохранительных структур знали, потому что об этом часто говорят в ходе обсуждения различных тем с нашими иностранными коллегами. Я только что внёс проект закона о присоединении России к Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных сделок. Нам неоднократно указывали, что у нас документ не ратифицирован, что мы не присоединились к нему. Наверное, пришла пора это сделать.
В борьбе с преступностью необходима не только концентрация усилий правоохранительных структур, но и, естественно, работа общественных организаций, которые занимаются самыми разными вопросами: и по антикоррупционной проблематике, и по другим вопросам на самом деле роль общественности, особенно в современном мире, в глобальном информационном сообществе, исключительно важна. Поэтому я хотел бы, чтобы здесь эта тема прозвучала.
Давайте начнём работать, приглашаю всех к разговору. Пожалуйста, прошу Вас.
А.ХАЙРУЛЛИН: Уважаемый Дмитрий Анатольевич, в первую очередь хотел высказать слова благодарности за предоставленную возможность выступить и от лица всех следователей органов внутренних дел поделиться теми соображениями и проблемами, которые в настоящее время имеют большое значение при расследовании уголовных дел коррупционной направленности.
Хочу отметить, что Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан, в котором я работаю, в текущем году возбуждено более 500 уголовных дел коррупционной направленности, к уголовной ответственности привлечены должностные лица различных органов государственной власти. Общеизвестно, что более 90 процентов уголовных дел коррупционной направленности выявлены сотрудниками органов внутренних дел, а часть из них расследуется нами. В качестве примеров могу привести уголовные дела, которые расследованы нашими коллегами, непосредственно сидящими в этом зале.
Например, уголовное дело, возбуждённое в отношении одного из директоров управления капитального строительства Пермского края по злоупотреблению должностными полномочиями при строительстве перинатального центра города Перми. Указанный директор, зная, что при строительстве объекта строительные работы выполнены не в полном объёме и не должным образом, дал незаконное указание куратору строительства о подписании актов и перечислении денежных средств, что в результате привело к причинению ущерба государству на сумму более 120 миллионов рублей.
В качестве другого примера могу привести уголовное дело, возбуждённое в отношении одного из руководителей территориального управления Росимущества Волгоградской области, который получил взятку в виде имущества и денежных средств на общую сумму более 130 миллионов рублей за непринятие мер по взысканию в пользу государства объекта недвижимости, принадлежащего коммерческому лицу.
Кроме этого, лично мною расследуется уголовное дело по факту хищения денежных средств одним из руководителей управления образования города Казани. Расследуя уголовные дела такой направленности, хочу отметить, что свидетели не всегда желают давать показания о преступной деятельности своих руководителей, боясь при этом увольнения, сокращения заработной платы и иных преследований.
В этой связи (полагаю, что мои коллеги меня в этом поддержат) считаю целесообразным в современных условиях усилить меры по защите лиц, способствующих раскрытию коррупционных преступлений, которые готовы оказать содействие в раскрытии преступлений и в обязательном порядке на протяжении расследования уголовного дела, а также судебного рассмотрения отстранять таких руководителей от занимаемой должности.
Также шире использовать институт государственной защиты свидетелей, во взаимодействии со средствами массовой информации проводить работу по разъяснению гражданам законодательных, экономических государственных мер по защите свидетелей и потерпевших.
Исходя из практики расследования уголовных дел хочу сказать, что наша работа может быть ещё более эффективной при рассмотрении некоторых вопросов, связанных в том числе и с проблемами уголовно-процессуального законодательства. Например, возможно рассмотрение вопроса о заключении досудебного соглашения ещё до возбуждения уголовного дела с предоставлением лицам, осуществляющим поддержку в раскрытии уголовных преступлений, определённых гарантий и минимального наказания, а в отдельных случаях и освобождение от уголовной ответственности.
Также считаю возможным рассмотреть вопрос о расширении перечня коррупционных преступлений, за совершение которых может быть применена конфискация имущества. В этой связи полагаю, что данная уголовно-правовая форма обретёт более распространённый характер. Также считаю актуальным рассмотреть вопрос о признании недействительными действий вследствие совершения коррупционных преступлений. Я имею в виду сделки, какого-либо рода правоустанавливающие документы или решения, или, наконец, скажем, получение незаконно положительной оценки в вузах, которые явились следствием дачи взяток. Полагаю, данную работу возможно осуществить во взаимодействии с прокурором, и думаю, что это будет носить профилактический и воспитательный характер среди граждан, которые думают получить определённые блага в обход закона.
Благодарю за внимание. Думаю, что мои предложения найдут понимание у руководства страны.
Д.МЕДВЕДЕВ: Спасибо, Айрат Ильзарович.
По вполне понятным причинам мы не будем обсуждать конкретные дела, потому что это неприемлемо, а вот предложения общего порядка обсудить можно. Вы некоторые из них назвали – думаю, другие коллеги ещё что-то назовут. Я, естественно, по итогам нашего разговора дам поручение Администрации Президента и правоохранительным структурам, руководству продумать о том, о чём здесь говорится, но в качестве первой реакции хотел бы некоторые моменты, может быть, даже уточнить. Вы сказали, что меры по защите лиц, которые способствуют раскрытию преступлений, свидетелей тех же самых, должны быть более жёсткими. Что Вы имеете в виду, каким образом их лучше защищать?
А.ХАЙРУЛЛИН: Дело в том, что, как я уже указывал, в расследовании коррупционных преступлений не все свидетели – не всегда, точнее – желают давать показания в отношении своих руководителей о преступной деятельности. В этой связи возможно выделение денежных средств на организацию предоставления, допустим, рабочих мест, потому что коррупционные дела, понятно, в отношении организаций, госучреждений – и лицо, свидетель, который будет давать показания, понятное дело, боится за свою работу, за дальнейшую свою судьбу, в рабочем плане я имею в виду. И в этой связи, думаю, возможно рассмотреть вопрос о предоставлении такого же уровня работы, рабочего места, или сохранения, или предоставления в ином учреждении.
Д.МЕДВЕДЕВ: Если я правильно Вас понимаю, попробую это перевести на язык неуголовного права и процесса, Вы имеете в виду дополнительные гарантии в рамках трудового законодательства.
А.ХАЙРУЛЛИН: Точно.
Д.МЕДВЕДЕВ: По сохранению его позиций, соответственно должности, тех гарантий трудовой деятельности, которую он в этой должности имеет, в случае расследования этого преступления? Это не так просто, но подумать можно, потому что, строго говоря, его ведь никто и не увольняет, когда речь идёт о расследовании, например, преступления, совершённого его начальником, но в то же время у начальника существует масса возможностей для того, чтобы на него влиять.
Здесь можно, может быть (я так мыслю вслух), обратить внимание на дисциплинарную сторону, чтобы его никто не наказывал в этот период, потому что в какой-то ситуации, допустим, его вызывают к следователю и в то же время другой рукой руководство структуры, государственной структуры или коммерческой, в данном случае не имеет значения, его за что-то наказывает. Здесь нужно подумать, как это уложится в Трудовой кодекс.
Что касается отстранения от занимаемой должности, то эта проблема есть, я тоже знаю. Более того, для того чтобы лицо отстранить от должности на время проведения предварительного следствия, требуются подчас титанические усилия, что сводит на нет интенсивную работу следственных работников, следственных структур.
В отношении института досудебного соглашения – я не считаю себя специалистом в этом вопросе, потому что это вы специалисты. Но это, конечно, тоже нужно крепко обдумать, потому что здесь есть, наверное, и какие-то определённые плюсы, и есть, наверное, какие-то минусы. Минусы, заключающиеся в том, чтобы не создать вал такого рода досудебных соглашений, которые в ряде случаев могут быть полезными, допустим – если лицо признаётся в совершении преступления и в то же время, по сути, минимизирует свою ответственность, но в ряде случаев может спровоцировать и коррупционные сделки. В общем, в любом случае это требует отдельного анализа.
Что же касается конфискации имущества, увеличения количества составов, за которые может применять конфискация, то здесь, пожалуй, я бы это поддержал. Только нужно окончательно взвесить всё-таки, о чём идёт речь. А так, может быть, это способствовало бы улучшению ситуации.
Хорошо. Пожалуйста, кто хотел бы продолжить разговор? Прошу Вас.
Е.ЛЫЧАК: Старший прокурор отдела гособвинений прокуратуры Санкт-Петербурга.
Я также хотела бы, уважаемый Дмитрий Анатольевич, прежде всего поблагодарить за предоставленную возможность на столь высоком уровне обсудить накопившиеся вопросы и высказать своё видение ситуации в сфере противодействия коррупции, а также в сфере правоприменения норм уголовного и уголовно-процессуального закона.
В течение последних лет стратегия борьбы с коррупцией и противодействие коррупции стали основной задачей государства. Разработана и национальная стратегия противодействия, и национальный план. В Санкт-Петербурге также принят специальный закон о дополнительных мерах по противодействию коррупции. Был урегулирован также порядок антикоррупционной экспертизы в отношении правовых актов и их проектов.
Однако я считаю, что не следует забывать и об уголовно-правовых функциях государственной системы, о необходимости обеспечения реализации принципа неотвратимости ответственности за совершённые преступления. И здесь, естественно, на первый план выступает эффективное поддержание государственного обвинения в суде.
В целом статистика по Санкт-Петербургу по направленным и рассмотренным судами уголовным делам является совершенно неплохой. За 2010 год у нас было, так скажем, представлено прокурору 240 уголовных дел для утверждения обвинительного заключения, из них по 230 – обвинительные заключения были подписаны и направлены в суд. То есть где-то менее пяти процентов лишь были направлены на дополнительное расследование по различным причинам: либо это переквалификация действий, либо иные причины, процессуальные нарушения.
В целом статистика и по поддержанию государственного обвинения по делам выглядит неплохо по Санкт-Петербургу. Уже за этот год, за девять месяцев, у нас было рассмотрено 146 уголовных дел коррупционной направленности, из них по 112 у нас вынесены обвинительные приговоры. Это в принципе неплохо, но имеется ряд вопросов, в том числе и правового характера, которые могут способствовать повысить нам эти результаты. В связи с этим хотелось бы изложить основные вопросы и проблемы, которые, мы считаем, могут быть решены.
В соответствии с действующими нормами Уголовно-процессуального кодекса есть ряд категорий дел, которые не могут быть рассмотрены судом присяжных: это уголовные дела, как мы знаем, о терроризме и государственной измене.
Вместе с тем на практике, когда мы рассматриваем такие большие уголовные дела, а дела коррупционной направленности, с учётом того, что те схемы, которые используются преступными элементами в этих коррупционных схемах, носят очень завуалированный, очень сложный характер, и присяжным заседателям, как правило, трудно разобраться во всех этих правовых нормах, во всех этих должностных регламентах. И при этом граждане воспринимают этих лиц как не тех лиц, которые, например, кого-то убили или кого-то ограбили: в их действиях, как правило, не присутствует насилие, – то есть есть какие-то личностные мотивы, которыми они руководствуются, принимая решение о том, что данное лицо невиновно. Они считают, что недостаточно, наверное, социально опасны те действия, которые они совершают. Поэтому нам представляется, с учётом того, что эта категория дел очень сложна для рассмотрения судом присяжных, для того чтобы повысить эффективность вынесения законных и обоснованных решений, мы бы считали целесообразным, чтобы данную категорию дел рассматривал только профессиональный суд.
Тут уже передо мной высказывалось мнение о конфискации имущества, о том, что действительно такая мера нужна как дополнительное наказание к основному, предусмотренному за совершённое преступление. Мы полностью поддерживаем эту позицию органов следствия, и, на мой взгляд, мне кажется, эта мера будет действовать и как превентивная мера в целях предупреждения вообще данного вида преступлений, поскольку мне кажется, что, собственно говоря, коррупция на что направлена: на обогащение. Когда лицо, которое обогатилось, с учётом этой дополнительной меры будет знать о том, что, скажем, преступное имущество, которое было нажито, может быть конфисковано, – я считаю, что это будет дополнительной мерой предупреждения преступлений.
И ещё у нас имеется одно соображение, которое касается круга лиц, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за данные виды преступлений. В соответствии с установками Национального плана противодействия коррупции мы считаем, что необходимо сократить перечень категорий лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. В целом, по нашему мнению, это будет способствовать повышению результативности в борьбе с преступностью лиц, обладающих определённым процессуальным иммунитетом. Поэтому мы считаем, что назрела потребность в принятии решения в отношении дополнительных категорий лиц и внесении с этой целью соответствующих изменений в уголовно-процессуальный закон.
Я считаю, что всё-таки есть моменты, которые также нам мешают при рассмотрении уголовных дел: это недостаточное наше взаимодействие как государственных обвинителей со следствием, недостаточный объём полномочий, которые мы имеем на досудебных стадиях процесса, когда дело ещё находится в производстве, когда расследуется. Мы процессуально не имеем права проверять уголовное дело, давать какие-то поручения, которые нам кажутся целесообразными. А потом ошибки, которые, к сожалению, допускаются на стадии предварительного следствия, могут вести и к вынесению необоснованных оправдательных приговоров. Поэтому мы бы хотели, чтобы это тоже было учтено законодательно.
У меня всё, спасибо.
Д.МЕДВЕДЕВ: Спасибо, Елена Леонидовна.
Применительно к суду присяжных этот вопрос неоднократно тоже нами обсуждался, такая обоюдоострая проблема. С одной стороны, всякого рода решения по сокращению производства в суде присяжных вызывают бурю негодования со стороны общественных структур. С другой стороны, мы, в общем, как люди, имеющие определённое образование, юридическое образование, действительно все, я имею в виду, понимаем, что далеко не все категории дел возможно рассматривать судом присяжных, и, более того, надо признаться, в какой-то момент после окончания советского периода количество дел, которые были переданы для рассмотрения суду присяжных, оказалось существенно больше, чем в большинстве стран, которые уже давно используют этот институт. То есть мы решили идти впереди планеты всей и сделать наш суд присяжных, может быть, самым таким энергичным из тех судов, которые существуют в мире, чтобы он практически большую категорию дел рассматривал, чем другие.
Потом этот перечень в целом несколько менялся, где-то сокращался, но в целом он остаётся довольно значительным. То, что Вы говорите, наверное, действительно так, коррупция – довольно сложное преступление. С другой стороны, конечно, всё зависит и от квалификации самих присяжных. Но подумать как минимум об этом можно. Я сейчас не буду окончательно формулировать свою позицию, здесь действительно нужно взвесить все «за» и «против», потому что, когда я принимал решение по отказу от суда присяжных по преступлениям, направленным против государства, против безопасности, я имею в виду терроризм, государственная измена, там, в общем, были абсолютно исключительные мотивы. Здесь тоже какие-то мотивы есть, давайте взвесим.
Что касается сокращения перечня лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. Наверное, это тоже можно было бы обсудить, потому что этот перечень у нас, в общем, достаточно немаленький, это правда. И другие предложения, которые были сделаны, обсудим тоже.
Прошу, кто хотел бы? Пожалуйста.
Э.ПЕТРОВ: Добрый день, у меня такой вопрос. Я участвовал несколько раз в рейдах, и снимали программу на тему владельцев фальшивых удостоверений. Управление собственной безопасности ФСБ России совместно с сотрудниками ФСО и МВД провело целую серию масштабных задержаний владельцев фальшивых удостоверений правоохранительных органов. Мы на улицах Москвы участвовали в этих рейдах, снимали этих людей, которые, в общем, нагло демонстрировали свои удостоверения, прикрывались какими-то фамилиями, называли себя генералами, адмиралами, и во время проверки выяснялось, что они просто мошенники. И самое интересное, что эти люди не боятся никакого наказания. Мы выяснили, что за использование фальшивых удостоверений всего лишь административное наказание, и они боятся только огласки и наших телекамер.
Недавно из Бутырки вышел мошенник по фамилии Кабанец, я его лично снимал тоже и в следственном изоляторе. Этот человек нагло сидел перед камерой и рассказывал о том, что ничего не боится, у него есть серьёзные друзья. А этот человек был задержан в момент продажи госнаград, причём прикрывался тем, что у него есть люди в Администрации Президента, которые организуют это мероприятие. Конечно, человек – просто хороший актёр, но самое главное, что многие коммерсанты в это верят, ведутся на такие предложения и несут свои деньги.
Вопрос, Дмитрий Анатольевич, как Вы считаете, может быть, пора пересмотреть такое отношение к этим людям, которых мы даже назвали в программе «Клоуны на дорогах», потому что таких артистов я давно не встречал. Хорошо, что рядом были сотрудники ФСО, ФСБ, МВД, и, когда они, эти мошенники, понимали, что имеют дело с настоящими силовыми структурами, у них менялось лицо, тряслись руки и они спокойно отдавали и пропуска, и удостоверения и просили только отпустить. На самом деле сотрудники правоохранительных органов собрали картотеку очень мощную по этим мошенникам. Вопрос: не пора ли их привлекать к уголовной ответственности?
Д.МЕДВЕДЕВ: Вопрос на самом деле нужно задать всем здесь присутствующим, потому что насколько я понимаю, я не считаю себя специалистом в этой сфере, но основания для привлечения их к уголовной ответственности есть. Что скажут следователи, здесь присутствующие, в отношении тех лиц, которые достают из кармана липовые удостоверения, используют другие липовые документы, предъявляют удостоверения о липовых наградах или сами раздают липовые награды? Если я правильно понимаю, эта, в общем, деятельность образует законченный состав преступления. Так?
Э.ПЕТРОВ: Дмитрий Анатольевич, извините, но они ещё и власть дискредитируют.
А.БАСТРЫКИН: Раньше у нас была уголовная статья.
Д.МЕДВЕДЕВ: А сейчас?
А.БАСТРЫКИН: А сейчас административная.
Д.МЕДВЕДЕВ: Если человек использует такие документы – только административная ответственность? Но если это так, я, видите, видимо, здесь поотстал, потому что мне казалось, что раньше эта статья была и сейчас она сохранилась. Наверное, тогда можно подумать о том, чтобы вернуться к восстановлению этого состава преступления. Потому что некоторые из таких граждан действительно не просто изредка что-то где-то достают и решают свои задачи, а просто поставили это на поток или же пытаются проникать в крупные структуры, в учреждения.
Но обычно это, кстати, ещё сочетается с другими преступлениями, поэтому их, наверное, можно и за какие-то другие дела привлекать. Но в целом, наверное, Вы правы, можно подумать об этом, раз наши коллеги из следственных структур подсказывают, что сейчас это не преступление, а всё-таки административный проступок.
Э.ПЕТРОВ: Дмитрий Анатольевич, извините, пожалуйста, они ещё используют и спецсигналы, самые деятельные, – ездят с «маяками».
Д.МЕДВЕДЕВ: Это всё вещи одного порядка: и спецсигналы, и раздача наград, удостоверений, использование этих удостоверений. В принципе можно подумать о криминализации этих действий. Но здесь, знаете, мы понимаем, что далеко не всегда появление той или иной статьи сразу решает задачу, но где-то это может помочь, конечно.
Э.ПЕТРОВ: Но огласки они боятся. Огласки они боятся, это видно было даже по глазам.
Д.МЕДВЕДЕВ: Огласка-то – это уже вопрос не прокуратуры и не следствия, это ваш вопрос. Если кого-то поймали – значит, просто показать.
А.БАСТРЫКИН: Подделка, она уголовно наказуема. Но в тех случаях, когда вы не подделывали …
Д.МЕДВЕДЕВ: …я не подделывал – я нашёл или купил.
А.БАСТРЫКИН: Да, раньше было наказуемо это.
Д.МЕДВЕДЕВ: Да, подделка, она до сих пор, естественно, образует состав, но это нужно доказать, что он сам его нарисовал. А он скажет, что он не рисовал, что он его просто приобрёл за три рубля.
Ю.ЧАЙКА: Очень хитро действуют сейчас. Они в принципе называют себя теми структурами, которые сами создают. Они в принципе никакого отношения к правоохранительным государственным структурам не имеют.
Д.МЕДВЕДЕВ: Это всякого рода липовые академии безопасности, как я понимаю, да?
Ю.ЧАЙКА: Конечно.
Д.МЕДВЕДЕВ: То есть вроде и структуры-то эти существуют. Но за это, коллеги, как вы понимаете, наказать сложно, потому что это общественная организация.
Ю.ЧАЙКА: Якобы.
Д.МЕДВЕДЕВ: И если человек предъявляет удостоверение этой общественной организации, то это уж точно не состав преступления. Давайте подумаем над этим.
Пожалуйста.
Л.ЯКОБСОН: Спасибо, Дмитрий Анатольевич, за приглашение и возможность выступить. Я первый проректор Высшей школы экономики и один из тех представителей общественности и экспертов, которые работают в составе Совета по противодействию коррупции. Поэтому говорить я буду не об уголовной репрессии, а о взаимодействии с общественностью. Не потому что недооцениваем (я или другие эксперты) роль уголовного преследования коррупционеров, а потому, что всё-таки представляется, что главное – это профилактика.
Мне думается, что очень крупным и во многом недооценённым резервом антикоррупционной работы является формирование доверия к государственной службе, государственному служащему со стороны общества и формирование доверия к гражданскому обществу со стороны государственных служащих. Я понимаю, что слова эти звучат несколько прекраснодушно, красиво, но я имею в виду совершенно конкретные вещи. И поскольку дальше буду говорить о доверии, наверное, надо оговориться, это совсем не исключает необходимости и более эффективного выявления фактов коррупции, и неотвратимого наказания.
И, разумеется, я вполне поддерживаю те инициативы Президента, о которых было сказано вначале, очень хорошо, что закон уже подписан. Думаю, что надо идти дальше и наконец решить вопрос о том, чтобы появилось законное право задать людям, находящимся на госслужбе, вопросы, касающиеся несоответствия их доходов и расходов. Часто ссылаются на презумпцию невиновности, но речь ведь не идёт об уголовном преследовании – речь идёт об опрозрачивании некоторых процессов.
Короче говоря, я здесь не прекраснодушен, но тема доверия, на мой взгляд, заслуживает того, чтобы о ней говорить отдельно. У нас сегодня сложилась атмосфера тотального недоверия к государственной службе – разговоры о чиновниках, как некой якобы существующей сплочённой касте коррупционеров. Не могу не сказать, Дмитрий Анатольевич, что власть этим, скажем, настроениям иногда подыгрывает, кое-какой тактический эффект, наверное, достигается, а стратегический проигрыш возникает. Почему он возникает? А разговоры какие ведутся? Молодые люди хотят идти на госслужбу для того, чтобы воровать. Ответственно могу сказать, у нас в Высшей школе экономики есть факультет госуправления – не для этого идут, совершенно точно не для этого. Однако при таком настроении у значительной части людей возникает предположение: я обращаюсь к чиновнику – без конверта нельзя; я такой честный, вокруг же сплошные воры, а с волками жить – по-волчьи выть. Очень опасные настроения. Разумеется, в семье не без урода, и урода надо находить, это всё понятно, но подыгрывать этому нельзя ни в коем случае.
И, разумеется, доверие к государственной службе должно проявляться не только в риторике, но и в социальных гарантиях, в достойных условиях оплаты. В этом отношении многое делается – надо, по моему убеждению, больше, и в большей мере это важно в увязке с конкретными результатами, которые достигает госорган, государственный служащий в своей деятельности. Это не всегда возможно, я это отлично понимаю, но во многих случаях возможно, мы этой возможностью пренебрегаем, предпочитаем уравниловку.
Вообще чрезвычайно важен акцент на результатах, это эффективнее не только с точки зрения стимулирования, но и с точки зрения контроля, чем мелочное отслеживание процесса, всё равно за всем не уследишь. Сейчас нет возможности, но я мог бы в очередной раз проиллюстрировать это историей с 94-м ФЗ. Сейчас, слава Богу, вышли на более комплексный подход, на большую ориентацию на результаты в рамках создания федеральной контрактной системы.
А теперь об участии общественности как таковой. Действительно, акцент на результатах предполагает отслеживание этих результатов не только самими госорганами, но в первую очередь общественностью. Вот передо мной проект концепции взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления, институтов гражданского общества в сфере противодействия коррупции. Здесь абсолютно справедливо говорится о том, что наше законодательство предусматривает на этот счёт довольно широкие возможности, но механизмы не конкретизированы.
Позволю себе сказать, что они ведь не случайно не конкретизированы. Они не конкретизированы у нас сегодня таким образом, чтобы у госорганов была возможность взаимодействовать с удобной для себя общественностью, чтобы самим формировать общественные советы, приглашать тех экспертов в комиссии аттестационные и комиссии по разрешению конфликтов интересов, с которыми точно никаких конфликтов не возникнет.
Я здесь не за крайности, отнюдь не за то, чтобы любого городского сумасшедшего звать в аттестационную комиссию. Но, наверное, можно и нужно сделать так, чтобы Общественная палата, может быть, организации бизнеса, если речь идёт об общественных советах при госорганах экономического блока, организации врачей и пациентов, если речь идёт о Минздравсоцразвития, – могли делегировать своих представителей, необязательно членов, допустим, Общественной палаты, но тех людей, которым Общественная палата доверяет. Здесь нужен баланс, повторю – не городских сумасшедших звать, но обеспечить реальную независимость тех представителей общественности, которые здесь должны взаимодействовать с госорганами.
Есть, разумеется, и вполне серьёзные нерешённые проблемы, которые мешают не одним лишь общественникам, а самим госорганам эффективнее заниматься профилактикой коррупции.
Напомню лишь, что, допустим, по конфликту интересов как сейчас обстоит дело. Для начала надо сказать, сдвиги большие имеют место. Не могу не вспомнить, что, когда писался Закон о госслужбе, об основах гражданской госслужбы, так получилось, меня попросили найти юристов, которые что-то знают о конфликте интересов. Я нашёл кого-то не в Высшей школе экономики, выяснилось, что это специалисты по трудовому праву, и они имели в виду конфликт работодателя с работником. Сегодня никому уже не надо объяснять, что такое конфликт интересов, но до сих пор не утверждён порядок уведомления представителя нанимателя о личной заинтересованности, хотя это предусмотрено законом о гражданской службе, законом о противодействии коррупции. В результате комиссии рассматривают вопросы, в общем, по инициативе руководителей. Сам сотрудник – вроде как и нет порядка, он и не заявляет о возникшем конфликте интересов. Естественно, потенциал работы таких комиссий недореализуется, и потенциал участия общественности недореализуется.
Кроме того, думаю, что было бы очень правильно, если бы общественные советы при госорганах работали не только в режиме заседаний. Сегодня они в общем режиме заседаний работают. Если бы члены этих общественных советов регулярно привлекались к текущей работе ведомств, от этого только все бы выиграли. Короче говоря, мне кажется, что произошёл важный сдвиг: возник консенсус в отношении того, что без общественников, без общественности противодействовать коррупции не удаётся. Но системной работы в этом отношении пока нет. Нет повседневной, регулярной, ежедневной работы. И от этого консенсуса, от признания необходимости надо двигаться к тому, чтобы взаимодействие было повседневным, повсеместным и эффективным.
Д.МЕДВЕДЕВ: Спасибо.
Уважаемые коллеги, давайте ещё послушаем наших следователей, прокуроров. Пожалуйста, прошу Вас.
Д.КОРЕШНИКОВ: Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Так же, как и мои коллеги, хочу поблагодарить Вас за предоставленную возможность высказать своё мнение по проблемам расследования уголовных дел. Действительно, такая возможность для некоторых из нас, видимо, раз в жизни представится, и поэтому спасибо.
О результатах проделанной работы Следственным комитетом я говорить не буду, думаю, не для этого мы здесь собирались. Наши дела говорят сами за себя. Опять же не смогу говорить общо, буду говорить конкретно о том, с чем я сталкиваюсь как обычный следователь, расследующий коррупционные и иные дела.
Первая проблема, которую я хотел поднять, – это проблема с проведением экспертиз по уголовным делам. На сегодняшний момент ситуация в стране складывается следующим образом. Экспертные подразделения имеются в различных ведомствах и министерствах: эксперты есть в МВД, в Минюсте, в Минздравсоцразвития, ФСБ, МЧС, Минобороны и так далее. Основная доля проводимой работы, в том числе по делам коррупционным, конечно, ложится на экспертов МВД, Минюста, и также в силу нашей специфики Минздравсоцразвития проводит много экспертиз.
В этих ведомствах на сегодняшний момент, на наш взгляд, как следователей, которые работают с ними, и от их результатов зависит наша работа, накопился целый клубок проблем, которые нам не позволяют эффективно реализовывать свои полномочия по привлечению лиц к уголовной ответственности. Проблемы эти связаны с методологической основой экспертной деятельности, в каждом ведомстве есть свои методики, причём часть из них требует уже давно пересмотра и ревизии с учётом современных достижений науки и техники.
Проблема кадрового состава, неукомплектованности, малочисленности экспертов приводит к колоссальной нагрузке на конкретного эксперта. Недостаточная материально-техническая обеспеченность не позволяет быть впереди преступников и использовать современные технические средства, и ряд ещё проблем. Эти проблемы превращаются из их внутриведомственных проблем в наши процессуальные проблемы. Длительность сроков проведения экспертиз порой просто несоизмерима с тем, за сколько мы смогли бы закончить дело.
По коррупционным делам часто нам приходится проводить фоноскопические экспертизы, чтобы идентифицировать взяточника, приходится порой ждать эту экспертизу до полугода. Мы бы в месяц отправили это дело в суд, а мы ждём полгода, потому что эксперт колоссально загружен и говорит: «Через полгода подходите, будем рассматривать». Это, во-первых, сроки, а во-вторых, качество, честно говоря, многих экспертных заключений оставляет желать лучшего, особенно экономической направленности. Провели одну экспертизу, кое-как получили заключение, смотрим – там ничего нет, приходится в другое ведомство идти, привлекать на платной основе специалистов, не работающих в госэкспертных учреждениях. Всё это, как я говорил, влечёт увеличение разумных сроков расследования и в итоге влечёт то, что мы не можем эффективно реализовывать свои полномочия и обеспечивать защиту интересов потерпевших, общества и государства в достаточно эффективной форме.
Поэтому считаю, что на сегодняшний день эта проблема должна быть обозначена действительно как проблема. Мы её так видим. Надо совместно с экспертами, со следственными органами, с другими органами государственной власти попытаться разрешить этот вопрос. Может быть, это будет в форме создания единой системы экспертных учреждений с разветвлённой сетью в регионах и в конкретных муниципальных образованиях. Может быть, достаточно будет просто количественного и качественного улучшения работы данных ведомств, увеличить штаты и тем самым, уменьшив нагрузку, оснастить их современной техникой и так далее. Но в любом случае этот вопрос для нас актуален не только по коррупционным делам, а и по всем остальным. Это первое, о чём я хотел сказать.
Кроме того, сейчас, может быть, не столь общие вопросы, а более частные, но всё равно они также важны. Когда сталкиваешься с неразрешимостью некоторых проблем, там уже без разницы, это проблема только для тебя или это всеобщая проблема. Просто пример приведу. При расследовании дел в отношении заместителя главы муниципального образования сталкиваемся с тем, что данный заместитель имеет действительно властные полномочия, которые использует в своих интересах. Но, когда садимся писать проект обвинения, если хотим что-то направить в суд, устанавливаем, что у данного чиновника нет никаких должностных инструкций, нигде не прописаны в местных актах его полномочия. На вопрос: «А что Вы делаете?» – «А я выполняю поручения своего главы». Тем самым это для нас становится серьёзным камнем преткновения, так как действующее законодательство и сложившаяся судебная практика требуют, чтобы мы прямо указывали в постановлении, что нарушил, чем злоупотребил, сослаться на конкретную должностную инструкцию, на конкретный пункт с тем, чтобы это было обвинение, но чтобы оно было обоснованным. Поэтому как предложение: чтобы у нас не были должностные лица без прописанных должностных инструкций, всё-таки надо на законодательном уровне предусмотреть обязательность, в частности для муниципальных органов самоуправления, обязательность наличия чёткой регламентации должностных полномочий должностных лиц. Это второе.
Третье, о чём я хотел бы сказать, – это и коррупционные дела, и вообще дела – что необходимо, на наш взгляд, повышать процессуальный статус следователя. О чём идёт речь? Я следователь, у меня дела в производстве, я отвечаю за конечный результат, а конечный результат – это установить все обстоятельства, изобличающие или оправдывающие лицо, установить и направить дело в суд. Для этого мне закон даёт ряд полномочий, причём существенных, ряд из них предусматривает процедуру обращения в суд или иным образом для разрешения. Обращаюсь в суд – мне могут отказать, это законное право суда, однако обжаловать эти решения закон не наделяет меня правом, то есть я, лицо самостоятельное по Уголовно-процессуальному кодексу, не могу сам обжаловать решения должных лиц, принятые по моему уголовному делу в моём производстве. И суды считают это крайне неправильным, и практика показывает, что эти препоны ни к чему хорошему не приводят.
По повышению процессуального статуса следователя ещё такой момент. Закон предусматривает, это всё правильно, требования следователя, заявленные по находящемуся у него в производстве уголовному делу, обязательными для исполнения всеми должностными лицами и другими лицами. Также предусмотрено право на внесение представления об устранении причин и обстоятельств, способствовавших совершению. Право это есть, а эффективного механизма реализации этого права не имеется, так как санкции как таковой привлечения к ответственности дисциплинарной, административной и так далее нет, фактически мы не можем привлечь. Сами мы не самостоятельны все эти действия совершать и вынуждены выступать в виде просителей: не рассмотрите ли вы, нет ли в них какого-либо состава, и необходимости принятия мер дисциплинарного характера поэтому это не способствует. Чиновник, когда к нему приходишь, он больше боится вышестоящего чиновника, чем следователя, и ему легче отказать мне, потому что я ему ничего не сделаю в данный конкретный момент, чем потом получить по голове от своего начальника.
И последнее, на чём я хотел бы остановиться, – это то, что работа по таким делам требует высокой квалификации сотрудников, в частности Следственного комитета, это большой и трудоёмкий труд. И для того чтобы в нашу систему пришли такие люди, способные, надо всё-таки повышать престиж работы следователя. А как его повышать? Это студент или другое лицо, желающее работать в этой структуре, он должен знать, что он будет и материально обеспечен, у него и жильё будет, в армию его не заберут и так далее. То есть речь идёт о том, что следователь как лицо процессуально самостоятельное на стадии предварительного расследования должен быть действительно таковым и действительно определять ход расследования. И его статус должен быть не только среди органов, но и в обществе достаточно высок.
Благодарю за внимание.
Д.МЕДВЕДЕВ: Спасибо, Дмитрий Сергеевич.
Вы подняли несколько вопросов, на мой взгляд, абсолютно актуальных. Применительно к экспертизе, тема, естественно, мне знакомая, потому что не первый раз мы её обсуждаем. Состояние и качество дел в экспертизе, которая в настоящее время осуществляется по уголовным делам, да и не только по уголовным делам, по другим делам, по гражданским делам, исключительно тяжёлое, можно сказать – просто удручающее. Вы правильно назвали ситуацию: это и материальное оснащение экспертных структур (всё там унылое, старое, разваливающееся), и сроки осуществления экспертиз, да и, скажем откровенно, качество, потому что далеко не всегда оно отвечает предъявляемым требованиям. Поэтому из-за того, что общее количество дел и уголовных, и гражданских за последние годы существенно увеличилось, где требуется экспертиза, а стандарты их работы остались почти на советском уровне, нам действительно нужно подумать, каким образом их поддержать.
Лучше, конечно, было бы создать единую систему экспертных учреждений, но мы понимаем, что всё-таки у нас уже не советский период, когда экспертиза была в единой сети. Наверное, в качестве экспертов и сейчас, и в дальнейшем будут привлекать структуры, которые носят автономный характер, но должны быть какие-то критерии, которые позволяют отличать настоящую экспертизу, давайте скажем откровенно, Вы об этом не сказали, от псевдоэкспертизы.
Экспертиза разная бывает, и очень часто, когда требуют экспертизу, неважно даже по каким делам, рассчитывают получить вполне конкретный результат, причём получить его иногда за деньги. Поэтому у этой экспертизы должно быть несколько качеств. Во-первых, она должна быть действительно независимая. Во-вторых, она должна быть хорошо оснащённая, позволяющая осуществить поручение или же выполнить соответствующее задание в короткий срок качественным образом. И, в-третьих, она должна быть действительно современной и соответствующей требованиям дня, потому что, когда расследование уголовного дела, Вы привели пример, наталкивается на то, что следственные действия все абсолютно понятные, все мероприятия проведены, все допросы осуществлены, потом ждёшь полгода-год экспертизы, это, конечно, никуда не годится. Надо подумать. Это, конечно, потребует дополнительных затрат бюджета, но, видимо, на них придётся пойти – в части, касающейся государственной экспертизы, конечно.
Теперь в отношении чиновников, их должностных обязанностей. Это более сложный, на мой взгляд, вопрос, во всяком случае менее однозначный: нужны ли всем руководителям должностные инструкции. Может быть, это и так, но в любом случае жизнь, конечно, полностью в эти инструкции не вогнать, особенно с учётом того, например, что речь идёт о муниципальных образованиях. Строго говоря, они даже не государственные служащие, а муниципальные служащие, хотя, в общем, для уголовной квалификации это не имеет какого-либо значения. Но подумать над тем, чтобы лучше понимать, в чём заключаются должностные обязанности, должностные функции лица, государству действительно необходимо, особенно в период, когда речь идёт уже о переходе на, допустим, электронные взаимоотношения. Чтобы всё-таки было понимание, кто за что отвечает, если обращение в государственные структуры осуществляется в электронной форме, и в обычном варианте это тоже должно быть.
Дальше был упомянут процессуальный статус следователей, тоже я не против того, конечно, чтобы продумать укрепление этого статуса. Нам нужны следователи, которые имеют полноценные полномочия, а не какие-то усечённые. Я сейчас не готов сразу же сказать, поддержу я эту идею или нет по обжалованию, но в любом случае её можно обсудить, как и предложение установить, насколько я Вас понял, механизм реализации права следователя делать соответствующие предписания за причины, которые способствуют совершению преступлений, и ответственность за неустранение этих причин. Правильно я Вас понял?
Вот об этом точно нужно будет подумать, потому что если это право просто голое, если оно ни на чём не основано, следователь говорит: «Вы устраните причину», а ему говорят: «Да иди ты знаешь куда, ничего мы устранять не будем, скажи спасибо, что мы что-то с тобой обсуждаем», – это, конечно, никуда не годится. Или это вообще не нужно делать, и тогда это просто сотрясание воздуха, лучше это не делать, чтобы не ронять авторитет следственной структуры, авторитет государственной власти. Но уж если это делать, то тогда должна быть какая-то ответственность, думаю, что это правильно.
И, наконец, последняя тема, которую Вы обозначили, думаю, с ней все согласятся здесь присутствующие: и следователи Следственного комитета, и следователи МВД, следователи других структур, прокуроры, – это престиж работы следователя, прокурора. Понятно, что он упирается в конечном счёте в то, каким образом государство оценивает работу: это материальная обеспеченность, зарплата та же самая, жильё, другие позиции. Но сказать, что мы совсем этим не занимаемся, думаю, было бы неправильно. Всё-таки я не считаю, что у нас уже ситуация в этой сфере такая, как была лет 10 назад, когда мои коллеги, а у меня полно моих товарищей, которые работают в таких же позициях, как ваша, кто-то на более высоких позициях, потому что я постарше значительной части здесь присутствующих, но я просто вместе с ними начинал работу, – в общем, конечно, ситуация изменилась. Я когда встречаюсь с сокурсниками, они говорят: «Спасибо тебе, что всё-таки как-то на это обратили внимание». Но это не значит, что всё хорошо. Понятно, что нет предела совершенству, и зарплата должна быть достойная.
Тем более, чего там скрывать, если не говорить какие-то сложные речи, когда следователь расследует многомиллионные, миллиардные дела, прокурор надзирает за соответствующими следственными действиями или представляет обвинение в суде, значит, он должен чувствовать себя уверенно, что к нему никто не подкатит, а он сможет противостоять любому давлению и со стороны государственных структур, и со стороны тех, в отношении кого ведётся следственная деятельность. Иначе следователя легко, что называется, взять в оборот. К сожалению, мы пониманием, это везде случается, и следователи взятки берут.
Поэтому престиж работы следователя и прокурора – это, конечно, важнейшая тема. Хотя, если уж завершать этот вопрос, в значительной мере, если не на 90 процентов, это зависит от самого человека. Мы все понимаем, какую зарплату ни сделай высокую, всё равно взятку могут принести существенно больше. Но вопрос в том, как человек себя позиционирует. Вопрос в том, как он свою карьеру продумывает, как он относится к себе, к своим окружающим. Но это должно, действительно, накладываться на правильное отношение, на уважение к следователям, на понимание сложности их работы, их миссии, если хотите, в жизни, потому что, как и другие виды государственной службы, кстати, о чём говорил наш коллега из Высшей школы экономики, государственный служащий (а следователь – тоже государственный служащий, об этом не надо забывать), не только гражданский, но и служащий, который занимается правоохранительной деятельностью, – в общем, фигура уязвимая. С одной стороны, у него масса полномочий: возможность человеку жизнь изменить, в некоторых случаях драматическим образом изменить. А с другой стороны, в общем, и на следователей, и на прокурора очень легко, что называется, наехать и начать говорить гадости разные. Очень тяжело потом от этого отмываться, мы же это тоже понимаем. Это такой, если хотите, профессиональный риск.
Я это говорю к тому, что в общем следователи, прокуроры должны понимать, что они в полной мере, как и другие сотрудники правоохранительных органов, находятся под защитой государства, что государство их не бросает при возникновении каких-то сложностей, а сама система, в которой они служат, извините, за них бьётся. Иногда говорят о том, что честь мундира – это плохо. Ну да, если ситуация абсурдная, если всем уже понятно, что всё плохо. В некоторых случаях государственная структура всё-таки должна стоять крепко, когда речь идёт о защите своих работников. Они очень часто подвергаются беспрецедентному давлению, мы это понимаем. Я хочу, чтобы вы от меня услышали, и я это понимаю, что вам работать непросто, особенно по всякого рода коррупционным делам, по делам, куда завязаны высокопоставленные государственные служащие и обычные государственные служащие. В общем, это непростая работа.
И.БЕГТИН: Уважаемый Дмитрий Анатольевич, я руководитель небольшой ИТ-компании и как раз представитель той самой неудобной общественности, о которой упоминал Яков Ильич.
Может быть, Вы помните, в 2009 году была история с латиницей в госзакупках, собственно, я её нашёл, выявил несколько тысяч случаев, это попало в федеральные СМИ, привело к Вашему разговору с заместителем Правительства Игорем Шуваловым, и Антимонопольная служба активно исправляла это и штрафовала заказчиков в течение года.
Я хочу отметить, что это стало возможным, то есть моя работа стала возможной, исключительно благодаря тому, что я использовал некое количество технических инструментов. То есть я осуществлял этот мониторинг, он оказался в значительной степени случайным, то есть выявилось несколько случаев, и была проведена работа, чтобы найти их больше, но исключительно благодаря тому, что информация о государственном заказе была доступна в машиночитаемой форме, что она была доступна как открытые данные и что с ними можно было работать.
И сейчас, в современном мире, фактически ИТ-специалисты в значительной мере заменяют правозащитников. Если раньше правозащита занималась как раз той или иной формой защиты, той или иной формой выявления коррупции, то сейчас многое из того, что делается ими, делается автоматически или автоматизированно, создаются специальные системы, создаются в основном при поддержке негосударственных структур, либо в рамках частных инициатив, либо при поддержке различных международных организаций. При недавно прошедших международных конкурсах здесь, по России, например, создавались гражданами такие инструменты по электронному голосованию, по мониторингу государственного бюджета, по мониторингу расходов чиновников.
Я хочу отметить, что Российское государство в этом никак не участвовало, то есть фактически государство сейчас теряет инициативу в том, что касается антикоррупционного мониторинга. И если в части репрессий против коррупционеров государство всё ещё сильно и существуют структуры, которые способны это делать, то мониторинг, к сожалению, на мой взгляд, страдает.
Я предлагаю включить в инициативу по открытости правительства, открытости государства (как раз то, что называется «открытым правительством») создание экосистемы гражданских проектов при поддержке государства, в рамках которых мог бы осуществляться мониторинг государственных контрактов – начиная от государственного размещения заказа до конкретно построенного объекта, с фотографиями, мониторинг деклараций чиновников: как то, что касается доходов, так и то, что касается расходов. Сейчас это крайне несистематизированно, эта информация разбросана по тысячам государственных сайтов в совершенно разных форматах, не приведённая в единую базу, не приведённая к электронной декларации.
Сейчас существует практика обсуждения законопроектов, но пока нет публичного обсуждения и общественного анализа антикоррупционности законопроектов. То есть если бы все те замечания, все те предложения по антикоррупционности вносились бы ровно таким же образом, как обсуждались существующие законопроекты о полиции, об образовании, о рыболовстве и все остальные, если бы каждый гражданин имел бы возможность это отметить, каждый эксперт мог бы принять участие, то это в значительной степени помогло бы избежать очень многих коррупционных норм в законах.
У меня предложение включить это в части «большого правительства» в его развитие и, может быть, дальше, следующим шагом включить и в глобальную международную инициативу «Открытое государство», в которой Россия также могла бы принять участие.
Д.МЕДВЕДЕВ: Спасибо большое.
Вы затронули важную тему на самом деле. Мир очень усложнился. Я понимаю, насколько, кстати, и тем же самым следователям сейчас стало труднее работать, чем, например, это было лет 25 назад, когда мы начинали работать. Потому что все электронные средства фиксации всякого рода договорённостей, материалы, торги, которые осуществляются в электронной форме, – всё это довольно сложно для анализа и очень трудно по охвату. И, собственно, именно поэтому очень важную миссию действительно исполняют не государственные структуры, а общественность. Это хорошо.
Самое важное, чтобы этим занимались все заинтересованно, но чтобы это не превращалось в кампании, направленные против чиновничества как класса. Потому что чиновники – хорошие, плохие – были, есть и будут, это мы с вами понимаем, и шельмовать их, всегда говорить о том, что они все преступники, нельзя. Да, у нас коррупция очень высокая в стране, но просто говорить о том, что они все мерзавцы, невозможно, потому что, если все мерзавцы, тогда увольте всех – наберите новых. Это невозможно!
Это как с полицией было: «Вот полиция плохая, или милиция плохая, полиция хорошая, давайте всю милицию уволим, вот некий наш сосед это сделал». Но это смешно! Во-первых, там огромное количество приличных, честных людей, хороших профессионалов, которые головой своей рискуют. Во-вторых, одно дело, когда речь идёт о банановой республике, а другое дело, когда речь идёт о государстве, в котором 140 миллионов живёт, и 100 миллионов – активного работающего населения. Поэтому всё это очень непросто, но нужно этим заниматься. Я эту идею поддерживаю, и хорошо, что Вы этим сами начали активно действительно заниматься, результатом были и некоторые мои поручения.
Хотел бы также сказать, что антикоррупционный мониторинг (Вы сказали, что плохо, что государство от него устраняется) – у меня более сложное к этому отношение. Конечно, государство должно иметь свою, так сказать, делянку, но это вообще-то задача в большей степени общественных структур. Единственное, чтобы не было эксклюзивов, а то у нас есть патентованные борцы с коррупцией: если они выступают, то они говорят правду, они уже, так сказать, вещают, а если кто-то другой, то нет, это всё по заказам властей, ещё как-то. В этой сфере должны быть все активными. Но, ещё раз повторяю, это не должно приводить к каким-то выводам о том, что вся работа строится неэффективно. Просто нужно работать адресно, нужно вытаскивать эти слабые звенья и наказывать тех, кто совершает проступки или преступления. Эта тема должна быть обязательно продолжена. И по поводу «большого правительства», о котором Вы упомянули. В принципе, мне кажется, это правильно. Вообще антикоррупционная экспертиза, экспертиза торгов – это на самом деле будет актуально с каждым годом всё больше и больше, здесь сомнений никаких нет.
Пожалуйста.
Д.ДВОРНИКОВ: Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые участники круглого стола! Я хочу поднять фундаментальный вопрос, который связан с борьбой с коррупцией, он связан с работой судов, это та область, которой мы занимаемся, это обеспечение прозрачности принятия судебных решений. Мы уже много лет работаем и по 262-му ФЗ, и много проводим семинаров и доверительных бесед с судьями. Такая специфика работы позволяет, может быть, чуть-чуть больше слышать, чем обыватель, чуть-чуть больше знать о том, как работают судьи, с чем они сталкиваются.
Я хочу поднять такую проблему, которая связана с привычкой некоторых начальников совершенно без каких-то проблем и препятствий поднять трубку, чаще это личный мобильный телефон судьи, и попросить о том, чтобы какое-то было судебное решение принято так, как считает правильным именно чиновник, а, возможно, не так, как это должно быть по закону. Это достаточно распространённое явление, но я могу подтвердить, что и в кулуарах, и в личном общении судьи часто говорят об этом. Иногда они, будучи встроенными в некую систему, якобы гармоничную, особенно на уровне регионов, просто не могут заявить об этом громко.
Нельзя ли придумать какой-то такой высокотехнологичный механизм, который бы при попытке чиновника набрать номер судьи – автоматически факсом отправлял бы заявление о прекращении полномочий в адрес Президента?
Д.МЕДВЕДЕВ: Денис Владимирович, мы сегодня всё-таки больше про следователей, потому что я с судьями не так давно встречался. Это не значит, что эти вопросы не надо поднимать. Я Вам отвечу.
Во-первых, судье кому не надо не следует раздавать номер своего мобильного телефона, это первое, и это главное на самом деле. Знаете, это же вопрос правовой культуры. Коллеги, особенно старшие коллеги, здесь сидят мои товарищи, за границей часто всё-таки бываем – вот можно себе представить, чтобы кто-нибудь подошёл к судье просто так и начал ему чего-то говорить за границей? Это будет страшный скандал. Человека, скорее всего, куда-нибудь упрячут после этого. И сам судья это понимает, он как бы говорит сразу же – нет. Вспомните даже всякие кинофильмы: там, допустим, адвокат за границей с судьёй пошёл в ресторан – всё, карьера закончена и у судьи, и у адвоката. Это невозможно. Все разговоры – только в специальных помещениях, как правило, ещё и с соответствующей прослушкой, если это необходимо, просто потому что так положено. Но это тема известная, мы её неоднократно с судьями обсуждали, включая и ведение так называемого журнала регистрации обращений. Просто сами судьи ещё частично побаиваются, но в принципе это вполне нормальная вещь. Например, я знаю, Арбитражный Суд мне сказал, что они готовы это делать. Всякое обращение должно фиксироваться. Вот позвонил Иван Иванович, адвокат, – фиксируется, позвонил Иван Петрович, глава городской администрации, – фиксируется. Знаете, так можно и отбить желание звонить, потому что понятно, административное давление, оно в той или иной форме трудно преодолевается, но это в принципе возможный вариант.
В любом случае у государства должна быть возможность как-то донести свою позицию, но государство в других странах делает это гораздо интеллигентнее, не в форме прямых звонков – сделайте так-то, а просто, чтобы судьи понимали какова позиция государства, это тоже важно, кстати. Это не банальность, это правда. Я сейчас не буду об этом рассказывать, там есть какие-то совсем тонкие вещи, но если кому интересно, потом как-нибудь расскажу.
М.ГРИШАНКОВ: Дмитрий Анатольевич, сразу хочу отметить, что в части законодательства мы очень стремительно продвинулись, и мне приходилось работать с группой ГРЕКО, с экспертами, и многие были удивлены рядом решений. В части декларирования имущества не в каждой стране есть такая норма. Опять же мы должны двигаться дальше и ряд предложений уже был высказан коллегами. Позвольте также зафиксировать Ваше внимание на нескольких вещах.
На сегодняшний день у нас нет в законодательстве определения коррупционного преступления. Каждое ведомство по-своему трактует и относит те или иные составы, и, может быть, назрела необходимость закрепить в законодательстве или перечень коррупционных преступлений для того, чтобы у нас не была лукавая статистика, потому что у нас есть статистика Верховного Суда, есть статистика МВД, есть статистика Генеральной прокуратуры, и иногда, откровенно говоря, при сравнении цифры не сходятся, при этом, может быть, дать исчерпывающий перечень преступлений.
В части института декларирования доходов и имущества это стало действительно важнейшим инструментом профилактики коррупции. И, уважаемый Дмитрий Анатольевич, может быть, рассмотреть возможность двинуться дальше в этом направлении. Эффективность борьбы с коррупционными преступлениями может быть повышена путём введения института конфискации имущества при расследовании коррупционных преступлений, когда бремя доказывания законности происхождения имущества переносится на лицо, подозреваемое в совершении коррупционного преступления. Изучение практики в ряде стран показало, что это было достаточно действенным механизмом в снижении коррупции.
Поддержу инициативу Айрата Ильзаровича в части дополнительной защиты лиц, информирующих о фактах коррупции. Может быть, отдельно проработать этот вопрос, потому что у нас действительно качественный закон о государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, и МВД многое делает в этом направлении, в части защиты, но отдельно зафиксировать, что любое лицо, которое даёт информацию о фактах коррупции, будет особо защищаться государством (это в том числе одно из предложений группы ГРЕКО).
И ещё одну вещь хотел бы отметить: в целях улучшения взаимодействия с гражданским обществом и органами СМИ, может быть, рассмотреть вопрос обязательного предоставления правоохранительными органами ежегодного отчёта по результатам работы в части, касающейся порядка рассмотрения сообщений о преступлении, обнародованных в СМИ (это пункт второй части 144 УПК), и обязательной публикации информации об отказе в возбуждении уголовного дела. Потому что в средствах массовой информации очень много различных данных. Надо отметить, не всегда, может быть, и физически успевают правоохранительные органы реагировать, но общество ждёт этой реакции и, самое главное, ждёт обратной связи от правоохранительных органов о том, как проверялась эта информация.
Д.МЕДВЕДЕВ: Спасибо.
Михаил Игнатьевич, по поводу перечня преступлений коррупционной направленности можно подумать. Вопрос всегда заключается в том, какое правовое значение мы этому придаём. Если оно будет, тогда можно об этом думать.
Что касается конфискации, я уже тоже на эту тему рассуждал. Эта идея мне кажется довольной любопытной – по поводу бремени доказывания законности приобретения имущества, которое переходит на лицо, обвиняемое в совершении такого преступления. Потому что я, например, не считаю, что идея декларации о всех расходах такая работающая. Думаю, что это скорее всего будет сотрясание воздуха или, наоборот, способ расправиться с неугодными, что называется.
Но в такой ситуации, когда уже, условно говоря, дело дошло до суда, например, или как минимум до предварительного расследования, – может быть. Во всяком случае лицо само должно доказать, что оно имеет правомерные источники для приобретения. Это не означает, что эти источники должны быть максимально узкими, так сказать, пусть доказывает там всеми способами, но – может быть.
И отчёт о расследовании преступлений, обнародованных в СМИ. Это такая сложная вещь. Конечно, хочется сказать – давайте это сделаем, хотя здесь наши коллеги, следователи, скажут: вы что, вы нас совсем поставите в сложное положение, мы с ума сойдём – отчитываться или во всяком случае эту статистику давать. Почему? Потому что если речь идёт о СМИ как таковых, о зарегистрированных, и так у нас их десятки тысяч, но это ещё как-то возможно. Но если речь, например, вести вообще об отчёте о всех преступлениях, обнародованных, например, в электронных СМИ, включая интернет, а к интернету уже потихонечку или к электронным СМИ, скажем так – к интернет-СМИ, примыкают и социальные сети, то это, конечно, будет, если по-честному сказать, почти непосильная задача для государства. Но если мы сможем найти технологическое решение этого – пожалуйста, давайте попробуем, я, конечно, не против абсолютно.
Пожалуйста.
Ю.ШАЛИМОВ: Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Мы работаем в современном мире, и новости поступают всё быстрее и быстрее, сообщения о преступлениях, в том числе и коррупционной направленности, мы получаем в том числе и от граждан, мы получаем их в реальном времени в ту же секунду. Вы часто сами реагируете мгновенно на эти новости, когда они поступают. Но у нас есть единственное серьёзное оружие на сегодняшний день – это закон о СМИ.
В законе о СМИ есть норма, где нам, журналистам, должны либо в течение трёх суток отказать в запросе в государственных органах, либо в течение семи дней дать некий ответ. На самом деле на сегодня эта норма практически непригодна к использованию. На самом деле у нас абсолютно нет проблем с коллегами из правоохранительных органов: информация от них поступает достаточно быстро. Мы испытываем трудности при обращении к государственным чиновникам.
В Гражданском кодексе есть такая формулировка: ситуации, вызывающие широкий общественный интерес. Может быть, в закон о СМИ внести такую формулировку, что в случае, если ситуация вызывает широкий общественный интерес, ответ должен поступить немедленно или сократить сроки до суток. И неплохо было ещё статью за враньё придумать, тоже было бы отлично.
Д.МЕДВЕДЕВ: Понятно. Всегда, когда наши коллеги из СМИ говорят, всегда выглядит довольно любопытно. В принципе тема, которую Вы поднимаете, справедлива. Вот Вы сказали, что очень быстро осуществляется реакция на то, что мы говорим или делаем. Мы с вами разговариваем – уже появилось сообщение о том, что из юрисдикции суда присяжных могут исключить дела о коррупции. Уважаемые коллеги из средств массовой информации, я не сказал, что у меня есть намерение обязательно исключить, – есть предложение наших уважаемых товарищей, здесь присутствующих следователей, исключить. В этом есть и плюсы, и минусы, о которых я сказал, но я не собираюсь пока этого делать, потому что сейчас, я же понимаю, начнутся разговоры о том, что дальше собираются душить несчастный суд присяжных и так далее. Давайте это обсудим, посмотрим положительные и отрицательные стороны, это, кстати, то самое оружие, о котором Вы говорите, потому что не успел что-то сказать – уже сразу же ответ.
Пожалуйста, Вы что-то хотели сказать, давайте.
В.РОМИЦЫН: Уважаемый Дмитрий Анатольевич, из всей проблематики, с которой сейчас вынужден сталкиваться следователь, я кратко постараюсь обозначить одну, и связана она с действующим Уголовно-процессуальным кодексом. Дело в том, что не так давно была изменена статья 90 Уголовно-процессуального кодекса о преюдиции, согласно которой решения всех без исключения судов принимаются в преюдиционном порядке.
К сожалению, зачастую это мешает расследованию уголовных дел, так как мы понимаем, что решение гражданского суда иногда можно получить достаточно просто при согласовании каких-то позиций сторонами, и это влечёт за собой прекращение уголовного преследования. На данный момент это действительно серьёзная проблема, которая препятствует расследованию и коррупционных, и экономических дел, в том числе налоговых преступлений.
Д.МЕДВЕДЕВ: Спасибо. Вы подняли тему, которую профессионалы все знают. Я, правда, уже не считаю себя профессионалом по этим вопросам, но в любом случае я всё-таки какие-то знания имею.
Действительно, здесь взаимосвязь преюдиции или, как говорят юристы, предрешения, которое основывается на решении гражданского суда, имеет для следствия прямое значение. В общем и целом это правильно. Но, к сожалению, жизнь многообразна, и она показывает, что в целом ряде случаев, я не хочу ставить под сомнение вердикт суда, я имею в виду решение по гражданскому делу, но в результате этого ломаются очень серьёзные работы, которые вело следствие по формальным признакам.
Я Вам по-честному скажу, у меня нет ответа на Ваш вопрос, потому что он очень сложный. Отменять эту взаимосвязь было бы неверно. Но то, что эта проблема есть, Вы правы. Значит, нужно, может быть, подумать, каким образом сделать эту взаимосвязь более тонкой. С одной стороны, никто не опровергает решения суда, но с другой стороны – всё-таки чтобы у следствия хоть как-то были в этом плане развязаны руки, иначе можно пустить под откос при помощи довольно нехитрой юридической манипуляции годы труда. Это я тоже понимаю.
И.КОСТУНОВ: У меня достаточно короткий вопрос. Коррупция наносит ущерб экономике, но, как Вы правильно заметили, её ещё больше разрушает недоверие. Я буквально сегодня прилетел из Сирии и видел своими глазами, как недоверие между властью и обществом ставит под вопрос суверенитет государства и его существование. Тоже понял мудрость индекса восприятия коррупции: он мало связан с работой правоохранительных органов, со статистикой, это – как люди воспринимают, какая коррупция, есть или нет. Это на самом деле индекс доверия власти и общества госслужащим.
Изучая опыт, я обратил внимание на такие государства, как Сингапур и Гонконг. Там была примерно та же проблема, что государства были на грани уничтожения из-за недоверия, и выход нашли следующим образом: создали единую структуру – национальное антикоррупционное бюро, которое поставили под жесточайший контроль общественности. У людей, которые там работают, просто как презумпция виновности – виновность, но они проверяли каждого чиновника, включая премьер-министра, на чистоплотность. Этим, во-первых, вывели из-под критики чиновников просто потому, что есть национальное антикоррупционное бюро, и очень быстро восстановили доверие между властью и обществом. Можно ли сделать что-то подобное в России, не обязательно единая структура, но доверие надо восстанавливать в век информационных войн?
Д.МЕДВЕДЕВ: Согласен с Вами, Илья Евгеньевич, и интересно, что Вы в Сирии побывали, потому что это действительно сейчас большая проблема для самих сирийцев, прежде всего. Не для тех, кто пытается на этом руки нагреть или политический капитал заработать, таких, к сожалению, немало, а для самих сирийцев, потому что государство находится в анархической ситуации, идёт жёсткое противостояние; чем закончится, не до конца понятно. Но вопрос о доверии, наверное, ключевой сегодня, об этом уже коллеги говорили.
Я, наверное, был бы нечестен с Вами, если бы сказал: о, отличная идея, давайте сделаем как в Сингапуре и в Гонконге, – потому что Сингапур и Гонконг, надо признаться, всё-таки это маленькие государства. Да, там тоже была очень сильная коррупция, это правда, и они действительно в этом смысле преуспели. Если говорить о Сингапуре, то это вообще считается сейчас страна с идеальным инвестиционным климатом. Если говорить о Гонконге, там тоже всё очень здорово и хорошо, хотя он, в общем, вливается в другое государство и в конечном счёте его судьба будет связана с судьбой этого государства. И там тоже есть свои проблемы, мы понимаем.
Но то, что основная идея, чтобы достичь максимальной прозрачности, отчётности государственных служащих, руководителей, была принята нами на вооружение, здесь Вы абсолютно правы. Собственно, я ведь это и пытался делать, и до сих пор делаю, когда внедрил эту идею тотальной отчётности. Меня всё время в этом плане упрекали, говорили, что всё равно же никто всего не показывает, не все отчитываются.
Конечно, так – я понимаю, я не наивный человек. Но это всё равно более высокая степень прозрачности. Что дальше? А дальше, если все отчитываются, нужно увольнять. Не обязательно сажать в тюрьму – увольнять за то, что, допустим, человек представил недостоверные данные. Я несколько генералов за это уволил, ещё что-то сделал. Понятно, это такие фрагменты. Просто, если люди будут понимать, что лучше продекларироваться, чем что-то прятать, то они вести себя будут правомерно. Для России, конечно, эта проблема не двух-трёх месяцев и не двух-трёх лет. Мы не Сингапур всё-таки, мы понимаем, тем не менее я не считаю, что это недостижимо в наших условиях.
Уважаемые коллеги! Я считаю, что разговор был интересный, надеюсь, вам тоже понравилось, – полезный как для сотрудников правоохранительных органов, так и для общественности, которая внимательно следит за состоянием дел в правоохранительной сфере, в сфере борьбы с коррупцией. По целому ряду моментов, которые мы с вами обсуждали, я подпишу, естественно, поручения, и мы продолжим по ним работу.
А сейчас мне бы хотелось, пользуясь случаем и возможностью, выполнить приятную миссию. Я хотел бы поздравить целый ряд сотрудников правоохранительных органов, следователей, прокуроров, которые здесь присутствуют: они получили государственные награды за большую работу, за работу, связанную с борьбой с преступностью. Как я уже говорил вначале, это очень непростая работа, но это очень важная для страны работа. Я желаю вам успехов, и давайте перейдём к церемонии награждения.

Объявляется посадка
Американский ученый Джон Касарда уговаривает переселяться в аэропорты все передовое человечество
Конечно, профессор университета Северной Каролины Джон Касарда передвигается на самолетах куда реже, чем герой Джорджа Клуни в фильме «Мне бы в небо». Тем не менее крупнейшие аэропорты планеты ученый знает как свои пять пальцев. Вот и из Москвы, где он дал интервью «Итогам», автор экзотической концепции аэротрополиса отбывал в ЮАР, где намерен проинспектировать воздушный хаб Йоханнесбурга. Работа у него такая — приучать все передовое человечество жить и работать в аэропорту.
— Господин Касарда, как вам в России?
— Это мой третий приезд в вашу страну. К тому же у меня самого русские корни: мои прапрабабушка и прапрадедушка переехали из Санкт-Петербурга в США. Я работаю по всему миру и очень часто пересекаюсь с русскими.
— Что такое аэротрополисы, с идеей создания которых вы носитесь по всему свету?
— Идея родилась в начале 90-х годов прошлого века на основе моих работ о рациональном размещении аэропортов. Размышляя над вопросом, что делает ту или иную страну конкурентоспособной, я понял, что развитие торговли в течение десятилетий и даже веков было неразрывно связано с развитием инфраструктуры транспорта. В особенности это стало заметно с появлением глобальной системы воздушных сообщений. Именно авиация сыграла основную роль в формировании так называемого физического Интернета, способа соединять людей и продукты по всему миру быстро и эффективно.
Связующими звеньями этой глобальной транспортной паутины являются аэропорты. Именно они не только задают темпы экономического развития регионов, но и работают магнитами для тех отраслей индустрии, процветание которых зависит от степени близости к транспортным узлам. К таким сферам, например, относятся, микроэлектроника, фармацевтика, аэрокосмическая отрасль и даже производство свежей рыбы и цветов. Вы знаете, где находится крупнейший в мире рынок рыбной продукции?
— И где же?..
— В порту Гамбурга, который тесно связан с Франкфуртским аэропортом. Для того чтобы понять, почему хорошо развитые аэропорты сегодня критически важны для экономики страны и мира, необходимо уяснить, что на самом деле движет бизнесом в XXI веке: глобализация, конкуренция, основанная на времени (выживает быстрейший), и авиация. Аэротрополис является следствием процесса глобализации, его физическим символом.
— Какими примерами вдохновлялись?
— Примерами для меня служили два аэропорта: это амстердамский Схипхол и окружающая его зона и международный аэропорт Гонконга. На территории голландского аэротрополиса расположено более тысячи предприятий. А кроме этого, штаб-квартиры мировых банков ABN AMRO и ING находятся в шестиминутной доступности от аэропортового терминала — в стремительно растущем бизнес-округе Зюйдас. В нем же, к слову, располагается 1,86 миллиона квадратных метров офисов класса A, торговых сетей, гостиниц, а также порядка 9 тысяч многоквартирных домов.
— Получается, что слово «полис» в названии вашего детища появилось не случайно?
— Да, фактически аэротрополис — это город, построенный вокруг аэропорта. На его территории расположены предприятия и офисы компаний, для которых очень важно находиться непосредственно вблизи аэротранспортных узлов, чтобы успешно развиваться не только в рамках страны, но и всего мира. В аэротрополисе есть и жилые комплексы с необходимой инфраструктурой. Главное, чтобы человек имел возможность спокойно и полноценно жить, работать, учиться и развлекаться в 15 минутах езды от аэропорта.
— Является ли наличие крупного мегаполиса необходимым условием для развития аэротрополиса?
— Успешные аэропорты находятся вблизи крупных городов, приблизительно в 30 километрах от их центра. Но когда аэропорт начинает развиваться в сторону от мегаполиса, последний по инерции тянется за ним. Получается, что аэропорт, который еще недавно помогал развитию мегаполиса, сам становится полноценным городом. Городской аэропорт превращается в аэропортовый город, аэротрополис.
— Как спроектировать «правильный» аэропорт?
— По моим подсчетам, «правильный» аэротрополис способен на каждый доллар выручки в данном регионе генерировать дополнительные три доллара. Я начинаю с того, что готовлю дорожную карту, где детально планирую все: принципы, направления развития, детальные схемы того, как надо развивать аэропорт, чтобы он превратился в экономически эффективный и в то же время привлекательный для жизни аэротрополис. Дизайн очень важен не только для развития, но и для создания позитивного имиджа у иностранцев. Ведь первое и последнее впечатление о стране создается по прилету и вылету.
— Верно ли, что третий мир динамичнее, в том числе и в плане строительства аэротрополисов?
— Да, потому что в БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай. — «Итоги») понимают, что именно аэропорты являются основным инфраструктурным преимуществом и ценнейшим активом страны. Например, в течение следующих пяти лет только Китай собирается инвестировать порядка 250 миллиардов долларов в свой авиационный сектор, включая возведение 11 новых аэропортов. Индия строит 20 новых воздушных портов и модернизирует 58 старых. В развитых государствах на первое место ставят другие вопросы: загрязнение окружающей среды, уровень шума, трафика. Например, лондонскому аэропорту Хитроу никак не могут построить третью взлетно-посадочную полосу из-за протестов защитников окружающей среды. В итоге самолеты с 66 миллионами пассажиров, ежегодно прилетающих и улетающих из этого аэропорта, вынуждены садиться всего лишь на две полосы. Этого явно недостаточно для такого крупного авиационного хаба. В странах же БРИК на первое место ставятся экономическое развитие и создание новых рабочих мест, выстраивание более конкурентоспособных экономик. Или взять, например, проект южнокорейского аэротрополиса Нью-Сонгдо возле международного аэропорта Инчеон, расположившегося на 600 гектарах. Стоимость его постройки — порядка 30 миллиардов долларов. На три миллиарда долларов дороже обойдется возведение Дубайского всемирного торгового центра, урбанистического комплекса возле нового международного аэропорта Аль-Мактум. Если я не ошибаюсь, это крупнейший частный девелоперский проект в мире.
— Комфортно ли жить в аэротрополисе?
— Конечно, у обычного города в этом плане есть преимущества. Тем не менее основная идея заключается в том, что у людей, выбравших жизнь и работу в аэротрополисе, на первое место ставится не шум или экологические проблемы, а возможность сделать свой бизнес успешнее.
— Россия может стать страной аэротрополисов?
— Конечно. Вокруг московских аэропортов полно свободных земель, необходимых для развития. Например, вокруг Домодедово более 14 тысяч неосвоенных гектаров. Их можно использовать для строительства очень успешного аэротрополиса. К тому же здесь есть хорошая железнодорожная сеть, а также быстро развивающаяся дорожная инфраструктура.
— Сколько времени потребуется, чтобы построить полноценный аэротрополис?
— Это процесс, зависящий от рынка коммерческой недвижимости, финансовых условий, уровня заинтересованности властей. Если говорить о том же аэропорте Домодедово, то для построения полноценного аэротрополиса ему может понадобиться от 10 до 30 лет.
Константин Полтев
Кто есть кто
Первым делом самолеты
Джон Касарда родился в городке Уилкс-Барре, штат Пенсильвания. Получил степень бакалавра в области прикладной экономики в Корнеллском университете в 1967 году, через год стал магистром делового администрирования, а в 1971 году — доктором социологии в университете Северной Каролины. В перерывах между многочисленными перелетами Касарда руководит Институтом Кенан в бизнес-школе своей последней альма-матер.
Вплотную занялся исследованием аэротранспортной логистики, проблемами развития аэропортов и авиационной инфраструктуры в 1980-е годы, а уже в следующем десятилетии начал консультировать первых клиентов по вопросам создания и развития аэротрополисов. Свои идеи по поводу развития аэропортов он высказал более чем в ста статьях и девяти книгах. Журнал Time поставил аэротрополис Касарды на шестое место в списке десяти идей, которые изменят мир. В качестве иллюстрации к тому, что в XXI веке именно скорость и мобильность будут стоять во главе успеха, ученый любит приводить в пример корпорацию Lenovo. У третьего в мире производителя компьютерной техники нет штаб-квартиры, а ее топ-менеджеры проводят рабочее время в постоянных поездках. Ближайший конкурент, компьютерный гигант IBM, двух из каждых своих пяти сотрудников держит вне офисов.
Константин Полтев

«Здесь меньше всего людей»
Расширение столицы на юго-запад приведет к развитию «Большой Москвы»
Присоединяемые к столице юго-западные территории— первый шаг к созданию городской агломерации под условным названием «Большая Москва», считает профессор Московского архитектурного института Вячеслав Глазычев, один из разработчиков стратегии развития столицы до 2025 года. О том, как будут развиваться новые земли и каких изменений ожидать другим районам Подмосковья, Вячеслав ГЛАЗЫЧЕВ рассказал корреспонденту «МН».
—Вячеслав Леонидович, вы знаете, почему для расширения столицы выбрали именно юго-западное направление?
—Я не участвовал в выборе участка, но уверен на 90%— причина в том, что здесь из всех возможных «секторов» живет меньше всего людей. Мы пока связаны унаследованными от Лужкова московскими льготами, отменить которые ни один вменяемый политик не может себе позволить. Аэти малонаселенные территории дадут наименьшую дополнительную нагрузку на бюджет.
—Получается, реальная причина выбора территории— экономия на льготах?
—Одна из ключевых. Другая причина— с точки зрения экологии он точно лучше восточного сектора. Если вы помните, сначала предполагали, что речь пойдет о Люблинских полях орошения.
—Почему нельзя было оставить в покое экологически чистый район и расширяться на восток, заодно работая над улучшением экологической ситуации там?
—Не хватит денег. Сейчас Москва имеет дефицитный бюджет, и шансов изменить его на профицитный немного. Развитие в восточном направлении упрется в Капотню и реорганизацию нефтеперерабатывающего завода, который держит на себе огромную долю бюджета Москвы. Этот вопрос невозможно решить быстро. Но с чего-то надо начать. Расширение юрисдикции Москвы на юго-запад можно считать первым пробным шажком к развитию «Большой Москвы». Формирование городских агломераций— это объективный процесс во всем мире.
—Чего в ближайшее время ждать городам-спутникам Москвы типа Реутова, Балашихи и прочих?
—В ближайшие пять лет для них ничего не изменится. Вопрос снова упирается в затратные московские льготы. Распространить их еще на несколько миллионов человек— об этом пока не может быть и речи.
—Когда на новом участке начнутся какие-то работы?
—Исследование территорий даже при очень интенсивной работе, если все делать правильно, займет не меньше года. Проектирование— это еще минимум год. Оформление— вряд ли меньше года. Значит, не меньше трех лет пройдет до того момента, как начнется застройка.
—Вы говорили, что на этих территориях надо оставить дачи, фермы, леса. Не понимаю, как все это можно сохранить внутри города?
—За примерами можно съездить в Брюссель или Берлин, или, представьте себе, в Гонконг. Это на самом деле и есть современное понимание освоения территорий. Не ковровая застройка, а многообразие типов среды. Нельзя продолжать безумие Красногорска или Химок, которые беспредельно «надували» себя застройкой единым пятном.
—Что об этом прирезанном куске будет говориться в вашей стратегии?
—Почти ничего. В стратегии мы будем говорить о московской агломерации в целом, а не о текущем сиюминутном решении.
—Что все-таки будет с чиновниками— переедут они на новые территории или нет?
—Скорее всего, нет. Есть ряд структур, которые по техническим или символическим причинам вынести из Москвы невозможно. Кто же вынесет штандарт президента из Кремля? Символические потери такого рода колоссальны, на них никто не пойдет. С другой стороны, есть МВД, ФСБ, Минобороны, Генштаб— цена переноса их линий спецсвязи грандиозна, больше, чем стоят сами здания. Если мы говорим о создании в Москве финансово-делового центра, то с ее нынешним качеством среды он здесь не получится. Может получиться там, где будет близость аэропорта, хорошая экологическая среда, может на этих новых территориях, хотя здесь привлекательные участки пришлось бы выкупать за очень большие деньги, может в другом месте.
—А где?
—Это вопрос, требующий расчетов, но, возможно, земля Молжанинова, близкая к Шереметьево и уже принадлежащая Москве, все-таки окажется наиболее выгодной. Так или иначе, министерства, которые готовят крупные международные проекты, захотят как минимум иметь в финансово-деловом центре свои представительства. Это могут быть Минэкономразвития, Минпром, Минрегион, может быть Минсельхоз, потому что ему нечего делать в центре Москвы. Но возникает вопрос— что делать с их зданиями? Приспособить их под отели дорого, бизнесу содержать эти «сундуки», давно и не для этого построенные, тоже накладно, кроме того, транспортных проблем это уж никак не решит.
—Уже осенью столичные власти могут объявить международный конкурс проектов развития Москвы. Он будет касаться именно этих присоединяемых территорий на юго-западе?
—Нет, он будет посвящен «Большой Москве» в целом. Ее границы каждый участник определит сам. Международный конкурс— это возможность увидеть территорию незамыленным взглядом. Интерес к нему уже проявили архитекторы из Германии, Франции, США. Он не рассчитан на получение конкретного проекта, который завтра начнут воплощать. Это не тот тип конкурса, когда победитель получает контракт. Он должен дать материал для серьезного осмысления задачи, какую нам в России еще не приходилось решать. Наталья Коныгина

После Дохи
Почему переговоры обречены и что нам с этим делать
Резюме: Фундаментальной причиной провала переговоров по либерализации мировой торговли стала неспособность решить главный вопрос, стоящий сегодня перед международным экономическим сообществом: какова относительная роль и обязанности развитых держав, государств с быстрорастущей экономикой и развивающихся стран?
Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 3 за 2011 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
Международному сообществу пора признать, что переговоры в Дохе обречены. Начавшись в ноябре 2001 г. как девятый раунд многосторонних консультаций по торговле под эгидой Генерального соглашения по тарифам и торговле и его преемницы, Всемирной торговой организации (ВТО), эти переговоры призваны были содействовать экономическому росту и повышению уровня жизни во всем мире, и в первую очередь в развивающихся государствах. Этого результата пытались добиться за счет реформ и торговой либерализации. Однако дискуссии продолжаются уже десятый год, а выработать приемлемое для всех решение не удается.
Конечно, мировые лидеры, участники переговоров и обозреватели единодушно поддерживают процесс, надеясь на успешный итог – «сбалансированное» и «честолюбивое» соглашение, призыв к которому содержится во многих документах. Однако заключение торгового соглашения сродни прыжку с шестом. Важно все делать одновременно – после всесторонней подготовки и разбега нужно совершить одно невероятное движение в надежде перенести тело над планкой. Большинство торговых договоренностей заключаются после нескольких неудачных попыток. Однако Дохийский раунд никак не может преодолеть злополучную планку.
В значительной степени неудачу можно объяснить устаревшей структурой переговорного процесса и его динамикой: даже самые благие намерения блокируются, когда на уступки предлагается идти сегодня, а потенциальная выгода откладывается на завтра, и когда деление на развитые и развивающиеся страны обрекает большую часть развивающегося мира на роль заведомых аутсайдеров.
Однако еще более фундаментальной причиной провала раунда в Дохе стала неспособность решить главный вопрос, стоящий сегодня перед международным экономическим сообществом: как относятся права и обязанности продвинутых держав, государств с быстрорастущей экономикой и развивающихся стран?
Хотя общепризнанных определений не существует, продвинутые державы – это в целом зрелые экономики, которые пережили индустриализацию и добились высокого уровня доходов на душу населения. Государства с быстрорастущей экономикой отличаются высокими темпами индустриализации, но пока не достигли статуса развитых стран. Развивающиеся страны еще не начали переход на новую ступень. Мировые лидеры разочарованы тем, что мандат, данный переговорщикам, не привел к успеху. Между тем участники консультаций не могут признаться (или предпочитают этого не делать), что изъяны переговоров в Дохе не дадут им возможности не только заключить соглашение, но даже перейти к решению фундаментального вопроса.
Это лишь означает, что настало время отказаться от тщетных попыток «спасти» Доху. На протяжении целого ряда лет угроза быть обвиненными в провале делала слишком рискованными любые суждения государственных лиц о том, что переговоры зашли в тупик. Переговорщики одержимы навязчивой идеей: как избежать появления мертвой кошки на своем крыльце. Но для системы многосторонней торговли гораздо опаснее делать вид, что в один прекрасный день удастся каким-то образом договориться, чем признать горькую правду: продление агонии в Дохе лишь ставит под угрозу международную торговлю, перспективы ее либерализации и реформы под руководством ВТО.
Чтобы избежать подобного исхода, следует спасти любые частичные договоренности, которые можно выжать из нынешнего раунда, и уйти от болезненных вопросов. Затем мировым лидерам и стратегам торговли следует немедленно перенаправить энергию, инициативность и бонусные мили, накопленные благодаря частым поездкам в Доху, на выдвижение новых инициатив. Они нужны для восстановления доверия к ВТО и сохранения организации в качестве динамичной площадки для совершенствования и проведения в жизнь четких правил мировой торговли.
Определение успеха
Еще на первых встречах, которые привели к раунду в Дохе, возникли непреодолимые препятствия, о чем свидетельствовал провал министерской встречи ВТО в Сиэтле в 1999 году. Когда после событий 11 сентября 2001 г. переговоры в Дохе все же начались, их участники не смогли договориться о целях и задачах, а также путях их достижения.
Суть инициативы заключалась в использовании реформ и либерализации торговли для стимулирования экономического роста и уменьшения бедности в мире. Первоначально для переговоров выбрали 21 тему, включая сокращение сельскохозяйственных торговых барьеров, отказ от экспортных сельскохозяйственных субсидий, снижение внутренних дотаций, искажающих мировую торговлю, существенное облегчение доступа к рынкам промышленных товаров и более открытую торговлю услугами. Хотя экономисты доказали, что государства выиграют от одностороннего введения подобных мер, большинство политических лидеров и участников переговоров предпочли бы обменять рыночные реформы в своих странах на упрощение доступа к другим рынкам.
Первоначально раунд в Дохе рассчитывали завершить к началу 2005 г., когда администрация Буша могла использовать для одобрения достигнутых договоренностей полномочия по содействию торговле (ПСТ), истекавшие в июне 2007 года. ПСТ – это механизм быстрого заключения торговых соглашений, когда исполнительная власть берет на себя обязательство провести расширенные консультации с Конгрессом и целым рядом избирательных округов США во время торговых переговоров. В обмен на это Конгресс соглашается ускорить процедуру прохождения законопроектов через необходимые слушания и согласования, запретить поправки, блокирующие заключение соглашения, и санкционировать прямое голосование в Конгрессе и Сенате. Однако переговоры потерпели фиаско в мексиканском Канкуне в 2003 году. Тогда блок развивающихся стран и быстрорастущих экономик выразил недовольство в связи с попытками Евросоюза и Соединенных Штатов наложить на них чрезмерное бремя в виде новых обязательств. Заключенное в 2004 г. Рамочное соглашение, в котором наконец-то были определены переговорные параметры раунда, казалось, вдохнуло в него новую жизнь, однако в декабре 2005 г. на встрече министров в Гонконге консультации снова забуксовали, а затем увязли в непреодолимых разногласиях на встречах министров торговли в 2006, 2007 и 2008 годах.
Как свидетельствуют многочисленные саммиты и длительные переговоры последнего десятилетия, неудачу в Дохе нельзя объяснить недостаточно энергичными усилиями. Бывший президент США Джордж Буш только во время своего второго срока участвовал как минимум в сотне подобных встреч с иностранными лидерами и своими советниками. Он сделал завершение раунда в Дохе приоритетом международной торговли и благодаря активности и успешному продвижению торговой повестки дня сумел добиться заключения всеобъемлющих соглашений о свободной торговле с 17 странами Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.
Администрация Буша определила три критерия успеха переговоров в Дохе. Прежде всего, любой исход должен содействовать росту и развитию мировой экономики посредством создания новых торговых потоков, особенно между государствами с быстрорастущей экономикой и развивающимися странами. Принимая во внимание, что суммарно эти экономики обеспечивают половину мирового ВВП и растут в два раза быстрее развитого мира, администрация решила, что переговорщики не смогут выполнить стоящие перед ними в Дохе задачи ускорения экономического роста и уменьшения бедности, если страны с быстрорастущей экономикой не снизят пошлины и беспошлинные барьеры.
Во-вторых, Белый дом решил, что достижение заключительного соглашения увеличит возможности американского экспорта сельскохозяйственной продукции, промтоваров и услуг – в частности на таких быстрорастущих рынках с высоким потенциалом, как Бразилия, Китай и Индия. Наконец, администрация посчитала, что любое соглашение в Дохе позволит избежать усугубления экономической изоляции в Соединенных Штатах или других регионах.
Слоны, прячущиеся за мышами
Когда летом 2008 г. переговоры снова потерпели фиаско, ни одна из целей, поставленных администрацией Буша, не была достигнута. Стремительно меняющийся характер глобальной экономики почти с самого начала сделал неактуальным и устаревшим принятое в Дохе деление на развитые и развивающиеся страны. И, хотя в прошедшее десятилетие стало очевидно, что быстро растущие экономики превратились в главную движущую силу мирового хозяйства, представления этих государств о собственных потребностях и обязанностях не успевали за происходящими переменами.
В настоящем виде предложенные в Дохе тексты соглашений предполагают два вида обязательств – одни должны взять на себя развитые страны, а другие – страны, характеризующиеся как «развивающиеся», которые составляют большинство членов ВТО. Фактически для более двух третей стран, входящих в категорию «развивающихся», предусмотрены всевозможные оговорки и исключения в обязательствах, в результате для них это бремя намного легче того, что в целом возлагается на государства, соответствующие официальным критериям этой категории.
Сюда относятся так называемые «наименее развитые страны», а также «небольшие и уязвимые экономики». Противясь во имя интересов развивающихся стран дальнейшему открытию своих рынков, такие государства, как Бразилия, Китай, Индия и ЮАР в действительности занимают позицию, противоречащую интересам данной группы. На переговорах в Дохе эти страны с быстрорастущими экономиками минимизировали трудные решения об открытии рынков, стремясь добиться максимальной гибкости для развивающихся стран. И им оказалось легче избежать трудных и малоприятных переговоров об обеспечении большего доступа на рынки друг друга и сосредоточиться на общей для них повестке дня – а именно на том, чтобы побудить развитые страны взять обязательства по открытию своих рынков. В результате возникла ситуация, которую один африканский посол в ВТО охарактеризовал весьма точно: «Слоны, прячущиеся за мышами».
Ряд растущих и развивающихся государств, среди которых Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гонконг, Малайзия, Пакистан и Сингапур, попытались призвать страны с быстрорастущей экономикой вносить более существенный вклад. Однако эти предложения были либо проигнорированы, либо подвергнуты жесткой критике – прежде всего Бразилией, Индией и ЮАР. Когда летом 2008 г. Бразилия, чтобы спасти раунд в Дохе, попыталась дистанцироваться от развивающихся стран, она сама оказалась объектом критики, которой периодически подвергала других.
Особенно острая дилемма стояла перед китайскими переговорщиками. Производственный и экспортный бум Китая – это явление, с которым участники торговых переговоров никогда прежде не сталкивались. Возможно, страх перед дальнейшим ростом импорта из Китая был причиной постоянных неудач в Дохе, о которой предпочитали не говорить. Хотя Пекин может получить огромную выгоду от успешного завершения Дохийского раунда, многие в Китае сопротивляются либерализации, указывая на то, что страна уже в значительной мере открыла свой рынок, когда в 2001 г. присоединилась к ВТО и пошла на большие уступки иностранным державам, согласившись на заведомо неравные условия. Все эти факторы в совокупности не позволили Пекину отмежеваться от других «новых рынков», даже если у него были намерения спасти раунд переговоров в Дохе.
Сама конструкция, предполагающая деление на развитые и развивающиеся страны, представляется все более очевидным анахронизмом. ВВП Китая уже превысил ВВП Японии и, скорее всего, превысит ВВП США до того, как удастся ратифицировать какое-либо соглашение в Дохе. Тем временем Международный валютный фонд предсказывает, что к середине десятилетия Индия обгонит по ВВП Германию, Бразилия опередит Францию и Великобританию, Мексика обойдет Канаду, а Индонезия и Турция – Австралию.
Вне всякого сомнения, продвинутые (развитые) экономики должны взять на себя более тяжелое бремя при заключении любого многостороннего экономического соглашения в соответствии с их большей влиятельностью в мировом хозяйстве. В конце концов, даже когда ВВП Китая сравняется с ВВП Соединенных Штатов, годовой доход китайских граждан будет составлять всего треть средних доходов жителей США, а доходы индийцев составят лишь шестую часть от дохода американцев и треть дохода китайцев. И все же размер и траектория роста быстроразвивающихся экономик, а также тот факт, что некоторые из них в настоящее время являются ведущими производителями и экспортерами в таких ключевых отраслях, как химическая промышленность, информационные технологии, производство автозапчастей, фармацевтических препаратов и экологических товаров, ставят эти страны в особое положение. Структура и динамика переговоров в Дохе не отражает происходящую эволюцию, что и предопределило их провал.
Препятствия в Дохе
То, что переговорная структура в Дохе сваливает в одну кучу быстро растущие и развивающиеся экономики, ведет к давлению со стороны членов своего круга и дает преимущество тем растущим экономикам, которые не склонны открывать свои рынки. В то же время развитые и развивающиеся страны, а также быстрорастущие экономики, которые могли бы поддержать более честолюбивые цели переговоров в Дохе, были лишены возможных преимуществ.
Кроме того, повышенное внимание к жестким формулам сокращения пошлин вместо более свободных и целенаправленных переговоров по конкретным благоприятным возможностям привело к появлению некоего гибрида из жестких формул и гибких моделей, что подорвало переговорную динамику и исключило любой позитивный исход. Это наиболее очевидно в текстах, предложенных на потерпевшей фиаско женевской встрече министров в июле 2008 года. Хотя формулы правильно нацелены на максимальное снижение самых высоких тарифов и пошлин и возлагают наиболее тяжкое бремя на развитые державы, развивающимся странам позволяется намного меньше снижать пошлины и медленнее внедрять сниженные тарифы в реальную практику. Развивающимся странам также предоставлена значительная гибкость в виде исключений из рассчитанного по формуле снижения тарифов; к тому же они настаивают на возможности самим выбирать, какими исключениями воспользоваться, вместо их закрепления на переговорах.
Что касается промтоваров, то эти предложения позволят большинству быстро растущих стран, за исключением Китая и ЮАР, заморозить пошлины к окончанию периода внедрения соглашений в Дохе. По сути дела, эти пошлины останутся на том же уровне, что и в начале переговоров. Из расчетов, сделанных в 2008 г., вытекает, что развитые экономики обеспечат более 75% всех действий по открытию рынков, которые обсуждаются в Дохе, что значительно превышает их нынешнюю долю в 53% и их снижающуюся долю в мировом ВВП.
Рамочное соглашение связано и с проблемой торговли сельскохозяйственной продукцией. Действующие предложения призывают развитые страны к устранению экспортных субсидий, снижению внутренних субсидий, искажающих торговые потоки, и к уменьшению пошлин и беспошлинных барьеров для импорта. Развивающиеся страны также обязываются снизить торговые барьеры, но в меньшей степени. Хотя отступление от правил снижения пошлин по расчетной формуле позволяет как развитым, так и развивающимся странам защитить некоторые позиции, чрезвычайная гибкость, предоставляемая развивающимся экономикам, опять же даст возможность странам с быстрорастущей экономикой отрицать необходимость снижения большинства рассчитываемых по формуле пошлин. Например, пакет 2008 г. позволил бы Индии защитить почти 90% нынешней торговли сельскохозяйственной продукцией от снижения пошлин, а Китаю – исключить из перечня товары, представляющие повышенный интерес как для развивающихся, так и для развитых стран, включая кукурузу, хлопок, сахар, рис и пшеницу.
Более того, предлагаемые в проекте соглашения меры защиты стран с растущей экономикой и развивающихся стран повышают вероятность того, что торговые барьеры в этих государствах могут фактически стать еще выше, чем до начала переговоров в Дохе.
Пытаясь продвигать вперед Дохийский раунд, руководство ВТО постаралось определить ключевые параметры нового соглашения, предлагая различные проекты текстов. Эти документы последовательно сужали определения и в некоторых случаях не позволили договориться о конкретных и существенных уступках по разным видам продукции. Участники переговоров в течение десяти лет находятся в ловушке переговоров о переговорах.
Фактически сочетание в проекте рамочного соглашения жестких формул и нечетко определенных, не поддающихся согласованию гибких условий поставило всех переговорщиков в оборонительную позу с самого начала. Им оставалось предполагать, что избиратели в их государствах, чутко реагирующие на вопросы, связанные с импортом, окажутся перед суровой реальностью снижения таможенных пошлин. Вместе с тем они понимали, что не смогут представить своим избирателям конкретные выгоды от более свободного доступа на рынки других стран, что было необходимо для того, чтобы заручиться внутриполитической поддержкой. Наконец, резкий дисбаланс в гибкости на переговорах между растущими странами и развитыми государствами оставил обеим сторонам мало места для маневра. Даже если бы новые быстрорастущие рынки захотели пойти на более существенные компромиссы, их предложения сегодня выглядели бы как односторонние уступки, поскольку развитые страны в ответ не могли бы предложить им ничего ценного.
Неравные переговорные позиции – далеко не единственная структурная помеха, из-за которой консультации забуксовали. На многосторонних торговых переговорах Соединенные Штаты и другие развитые страны все время слышат призывы первыми пойти на уступки, чтобы возродить угасающие переговоры. Идея состоит в том, что значительные односторонние уступки, на которые согласится пойти крупная экономика, побудят других участников к ответным шагам, и в конечном итоге это всем принесет дивиденды. Вместе с тем подобные усилия со стороны Америки – даже те уступки, которые были предложены в ответ на шаги других стран, – не привели к адекватному отклику партнеров по переговорам. Со временем компромиссы, на которые пошли США и Евросоюз, были успешно присвоены другими странами и стали для них точкой отсчета для предъявления новых требований.
Запутанная структура переговоров усугубляется тем, что полное единство по всем вопросам повестки дня – одно из условий успеха в Дохе. Это означает, что переговоры считаются безрезультатными до тех пор, пока не будет достигнуто согласие по всем вопросам без исключения. Это правило было призвано поощрить государства принимать непростые решения в одной области в надежде, что они смогут рассчитывать на получение выгод в других сферах. Однако это привело к тому, что отдельные участники начали вставлять палки в колеса, стремиться к вульгаризации и упрощению или к тому, чтобы «въехать в рай» на чужом горбу (благодаря уступкам других стран).
Время также играло против успешного исхода раунда в Дохе. В течение многих лет окна политических и экономических возможностей для выработки соглашения открывались и закрывались. Окончание срока действия ПСТ убило в торговых партнерах Соединенных Штатов всякое желание рисковать, поскольку они больше не были уверены в том, что Конгресс не попытается внести поправки в текст достигнутых договоренностей. Внутриполитические проблемы в Индии накануне выборов 2009 г., наверное, уничтожили возможность достижения компромиссного решения в 2008 году. Бразилия занимала оборонительную позицию всякий раз, когда заходила речь о допуске на ее рынок промышленных товаров, ссылаясь на опасность дешевого импорта из Китая и повышения курса национальной валюты. Частые смены правительства в Японии в прошедшее десятилетие ослабляли ее способность договариваться по принципиальным вопросам. Государства – члены ЕС продолжают растрачивать основную часть переговорного капитала на внутренние дебаты о реформах. А Китай, в котором в 2012 г. должна произойти передача власти, не желает рисковать накануне столь важного события.
Риски для системы многосторонних отношений
Несмотря на все эти проблемы, пока еще преждевременно отказываться от многосторонних соглашений и глобальной торговой системы. Если нужны дополнительные доказательства важности и незаменимости ВТО для международной экономики, достаточно вспомнить последний мировой финансовый кризис. Хотя многие страны предприняли протекционистские меры для смягчения его последствий, международное сообщество не скатилось к политике «разорения соседа», чтобы блокировать импорт любой ценой. Подобный результат достигнут во многом благодаря ранее подписанным многосторонним соглашениям о снижении допустимого уровня пошлин, спускным клапанам и механизмам обеспечения выполнения обязательств, предусмотренных в рамках ВТО, а также решению стран «Большой двадцатки» избегать дискриминационных действий в торговле. Помогло и то, что независимый исследовательский центр Global Trade Alert («Страж мировой торговли») – неправительственная организация, изучающая протекционизм в мировой торговле – начал публиковать перечни нарушений странами «Большой двадцатки» взятых на себя торговых обязательств.
Но соглашение о торговле, которое в настоящее время обсуждается в Дохе, не смогло бы предотвратить большинство дискриминационных действий за исключением ограничения роста некоторых совместимых с ВТО пошлин в странах с быстрорастущей экономикой. Уже сам по себе факт того, что раунд в Дохе еще официально продолжается, свидетельствует о неспособности переговорщиков помешать заключению некачественных двухсторонних и региональных торговых соглашений. С начала переговоров в Дохе во всем мире заключено уже свыше 200 подобных соглашений, и сотни других находятся в стадии согласования. Качество этих документов весьма неоднородно. Например, некоторые, заключенные администрацией Буша, устраняют, по сути дела, все барьеры между подписавшими их государствами, тогда как другие исключают целые сектора торговли, искажая принципы торговли и мировые каналы поставок с помощью сложных правил. Эти правила определяют, какой объем продукции должен быть произведен в данном месте, чтобы на нее распространялись правила беспошлинной торговли.
Хотя почти все страны, с которыми США договариваются о заключении двусторонних и региональных торговых соглашений, выступают за достижение реального прорыва в Дохе, подписание не слишком качественных документов уменьшает стремление и политическую волю других стран к появлению авторитетного международного договора. Полноценное и функциональное торговое соглашение с участием большинства государств может внести гораздо больший вклад в мировой экономический рост и благосостояние, чем самые лучшие двусторонние и региональные торговые соглашения. Такой договор может лучше ответить на системные вызовы, такие как субсидии, и сможет значительно шире открыть международные рынки, поскольку подписавшие его страны покажут всему миру, какие новые рыночные возможности появились в их распоряжении в обмен на уступки.
Такое явление, как двусторонние и региональные торговые соглашения, отчасти стали следствием порочного круга. Государства заключают их только потому, что переговоры в Дохе не дают никаких плодов, а двусторонние и региональные договоренности могут дать какие-то конкретные коммерческие результаты. С другой стороны, одна из причин неудач в Дохе кроется в логике некоторых стран, которые думают, что смогут избежать принятия трудных решений, если пойдут путем более легких двусторонних или региональных переговоров. Но по мере того как переговоры в Дохе все больше вырождаются в бесцельную болтовню, мировое сообщество может дойти до критической точки, после которой заключение этих малых соглашений будет считаться более предпочтительным вариантом.
Последняя попытка?
Даже если в интересах спасения раунда переговоров в Дохе основные быстро развивающиеся страны склонились бы к гораздо более решительной либерализации своих рынков, чем та, которая предлагалась в 2008 г., нынешняя структура консультаций и давление лоббистов крайне затруднят подобные решения, если не сделают их абсолютно невозможными. Однако любая попытка спасти переговоры в Дохе с помощью этих предложений по-прежнему порождает сомнения в их конечной целесообразности – как в абсолютном выражении, так и с точки зрения возможной цены. Конечно, если речь идет о соглашении, в котором будут определены условия мировой торговли в течение следующих двух или более десятилетий.
По оценкам таких экспертов, как Гэри Хафбауэр, Джири Шотт и Воань Фоон Вон (Woan Foong Wong) из Института международной экономики Петерсона (июнь 2010 г.), снижение пошлин по предложенной и не принятой в 2008 г. формуле увеличило бы мировой ВВП на 63 миллиарда долларов, или 0,1%. Глобальная торговля выросла бы на 183 миллиарда долларов, что составляет менее половины годового торгового оборота между США и Канадой.
В Институте Петерсона также рассчитали экономический эффект от дополнительных мер в обеспечение предложений 2008 г., включая снижение пошлин в некоторых ключевых отраслях промышленности, 10-процентное снижение барьеров в торговле услугами и успешное завершение торговых переговоров. Согласно оценкам исследователей, эти меры, которые вряд ли будут приняты, для начала увеличили бы мировой ВВП примерно на 283 миллиарда долларов, или 0,5%. Для реализации торговых выгод, которые лишь немного превышают годовой торговый оборот Соединенных Штатов с Канадой и Мексикой, потребовалось бы не менее 10 лет. Фактически единственные поддающиеся измерению преимущества от реализации предложенного плана связаны со снижением пошлин развитыми странами, поскольку непонятно, как растущие экономики решат использовать ту гибкую политику, к которой им разрешено прибегать. В действительности любая потенциальная выгода от предложенного в 2008 г. варианта торгового соглашения была бы прежде всего следствием экономии на уплате пошлин при доступе на рынки развитых стран, а не существенного увеличения новых торговых потоков в быстрорастущих экономиках.
Успешное завершение раунда в Дохе возможно лишь в случае коренного изменения нынешней структуры переговоров, если поставить во главу угла суть и наполнить их конкретикой. Не всем 153 странам – членам ВТО придется ужесточить свои обязательства. Но в конечном итоге, чтобы все участники переговоров получили реальную пользу, необходимо, чтобы 10–12 стран с быстро растущей экономикой пошли на серьезные уступки.
Что касается промышленных товаров, процесс можно было бы сдвинуть с мертвой точки, если бы развитые страны и страны с растущей экономикой проводили более гибкую политику уменьшения пошлин, снижая больше или меньше те уровни, которые заложены в применяемых ныне формулах. Введение новых протекционистских барьеров в сельском хозяйстве следует разрешить лишь в том случае, если они будут временной мерой для обуздания резкого роста импорта, грозящего ущербом аграрному сектору. В части доступа к рынкам быстро развивающихся стран придется согласиться с меньшей гибкостью. Развитые государства могли бы улучшить свои предложения относительно снижения внутренних субсидий фермерам. Однако последнее десятилетие ясно продемонстрировало, что снижение сельскохозяйственных субсидий мало что дает с точки зрения доступа к новым рынкам. Наконец, участникам переговоров следовало бы начать более серьезные консультации о рынке услуг, поскольку до сих пор серьезный диалог в этой области не начинался.
Вариации на эти и другие темы, призванные побудить к реальной дискуссии по конкретным торговым барьерам, придать новый импульс дискуссиям и создать влиятельное лобби для поддержки соглашения внутри отдельных стран, до сих пор не привели к каким-либо целенаправленным действиям. До тех пор пока сохраняется нынешняя переговорная динамика, у влиятельных стран, таких как Бразилия, Китай, Индия, Индонезия и ЮАР нет повода и стимула для того, чтобы отказаться от беспроигрышной позиции и рисковать навлечь на себя огонь критики со стороны других развивающихся стран за нарушение солидарности.
Как двигаться вперед
Единственный способ, при помощи которого мировые лидеры могли бы сегодня усовершенствовать здоровую многостороннюю торговую систему, заключается в освобождении от удавки Дохийского раунда. Еще одна серия предложений не станет выходом из сложившейся ситуации. Участники должны объявить о закрытии раунда переговоров в Дохе в 2011 году. При наличии эффективного руководства и доброй воли из нынешних консультаций можно было бы выжать несколько не столь масштабных, но значимых соглашений. Главный кандидат на спасение – это пакет по облегчению торговли, предмет серьезных переговоров между развитыми государствами, державами с растущей экономикой и развивающимися странами. Принятие этого пакета уменьшило бы стоимость перемещения товаров через границы и, по оценкам Института Петерсона, могло бы увеличить мировой ВВП на 100 миллиардов долларов.
Можно также спасти почти уже согласованный блок по сельскохозяйственному экспорту, состоящий из соглашений по экспортным кредитам, продовольственной помощи, государственным торговым компаниям и отмене экспортных субсидий. Переговорщикам нужно попытаться завершить консультации по двум экологическим договорам, один из которых предусматривает сокращение субсидий промышленным рыболовным флотилиям, виновным в чрезмерном вылове рыбы в Мировом океане, а другой – отмену пошлин и беспошлинных барьеров для «зеленых» технологий в основных странах – производителях и потребителях.
Эти составные части неудавшегося широкомасштабного соглашения в Дохе в случае доведения их до логического завершения могут дать ощутимые результаты в ближайшей перспективе. Теоретически мировые лидеры могли бы поручить своим представителям выделить эти соглашения из общей массы и подписать уже в этом году. Но, учитывая сложившуюся обстановку, даже эти небольшие договоренности рискуют оказаться недостижимыми. Однако стоит попытаться сделать хотя бы это. И если подобные действия будут предприняты, но заблокированы, по крайней мере, СМИ могли бы осветить процесс переговоров в Дохе и объяснить, по чьей вине они сорваны.
И самое главное, мировым лидерам не нужно ждать и раздумывать, смогут ли они заключить эти соглашения до того, как будет заложен фундамент для начала нового раунда многосторонних переговоров под эгидой ВТО. Формат многосторонних переговоров, подобных тем, что проводились до раунда в Дохе, нельзя считать отжившим, но теперь странам – членам ВТО следует начать с чистого листа, чтобы сначала восстановить доверие и придать новый импульс переговорному процессу, и лишь затем снова попытаться использовать данную модель. В ближайшей перспективе лучшим подходом могут стать переговоры в более узком составе и заключение второстепенных соглашений, имеющих коммерческую ценность.
Одним из очевидных методов может быть расширение номенклатуры товаров в многостороннем соглашении об информационных технологиях. Благодаря этому все крупные производители и потребители за исключением Бразилии отменили бы пошлины. Аналогичное многостороннее соглашение, предназначенное для снижения стоимости оказания медицинских услуг, могло бы быть инициировано по целому ряду товаров, включая фармацевтические препараты, медицинское оборудование и услуги здравоохранения. Подобные переговоры следует вести по правилам ВТО, и их итог должен быть в равной степени применим ко всем членам организации, независимо от того, принимали они участие в переговорах или нет. Вместе с тем право наложить вето на это соглашение может предоставляться лишь тем, кто решил участвовать в переговорах и вносить свой вклад, повышая шансы на конструктивное взаимодействие между большинством заинтересованных сторон.
Международное сообщество способно также выделить некоторые практические или новаторские элементы из существующих двусторонних или многосторонних договоренностей и попытаться перенести их на международный уровень. К ним могут относиться положения, касающиеся инвестиций, прозрачности, электронной торговли, услуг, способствующих созданию предпринимательской инфраструктуры, или даже улучшенная защита прав интеллектуальной собственности, за которую ратует ВТО. Члены организации взяли бы обязательство улучшать деловой климат в своих странах, ориентируясь на результаты таких международных показателей, как Индекс легкости ведения бизнеса, разработанный Всемирным банком, и Индекс восприятия коррупции, разработанный международной организацией «Трансперенси Интернэшнл».
Для уменьшения негативных последствий двусторонних и региональных торговых соглашений стоит предусмотреть возможность присоединения к ним стран-единомышленниц. Тем временем заинтересованным членам организации следует подумать о рассмотрении особых случаев и разрешении споров в рамках ВТО для улучшения некачественных двусторонних и региональных соглашений, не отвечающих букве и духу организации, и добиться того, чтобы эти договоренности охватывали «всю торговлю». Это помогло бы утвердить фундаментальные принципы открытой торговой системы, воспрепятствовать распространению неадекватных двусторонних и региональных торговых соглашений и заложить основу для заключения более качественных соглашений в будущем.
Соединенные Штаты в состоянии внести важный вклад в оживление переговоров в рамках ВТО, обновив ПСТ в Конгрессе, даже если они будут ограничиваться многосторонними торговыми соглашениями. Обновленные ПСТ поддержали бы стремление администрации Обамы добиться одобрения Конгрессом до сих пор не подписанных соглашений о свободной торговле с Колумбией, Панамой и Южной Кореей. Они также способствовали бы повышению доверия со стороны партнеров, которые в этом случае с куда большим желанием выслушали бы предложения США и шли на риск на будущих переговорах по торговле.
Тем временем Соединенные Штаты и другие развитые страны могут изъявить желание проанализировать свои программы торговых преференций для развивающихся стран: приносят ли они реальную помощь тем государствам, которые больше всего в ней нуждаются, и не убивают ли они у этих стран желание обменять уступки в торговле на доступ к рынкам.
Когда осядет пыль, поднятая Дохийским раундом, США и другим членам ВТО следует бесстрастно проанализировать успехи и неудачи, чтобы приготовиться к следующему раунду. Им следует подумать об упрощенных формулах, которые могут привести к реальным переговорам о пошлинах, беспошлинных барьерах, субсидиях и услугах. Нужно подумать о таких взаимных уступках и компромиссах, которые придадут реальный импульс переговорам и воодушевят электорат, действительно заинтересованный в свободной торговле. Участникам переговоров следует также начать рассмотрение новых вопросов, таких как продовольственная безопасность и ущерб от запретов на экспорт.
Однако многосторонние переговоры не увенчаются успехом, если не будут учтены различия в экономическом развитии, перспективах и возможностях внутри так называемого развивающегося мира. Стоит вспомнить, что одной из наиболее важных отличительных особенностей ВТО является включение развивающихся экономик в процесс управления и принятия решений. Так было с самого начала возникновения этой организации в 1948 г., когда она называлась Генеральным соглашением по тарифам и торговле. В узком кругу большинство стран с быстро растущей экономикой и развивающихся стран признает, что в их интересах преодолеть все более надуманное разделение на развитые и развивающиеся страны, когда речь заходит о таких глобальных вопросах, как торговля, международные финансы и изменение климата. Преодоление ограниченности раунда переговоров в Дохе ускорит появление новых моделей. Это могут быть многосторонние консультации, призванные предложить лучший баланс между выгодами и обязательствами или договоры между несколькими государствами, в которых устанавливается более высокая планка, но которые предусматривают участие всех стран-единомышленниц.
Возможно, Доха мертва, но если государства согласятся с общеизвестными истинами, которые до сих пор никто не желал признавать, мировое сообщество сумеет вдохнуть новую жизнь в систему многосторонней торговли и укрепить ее. ВТО хорошо служит миру, но рискует утратить актуальность по мере того, как раунд переговоров в Дохе продолжает снижать доверие к этой организации и истощать ее ресурсы. Сейчас самое время освободить тех, кто стремится к либерализации торговли, и двигаться дальше.
Сюзан Шваб была торговым представителем США с 2006 по 2009 годы.

Миноритарий ММВБ, "Еврофинанс Капитал", просит ЦБ заблокировать сделку по слиянию ММВБ и РТС, предлагая свой вариант развития биржи. В интервью BFM.ru президент ММВБ Рубен Аганбегян объясняет, почему у альтернативной формы сделки нет перспектив
Гендиректор ООО "Еврофинанс Капитал" Олег Прексин обратился в ЦБ с просьбой заблокировать соглашение по слиянию крупнейших российских бирж - ММВБ и РТС, сообщил "Коммерсантъ".
На сегодняшний день Центробанк является владельцем самого большого пакета акций ММВБ (ему принадлежит 29%), ВТБ - 7,1%, Сбербанку - 6,9%, Газпромбанку - 6,3%, ВЭБу - 10,7%, ООО "ММВБ-Финанс" - 4%. Компания "Еврофинанс Капитал" (принадлежит структурам, связанным с Еврофинанс Моснарбанком), владеет 6,2% акций биржи.
Напомним, что соглашение о слиянии ММВБ и РТС было подписано 1 февраля этого года. По согласованной схеме, ММВБ должна приобрести контроль в РТС у пяти акционеров - "Ренессанс Капитала", "Атона", Альфа-банка, "Тройки Диалог" и "Да Винчи". В результате сделки акционеры РТС должны получить 35% стоимости своих пакетов денежными средствами, а 65% - через обмен своих акций на акции объединенной биржи с коэффициентом 1:3. Кроме того, предусмотрен опцион на обратный выкуп у акционеров РТС акций ММВБ на общую сумму 36,4 млрд рублей, если в течение двух лет биржевой холдинг не выйдет на IPO. 29 июня ММВБ И РТС подписали юридически обязывающий договор о слиянии.
Стоимость 100% акций РТС составила 34,5 млрд рублей, стоимость 100% акций ММВБ - 103,5 млрд рублей.
В письме Прексина говорится, что слияние бирж по этой схеме нанесет "колоссальный ущерб российской финансовой инфраструктуре", так как выплата 12 млрд рублей частным акционерам РТС существенно снизит собственные средства объединенной биржи - "примерно вдвое". К тому же, если опцион на 36,4 млрд рублей будет исполнен, то "приведет к существенному ухудшению его финансовых показателей и затруднит проведение IPO". На этом основании представитель миноритария ММВБ предлагает ЦБ и всем остальным акционерам заблокировать сделку на собрании 5 августа.
Взамен "Еврофинанс Капитал" предлагает альтернативную схему объединения бирж - путем формирования холдинга на базе фондовой биржи ММВБ.
Предполагается создание совместной компании - ФБ ММВБ (фондовая биржа), в которой нынешние акционеры ММВБ получат 66%, а акционеры РТС - 34%. Это совместное предприятие станет 100%-м владельцем ОАО "РТС" (срочная биржа) и 64% акций ЗАО "ММВБ" (валютная биржа). Оставшиеся 36% этого закрытого акционерного общества достанутся Банку России. ЗАО "ММВБ", в свою очередь станет 100%-м владельцем всей посттрейдинговой инфраструктуры, передает РИА "Новости".
Предложения "Еврофинанс Капитала" прокомментировал BFM.ru президент ММВБ Рубен Аганбегян.
- Будет ли интересна акционерам новая схема объединения бирж?
- Если пользоваться вашими словами, то она не интересна и не перспективна. По нашему мнению, данная форма сделки несет целый ряд рисков и не отвечает на целый ряд вызовов, стоящих перед объединенной биржей.
Прежде всего, предлагаемая схема создает два холдинга с разными акционерами. При этом Центральный банк оказывается в холдинге уровнем ниже того, в котором оказываются все остальные акционеры. В результате этого ЦБ как бы запирается на этом уровне, и выход его из биржи затрудняется.
В качестве механизма для выхода наши коллеги предложили индивидуальный двусторонний выкуп в течение пяти и даже более лет, а не через рыночные транзакции. Это не соответствует ни первоначальным планам Центрального банка, который заявлял о намерении скорейшего выхода из биржи, ни поручению президента, который тоже требовал определенной понятности временных сроков и прозрачности реализуемых механизмов.
Рубен Аганбегян
Глава ММВБ
" Данная форма сделки несет целый ряд рисков и не отвечает на целый ряд вызовов, стоящих перед объединенной биржей "
- Недоработка механизма выхода ЦБ из капитала биржи - это единственная серьезная проблема предложенной схемы?
- Нет, существует и другой аспект - это взаимоотношения внутри холдинга. ММВБ уже сталкивалось с этой проблемой, когда в рамках одной биржи существовало два различных юрлица: фондовая биржа с одним составом акционеров, валютная - с другим. Это создавало напряжение, и было поводом для критики.
Именно поэтому одной из задач, стоящих перед менеджментом, стал переход Группы ММВБ на одну акцию. Сейчас у нас большинство акционеров оказались на одном уровне - на уровне холдинга ЗАО "ММВБ", и это создает дополнительную прозрачность потоку финансов внутри группы.
Предложенная ["Еврофинанс Капиталом"] схема фактически возвращает нас к прежнему порядку. Наш вопрос коллегам, как разрешать эту проблему, так и остался без ответа. Сказали, что в процессе работы разберемся.
Однако, помимо этой проблемы, новая схема делает актуальным еще один вопрос: как убедить акционеров в том, что в новой схеме есть плюсы по сравнению с другой схемой. Почему акционеры должны отказаться от каких-то своих прав и прочего всего остального?
- Представители "Еврофинанс Капитала" видят главный риск предлагаемой конструкции в том, что объединенная биржа будет менее устойчива финансово. Ей понадобятся средства на выкуп акций РТС. Насколько высоки риски?
- Этот риск несущественен. Наш капитал на последнюю отчетную дату - 55 млрд рублей.
Коллеги в своих подсчетах использовали капитал, который был ранее, до присоединения фондовой биржи к головной компании. В максимальном сценарии - это если все-все акционеры РТС захотят полного выкупа по этой 35%-ной доле, - сумма будет в районе 12 млрд рублей.
Правда, мы уже знаем, что не все акционеры будут подавать на выкуп, целый ряд из них заявлял, что они будет конвертировать свои пакеты полностью либо частично. Реальный финансовый выход мы ожидаем в меньшей сумме, но даже если мы возьмем максимальную сумму, при капитале 55 млрд рублей сумма в 12 млрд рублей не должна нанести финансового ущерба.
- В соглашении об объединении акционерам РТС предусмотрен опцион, позволяющий продать свои доли, если биржа не выйдет на IPO. Объединенная площадка сумеет справиться с этой проблемой?
- Коллеги в этом смысле задекларировали сумму 36 млрд рублей. Эта цифра ошибочна. При худшем сценарии мы ожидаем, что сумма не будет больше 25 млрд, но вероятность такого сценария не велика. Мы тоже понимаем, что не все акционеры будут этим пользоваться, и здесь целый ряд еще нюансов.
Такой сценарий возможен только в одном случае: если контролирующие акционеры ММВБ откажутся от IPO без объяснения причин, и даже без учета рыночной конъюнктуры. В случае, если мы идем на IPO, тогда вообще нет никаких выплат. Если IPO откладывается из-за рыночной конъюнктуры, то там есть несколько вариантов: либо вообще нет выплат, либо они происходят в течение довольно длительного срока.
- Насколько все-таки велика вероятность пересмотра механизма сделки?
- Я считаю, что эта вероятность мала. Собрание 5 августа покажет, насколько акционеры поддерживают предложенный путь, разработанный акционерами обеих бирж.
Участники рынка делают ставки
Председатель правления ОАО "РТС" Роман Горюнов заявил BFM.ru: "Любая новая форма сделки предполагает отказ от уже существующей. Это означает, что договаривающимся сторонам нужно будет снова сесть за стол переговоров. Новые переговоры потребуют огромного количества времени и сил. В нынешней ситуации у двух сторон может не оказаться мотивации договариваться, поэтому исход новой сделки предсказать трудно".
По мнению начальника управления развития продуктов ФГ БКС Дмитрия Кашаева, письмо вряд ли способно остановить слияние двух бирж, так как по сути это не только экономический, но и политический проект. "Данное письмо можно расценивать как ничто иное, как попытку выторговать хорошие условия. В отличие от ряда крупных миноритариев ММВБ, "Еврофинанс Капитал" не успела купить акции РТС, и поэтому сейчас пытаются махать кулаками после драки", - считает Кашаев.
Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами" Андрей Гриценко отмечает, что шанс изменить условия сделки всегда существует. Но шанс изменить сделку по причине недовольства миноритария минимальный, так как у миноритария есть юридические и законодательные препоны.
Глава брокерского дома "Открытие" Евгений Данкевич говорит, что пока народ выясняет, какой лопатой копать канаву - штыковой или совковой - канава выкопана не будет. "Наверное, позиция тех, кто недоволен схемой сделки по слиянию ММВБ и РТС, имеет право на существование - я сам не адепт слияния. Но пока мы выясняем, какая схема по объединению правильна, игроки рынка утекают на международные площадки. Уж поверьте, Лондон и Гонконг не будут сидеть и ждать, когда ММВБ и РТС сольются правильно. Они с удовольствием примут наших эмитентов, наших участников и наши деньги. Нужно не пилить сук, на котором мы все сидим, а уже работать".
При этом ряд опрошенных BFM.ru специалистов считают, что появление письма ООО "Еврофинанс Капитал" - знак. Дело в том, что 50% минус 2 акции акций Еврофинанс-Моснарбанк принадлежат государственному фонду национального развития Венесуэлы - FONDEN, а пакетами в 25 плюс 1 акция владеют банки ВТБ и Газпромбанк. Финансисты считают, что компания с такими государственными корнями вряд ли стала бы проявлять самодеятельность и предполагают, что, видимо, кому-то из чиновников не очень нравится сделка по слиянию бирж и суммы предполагаемых выплат. Представители ООО "Еврофинанс Капитал" не были доступны для комментариев

Закон притяжения денег
«Месторасположение финансового центра значения не имеет. Главное — создать обстановку, при которой в Россию тянулись бы финансисты»
На прошедшем недавно Петербургском международном экономическом форуме власти вновь вспомнили о проекте международного финансового центра (МФЦ). На этот раз вопрос зашел о его территориальном расположении: строить МФЦ в центре Москвы или вынести его за МКАД. Между тем для меня остается загадкой: зачем идею перевода чиновников за Московскую кольцевую автодорогу «скрестили» с проектом МФЦ? Учитывая современные информационные технологии, конкретное месторасположение финансового центра значения не имеет. Может ли он в принципе появиться в нашей стране при текущих условиях — вот на этот вопрос надо искать ответы.
Прежде всего я не думаю, что мы его создадим благодаря указаниям сверху. Такие финансовые образования обычно не возникают по инициативе правительств. Становление МФЦ — это результат исторически сформировавшейся особой культуры, а она складывается там, куда тянутся люди, которые хотят торговать ценными бумагами и следить за этим процессом. Под их запросы самостоятельно возникает необходимая инфраструктура, там оседают адвокатские и банковские конторы и прочие фининституты. Не случайно лондонский Сити расположился много лет назад именно в центре города, удобном для встреч различных финансовых агентов.
Мои знакомые финансисты сказали, что самые крупные финансовые площадки в мире были созданы в зоне прецедентного права: в Англии, Америке, Гонконге. Почему так? Обстановка прецедентного права гораздо более благоприятна для этой среды, она вызывает большее доверие у инвесторов, чем континентальное право. Поэтому ни Франция, ни Германия, которые, несомненно, являются сильными экономическими державами, не имеют таких солидных и известных международных финансовых площадок. В этих странах законы стараются охватить все возможные ситуации, судья же пытается подвести свой вердикт под существующую статью, а не принимать решение, исходя из текущей ситуации и своей ответственности.
В России все иначе. Один англичанин из лондонского Сити сказал русскому бизнесмену: «У вас не прецедентное, не континентальное — у вас толковательное право. Вы можете любой закон толковать в любую сторону». Какой при такой практике можно построить финансовый центр? Ответ: никакой! Сначала необходимо создать нормальное правовое государство, чтобы в нем не сидело по тюрьмам сто с лишним тысяч предпринимателей по каким-то нелепым обвинениям, а уже потом замахиваться на более масштабные проекты. Ведь, говоря словами Маяковского: «В коммунизм из книжки верят средне. «Мало ли что можно в книжке намолоть!»
Если это учесть, тогда будет совсем другое дело. Если мы захотим создать такой центр в Москве, необходимо сделать нашу страну привлекательной. А в привлекательной России формировать привлекательную для инвесторов обстановку. Именно по такому пути развивались мировые финансовые площадки.
Пока что у нас нет главного — исторически сформировавшейся особой культуры, необходимой для создания МФЦ. На ее взращивание требуется немало времени.
В чем я разделяю идею президента Дмитрия Медведева — так это в том, что действительно хорошо было бы иметь в Москве такой МФЦ, хотя бы региональный (для СНГ или Восточной Европы). Но нужно на эту тему не разговаривать, не лозунгами бросаться, а дело делать. Бизнес не любит шума, деньги должны делаться в тишине. Совершенно не обязательно начинать с громкой рекламы и звонких речей. Достаточно создать такую обстановку, при которой в Россию тянулись бы деньги. А пока что они, наоборот, бегут в другие страны. За первые 4 месяца этого года уже утекло порядка 30 миллиардов долларов.
Евгений Ясин
научный руководитель НИУ «Высшая школа экономики»

«Нам должны немножко доверять»
Петр Шепотинник, отборщик ММКФ, рассказывает, чего ждать от фестиваля в этом году
Московский фестиваль начался. Десять дней в Москве будут показывать не голливудские, а настоящие авторские фильмы, будет, как всегда, множество программ, картин, встреч и дискуссий. Отборщик и директор по связям с общественностью Петр ШЕПОТИННИК за долгие годы работы на фестивале заслужил репутацию бескомпромиссного и строгого ценителя кино, его «8½фильмов» является самой популярной программой фестиваля, а еще он делает передачу «Кинескоп» на канале «Культура», снимает документальные фильмы, теперь задумался и об игровой картине. «МН» предлагает читателям посмотреть на фестиваль его глазами.
—Все говорят, что у вас нынче очень хороший конкурс. С чем это связано?
—А кто это говорит? По-моему, это мы сами и сказали. Его же пока никто не видел. Стараемся себя хвалить, хотя знаем меру. Потому что понимаем: есть обойма режиссеров, которые приезжают только на один-единственный фестиваль— в Канн. Вот как фон Триер. Теперь, может, к нам приедет. Ну пока не он сам, а его фильм «Меланхолия».
Если серьезно, то в этот раз мы гораздо лучше сгруппировались. И к нам больше пришло картин. Мы честно отсматривали эти бесконечные потоки, многое, естественно, отсеивалось, но кое-что оказалось достаточно неожиданным. И за счет этого фестиваль очень сильно расширился.
Два французских фильма с рискованным набором сюжетных ходов, героев. «Перевод с американского» Жан-Марк Барр (актер Люка Бессона— «Голубая бездна», фон Триера— «Рассекая волны», «Танцующая в темноте», поклонник «Догмы» и актуальный режиссер.— «МН») сделал в сотрудничестве с Паскалем Арнольдом. А вот вторая картина— мы не сразу решились ее взять, но нам показалось любопытным проверить реакцию нашего зрителя— это ремейк фильма Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна». Взяли пьесу Людмилы Разумовской 70-х годов, и получилась достаточно актуальная картина «Эскалация» режиссера Шарлотты Сильвера. С Кармен Маура в главной роли.
Удалось найти два интересных русских фильма. «Сердца бумеранг» Николая Хомерики мы посмотрели первыми, и он нам понравился. К тому же Хомерики никогда не побеждал в конкурсе большого фестиваля, а ему не то что не хотелось пробовать В общем, он решил, пусть эта картина будет у нас. Что касается фильма Сергея Лобана «Шапито-шоу», то, на мой взгляд, он мог бы прозвучать где угодно. Но он показал его только нам, потому что в свое время именно наш фестиваль открыл его как автора, когда он снял за 3 тыс. долл. фильм «Пыль». Теперь его фильм стоит дороже, но не очень много, где-то в районе полутора миллионов. Это такая большая бурлескная, залихватская, задиристая картина, с невероятно позитивной энергетикой. Там нет ни одного плохого героя, там все поют, там потрясающий саундтрек, специально написанные песни. И готовится куча всяких затей, которые будут сопровождать появление этой картины.
Вообще-то я стараюсь все-таки не хвалить заранее конкурсные работы. Но когда нас начинают ругать, еще ничего не видев... «Зачем вы открываетесь «Трансформерами»? Да потому что это блокбастер, который может привлечь внимание людей. Открытие и закрытие фестиваля— это совершенно особый жанр, и тут отборочная комиссия не имеет особого влияния. Это акт нашей кооперации не с авторским кино, из которого конкурс состоит в первую очередь, но с мейнстримом. В котором тоже случаются серьезные работы. Создатели готовы сделать свою мировую премьеру в России. Им показалось это интересным. Сюда приедет около сотни иностранных журналистов специально посмотреть картину. Я считаю, что это нормально. Наш рынок считают перспективным. И он таковым является, нравится нам это или нет.
А на закрытии будет показана картина с очень крупной звездой международного класса— Хелен Миррен, я надеюсь, она сама у нас будет. Фильм называется «Расплата», ее снял известный режиссер Джон Мэдден, который поставил «Влюбленного Шекспира».
Определенное преимущество ММКФ дает кино стран так называемого восточного лагеря. Когда ты приезжаешь в Болгарию или Польшу, ты видишь, что призрак Советского Союза там присутствует даже более реально, чем в России. Да, они влились в Европу, но при этом переживают ностальгию, которая Европу мало интересует. А нас это волнует, мы сами до сих пор ее переживаем. Поэтому польские, венгерские, болгарские, чешские картины нам более понятны.
Из Польши пришло несколько картин, мы выбрали две. Но они очень хорошие. Сделаны режиссерами, которые связаны с нашим фестивалем. Феликс Фальк когда-то уже показывал у нас свою картину. Сейчас у него новый фильм— «Иоанна». Второй— «Именем дьявола» Барбары Сасс, это тоже очень крупный режиссер, она довольно редко снимает. Последний фильм у нее был, по-моему, лет десять назад. Картина наверняка вызовет массу споров.
—Как всегда, громадная программа. Но как ее структурировать? Московскому фестивалю очень не хватает популярного путеводителя. Да, есть сайт, где все написано. Но каждому хочется найти свой ракурс. Скажем, если вы любите такое кино— то вам сюда, а если такое— туда. Известно, что «8½фильмов» покажет каннские премьеры или другие значимые события этого года в вашей версии. А в конкурсе все неясно, тут и киноманы не в курсе, чего ждать.
—Все фильмы, заявленные в конкурсе, повернуты к зрителю, за исключением двух-трех картин чисто экспериментальных. Вот итальянская «Легкая жизнь» Лючио Пеллегрини— горьковатая комедия с очень интересными актерами, очень популярными в Италии и неизвестными у нас. Ее, естественно, будут смотреть.
Очень зрительская, очень трогательная картина болгарская, один из лучших, на мой взгляд, фильмов— «Кеды», сделан актером Валерием Йордановым и режиссером Иваном Владимировым. Я знаю, что эту картину очень хотели в Карловых Варах. И шла не то что борьба, но у авторов были сомнения, куда его отдавать. Они предпочли наш фестиваль. Я этому безумно рад.
Среди гала-премьер мы покажем фильм Микеле Плачидо «Валланзаска— ангелы зла», последнюю работу режиссера, которого знают больше как актера, настоящий боевик, главную роль играет знаменитый актер и красавец Ким Росси Стюарт. Это такое зрелище настоящее.
У нас будут картины в формате 3D. Среди них я хотел бы выделить, естественно, «Пину» Вина Вендерса, она войдет в программу «8½». Это совершенно новое понимание, что такое 3D. Он говорит, я понял, сколько там на самом деле есть возможностей! Даже монтировать надо совершенно иначе. Последняя картина Вернера Херцога «Пещера забытых снов» тоже сделана в формате 3D, мы ее покажем в его ретроспективе, которую он сам приедет представлять. Я очень рад, что столько людей на фестивале смотрят с большим интересом фильмы, которые они вроде бы должны были видеть на видео. Но мы стараемся всегда привозить оригинальные кинокопии. Скажем, ретроспектива «1675 метров итальянского кино»— это практически все заново восстановленные копии. Я сам не видел многое на большом экране. Мне кажется, видеть такое очень важно для понимания того, что кино родилось не из Тарантино.
—Увы, большинство новых режиссеров мало известны. Ведь сегодня нет широкой популяризации кино.
—К сожалению, нет. Хотя я стараюсь этим заниматься. Донкихотская на самом деле работа. Даже в Канне, например, в этом году половина имен никому не известных, все экспериментируют. Стараются кого-то открывать.
—Раз мы не можем идти от имен, что зрителю выбирать? Тему? Жанр? Чем кроме имени отборщиков можно привлечь к тому же конкурсу внимание простых любителей кино?
—Даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Нам должны немножко доверять и понимать, что мы это кино не просто так на улице где-то схватили. Все картины прошли довольно большую селекцию. Мы хотели конкурс сделать очень разнообразным по жанрам. Одни медлительные, медитативные картины, как, скажем, испанская картина «Волны». А с другой стороны, есть просто зубодробительный практически хоррор, гонконгский, который называется «Месть. Любовная история». Слабонервных, что называется, просим не беспокоиться. Мне кажется, что все картины актуальны для нас.
—Актуальны чем?
—Тем, как они работают с современным киноязыком. Потому что на фестиваль должны идти люди, которые хотят понимать, что такое кино. Блогосфера же убеждена, что она понимает абсолютно все и заранее уже все знает.
Иногда чувствуется некоторое высокомерие, предубеждение против Московского кинофестиваля. У которого, мы это хорошо знаем сами, много проблем. Позднее финансирование, отсутствие фестивального дворца, недостаточность средств. Мало иностранных журналистов— потому что мы заранее не знаем, сколько человек нам можно пригласить. В Москве и шагу нельзя ступить— везде чужая территория. Очень хочется, чтобы была настоящая красная дорожка не только в «Пушкинском», но и в «Октябре», но как это сделать? У нас просто нет таких возможностей! Если у нас когда-то будет построен этот дворец фестивалей, надо еще приручить зрителей, чтобы они туда пошли! Слава богу, пошли в «Октябрь». Я ничего не хочу идеализировать, проблем очень много. Но мы живы тем интересом, который к нам чувствуют зрители. О нас одних только публикаций собралось десять томов огромных. Я даже иногда поражаюсь этому вниманию. Но это вовсе не означает, что у фестиваля нет проблем. Их очень много, но сейчас мы стараемся решить насущные.
—А что с перспективами, они грустные? Кино кончается?
—Кино сейчас стало гораздо более— это и плюс, и минус— ручным. И увеличился разрыв— как между бедными и богатыми, так и между дорогим и дешевым кино. Очень многие каннские картины сняты за 100 или за 200 тыс. долл. Сейчас деньги мало что определяют. Главное, что кино становится ближе к производителю, который теперь в куда большей степени автор, чем режиссеры в старом понимании. Кино по способу изготовления приближается к писательскому труду. Камера почти ничего не стоит. Так же, как ручка шариковая, так же, как бумага. Монтировать ты можешь дома. Можешь снимать на мобильный телефон... И если человек умный, талантливый, он всегда найдет способ, как это использовать. Здесь уже не 3D важно, а внутреннее измерение.
—А как это влияет на положение зрителя?
—Зритель начинает завидовать. Ему кажется, он тоже может снять подобный фильм. Кстати, часто оказывается, что это таки можно сделать. Вот Константин Буслов, снявший фильм «Бабло» (приз за дебют фестиваля «Кинотавр»-2011.— «МН»), был администратором, потом директором, потом писал сценарии, потом стал режиссером. Я считаю, что «Бабло»— это фильм настоящего режиссера. Он умеет людей увлечь, рассмешить, делает это не пошло, не глупо.
—Но все-таки зритель, пока он не потерял своей зрительской позиции, как-то меняется?
—Надо различать зрителя, подверженного влиянию масс-медиа, и тех, кто старается ему противостоять. Когда человек настроен пассивно, он действительно засасывает все то, что в него вкладывают. В рекламу каждого голливудского боевика вложено несколько миллионов долларов. Считается, что зритель идет в кино. Нет, это кино посещает зрителя. К нам же зритель должен прийти сам. Такая задача у фестиваля.
Прелесть фестиваля в том, что видишь не триллер и не набор известных имен, а фильм неизвестного режиссера, который вдруг опрокидывает все карты,— и это здорово. Вот в Канне был фильм «Артист» Мишеля Хазанавичуса. Немая картина черно-белая полуторачасовая. Можете себе представить? Немая картина, которая держит зрителя до самого конца! И он смеется, он плачет, а в конце громовые аплодисменты. Вдруг видишь, что мы что-то такое утратили, отказавшись от немого кино. Предпочли другой тип кинозрелища. А там много еще можно почерпнуть. И зритель совершенно не возражает. Когда он придет, он влюбится в эту картину безусловно. Алена Солнцева

ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ "ФОСАГРО" МАКСИМОМ ВОЛКОВЫМ
Business FM: Максим Викторович, первый и, наверное, главный вопрос - в каких целях проводится IPO, о котором "ФосАгро" объявило? Это дополнительная эмиссия, это инвестиционные проекты, это накопление капитала для проведения каких-то сделок, слияний и поглощений, или это, что вполне нормально, и, как часто бывает, просто монетизация пакета?
Волков: Здесь все гораздо проще. Мы ведем речь о размещении акций "ФосАгро", то есть "ФосАгро" становится публичной компанией, и цель здесь одна - это следующий этап развития холдинга. Соответственно, мы к нему шли давно, долго, и на сегодня считаем, что мы готовы становиться публичной компанией.
Business FM: И все-таки, деньги, приобретенные в ходе IPO, получит собственно владелец акций? В данном случае речь идет, как следует из ваших сообщений, о контролирующем акционере г-не Гурьеве или привлеченные деньги будут использованы для какого-то развития компании?
Волков: Здесь необходимо оговориться. Речь идет не о контролирующем акционере - у нас нет контролирующего акционера - у нас есть ряд акционеров, экономическим бенефициаром которых является г-н Гурьев и члены его семьи. Соответственно, если мы говорим о том, кто в ходе размещения будет продавать акции - это именно эти компании. Этот пакет будет продаваться именно компаниями, экономическим бенефициаром которых является г-н Гурьев и его семья.
Business FM: 10-15%, почему именно такая доля акций была выбрана для размещения?
Волков: Этот вопрос лучше адресовать банкам. Мы поставили задачу, что мы хотим стать публичной компанией, нас интересует успешное размещение. Соответственно, банки рекомендовали нам задуматься именно об этом проценте.
Business FM: Прежде была известна такая история: одно из крупнейших предприятий в составе группы "ФосАгро" - это приснопамятная полномочия "Апатит", знаменитая по началу 2000-х годов. Доля акций "Апатита" по-прежнему принадлежит государству. Раньше говорилось, что "ФосАгро" хотела бы получить 100-процентную собственность над "Апатитом", отдав государству долю в объединенной группе "ФосАгро", и именно после этого как раз и будет логично проводить IPO, консолидировав полностью все компании группы. Это произошло?
Волков: Мы никогда не говорили о том, что мы хотели бы получить 100-процентную долю владения в "Апатите". Если вы знаете, то в принципе, приватизация пакета "Апатита" уже включена в план приватизации на 2011 год или в период с 2011 по 2013 - есть несколько документов на этот счет. Но мы действительно предлагали государству в свое время подумать над альтернативной возможностью приватизации этого пакета, путем обмена пакета "Апатита" на соответствующий пакет акций "ФосАгро". В этом процессе есть две неизвестных. Первое - стоимость пакета "Апатита", справедливая, рыночная, и второе - стоимость пакета "ФосАгро" - справедливая, рыночная, которые должны быть тождественны, чтобы этот обмен состоялся. Поэтому опять же не секрет, что, делая компанию публичной, в настоящий момент речь идет о "ФосАгро", мы уберем одну неизвестную. Стоимость пакета "ФосАгро", какой бы она ни была определена, будет уже известна и определена рынком.
Business FM: А нет ощущения, и что опять же говорят банки-консультанты, если бы уже пакет акций "Апатита" был консолидирован внутри "ФосАгро" - это, может быть, подняло бы и рыночную оценку компании в целом?
Волков: Логично предположить, что ровно на стоимость пакета "Апатита" подняло бы.
Business FM: То есть все-таки этот процесс не удалось довести до конца?
Волков: Я не могу сказать, что этот процесс не удалось довести до конца. Здесь необходимо понимать, как происходит вообще оценка компаний, как таковых. Т.е. здесь никто из банков не может сказать, как повлияет на вашу оценку то, что у вас 95% или 97% в дочернем предприятии. Никто не сможет сказать в числовом выражении, сколько вы потеряете в общей капитализации.
Business FM: Что касается момента для проведения IPO. Скажем так, это первое, кроме "РусАла", крупное промышленное IPO в российской экономике после кризиса. IPO "РусАла" обладало рядом особенностей, оно было поддержано крупнейшими госбанками, которые поучаствовали в покупке пакетов и т.д. Кто, как вы думаете, будут основными покупателями в ходе IPO "ФосАгро", и правильно ли выбран момент с учетом того, что фактически вы первые?
Волков: Да, нам известно, что, по мнению некоторых аналитиков сейчас не самые лучшие условия для размещения. Но мы уверены, что компания "ФосАгро" обладает определенными фундаментальными рыночными качествами, которые позволят компании получить справедливую оценку. Мы - крупный промышленный холдинг в динамично развивающемся рыночном сегменте. Макроэкономические перспективы по удобренческому сектору очень хорошие.
Business FM: Скажем так, аналитики, вообще в прессе - общая оценка, считают, что "ФосАгро" должно получить оценку в 6-8 миллиардов долларов. У вас есть какая-то своя цифра, которую вы предполагаете увидеть в результате IPO?
Волков: Мы здесь ограничены определенными рамками, которые накладывают юристы и банки. Соответственно, не могу предвосхищать. Но в свое время мы, конечно же, объявим, когда будет определен ценовой диапазон.
Business FM: Теперь опять же, к возможным покупателям. IPO пройдет на трех площадках - на двух московских и на лондонской фондовой бирже. Каковы особенности вот этого параллельного выхода? Кого вы все-таки видите основными покупателями акций?
Волков: Что касается особенностей, то здесь никаких особенностей нет, довольно стандартизированная процедура.
Business FM: "РусАл" в Гонконге и все, выходил.
Волков: Здесь лучше спросить у "РусАла", почему они выбирали Гонконг. Во-первых, насколько мы знаем, у них довольно существенная часть бизнеса зависит от азиатского спроса, соответственно, для них это довольно объективно было выбрать площадки и с этой точки зрения тоже. Мы же, как раз в Азию удобрения грузим чуть меньше, чем...
Business FM: Я не то что вас гоню в Гонконг, я просто провожу параллель с последним крупным, потому что пока что больше не с чем сравнивать.
Волков: При прочих равных, Лондон удобнее, если говорить про международные площадки. Но мы надеемся, что будет существенный спрос и на российских площадках в том числе. Именно поэтому мы ведем речь о размещении акций российской компании, никакой ни BVI, ни Джерси. У нас размещаются акции российской компании, и выпускаются ГДР на Лондонской бирже. Сейчас довольно тяжело прогнозировать касательно что-либо спроса, но, учитывая качество активов, нашу историю, и наше позиционирование в мировой отрасли по производству минудобрениями, мы надеемся, что получим должное внимание со стороны инвесторов, и в ходе этого процесса мы в ближайшее время поймем какой будет спрос.
Business FM: Еще раз о вилке 10-15% - это полностью акции, принадлежащие к группе компаний, конечным бенефициаром которых, как вы сказали, является г-н Гурьев и члены его семьи, я знаю, что это объявлено. Вы тоже обладаете маленьким, но тоже пакетом акций. Для вас эта личная история, всего-навсего вы получите оценку своего собственного состояния, может быть, докупите или, может быть, что-нибудь продадите? Понимаю, что вопрос, на который любой человек имеет право не отвечать, но, тем не менее, в личном плане, что для вас означает IPO, как для генерального директора, и владельца определенного пакета.
Волков: Могу сказать, что я буду докупать.
Business FM: Опционные программы после IPO уже рассматриваются или нет?
Волков: На сегодня у нас нет подобных программ, но мы задумываемся об их создании. Соответственно, после того, как компания станет публичной, мы в свое время опубликуем те опционные программы, о которых мы на сегодня задумываемся. Пока конкретных нет.
Business FM: Отрасль минеральных удобрений во время кризиса переживала тяжелые времена, потому что было достаточно значительное сокращение спроса. Что в целом сейчас по конъюнктуре рынка изменилось, и каково положение "ФосАгро" среди конкурентов на мировом рынке?
Волков: Я, к сожалению, не смогу дать никаких комментариев по части прогнозов. Спрос на продукцию по участию позиционирования среди конкурентов, мы все также остаемся на лидирующих позициях по многим параметрам, соответственно, мы их плотно держим, и никому не отдадим эти позиции лидирующие.
Business FM: Здесь добавить нечего. Еще один проект, который известен, по крайней мере, у "ФосАгро", может быть есть что-то, о чем никто не слышал, но известно, есть такая точка Пикалево, хорошо известная тоже, немножко скандальная, как и в свое время по делу Ходорковского "Апатит" проходил, Пикалево тоже было в центре внимания. "ФосАгро" сейчас предполагает консолидировать часть раздробленного пикалевского комплекса. Расскажите об этом, сколько это будет стоить, и что это даст "ФосАгро".
Волков: Не "ФосАгро" предполагает, а мы, действительно, участвуем в ряде переговоров, которые ведем на сегодня с собственниками предприятия, находящегося в Пикалево. Основные - это "Базэл цемент Пикалево" и "Евроцемент", о создании совместного предприятия на базе существующих активов пикалевской площадки. Мы считаем, что у Пикалево есть будущее, есть перспективы, но при условии, если этот комплекс будет модернизирован. Соответственно, на сегодня могу сказать, что на самом продвинутом этапе по поиску вот этих взаимоприемлемых решений мы находимся с группой "Базэл". Мы довольно продолжительное время обсуждаем с ними совместные программы, и движемся в этом направлении. Будем надеяться, что в скором времени нам удастся объявить рынку о том, о чем именно мы договорились.
Business FM: Я чуть-чуть напомню ситуацию, чтобы было понятно. На момент, когда в Пикалево это происходило в 2009 году, собственно, "ФосАгро" там никоим образом не работало, а был просто крупный химический комплекс, который оказался разделен на три части, и поэтому остановился. Поэтому там, как говорили тогда, вопрос в консолидации обратно этого разбитого на три части комплекса. Хотя бы идею этого проекта вы можете сейчас примерно описать, какова конфигурация, может быть?
Волков: Идея не изменилась с тех пор. Идея именно и заключается в том, чтобы обратно консолидировать этот комплекс. Соответственно, мы двигаемся в этом направлении.
Business FM: Это будет затратный проект по модернизации? Сколько он стоит?
Волков: Слово "затратный" здесь не совсем правильное. Конечно, необходимо будет осуществлять инвестиции в этот проект, но мы надеемся, что инвестиции будут окупаемы, поэтому мы и ведем речь не о просто сложении того, что есть, а мы ведем речь о модернизации, потому что без модернизации этот комплекс в перспективе в любом случае обречен. С модернизацией мы получим с вами тогда технологию, которая будет уникально существовать только в России. Она сегодня уникальна, но опять же, мы получим технологию, которая будет базироваться на использовании сырья, которое есть в России в достаточном объеме. Мы с вами в России имеем огромнейшие запасы нефелинов. Мы имеем не очень большие запасы бокситов, и не очень хорошего качества. А вот по части нефелинов запасы огромные, они очень хорошего качества. А нефелин - это именно то, что используется в качестве сырья для работы на Пикалевском комплексе для производства как раз глинозема, цемента.
Business FM: Давайте вернемся к IPO. Расскажите, какие будут стадии, какие сроки, как будет проходить "роуд шоу", и какие примерно временные рамки вы отводите на этот процесс?
Волков: Опять же, боюсь, я не могу комментировать этот вопрос, поскольку мы связаны определенными ограничениями юридического плана, но по сложившейся практике процессы самого IPO занимают где-то порядка месяца.
Business FM: То есть вы закроете книгу заявок и объявите о коридоре цен где-то через месяц. Это случайно или вполне осмысленно, что об IPO было объявлено прямо в канун Петербуржского форума, и можно будет там со многими участниками процесса лично поговорить на эту тему?
Волков: Как вы знаете, Петербург для меня не чужой город, я всю свою сознательную жизнь практически провел в Петербурге, учился там, поэтому не могу сказать, что мы специально подгадывали, но это очень приятное совпадение.
Business FM: Спасибо, и держитесь курса.

Флаги китайских отцов
Смена власти в Пекине и будущее КНР
Резюме: Коллективное руководство китайского Политбюро намного гибче и стабильнее, чем режимы Ближнего Востока, десятилетиями возглавляемые единоличными правителями. Людям прекрасно известно, что в назначенный срок первое лицо в партии и государстве уступит место преемнику.
Волна потрясений на Ближнем Востоке заставила многих экспертов заняться поисками вероятных очагов народных революций за пределами региона. Среди кандидатов называли Китай, указывая на потенциальные источники недовольства – однопартийная власть, имущественное расслоение, рост цен на продовольствие, проблемы с трудоустройством молодежи. Однако весьма важной причины ближневосточных революций в этом списке не оказалось. Китайцам не нужно выходить на улицы с требованием отставки лидера. Люди прекрасно знают, что в назначенный срок первое лицо в партии и государстве уступит место преемнику.
Имя будущего главы Поднебесной известно еще со второй половины 2000-х годов. Это Си Цзиньпин – член постоянного комитета Политбюро ЦК КПК и заместитель председателя КНР. Официально о том, что именно он вскоре займет высшие посты, нигде не сказано. Тем не менее, нынешние должности Си предопределяют его грядущее возвышение. Окончательно это прояснилось в октябре 2010 г., когда на партийном пленуме Си Цзиньпин был утвержден заместителем председателя Военсовета ЦК КПК.
Коллективное руководство китайского Политбюро намного гибче и стабильнее, чем режимы Ближнего Востока, десятилетиями возглавляемые единоличными правителями. Между китайскими «принцами» (так называют руководителей, которые являются потомками партийных лидеров прошлого столетия, один из них Си Цзиньпин) и сыновьями ближневосточных лидеров, которых те прочили себе в преемники, невозможно поставить знак равенства. Отцы китайских «принцев» давно ушли на покой или в мир иной, они уже не оказывают влияния на принятие политических решений. Большинство «принцев» успешно занимаются бизнесом и старательно избегают публичности. Те из них, кто вошел в политическую элиту, продемонстрировали собственные управленческие способности.
Корпорация «Политбюро»
Сейчас генсеком ЦК, главой государства и председателем партийного Военсовета является Ху Цзиньтао, но в ближайшие несколько лет ему предстоит передать все эти посты преемнику. Срок пребывания на китайском политическом олимпе ограничен десятью годами. За это время проходит два партийных съезда – на первом из них в начале десятилетия лидер получает власть, при этом происходит значительное обновление состава Политбюро, куда приходит новое поколение руководителей (в этот момент им около 60 лет). Через пять лет, на следующем съезде, полномочия лидера продлевают, и лишь единицы из числа высших партийных руководителей отправляются на пенсию. Но с наступлением нового десятилетия приходит время для очередного обновления элиты, когда приблизившиеся к семидесятилетнему рубежу члены Политбюро уходят на покой. Следующий политический цикл начнется в Китае осенью 2012 г., когда на XVIII съезде КПК Ху Цзиньтао должен будет покинуть ряды Политбюро, а место генсека займет Си Цзиньпин. Весной 2013 г. он станет председателем КНР.
При реализации сценария передачи власти неожиданностей быть не должно. Тем не менее, остается неясным – кто и как подыскивает кандидатуру будущего руководителя, ведь самый важный отбор происходит еще до того, как за него проголосуют члены ЦК или депутаты парламента. Во времена правления Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина лидер самолично мог выбрать преемника, теперь этот вопрос решают на высшем уровне китайской элиты. Понять происходящее отчасти помогают опубликованные на сайте Wikileaks телеграммы американского посольства в Пекине. Подготовленные знающими страну дипломатами на основании бесед с информированными китайскими источниками, эти материалы вряд ли раскрывают всю сложность современной политики в КНР. Однако они выглядят более взвешенно и реалистично, чем скупые сообщения официальных СМИ или публикации гонконгских политических журналов, наполненные резкими эмоциональными оценками и недостоверными рассказами об углубляющемся расколе в партийных верхах.
Один из собеседников американских дипломатов заметил, что высшее партийное руководство Китая по структуре похоже на правление крупной корпорации. На внутренние процессы в этой организации влияют экономические интересы, а также соперничество между «принцами» и теми, кто поднялся к вершинам власти самостоятельно. Заметим, что Си Цзиньпин относится к числу «принцев» – он родился в 1953 г. в семье высокопоставленного чиновника Си Чжунсюня. «Принцев», как считается, объединяет сознание того, что они, будучи потомками революционеров, проливавших кровь ради победы КПК и создания нового государства, должны продолжить дело отцов, участвуя в управлении страной. Решения постоянного комитета Политбюро принимают как на заседании совета корпорации, где более крупная доля акций означает более весомый голос, «у Ху Цзиньтао больше всего акций, поэтому его мнение наиболее весомо». Формальные голосования в Политбюро проводят крайне редко – «это система консенсуса, в которой члены обладают правом вето».
Источник посольства Соединенных Штатов нашел очень удачные сравнения, близкие и понятные для американцев: Политбюро – это бизнес, а не коммунизм, у многих представителей высшей элиты есть собственные деловые интересы, при этом решение вопросов на этом уровне проходит в демократической атмосфере. Вместе с тем «скрытые интересы» зачастую влияют на принятие решений и становятся препятствием для преобразований, когда руководители пытаются защитить выгоды своих приближенных. Неформальные, прежде всего семейные, связи лидеров с мощными экономическими структурами накладывают отпечаток на общее направление политики государства. Местные начальники всегда поддерживают политику быстрого роста и выступают против реформ, которые могут сказаться на их интересах. На уровне центрального руководства сторонники «роста на первом месте» также сильнее тех, кто хотел бы ограничить аппетиты экономической элиты и перераспределить более значительную часть национального дохода в пользу малоимущих.
Внутрикорпоративная демократия защищает партию от разрушительного соперничества между группировками, механизм периодической смены руководства сделал систему более стабильной и предсказуемой. Однако в этих условиях даже самое незначительное отклонение от сценария может стать источником слухов и сомнений. Си Цзиньпина продвигают к власти по пути, которым десять лет назад прошел Ху Цзиньтао – он в том же порядке занимает те же «предстартовые» должности, с которых впоследствии сможет достичь вершины власти. Этот сценарий был нарушен при назначении Си Цзиньпина зампредом Военсовета ЦК КПК. Ху Цзиньтао занял это место в 1999 г., за три года до назначения генсеком ЦК КПК в 2002 году. Собравшийся осенью 2009 г. пленум ЦК КПК в отношении Си Цзиньпина аналогичного решения не принял, что дало основания усомниться в прочности его статуса преемника. Назначение Си на этот пост запоздало на год, все это время эксперты гадали, не предвещает ли заминка появления другого кандидата.
Считается, что Ху Цзиньтао и близкие к нему члены «комсомольской группы» (они связаны по совместной работе в Коммунистическом союзе молодежи Китая в 1980-е гг.) хотели видеть в роли лидера не «принца» Си Цзиньпина, а более близкого им по духу Ли Кэцяна – ныне он входит в постоянный комитет Политбюро и является вице-премьером. По нынешнему сценарию в 2013 г. ему предстоит стать премьером Госсовета КНР и вторым лицом в правящем тандеме. Тем не менее, серьезных оснований говорить о готовящейся «рокировке» все же не было. Техническая реализация такого плана без нарушения сложившихся правил потребовала бы смены нынешних постов преемников. В частности, чтобы Ли Кэцян смог претендовать на должность председателя КНР, его нужно загодя назначить заместителем председателя, при этом кресло вице-премьера стало бы для него совершенно излишним. Внезапное выдвижение Ли на место Си грозило стать источником нестабильности. За рубежом это событие восприняли бы как признак раскола и возобновления фракционной борьбы внутри партийной верхушки, что неминуемо привело бы к подрыву доверия в экономической сфере – мало ли какие неприятности начнутся дальше. Ничего подобного не произошло. Китайская элита старается твердо исполнять прежние договоренности, понимая, что в противном случае проигравшими окажутся все.
Годовое промедление с назначением Си Цзиньпина зампредом Военсовета ЦК, по словам собеседника американских дипломатов, могло быть связано с коротким сроком пребывания Си в Политбюро. Стартовые условия оказались разными – в 1999 г. Ху Цзиньтао находился в Политбюро уже семь лет, а Си Цзиньпин в 2009 г. только два года. И в этом случае задержка стала проявлением осторожности партийного руководства, а не существенных разногласий в его рядах. Расстановка сил осталась неизменной – Си Цзиньпин был и остается единственным реальным преемником. На его стороне поддержка бывшего лидера Цзян Цзэминя и близкого к нему Цзэн Цинхуна, входившего в состав Политбюро до 2007 г., а также других отставников. Не стоит сбрасывать со счетов и революционную родословную «принца». У Ли Кэцяна таких козырей нет.
В 2010 г. среди экспертов стала модной тема взаимоотношений внутри китайского правящего тандема. На фоне строгой сдержанности выступлений Ху Цзиньтао более раскованные и личностно окрашенные слова премьера Вэнь Цзябао выглядят чуть ли не как отступление от «генеральной линии», а это создает новый повод для рассуждений о расколе. В частности, возникли предположения, что Вэнь подходит к политическим реформам более решительно, чем партийно-государственный лидер. В апреле 2010 г. в «Жэньминь жибао» была опубликована статья премьера об опальном генсеке 1980-х гг. Ху Яобане, содержавшая высокую оценку его моральных и деловых качеств. В августе Вэнь Цзябао заявил, что без политических реформ экономические преобразования не принесут результата, а цели модернизации не будут достигнуты. В начале октября в ходе поездки в США премьер дал интервью телеканалу CNN. Вэнь подчеркнул, что людям нужно дать свободу слова и создать им условия для критики работы правительства, заметив: «Я и весь китайский народ верим, что Китай будет добиваться постоянного прогресса, народному требованию демократии и свободы сопротивляться невозможно». В марте 2011 г. на пресс-конференции по итогам сессии парламента премьер сказал американскому журналисту: «Без реформы политической системы реформа экономической системы не может быть успешной, будет опасность утраты уже имеющихся достижений».
Формально Вэнь Цзябао не сказал ничего нового, но китайские неофициальные комментаторы все же пришли к выводу, что в его изложении тема политических преобразований была представлена более четко и продвинуто, чем у других руководителей. Наличие разных акцентов внутри нынешнего тандема можно списать скорее на несходство личных темпераментов – Вэнь Цзябао склонен публично демонстрировать близость к народу, проявлять заботу о простых людях. Ху и Вэнь успешно работают в связке с 2002 г., и срок полномочий этого тандема близится к завершению, что делает разговоры о намечающемся расколе несвоевременными. После XVIII съезда оба одновременно покинут Политбюро.
Можно предположить, что в будущем тандеме роли распределятся иначе. Премьер Ли Кэцян будет осторожным и сдержанным в словах, и его поведение станет отражением стиля «комсомольской группировки». А вот Си Цзиньпин, скорее всего, предпочтет большую раскованность. Ощущение уверенности в себе, основанное на поддержке старых руководителей, и впитанная с детства «элитарность» станут залогом большей независимости. Тем не менее, это не более чем нюансы в поведении людей, спаянных общими интересами.
План для «принца»
Коллегиальность китайского руководства снижает как возможность ошибки, так и ее исправления волевым вмешательством лидера. В этой ситуации никто не будет брать на себя персональную ответственность за рискованные реформы. В ближайшие несколько лет китайская политика будет двигаться по линии, прочерченной нынешней правящей элитой. Первые самостоятельные шаги Си Цзиньпин предпримет не ранее 2013 г., когда получит пост председателя КНР.
Что-то новое в китайской политике может возникнуть в середине десятилетия, когда в 2017 г. состоится XIX партсъезд и Си пойдет на второй срок. Это наиболее подходящее время для того, чтобы заявить о своих идеях и вписать их в руководящие документы. Чтобы оценить, насколько широким будет поле для маневра у Си Цзиньпина, нужно знать расстановку сил в будущем составе постоянного комитета Политбюро – в частности, сколько там будет выдвиженцев Ху Цзиньтао, которые станут естественным противовесом влиянию «принцев». По предварительным оценкам, из семи вакансий как минимум две достанутся «комсомольцам» – в ряды высшего руководства войдут глава отдела единого фронта ЦК КПК Лю Яньдун и глава организационного отдела ЦК КПК Ли Юаньчао.
Скорее всего, после 2012 г. Ху Цзиньтао задержится у власти еще на пару лет, сохранив должность главы партийного военсовета. Это даст ему возможность оказывать политическое влияние на преемника. Точно так же поступил в прошлом десятилетии Цзян Цзэминь – предшественник Ху. Однако по той же традиции Ху Цзиньтао покинет пост еще до XIX съезда. К тому времени по естественным причинам исчерпает себя неформальное покровительство в отношении Си Цзиньпина со стороны прежних руководителей, ведь Цзян Цзэминю к тому времени будет уже за девяносто.
Си Цзиньпину предстоит попрощаться с властью в 2022 г., на ХХ съезде КПК. В Китае принято считать, что КПСС начала движение к утрате власти и распаду страны с «очернения истории» на партийном форуме с таким же порядковым номером, и потому соблазна повторить этот пример, скорее всего, не будет. Часть интеллигенции и зарубежные диссидентские круги регулярно призывают к более решительному разоблачению правления Мао Цзэдуна и реабилитации участников антиправительственного движения 1989 года. Однако подобный шаг мог бы стать сигналом для новых выступлений против власти КПК. Максимум, чего можно ожидать, это перехода от лозунга стабильности, унаследованного от 1990-х и 2000-х гг., к дискурсу осторожных перемен, более детальному и предметному обсуждению планов политических реформ, но не к их практической реализации.
К тому времени изменится и институт «принцев». Считается, что с идеей выдвижения «принцев» старые члены партийного руководства выступили после событий на Тяньаньмэнь и политических перемен в СССР и Восточной Европе. Они полагали, что дети старых коммунистов станут надежным кадровым резервом, которому можно без опасений доверить судьбу страны и правящей партии. Со временем нынешнее первое поколение «принцев» постепенно уйдет на второй план. На смену потомкам сподвижников Мао в сходной роли могут прийти дети следующих поколений элиты, не принимавших участия в создании КНР. Но в этом случае их «семейная аура» будет куда скромнее, что скажется и на влиятельности будущих «принцев». Скорее всего, они полностью растворятся в бизнес-элите и станут практически незаметны на политической сцене.
От преемника не стоит ждать ни наступления в области политических реформ, ни отступления в экономической сфере. Си получит власть посередине 12-й пятилетки (2011–2015). Ему предстоит завершить выполнение плана, который был согласован и одобрен прежним руководством. Намеченная программа существенного улучшения положения дел в социальной сфере предполагает строительство дешевого государственного жилья, повышение государственных доплат к личным медицинским страховкам, рост зарплат и расходов на образование. Если за десятилетие эти проблемы удастся решить, Си оставит след в истории, и соотечественники скажут ему «спасибо».
В прошлом низкие зарплаты помогали поддерживать конкурентоспособность китайских товаров на мировом рынке. Но теперь власть берет курс на повышение доходов населения, и дело тут не только в опасении роста недовольства неимущих. Если китайцы станут не только производителями, но и потребителями, если они получат больше денег и перестанут копить их на «черный день», доверяясь государственной системе социального обеспечения, Китай уменьшит зависимость от внешних рынков. Стране предстоит переход от промышленного обслуживания мировых корпораций к созданию собственных уникальных технологий и продуктов. Эта политика была сформулирована в нулевые годы задолго до ближневосточных революций, но теперь она стала более решительной и конкретной.
Задача Си Цзиньпина – окончательная смена экономической модели, перенос акцента с наращивания объемов и количественных показателей на социальное обеспечение, качество жизни и защиту окружающей среды. В беседе с послом США в 2007 г., в бытность руководителем бурно растущей провинции Чжэцзян, Си Цзиньпин высказывался как сторонник старой модели абсолютного приоритета высоких темпов развития, позволяющих генерировать новое богатство и выделять полученные средства на помощь бедным регионам. Навыки регионального хозяйственника будут оказывать влияние на подходы Си к общенациональной экономической политике, но это вовсе не означает, что он будет препятствовать реализации одобренного политической элитой курса.
При власти Си Цзиньпина страна заметно приблизится к Соединенным Штатам по размеру ВВП, и это будет важная веха в развитии Поднебесной. К концу пятилетки в 2015 г. ВВП Китая должен составить 55 трлн юаней, это примерно 8,5 трлн долларов (а с учетом возможного роста курса юаня и все 9 трлн). К тому времени ВВП США будет около 15 триллионов. Но при сохранении нынешних тенденций к 2022 г. китайский ВВП достигнет 12–13 трлн долларов – с американским он еще не сравняется, но весьма существенно к нему приблизится. Это отразится как на понимании Китаем своего места в мире, так и на акцентах внутриполитической пропаганды – ведь КПК сможет предъявить обществу реальный и несомненный «исторический успех на пути строительства специфически китайского социализма».
Красное и черное
Друг детства Си Цзиньпина поведал американским дипломатам, что преемник отдает себе отчет в том, насколько коррумпирован нынешний Китай. У Си вызывает отторжение всеобщая коммерциализация китайского общества, сопровождаемая появлением нуворишей, продажностью чиновников, потерей ценностей, достоинства и самоуважения, «моральным злом» наркотиков и проституции. Он предположил, что в случае прихода к власти Си «попытается агрессивно заняться этими проблемами, возможно за счет нового денежного класса».
Наступление на экономическую элиту способно обернуться серьезными потерями, поэтому наиболее вероятным направлением усилий будущего лидера станет активизация пропаганды моральных ценностей и заполнение идеологического вакуума. Китайский диссидент-политолог Янь Цзяци осенью 2010 г. перефразировал известное выражение Мао Цзэдуна «Залп “Авроры” принес в Китай марксизм» – «Выстрелы 4 июня 1989 года вынесли марксизм из Китая». Он заявил, что события на Тяньаньмэнь стали «кровавым переворотом», после которого страна вернулась к старому типу общества и к первоначальному периоду накопления капитала. Началось быстрое развитие экономики, но при этом в «эпоху Цзяна и Ху» в Китае не стало истины и справедливости.
Эти яркие рассуждения порождают немало вопросов – в частности, не вполне понятно, в какой период прошлого столетия Китай можно назвать царством справедливости. Вряд ли это эпоха расцвета китайской буржуазии при однопартийном режиме Гоминьдана. Очевидно, речь идет об эгалитарной политике Мао, достигшей апогея во время «культурной революции». Вернуть те времена невозможно, но позитивная память о них может послужить инструментом не только в руках оппозиции, но и властей. Правление Ху Цзиньтао начиналось в 2002–2003 гг. с рассуждений о необходимости уделять большее внимание социальной справедливости, однако сделано было не так много, поэтому Си Цзиньпину придется принять на себя груз завышенных ожиданий общества. В китайской политике становится все более заметным «просвещенный популизм», удовлетворяющий народную потребность в справедливости, но при этом не допускающий нанесения ущерба интересам экономической элиты.
«Красные» устремления Си Цзиньпина проявились во время его поездки в Чунцин в начале декабря 2010 г., где он встретился с другим «принцем» – местным партийным начальником Бо Силаем, сыном ветерана революции, государственного деятеля и реформатора Бо Ибо. Си высоко оценил политику Бо Силая, получившую образное название «петь красное, бить черное» – речь идет о пропаганде позитивных ценностей в сочетании с жестокой борьбой с преступным миром и его покровителями среди чиновников. Оба направления в Чунцине реализуют активнее и жестче, чем в других регионах страны. В полном виде идеологическая программа Бо Силая требует «петь красные песни, читать классические тексты, рассказывать истории, передавать наставления», прославляющие КПК, родину, народных вождей и великие достижения. К примеру, жители города получают на мобильные телефоны смс-сообщения с революционными цитатами. Помимо этого, в Чунцине активнее всего строят социальное жилье для небогатых горожан, а с владельцев нескольких квартир взимают повышенные налоги. Воспроизведение ценностей времен Мао Цзэдуна в сочетании с наведением порядка и социальным обеспечением преподносится как «отражение чаяний народа», и это не так далеко от истины.
Критики напоминают, что родители Бо Силая и он лично пострадали в годы «культурной революции», и потому его увлечение маоистской риторикой кажется удивительным и противоестественным. Однако это противоречие можно объяснить с прагматических позиций – политик, способный опереться на народное недовольство сращиванием криминала с чиновниками, а также на тоску по утраченной социальной справедливости, может ощутимо укрепить свою власть. И если есть желание поставить революционное наследие на службу современности, обойти при этом Мао Цзэдуна практически невозможно.
Выступая в Чунцинском университете, Си Цзиньпин употребил слово «преемник»: «Старайтесь стать всесторонне развитыми строителями социализма и преемниками». Но эти слова были замечены прежде всего потому, что «принцем-преемником» является сам Си. На одном из официозных веб-сайтов появился комментарий о встрече Си и Бо – оба они «красные преемники», у них похожие биографии, «корни красные, стебли прямые», да и к вершинам карьеры они карабкались с самых низов. Возвышение Бо Силая в Политбюро на ближайшем партсъезде помогло бы укрепить позиции Си Цзиньпина, однако часть политической элиты якобы настроена против этого кадрового решения. Ко времени следующего съезда Бо исполнится 68 лет, а в этом возрасте по принятым ныне неформальным правилам члену высшего руководства пора уходить на пенсию. Тем не менее, «пение красного» создает Бо Силаю образ «народного принца», который пригодился бы и Си Цзиньпину.
Содержание официальных речей, которые «преемник» произносит в последние годы во время заграничных вояжей в статусе заместителя председателя КНР, отражает текущую политику Пекина и не содержит намеков на какие-либо личные мнения по этим вопросам. Лишь однажды его неформальные высказывания по поводу международной политики привлекли широкое внимание. Во время визита в Мексику в феврале 2009 г. Си подверг критике «сытых, бездельничающих иностранцев», которые «показывают на Китай пальцем». Он пояснил: «Во-первых, Китай не экспортирует революцию, во-вторых, не экспортирует голод и нищету, в-третьих, не тревожит вас, о чем тут еще можно говорить». Эти высказывания получили позитивный отклик среди националистически настроенной части пользователей китайского Интернета, многие были удивлены подчеркнутой прямотой формулировок. По тем же причинам была недовольна часть китайской элиты – источник американского посольства заметил, что выступление в Мексике показало, что Си «не слишком хорошо воспитан». Однако другие эксперты полагают, что якобы неосторожное высказывание могло быть хорошо подготовленным ходом, попыткой завоевать народные симпатии внутри Китая.
Примечательные оценки биографии и личности Си Цзиньпина дает информация, полученная американскими дипломатами в разговорах с другом детства будущего китайского лидера. Он «крайне амбициозен», уверен в себе, сконцентрирован и с юности движется к избранной цели. В отличие от многих ровесников, которые после «культурной революции» наверстывали упущенные удовольствия, Си предпочел политическую карьеру, став «краснее красного». Это прагматик и реалист, сторонник «элитарности», верящий, что власть партии является ключом к социальной стабильности и силе государства. Он полагает, что «принцы» его поколения выступают как «легитимные наследники» революционных достижений родителей и потому «заслужили право руководить Китаем», именно «элитарность» мешает ему стать «истинным членом» команды Ху Цзиньтао. Си не коррумпирован и не придает большого значения деньгам, женщины считали его «скучным». Однако, несмотря на внешнюю «холодность и расчетливость», он заботился о друзьях, проявляя щедрость и верность.
Особого внимания заслуживает способность Си Цзиньпина тщательно рассчитать траекторию политической карьеры. Его счастливое детство прошло в резиденции в центре Пекина, его отец стремился привить детям самостоятельность, скромность и уважение к революционным традициям. Во времена «культурной революции» отец оказался в тюрьме, а 15-летнего Си отправили для трудовой закалки в деревню, где он провел семь лет. Будущий лидер адаптировался к новой жизни и завоевал авторитет среди крестьян. В 1974 г., на закате «культурной революции», когда отец еще не был реабилитирован, Си вступил в партию и даже стал секретарем деревенской парторганизации. А через год, несмотря на «пятно в биографии», крестьяне выдали ему необходимую рекомендацию для поступления в пекинский технический Университет Цинхуа. В 1978 г. отца назначили партийным руководителем провинции Гуандун, к этому времени Си-младший завершил учебу и поступил на военную службу, он выполнял обязанности секретаря министра обороны Гэн Бяо. Этим назначением Си Цзиньпин, судя по всему, был обязан протекции отца.
В 1983 г. Си отказался от кабинетной работы в столице и стал партийным секретарем в захолустном уезде в провинции Хэбэй. Теперь многие эксперты оценивают этот шаг как свидетельство далеко идущих карьерных устремлений молодого Си, решившего, что добраться до вершины власти можно лишь покинув Пекин. Почти полтора десятилетия он занимал руководящие посты в приморской провинции Фуцзянь, потом руководил провинцией Чжэцзян. В 2007 г., после коррупционного скандала в Шанхае, завершившегося арестом секретаря горкома, Си Цзиньпин на недолгий срок занял эту должность. К этому времени он уже располагал политической поддержкой Цзян Цзэминя и стоящей за ним «шанхайской группой», видевшей в Си потенциального преемника. Он хорошо справился с ролью переходного руководителя в Шанхае, после чего осенью того же года на партийном съезде Си обрел неформальный статус будущего лидера.
Семья преемника тесно связана с внешним миром. Его старшая сестра живет в Канаде, младший брат в Гонконге, а его дочь, по слухам, учится в Гарварде под вымышленным именем. Одним из источников внешнеполитических взглядов Си Цзиньпина является его опыт руководства приморскими провинциями в период их бурного экономического роста. Он выезжал за границу, много общался с иностранными инвесторами, и благодаря этому четко понимает выгоды экономической открытости внешнему миру. Он неплохо знает тайваньцев – остров расположен как раз напротив провинции Фуцзянь. Ему пришлось иметь дело в основном с бизнесменами, но Си наверняка понял, что попытки лишить остров независимости путем военного запугивания обречены на провал, тогда как с помощью экономики привлечь тайваньцев намного легче.
Запись состоявшейся в 2007 г. беседы с американским послом проливает свет на культурные пристрастия Си Цзиньпина. Ему понравился фильм «Спасти рядового Райана», он видел полицейский боевик «Отступники» (римейк гонконгской ленты) и намеревался посмотреть исторический фильм «Флаги наших отцов», посвященный сражению американцев с японцами в битве за Иводзиму. Эта тема была неслучайной – упоминание об Иводзиме позволило Си лишний раз напомнить о китайском вкладе в войну с Японией. Он также сказал, что очень любит «большие и правдивые» голливудские фильмы о войне: «У американцев четкий взгляд на ценности, ясное различение между добром и злом. В американских фильмах добро обычно побеждает». После этого он с неприязнью отозвался о работах нескольких известных китайских режиссеров – они якобы подстраиваются под представления иностранцев о Китае, рассказывают лишь про интриги и неприглядные дела при императорском дворе. Похоже, в этих словах можно найти ключ к будущей политике преемника в области культуры и идеологии – больше четкости в пропаганде ценностей, меньше копания в злодеяниях прошлого.
За плечами будущего китайского лидера богатый политический и жизненный опыт – это «принц», который в юности в суровые времена «культурной революции» был «нищим», жил среди бедных крестьян и освоил сельскохозяйственный труд. Карьерный рост Си Цзиньпина в годы реформ основан прежде всего на его личных заслугах, а не на протекции отца, хотя семейная репутация стала несомненным позитивным фактором в его возвышении. Опираясь на личный опыт общения с различными слоями китайского общества, преемник может стать фигурой, способной во имя долгосрочного стабильного развития Китая объединить разошедшиеся в разных направлениях интересы элиты и народа.
В год прощания Си с постом государственного лидера в 2023-м КНР исполнится 74 года – это будет символический рубеж, ведь достигнув этого возраста в 1991 г. распался Советский Союз, образец которого вдохновлял в середине ХХ века создателей Нового Китая. Неутихающие дискуссии китайских экспертов об уроках советского опыта и недостатках советской модели развития помогают политикам делать необходимые выводы. При этом будущее Китая зависит не только от результатов грядущего десятилетия правления Си Цзиньпина, но и от способности элиты найти ему не менее достойного и способного преемника.
А.В. Ломанов – доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, член научно-консультативного совета журнала «Россия в глобальной политике».

Азия как единый организм
Арабское пробуждение – залог интеграции от Красного моря до Желтого
Резюме: Революции в западной части огромного азиатского континента способствуют ее сближению с Востоком Азии. В XX веке человечество было вынуждено приспосабливаться к доминированию Америки в мировой экономике. Сегодня американцам приходится мириться с тем, что глобальному хозяйству становятся присущи азиатские черты.
Во всем виноваты греки, предложившие нелепое понятие «Азия». Тысячелетия существования этой евроцентричной концепции многие неевропейские народы, населявшие огромный евразийский континент, пребывали в блаженном неведении, что на них навесили общий ярлык «азиатов». Ведь, если не считать попытку монголов объединить азиатские просторы, у населявших их людей всегда было мало общего. Арабы и китайцы, индусы и японцы, малайцы и персы, русские и турки – все эти и другие нации обладали самобытной культурой, богатой историей, у каждой свой язык, свое религиозное наследие и собственные политические традиции. Их экономические связи держались лишь на тонкой паутине Шелкового пути и его морского аналога.
Но сегодня все меняется. «Азия» перестает быть греческим мифом и становится реальностью. Богатство и сила все больше сближают жителей этой части света. Деятельность их компаний и влияние в целом выходят далеко за пределы континента. В XX веке человечество было вынуждено приспосабливаться к доминированию Америки в мировой экономике. Сегодня американцам приходится мириться с тем, что глобальному хозяйству становятся присущи азиатские черты.
Медленное освобождение Азии
В последние десятилетия прошлого столетия пережитки колониального наследия в большинстве стран Азии подчас окрашивали политику в черно-белые тона приязни либо ненависти, что мешало строить нормальные отношения с Западом. Колониализм унизил национальные армии, растоптал самоуважение, подавлял ценности и политические традиции самых разных азиатских обществ – от Турции до Китая.
В Передней Азии турки, арабы и персы в угоду европейским хищникам шаг за шагом расставались со своим суверенитетом, территорией и национальным достоинством. В Индии англичане, опрокинув владычество мусульман, ввели единоличное правление и втянули некогда изолированный субконтинент в европейские распри. Страны Южной Азии, которые долгое время обеспечивали около 20% мирового ВВП, оказались под пятой британского меркантилизма и покорились Лондону.
Ост-Индию и Индокитай также поработил европейский империализм. В Восточной Азии только Таиланд и Япония восприняли ключевые элементы западной культуры, одновременно проявив достаточную жизнеспособность, чтобы держаться на почтительном расстоянии от Запада. Японии к тому же хватило энергии и самодисциплины, чтобы вскоре навязать колониальное правление Корее и отчасти Китаю. Русско-японская и Вторая мировая войны показали, что национальные боевые традиции в сочетании с современной технологией позволяют Японии реально выступать в значительно более крупном военно-экономическом весе.
Россия поглотила Среднюю Азию и «вгрызлась» с севера в Китай, тогда как западные державы начали «отщипывать» кусочки южных и восточных китайских территорий. Иностранные державы поделили Поднебесную на сферы влияния, частично аннексировав ее территорию и подчинив остатки своей экстерриториальной юрисдикции. Европа и Америка сделали это, как мы тогда говорили, чтобы воспользоваться своим правом на беспрепятственный сбыт наркотиков и прививать китайцам чуждую им религиозную философию, несмотря на энергичный протест их правителей.
Колониальный порядок в Азии рухнул после Второй мировой войны. И в то время как страны континента в основном отвергли чужеземный протекторат, Япония подчинилась оккупации Соединенных Штатов, взявших ее под свою опеку и покровительство. Китай бросил открытый вызов внешним державам, изгнав со своей земли иностранцев и избавившись от их влияния. Юго-Восточная Азия восстала против европейских колонизаторов и их американских союзников. Пути Индии и Пакистана резко разошлись после того, как обе страны освободились от британского колониального владычества. Иран заявил об амбициях стать региональной державой. Турция стала активным участником евро-атлантического альянса, оплота Запада против экспансионизма советской империи.
И только в Западной Азии, где встречаются Африка, Азия и Европа, где родились такие мировые религии как иудаизм и христианство, где находятся главные святыни ислама и сосредоточены мировые энергетические ресурсы, сохранились основные элементы довоенного порядка. На закате эпохи колониализма европейские евреи захватили и колонизировали 80% территории Святой Земли, изгнав многих коренных жителей. Палестинские арабы и другие жители региона испытали страх и ужас, захваченные врасплох всплеском европейского антисемитизма и неожиданным возвратом эпохи империализма. Ни израильской, ни западной дипломатии до сих пор так и не удалось избавить регион от этого шока.
Холодная война ввергла страны Ближнего Востока в непростую зависимость от конкурирующих сверхдержав, которые рассматривали любые локальные конфликты там как опосредованные войны друг с другом. Если не считать Израиль, региональные лидеры отличались фаталистической приверженностью могущественным зарубежным покровителям и тщетными потугами приспособиться к пренебрежительному отношению европейских, советских и американских хозяев, попирающих суверенитет, независимость и культуру местных народов. Первая прореха в неоколониальном порядке образовалась в результате исламской революции в Иране в 1979 году. Тем самым был положен конец роли Тегерана как «жандарма Америки» на Ближнем Востоке. Соединенным Штатам пришлось переключиться на военный альянс с Саудовской Аравией и Египтом. Почти одновременно мирный договор между Египтом и Израилем при посредничестве США сделал сохранение автократического статус-кво в регионе главным приоритетом американской политики.
Даже при беглом прочтении Кемп-Дэвидских договоренностей бросается в глаза, что главной предпосылкой мирного урегулирования явилось недвусмысленное обещание Израиля прекратить оккупацию Западного берега Иордана и сектора Газа и облегчить палестинцам процесс самоопределения. Невыполнение обязательства способствовало тому, что мир между Израилем и Египтом оставался зыбким, не сулившим перспектив на потепление в отношениях. Палестинцы так и не избавились от чувства унижения и несправедливости. С ними стали обращаться еще хуже. Мир с Израилем утратил все шансы на легитимность в Египте и других странах. Во многом по этой же причине жители Египта, других арабских стран и мусульманский мир в целом стали питать глубокое отвращение к Израилю и Соединенным Штатам.
Готовность Америки оказать финансовую, военную и моральную поддержку диктатуре Хосни Мубарака и Хашимитской монархии в Иордании придало рамочным Кемп-Дэвидским соглашениям по крайней мере видимость прочности. Однако умение США подменять реальные усилия по умиротворению сторон политическим лавированием и уходом от конфликта, возможно, останется в прошлом вместе с режимом Мубарака. Поскольку Израиль упорно предпочитает миру с палестинцами или своими соседями дальнейшую экспансию и расширение границ, а сколько-нибудь серьезного «мирного процесса» на Ближнем Востоке не наблюдается уже более десяти лет, неясно, как Вашингтон собирается в дальнейшем сдерживать конфликт между израильтянами и палестинцами и добиваться стабильности. Нет полной ясности, сможет ли Америка вообще сохранить какое-либо влияние в этом регионе.
Мятежи арабов против своих правителей ознаменовали тот факт, что в мусульманских странах покончено с фаталистической психологией собственного бессилия и раболепной почтительности к иностранным державам, которая долгое время сковывала их. Эти революции не были направлены непосредственно против израильтян и американцев, но решение египтян и других арабских народов взять под контроль собственное будущее не сулит ни Израилю, ни Америке ничего хорошего. Через тридцать лет после иранского восстания постколониальный порядок на Ближнем Востоке наконец-то рушится.
Беспорядки в Западной Азии получили столь широкое распространение вследствие того, что за последние десять лет США дискредитировали себя как в политическом, так и в военном отношении, вольно или невольно усилив влияние Ирана в Ираке, Ливане, Газе и Сирии. Регион пришел в движение в тот момент, когда Америка уходит из Ирака, оставляя за собой разоренную страну, раздираемую противоречиями и лишенную определенной стратегической ориентации. Следствием действий американских вооруженных сил явилось то, что ряды террористов пополняются быстрее, чем их уничтожают в Афганистане и Пакистане. Это тот контекст, для некоторых – весьма зловещий, в котором усиливаются связи запада Азии с другими частями континента.
Эмансипация арабского мира
2011 г. начался с восстаний в Рабате и Каире, народного бунта и гражданской войны в Ливии и беспорядков во многих других странах арабского мира, где вышедшие на улицы манифестанты требовали реформ. Управляемые массы обнаружили, что способны, если понадобится, отозвать свое согласие быть управляемыми и тем самым осуществить смену режима. Век иностранных протекторатов в этом регионе завершен.
Ближайшими последствиями беспорядков станут растущие и нестабильные цены на углеводороды, затормозившееся экономическое восстановление Америки и еще более медленное – Европы и Японии. Ускорится смещение мирового богатства к усиливающимся державам на Востоке и Юге Азии, а также к странам – поставщикам энергоресурсов в Западной Азии. Долгосрочные последствия нынешних событий прогнозировать труднее. Наиболее вероятными представляются следующие тенденции:
Более либеральная и самоуверенная национальная политика арабских государств в сочетании с экономической самодостаточностью и большей независимостью в сфере региональной политики. Заметное сокращение возможностей внешних держав – в первую очередь, Соединенных Штатов – определять тенденции и события в Западной Азии и Северной Африке. Углубление изоляции Израиля. Возрождение Каира, Багдада и Дамаска в качестве ведущих игроков на политической авансцене арабского Востока, выступающих в этой роли наравне с Эр-Риядом. Утрата Ираном недавно приобретенных преимуществ в виде роста престижа и влияния в арабском мире – в связи со всплеском активности в арабских странах. Возможное усиление Турции благодаря новому для нее статусу регионального лидера. Ускоренное сближение между арабскими странами и государствами Востока и Юга Азии (и, возможно, Россией), чтобы избавиться от былой зависимости от США, Великобритании и Франции. Ослабление джихадистской угрозы арабским обществам в связи с тем, что более мягкие формы ислама будут играть все более заметную роль в политическом руководстве арабских стран. Возможное формирование новых моделей консультационного управления в арабском мире, которые распространятся и на неарабские страны мусульманского сообщества.
Одной из самых удивительных особенностей революций стало нарочитое избегание религиозной, классовой или внешнеполитической повестки дня. К разочарованию Ирана и «Аль-Каиды», в восстаниях почти незаметно влияние исламистских или джихадистских элементов. Полностью отсутствуют лозунги в духе панарабизма. Правда, многие протестующие инкриминировали непопулярным лидерам политику угодничества перед американцами или соглашательство с Израилем, но за редким исключением их ярость не была направлена непосредственно против Америки или Израиля.
Эти революции – дело рук тех, кто стремится сделать общество более свободным и выступает за приход к власти такого правительства, которое будет выражать волю народа, а не служить иностранной марионеткой. Повстанцы недовольны жизнью в собственной стране. Гораздо проще понять, против чего они ведут борьбу, нежели найти какую-то положительную программу. Пока рано говорить о том, будет ли их стремление к демократии полностью удовлетворено военными властями, которые в настоящее время принимают решения. Трудно предугадать, какое соотношение сил установится между приверженцами светской и исламистской политики. Мусульманское понятие «шура» – консультационное правительство – не противоречит демократии, но имеет ряд отличий. Страны, настроенные на конституционную реформу, совместимую с исламом, располагают широким выбором демократических форм правления – от турецкой модели до Палестины, управляемой движением ХАМАС.
Независимо от того, какая судьба ожидает демократию в этих странах, арабские правительства, включая те, что избежали беспорядков или пережили их, теперь будут более уважительно относиться к волеизъявлению граждан. В результате следует ожидать подъема исламских настроений в той или иной форме. Для многих мусульман легитимность правителей измеряется тем, в какой мере они олицетворяют нравственные устои, управляя «уммой» или сообществом правоверных. В новых обстоятельствах этот критерий будет иметь гораздо большее значение, чем прежде.
Повсюду в арабском мире могут быть созданы новые мусульманско-демократические партии наподобие христианско-демократических партий Европы в конце XIX – начале ХХ веков. Появление их следует приветствовать. Этот процесс еще больше отодвинет «Аль-Каиду» на обочину мусульманской цивилизации. Ей и без того уготована роль пассивного наблюдателя за развитием революций. Скорее всего, волна террора против арабских правительств ослабеет. К несчастью, политически мотивированное насилие, направленное против Израиля и Америки, грозит лишь усилиться. Оккупационные и колонизационные усилия Израиля на Западном берегу, а также жесткая осада Газы преградили палестинцам мирный путь к самоопределению, а арабов в целом лишили стимула мириться с существованием еврейского государства в мусульманском мире.
Арабская молодежь остается лояльной своим государствам, одновременно принимая активное участие в жизни виртуального пространства стран Ближнего Востока и Магриба. Местные лидеры, игнорирующие настоятельную потребность в реформе, больше не могут чувствовать себя в безопасности. Через год или два ни одна страна этого региона не будет проводить ту внутреннюю и внешнюю политику, которую проводит сегодня.
Так, если египтяне изберут эффективных лидеров, они снова будут играть ключевую роль в политике своего региона. В их силах выработать идеологию, способную завоевать популярность в арабском мире и за его пределами. Почти наверняка следует ожидать возрождения египетской дипломатии, которая отражала бы мнение и ценности рядовых граждан, а не отдельных политических деятелей. В результате ни Соединенные Штаты, ни Израиль не смогут рассчитывать на сотрудничество Египта по поддержке той политики, которая ненавистна арабской улице.
Воспрянувший Египет уравновесит влияние Ирана. Освободившись от бремени тесного сотрудничества с Госдепартаментом США, Каир, скорее всего, преуспеет в сдерживании Тегерана гораздо больше, чем в прошедшее десятилетие. Ведь Ирану удалось усилить свое влияние в Ираке, Ливане и Палестине во многом благодаря грубым просчетам американской дипломатии, вялости и апатии египетских правителей и политике вытеснения на периферию большинства арабских стран, за исключением Саудовской Аравии. Теперь Египет почти наверняка восстановит утраченные позиции грозного конкурента Ирана за лидерство в арабском и мусульманском мире, что повлечет за собой корректировку во внутриарабских отношениях.
Ирак, откуда уходят американцы, не способен играть историческую роль участника арабской коалиции по сдерживанию гегемонистских устремлений персов в Западной Азии. Необходимость оказывать противодействие Ирану с неизбежностью предполагает продолжение военного присутствия Соединенных Штатов в Персидском заливе для сохранения баланса сил. Однако недавние события стоили Вашингтону того небольшого доверия и престижа в арабском мире, которые он еще сохранял.
Неторопливое, двусмысленное и неэффективное одобрение Америкой смены режима в Тунисе и Египте нисколько не убедило людей на арабской улице в том, что американцы искренне поддерживают их требования демократизации. Им будет трудно вычеркнуть из памяти тот факт, что США десятилетиями братались с диктаторскими режимами. А запоздалые требования Америки к своим стародавним протеже немедленно отказаться от власти приводят правителей региона к мысли о том, что на Вашингтон нельзя положиться, поскольку он не хранит верности друзьям и отказывается защищать их. В итоге арабы, турки и даже израильтяне больше не верят (если когда-либо верили) в мудрость и добросовестность Соединенных Штатов. Даже запоздалое согласие американцев с требованиями Лиги арабских стран и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива создать в Ливии «зону, запрещенную для полетов военной авиации» скорее ударило по Вашингтону. Бомбежки Ливии лишь закрепили за американцами репутацию безжалостных истребителей гражданского населения мусульманских стран вместо того, чтобы убедить арабов в том, что Америка на их стороне.
Но если народные антипатии в арабских странах Персидского залива или финансовый кризис в самих США приведут к существенному сокращению американского присутствия в Ближневосточном регионе, это еще больше дестабилизирует обстановку. Оказавшись не в состоянии по-прежнему обеспечивать противовес Ирану, Ирак и страны Персидского залива окажутся перед выбором: умиротворение Тегерана или создание новой коалиции для его сдерживания. Едва ли есть основания рассчитывать на то, что нынешний Ирак не солидаризируется с Ираном. Не приходится серьезно говорить и о том, чтобы когда-либо был положен конец извечному соперничеству между персами и арабами.
Пока даже на горизонте не маячит возможность появления какой-либо иной великой державы, кроме Соединенных Штатов, которая была бы способна проецировать силу в регионе Персидского залива. Несмотря на выдающуюся способность многочисленных европейских министров обороны торговаться, Европе недостает сплоченности и последовательности, чтобы прийти на смену Америке. Россия имеет ограниченные возможности для того, чтобы откликнуться на призывы арабов: с одной стороны, сложности во взаимоотношениях с Европой, с другой – внутренние проблемы. Индия накапливает потенциал, и Дели мог бы играть заметную военно-политическую роль в этом регионе, но пока не готов к этому, поскольку поглощен стратегическим соперничеством с Китаем и Пакистаном. В долгосрочной перспективе КНР и другие страны Восточной Азии могли бы взять на себя бремя защиты своих и мировых интересов в Западной Азии. Но в скором будущем они вряд ли способны мобилизовать для этого политическую волю и военные ресурсы.
Получается, что в отсутствии США любая коалиция, созданная для обеспечения безопасности в данном регионе, будет вынуждена опираться на военную силу близлежащих стран, не имеющих превосходящей военной мощи – Турцию, Египет, Пакистан и государства Персидского залива. Но создание подобной коалиции, весьма громоздкой и поэтому не особенно эффективной, потребует больших усилий, затрат времени и денежных средств.
Пакистан мог бы быть особенно полезен для обеспечения ядерного сдерживания Ирана и Израиля, но его интересы всегда будут скорее направлены в сторону Индии, Кашмира и Афганистана, нежели Персидского залива. В зависимости от того, как будут развиваться события в оккупированной Палестине, нынешний «холодный мир» между Египтом и Израилем может вполне уступить место холодной войне. Тем самым египтяне озаботятся пробелами в собственной обороноспособности и способами ее укрепления. А Турция пока, похоже, больше настроена на умиротворение Ирана, нежели на участие в коалиции по его сдерживанию.
Как бы сильно страны Западной Азии ни сомневались в надежности Америки, на практике они не в состоянии полностью отказаться от опеки. Ирония состоит в том, что ужасающее состояние американских финансов, скорее всего, не позволит наращивать военную мощь в регионе. Неотложная необходимость для Вашингтона сокращать бюджетные расходы и отчаянные усилия арабских стран Персидского залива как можно больше снизить зависимость от Соединенных Штатов будут катализировать друг друга. В грядущее десятилетие ближневосточные государства попытаются гарантировать стабильность с помощью новых партнерств в области безопасности. Странам Восточной и Южной Азии, заинтересованным в энергетических ресурсах данного региона, придется гораздо быстрее разделить бремя защиты своих интересов на Ближнем Востоке, чем они предполагают.
Арабские государства, скорее всего, добьются (на самом деле они на это обречены) большей самодостаточности и независимости во внутренней политике, к чему так стремятся нынешние революционеры. От того, что будет представлять собой новый курс, зависят судьбы всего мира.
Интеграция Азии: запад встречается с востоком
Арабы, турки и представители других родов Западной Азии пытались ослабить зависимость от Америки задолго до того, как текущие события наглядно показали, как глубоко они презирают наше лицемерие и сколь легковесно по их мнению слово американцев. Конечно, они хорошо сознают, что не могут полностью разорвать связь с Вашингтоном. США остаются единственной военной державой, способной осуществить интервенцию в любой части земного шара. На них приходится более одной пятой общего потребления, и они являются самым крупным должником в мире. Соединенные Штаты не могут оставаться единственным источником новых идей в том, что касается глобального управления и региональной политики, но в состоянии воспрепятствовать реформам, инициируемым другими странами. Поэтому, как и вся Азия, государства Ближнего Востока связаны с Америкой узами вселенского брака. Как бы сильно некоторые из них – например, иранцы – ни желали, чтобы янки собрали «вещички» и убрались из их дома, развод невозможен. Но жители региона в большинстве своем мусульмане, и их ничуть не смущает многоженство. Поэтому они заняты налаживанием новых отношений, призванных ослабить зависимость от Вашингтона.
Китай и Индия наготове. Это не только самые быстроразвивающиеся экономики мира, но и самые быстрорастущие рынки нефти и газа. Ожидается, что в предстоящее десятилетие более половины прироста мировых потребностей в энергоносителях придется на эти две страны. Впечатляющее усиление предприимчивого Востока и Юга Азии порождает бум на западе Азии, богатом месторождениями углеводородов. Доказав способность осуществлять колоссальные инфраструктурные проекты у себя дома, китайские строительные компании берутся за крупные начинания по всей Азии от Мекки до Тегерана. Если символами присутствия Соединенных Штатов в регионе являются бомбардировщики, сухопутные войска и атомные подводные лодки со смертоносным оружием на борту, то Поднебесная все больше ассоциируется с башенными и портальными кранами, инженерами и контейнерами, доверху набитыми потребительскими товарами.
Китайцы наращивают влияние и присутствие в регионе по тем же причинам, которые когда-то побуждали это делать американцев. Они платят наличными, обеспечивают адекватное соотношение цены и качества и не навязывают деловым партнерам или принимающей стороне своих ценностей и политических предпочтений, не требуют от них помощи в реализации своих империалистических замыслов. В этом плане Америка получила серьезного соперника, который напоминает ее саму в недавнем прошлом. Но если Китаем восхищаются за его скромность и компетентность, никто на Ближнем Востоке, и тем более в других регионах Азии, не принимает КНР за политический идеал, каким многие (если не большинство) когда-то считали Соединенные Штаты.
В этом главная особенность азиатской интеграции – ею движут финансово-экономические факторы, а не политика или идеология. Торговля между странами Персидского залива, Китаем и Индией в последнее десятилетие росла на 30–40% ежегодно. За тот же период китайская экономика выросла с 10% до 40% относительно американской. Менее чем через 40 лет, к 2050 г., экономика Китая может в два раза превысить по размерам американскую, а экономика Индии с ней сравняется. Мы говорим о серьезных экономических сдвигах в Азии, которые возымеют фундаментальные геостратегические последствия.
У арабских инвесторов карманы набиты наличностью, и когда-то они очень стремились к тому, чтобы их деньги работали в Соединенных Штатах. Однако американская исламофобия, а также возобновление старинных связей мусульманских стран с Китаем и странами Центральной и Юго-Восточной Азии быстро избавляют их от прежних предпочтений. Государственные и частные арабские инвестиции в нефтехимическую промышленность Китая, а также в сферу услуг, банки, телекоммуникации и недвижимость Поднебесной растут лавинообразно. Та же тенденция наблюдается и во взаимоотношениях арабов с Индией, хотя на пути сотрудничества то и дело возникают коррупционные скандалы и внутрииндийские политические трения.
Мусульманское банковское дело, в котором нет места заемному капиталу и производным финансовым инструментам, что кажется привлекательной практикой в нынешних условиях, строится по одним и тем же принципам и в Малайзии, и в странах Персидского залива. Этот опыт также перенимается в Китае и других государствах. Туризм, духовное паломничество, обмен студентами и изучение языков – все эти сферы быстро развиваются в отношениях между КНР, Индией, Южной Кореей, арабскими странами. Знание языков заметно подхлестывают деловую активность.
Хотя Индия считает Китай своим главным стратегическим соперником в Азии, взаимная торговля выросла с 200 млн в 1989 г. до 60 млрд в 2010 году. В 2007 г. Китай опередил Соединенные Штаты, став главным торговым партнером Индии. А к 2015 г. Китай и Индия собираются увеличить ежегодный торговый оборот до 100 млрд долларов. Экономики двух стран прекрасно дополняют друг друга, что стимулирует взаимные инвестиции. Индии нет равных в сфере услуг, а Китаю – в сфере промышленного производства. Визит в Южную Азию премьер-министра Китая Вэнь Цзябао в конце прошлого года стал поводом для новых обязательств Пекина, который собирается инвестировать по 16 млрд долларов в экономику Индии и Пакистана.
Несмотря на общую заинтересованность в обеспечении безопасных морских путей и способов транспортировки сырья, перспективы военного сотрудничества сомнительны. В настоящее время граница с Индией – единственный сухопутный участок, где Китаю не удалось провести демаркацию путем мирных переговоров. В 1962 г. между двумя странами вспыхнула короткая пограничная война, и до сих пор нередки вооруженные столкновения между боевыми патрульными подразделениями. Опасения Индии в связи с растущей военной мощью КНР – не менее сильный стимул для модернизации вооруженных сил, чем враждебные отношения с Пакистаном и конфликт в Кашмире.
Обеспокоенность Индии усилением военной мощи Китая заставляет ее укреплять военные связи с Соединенными Штатами, вести диалог в сфере безопасности с не менее встревоженными соседями, такими как Вьетнам и Япония. Со времени Реставрации Мэйдзи в 1868 г. Токио привык быть «первым номером» в Азии, но в прошлом году экономика Поднебесной обогнала японскую, став второй в мире. Усиление КНР вывело Японию из психического равновесия, поставив ее перед нелегкой задачей смены места в неофициальной иерархии азиатских стран. Некоторые политики в Токио считают оборонный союз с Дели и укрепление военного сотрудничества с Сеулом (несмотря на глубокую историческую неприязнь) полезной защитой от Китая, поскольку лидерство Америки в мировой политике и экономике продолжает ослабевать. Тем не менее, многие факторы, включая растущую зависимость будущего процветания Японии от роста китайской экономики, по-прежнему вынуждают Токио искать сближения с Пекином. В настоящее время на его долю приходится 20% всего внешнеторгового оборота Японии, это главный экономический и торговый партнер. Еще больше от КНР зависит Южная Корея, четверть внешнеторгового оборота которой приходится на Поднебесную.
Всю Восточную Азию (включая японские и корейские компании, а также корпорации Китая и стран Юго-Восточной Азии) сегодня неразрывно связывает система снабжения и поставок. Индия также начинает втягиваться в эту систему и другие отношения с Восточной Азией. Трудно переоценить значение Юго-Восточной Азии как горнила азиатской экономической интеграции. Китайские общины в регионе сыграли ключевую роль в выковывании капиталистических кадров КНР, которые заимствовали многие элементы финансовой и коммерческой культуры китайской диаспоры. Всекитайский консенсус состоит в том, что «дело Китая и его народа – делать бизнес», если перефразировать саркастическое описание Америки начала XX века, предложенное Кальвином Кулиджем. Этот лозунг помог Китаю отказаться от территориальных претензий и других потенциальных конфликтов, чтобы дать возможность своим жителям зарабатывать деньги вместо того, чтобы вести войны.
Как и надеялся Дэн Сяопин, его лозунг «Быть богатым – это почетно» породил Большой Китай. Эта концепция ликвидировала пропасть между китайцами по обе стороны Тайваньского пролива. Большой Китай объединяет многочисленные политэкономии континентального Китая, Гонконга, Макао и Тайваня с их системными различиями. Его идеологию в той мере, в какой она здесь присутствует, лучше всего выражает упорядоченная меритократия и прагматичное использование промышленной политики в Сингапуре. Экономики Большого Китая, стран – членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и, в меньшей степени, традиционно протекционистских Японии и Южной Кореи в настоящее время далеко продвинулись по пути создания гигантской зоны свободной торговли, в присоединении к которой заинтересованы Индия и страны Южной Азии.
Еще одна крупная держава Азии – Россия – пока держится в стороне от процессов интеграции. Она остается главным источником вооружений и военных технологий, экспортируемых в Индию и Китай, и начинает играть роль крупного поставщика энергоносителей в КНР, уже на протяжении долгого времени являясь таковым для Европы. Пляжи китайского острова Хайнань, Вьетнама и Индии российский средний класс облюбовал в качестве мест для зимнего отдыха. Множество россиян учатся и работают в Китае и других странах Азии.
Вместе с КНР и странами Центральной Азии Россия создала Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). В сфере своего влияния ШОС стремится пресекать соперничество великих держав, мусульманский экстремизм и китайский этнический сепаратизм. Но Москву, похоже, больше интересуют отношения с Европой, чем с Азией. Поставки энергоресурсов из Центральной Азии в Китай и создание соответствующих транспортных коридоров подрывают традиционное доминирование России в этом регионе. Богатый полезными ископаемыми, но малонаселенный российский Дальний Восток втягивается в экономические орбиты Китая, Японии и Кореи. Сельское хозяйство Сибири все больше зависит от труда китайских мигрантов. Будущие отношения России со странами Азии остаются такими же непредсказуемыми и неопределенными, как и ее политическая ориентация и политический строй. То же можно сказать и о роли Москвы в Европе и на Ближнем Востоке.
Вероятно, определять облик нынешнего столетия наряду с глобализацией предстоит «азиатизации». Уже очевидны проявления единой азиатской логистики как сердца и кровеносной системы мировой торговли. Большинство финансовых аналитиков предполагают, что азиатские валюты, такие как китайский юань, со временем потеснят пока еще всесильный доллар в качестве резервной мировой валюты и платежного средства в мировой торговле. Многообразие людских и природных ресурсов Азии с ее усиливающейся интеграцией создают все предпосылки для продолжения экономического подъема на фоне быстрорастущей производительности труда на этом континенте.
Наши лучшие банкиры и экономисты утверждают, что менее чем через четыре десятилетия (в 2050 г.) ВВП Китая достигнет 70 трлн нынешних долларов США (для сравнения, на сегодня ВВП Соединенных Штатов – 14 трлн долларов, а к 2050 г. он может вырасти до 35 трлн долларов). В том же году ВВП Индии, говорят нам, должен сравняться с ВВП США или даже превзойти его. Пропорционально вырастут и другие азиатские экономики – например, экономика Индонезии. Цифры можно оспаривать, но не приходится сомневаться в том, что к середине века экономический центр тяжести мира будет находиться в Азии – где-то между Пекином и Дели. Арабы и индонезийцы, турки и японцы, индусы и американцы, европейцы, африканцы, латиноамериканцы и другие народы будут тянуться за китайцами. Усиливающиеся Китай и Индия поднимут всю Азию, а Азия уже начала поднимать всю мировую экономику.
Три столетия тому назад Европа, а затем и Америка отняли у Азии первенство в научно-техническом прогрессе и инновациях. Изобретение нуля, компаса, ракеты, бумажных денег, типографского шрифта из подвижных литер, химии, салона красоты и банковского чека – это вклад индусов, китайцев, корейцев, арабов и других мусульман в современную цивилизацию. Сегодня ряды образованных азиатов растут, множатся учреждения, в которых идеи превращаются в готовые изделия – речь идет об исследовательских институтах и венчурном капитале. Не следует удивляться, что в середине и конце XXI века Азия может вернуть себе лавры главного двигателя мирового научного прогресса.
Мы редко задумываемся, до какой степени азиатский образ жизни уже стал частью нашего быта. Прежнее поколение американцев было бы крайне удивлено восхищением наших современников такими блюдами, как суши и сашими («Рис, обернутый в морские водоросли, и сырая рыба на обед – вы шутите?»). Пирсинг, булавки на лице и свисающие украшения в индийском стиле, когда-то считавшиеся варварством и экзотикой, теперь украшают или (если вам так больше угодно) обезображивают многих американцев, молодых и старых. Кальян проник в наши городские салоны. Судоку – последний писк моды. Люди интересуются системой фэн-шуй, а дети изучают восточные боевые искусства. Что еще мы позаимствуем у Азии? Вне всякого сомнения, кое-что из того, что сейчас кажется невероятным. Но пройдет совсем немного времени, и эти вещи прочно войдут в нашу жизнь и быт, мы станем воспринимать их как нечто само собой разумеющееся и забудем о том, что они пришли к нам из Азии.
Америка в поисках врага
Любимая всеми американцами тема – поиск вероятных противников, которые могли бы заменить канувший в Лету Советский Союз. Созданная русскими империя крайне безответственно самоустранилась из гонки за мировое господство, предоставив нам пальму первенства, но при этом лишив нас привычного образа врага. Поиск врага стал навязчивой идеей американских политиков. Нужна экзистенциальная угроза, чтобы оправдать растущие военные расходы, которые превышают совокупный оборонный бюджет всех остальных стран мира вместе взятых, и нежелание идти на их сокращение – даже во имя избежания надвигающегося банкротства. Россия уже не годится, поэтому мы переключились на двух альтернативных кандидатов – один находится в Западной Азии, а другой в Восточной, ислам и Китай. Но и эти два кандидата не дотягивают до роли системного «супостата».
Мусульмане просто хотят вернуть себе достоинство в мировой политике. В странах шариата нарастает ожесточенный спор, переходящий порой в вооруженные столкновения, о том, как навести порядок в обществе. Иногда проявляется сопротивление влиянию западной культуры и попытки полностью исключить его. В иных случаях, как это видно на примере Туниса и Египта, принимаются отдельные идеалы, на которых основано современное политическое устройство стран Запада, но отвергается сама модель государственного устройства или наши обычаи и нравственные устои.
Большинство хочет, чтобы мы ушли с Ближнего Востока, надеясь самостоятельно уладить все существующие разногласия. Мало кто из них испытывает желание обратить нас в свою веру. Никто из них не способен противостоять нам. От ислама не исходит экзистенциальная угроза. Его не устраивает наше военное доминирование в соответствующих странах, но он и не является вызовом для независимости, ценностей или безопасности светской Америки.
Что касается Китая, то больше всего пугает возможность того, что он станет похожим на нас – державу, которую воодушевляет агрессивная миссионерская деятельность, подкрепляемая вооруженными силами, готовыми к броску в любую точку земного шара для навязывания своих ценностей. Слово «Китай» состоит из двух иероглифов, которые дословно означают «центральная страна». В XXI веке Китай, скорее всего, снова будет в полной мере соответствовать этому названию во многих сферах деятельности.
Поднебесная находится в центре и еще в одном смысле. Со всех сторон ее окружают могущественные в военном отношении соседи – Россия, Индия, Япония, Корея, Вьетнам и, конечно, Соединенные Штаты, наращивающие грозный военно-морской потенциал в непосредственной близости от территориальных вод КНР, ширина которых не превышает 12 морских миль. Кроме того, США держат внушительные контингенты сухопутных войск и ВВС в Афганистане и других местах. Китаю приходится отвечать на многочисленные вызовы своей национальной безопасности, лишь некоторые из которых касаются Соединенных Штатов. И все они возникают в непосредственной близости от китайских границ.
Словом, перед Китаем стоит слишком много сиюминутных военных и социально-экономических проблем, которые не дадут ему возможности подражать Америке, даже если бы у китайских лидеров появилось искушение поиграть в доминирование. Мировой ландшафт XXI века в сфере безопасности будет отражать меняющийся баланс сил и постоянную перетасовку состава коалиций «за» и «против» Китая. В этом отношении Азия все больше напоминает Европу XIX века. Наверняка появятся возможности для дистанционной корректировки баланса сил на азиатском континенте, если только Америка пожелает воспользоваться тогдашним опытом Великобритании. Англичане поддерживали тех или иных игроков на континенте там и тогда, когда и где им нужно было усилить свои позиции, чтобы остудить пыл честолюбивых соседей, но они редко осуществляли прямые интервенции – неплохая работа правительства.
Наконец, чтобы проиллюстрировать неоднозначность формирующихся на азиатском континенте военных реалий, стоит проанализировать ядерное измерение военного баланса сил. Если не считать США (которые развернули ядерные силы с трех сторон азиатского континента), в Азии уже находятся шесть из девяти ядерных стран мира. Многие подозревают, что со временем Иран станет седьмой из 10 держав ядерного клуба. Но даже без Ирана ядерная геометрия в Азии уже достаточно сложна. Китай, Россия и Америка нацеливают боеголовки друг против друга. Для Северной Кореи мишенью служат Япония и Южная Корея; если бы ей было это по зубам, она бы целилась и в Соединенные Штаты. Для Пакистана и Китая объектом также является Индия. Пока ни одна из ядерных стран Азии с ядерным оружием не направляет его против Израиля, но Израиль развивает свой ядерный арсенал с учетом всех своих соседей. Ни Индия, ни Израиль, ни Пакистан не подписывали и не ратифицировали Договор о нераспространении ядерного оружия. Северная Корея игнорирует режим нераспространения. Это одна из причин, по которой странными и нелепыми кажутся титанические усилия США по недопущению расползания ядерных вооружений. Тигров уже выпустили из клетки. Теория ядерного сдерживания проходит последний экзамен именно в Азии. В этом контексте гротескно избыточные ядерные арсеналы, унаследованные Россией и Соединенными Штатами от эпохи холодной войны с ее взаимно гарантированным уничтожением, сегодня совершенно неадекватны и представляются напрасной тратой огромных средств.
То же самое, но с некоторыми оговорками, можно сказать и о давно развернутой в Америке истерии в связи с вероятным нанесением ядерных ударов негосударственными группами или организациями. Все государства, имеющие на вооружении атомные бомбы, вложили немалые суммы в их создание, и сделали это для того, чтобы решить конкретную проблему национальной безопасности. Ни одна из этих стран не собирается отдавать столь дорогостоящую вещь каким-то непонятным группам лиц. Опасения по поводу умышленной передачи ядерного оружия террористам представляются сильно преувеличенными, если не сказать бредовыми.
Однако сохраняется вероятность того, что ядерная держава, охваченная общественными беспорядками, с ослабленной государственной властью подвержена риску, при котором повстанцы или террористы могут организовать похищение одной-двух бомб. В этой связи на ум невольно приходят пакистанские боевики или израильские переселенцы. В предстоящие десятилетия могут возникнуть другие подобные ситуации, если только не будут искоренены источники возможных конфликтов, которые служат питательной средой для фанатизма. Поэтому бдительность нельзя терять ни на минуту. Нужно также уделять повышенное внимание разрешению цивилизационных конфликтов, покончить со случаями социального угнетения, всемерно способствовать развитию мирного процесса, торжеству справедливости и процветания и в Азии и на других континентах.
Мы ничего не выиграем, если не признаем, что Азия вернулась на мировую авансцену после двух неудачных для нее тысячелетий. На наших глазах фактически формируется «большой организм». Если провести зоологическую аналогию и сравнить его со слоном, то нам не удастся управлять им, если мы сосредоточимся на его задних конечностях, но не будем обращать внимания на хобот, голову, ноги или живот. Каждая часть этого огромного азиатского организма имеет свои проблемы и требует особого подхода, но главный вызов сегодня – рассматривать азиатский континент как единое целое и соответствующим образом строить свою стратегию. Ни современные академии и государственные структуры, ни прошлый опыт не помогут нам в этом деликатном вопросе, на который, тем не менее, необходимо найти ответ.
Чез Фримен – президент Совета по ближневосточной политике (г. Вашингтон), председатель Projects International, в течение многих лет работал на ответственных должностях в Государственном департаменте США и Пентагоне, занимался проблемами Африки, Ближнего Востока, Китая, Южной Азии и европейской безопасности.

Мирное сосуществование XXI века
Закат вульгарного мультикультурализма как возрождение культуры модерна
Резюме: Мультикультурализм появился лишь как исторический эпизод, как проявление кратковременной «обратной волны», завершающей цикл индустриальной модернизации. Эта волна была вызвана внешними по отношению к культуре импульсами, сила которых ныне слабеет. Необходима новая модель.
Критика мультикультурализма становится модной политической тенденцией в Европе, но вызывает разноречивые отклики в России. При этом само значение этого понятия не вполне прояснено, дискуссии же носят исключительно политический характер. В данной статье я излагаю свою гипотезу о том, что ослабление позиций сугубо традиционалистской идеологии, выраженной в концепции вульгарного (упрощенного, выхолощенного) мультикультурализма, обусловлено фундаментальными историческими тенденциями – приливами и отливами модернизации.
Концепция «обратной волны»
В 1990-е гг. Самьюэл Хантингтон предложил модель глобального распространения демократизации, в которой использовал образ морских приливов и отливов. Он ввел в научный оборот понятие «обратной волны» (rеverse wave) демократизации, обосновав почти неизбежные, но временные отступления ранней демократии под напором традиционных и более укорененных в жизни народов недемократических режимов. Концепция «обратной волны» хорошо объясняет не только трудный и извилистый путь демократизации, но и более широкий круг процессов, объединяемых понятием «модернизация». Эта концепция позволяет лучше понять и природу одного из парадоксов глобализации.
Речь идет об одновременном проявлении с конца XX века двух, казалось бы, взаимоисключающих тенденций. С одной стороны, рост взаимосвязи стран мира и определенная стандартизация их культур. С другой – нарастание культурной дифференциации и дезинтеграции, связанное с феноменом так называемого «этнического и религиозного возрождения». Рост традиционных групповых форм идентичности (этнической, религиозной, расовой) стал активно проявляться с конца 1960-х и усилился в 1980–1990-х годах. Эта тенденция охватила большинство стран мира, что и обусловило глобальный кризис модерна, затянувшийся почти на полвека. Глубокой эрозии подверглись в это время основополагающие ценности культуры модерна, прежде всего ценности индивидуальной свободы, рационального сознания и прав человека. Эти процессы сопровождались обострением конфликтов между этническими и религиозными группами не только в постколониальных странах с незавершенной национальной консолидацией общества, но и в давно сложившихся государствах-нациях Европы и в США.
Чаще всего отмеченный парадокс глобализации объясняют естественным сопротивлением незападных культур модернизационным переменам, процессам стандартизации и унификации человеческой деятельности. Но основным фактором, подтолкнувшим волну традиционализма, стали, вероятнее всего, внешние по отношению к культуре импульсы, а именно – совокупность радикальных перемен в экономической, интеллектуальной и политической жизни мира, произошедших в конце 1960-х – начале 1970-х годов.
Экономические перемены. Начала радикально меняться глобальная экономическая стратегия, обусловившая в немалой мере и изменения в культурной политике. С конца 1960-х гг. стремление к сокращению издержек на рабочую силу, затрат на развитие социальной инфраструктуры, на обеспечение экологической безопасности и других требований индустриального и демократического общества стимулировали вывоз капитала и перенос промышленных мощностей из развитого мира в развивающийся. Эта стратегия побуждала корпорации приспосабливать как индустриальные технологии, так и управленческие идеологии к культурным особенностям соответствующих стран. Простота применения новых технологий сделала их доступными для использования в разных культурных и социальных условиях. Внедрение этих технологий не потребовало столь значительных изменений в традиционной культуре, какие произошли в предшествующие эпохи при появлении первых гидравлических и паровых машин, а затем и механизмов на дизельной и электрической тяге. Поэтому вместо прежних западных стратегий слома традиционных культур возникала политика адаптации западной экономики к традиционным культурам.
Она проводилась и в самих западных странах в связи с массовой заменой местной рабочей силы на более дешевую, рекрутируемую из среды иммигрантов. Эта новая стратегия не только уменьшила стандартизирующие функции индустриализации по отношению к традиционным культурам, но и стимулировала рост традиционализма, легитимировала его. Бизнес перестал играть роль основного защитника и проводника модернизации и идей культурного универсализма, что, в свою очередь, повлияло на развитие мирового интеллектуального климата в последней трети XX века.
Изменение общественных настроений. Господствовавшая с XIX века идея модернизации как универсального прогресса подверглась в конце 1960-х и в 1970-х гг. сокрушительной критике. В этот период (времена деколонизации) модернизацию все чаще стали называть «насильственным цивилизаторством и орудием колониализма», а также «имплицитным тоталитаризмом». Левый европейский постмодернизм в лице Ролана Барта, Мишеля Фуко, Жиля Делеза, Герберта Маркузе и ряда других философов-шестидесятников буквально бомбардировал классическую теорию модернизации упреками в антигуманизме и подавлении прав народов на культурную самобытность.
Одним из поводов для сокрушительной критики модернизации послужили проблемы (реальные и мнимые) в ряде стран «третьего мира», подвергшихся модернизации в значительной мере под давлением внешних сил. В некоторых из этих государств, прежде всего африканских, она сопровождалась разрушением традиционных институтов и жизненных укладов, повлекших рост социальной дезорганизации.
Однако в те годы еще рано было оценивать результаты индустриальной модернизации, позитивные последствия которой проявились лишь к началу нового века. Только ныне они стали заметными как раз там, где процесс оказался наиболее полным и последовательным. Например, ряд стран преодолели или существенно смягчили основное бедствие африканского континента – высокую детскую смертность. В период с 1995 по 2007 гг. Бенин, Ботсвана, Намибия, Нигер, Лесото, Маврикий, Мали, Мадагаскар, Сейшелы, Сенегал и некоторые другие (всего около 25% африканских государств) сумели обеспечить сокращение детской смертности в среднем на 18%. Здесь же сложились и сравнительно стабильные демократические режимы, достигнут 15-процентный совокупный рост доходов на душу населения. В большинстве же из 24 автократических государств континента, элиты которых боролись не столько с накопившимися веками внутренними проблемами, сколько с так называемым «экспортом модернизации», с 1995 г. наблюдается отрицательная динамика экономических и социальных показателей.
Но все это стало известно лишь в начале XXI века, а в 1970-е гг. большинство западных интеллектуалов демонизировали модернизацию в «третьем мире», описывая ее исключительно как форму колониализма, и одновременно идеализировали подъем национальных движений, возвращение народов к традиционным социальным практикам и образу жизни. Эти идеи были подхвачены в странах Востока, где послужили основой для формирования разнообразных фронтов сопротивления «новым западным крестоносцам». Многие исследователи давно обращают внимание на то, что политическая философия исламского фундаментализма представляет собой коллаж из идей левого европейского постмодернизма и антиглобализма.
Таким образом, в 1960–1970-е гг. западные интеллектуалы оказали существенное влияние на изменение глобальных политических стратегий, подстегнув волну традиционализации. По отношению к модернизации это была «обратная волна», отступление от идеи органического и целенаправленного обновления общества.
От гражданской интеграции к общинному строю
Одним из важных проявлений кризиса культуры модерна стало изменение в 1970-х гг. западных концепций национальной и культурной политики. До этого на протяжении нескольких веков процесс трансформации империй и становления национальных государств сопровождался политикой поощрения культурной однородности. Георг Фридрих Гегель и Франсуа Гизо, Эдуард Тейлор и Алексис де Токвиль, Жан Жорес и Макс Вебер при всех различиях в их политических предпочтениях твердо поддерживали принцип культурной однородности национального государства.
При этом в его истолковании и способах воплощения в жизнь единства не наблюдалось. Различались представления о мере культурной однородности, для одних она выражалась в формуле французской революции: «Одна страна, один народ, один язык», а для других – только в однородности политической и правой культуры при допущении разнообразия этнического и религиозного самосознания. В последнем случае можно было говорить о переходе страны от политики культурной ассимиляции к политике интеграции разных культур в единую гражданскую общность. Со временем идея национально-гражданской интеграции вытеснила доктрину культурной ассимиляции и после Второй мировой войны стала на Западе основой национально-культурной политики.
Культурная ассимиляция в XVIII–XIX веках достигалась преимущественно за счет навязывания населению страны единого языка, насильственного подавления местных или привнесенных языков, жестких запретов на функционирование локальных культур. На совершенно иных основах утверждалась гражданская интеграция. Она базировалась на идее дополнения множества культур единой гражданской и поощрения такой дополнительной культурной однородности косвенными методами. Так, американская политика «плавильного котла» (melting pot) переплавляла культуру иммигрантских групп, используя социально-экономические рычаги, преимущественно систему льгот. Такая политика не запрещала национальные культуры в быту и вместе с тем поощряла освоение иммигрантами единых гражданских норм на основе усвоения ими английского языка, а также совокупных норм культуры так называемого «белого протестантского большинства». Эта политика показала, что гражданская культура развивается не вместо национальных культур, а вместе с ними.
С конца 1940-х гг. политика «плавильного котла» и гражданской интеграции (в различных модификациях) стала доминирующей в Соединенных Штатах и в Европе. Однако уже в 1960-х гг. под давлением постмодернизма такая политика постепенно стала все более негативно восприниматься западным общественным мнением, которое тогда не умело отличить насильственную ассимиляцию от добровольной гражданской интеграции. Кроме того, интеграция тогда была еще непоследовательной и неполной, например, в США она ограничивалась расовой сегрегацией. Эти ограничения должны были быть сняты, однако вместо совершенствования интеграционной политики ее просто отбросили. Такое часто бывало в истории.
С 1970-х гг. началось победное шествие другой концепции, «мультикультурализма», отказавшейся от идеи гражданской интеграции и направленной на поощрение группового культурного разнообразия и простого соседства общин в рамках единого государства. В 1971 г. принципы мультикультурализма были включены в Конституцию Канады, в 1973 г. ее примеру последовала Австралия, в 1975 г. – Швеция. С начала 1980-х гг. эти принципы вошли в политическую практику большинства стран Запада и стали нормой, своего рода кредо для международных организаций.
Почти четыре десятилетия наблюдения за последствиями внедрения в жизнь этой политической доктрины дают основания для вывода о том, что она, решая одни проблемы, например, обеспечивая привыкание людей к неизбежному и растущему в современном мире культурному разнообразию, порождает другие, усиливая межобщинный раскол общества и провоцируя межгрупповые конфликты. Однако значительные сложности в оценке последствий этого феномена проявляются не только в силу этой двойственности.
Мультикультурализм и его трактовки
Мультикультурализм до сих пор является одним из наиболее расплывчатых терминов политического лексикона, означающим лишь то, что в него вкладывает каждый говорящий. Защитники мультикультурализма рассматривают его как характеристику современного общества, представленного многообразием культур, и как сугубо культурологический принцип, заключающийся в том, что люди разной этничности, религии, расы должны научиться жить бок о бок друг с другом, не отказываясь от своего культурного своеобразия. Такой подход, как правило, не встречает возражений среди серьезных европейских политиков. Они выступают против других сторон мультикультурализма, рассматривая его сквозь призму государственной политики.
Поскольку сторонники и противники мультикультурализма оценивают его с различных позиций, то порой дискуссии на эту тему превращаются в сплошное недоразумение, как если бы люди серьезно спорили о том, шел дождь или студент? Примерно такая коллизия возникла при обсуждении политических заявлений, сделанных в конце 2010 – начале 2011 г. лидерами трех стран – Германии, Великобритании и Франции – по поводу «провала» политики мультикультурализма.
О чем шла речь? Ни один из трех лидеров не подверг сомнению саму необходимость мирного сожительства представителей разных культур в одном государстве. Все они использовали слово «провал», оценивая мультикультурализм исключительно как особую политическую стратегию, т. е. говоря об ошибочном, неверно выбранном государственными деятелями, принципе организации взаимодействия разных этнических, расовых и религиозных общин в единой стране. По сути, три европейских политика говорили только о мультикультурной дезинтеграции.
Первой на эту тему высказалась Ангела Меркель 18 ноября 2010 года. В речи канцлера ФРГ содержалось как признание в качестве общепринятого факта сосуществования в Германии разных культур (по словам Меркель, «ислам уже стал неотъемлемой частью Германии»), так и критика вульгарного мультикультурализма, т.е. такой политической практики, которая привела к раздельному и замкнутому существованию общин в составе одного государства. Именно эту замкнутость («живут бок о бок, но не взаимодействуют») канцлер определила как «абсолютный крах» политики мультикультурализма.
Эту же мысль повторил и британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, внеся важное уточнение. Выступая в Мюнхене на международной конференции по безопасности (5 февраля 2011 г.), он подчеркнул, что проблему мультикультурализма составляет не столько специфичность разных религиозных культур, представленных в современной Великобритании, сколько отсутствие у новых британцев единой гражданской, общей британской идентичности. В 2007 г. было проведено социологическое исследование, которые выявило: треть британских мусульман считает, что им ближе мусульмане из других стран, нежели их сограждане-англичане. Эти и другие факты дали Кэмерону основание для вывода о том, что «отсутствие у молодых людей, выходцев из мусульманских стран, других идентичностей, кроме соотнесения себя с общиной, заставляет их придерживаться извращенных интерпретаций ислама и сочувствовать террористам». В целях преодоления культурного раскола общества и установления позитивного плюрализма британский премьер предложил особую либерально-гражданскую концепцию, названную им «мускулистый либерализм». На его взгляд, интеграция произойдет, если люди, принадлежащие к разным культурным сообществам, «освободившись от государственного гнета, обретут общую цель», например, в виде общей гражданской заботы о своей стране как едином доме.
В феврале 2011 г., последним из лидеров стран ЕС, тему мультикультурализма затронул президент Франции Николя Саркози, сам являющийся живым воплощением этого феномена современной Европы. Ведь история рода Саркози – пример переплетения по крайней мере трех традиций: французской, венгерской и еврейской. Понятно, что и претензии к мультикультурализму носят с его стороны не культурологический, а сугубо политический характер. Провал этой стратегии он, как и его коллеги по Евросоюзу, связывает с нарушением принципов гражданской интеграции: «Общество, в котором общины просто сосуществуют рядом друг с другом, нам не нужно, – отметил Саркози 12 февраля 2011 года. Если кто-то приезжает во Францию, то он должен влиться в единое сообщество, являющееся национальным». Напомню, что во Франции уже более двух веков под нацией (национальным сообществом) понимается согражданство и единая гражданская идентичность.
Невольники общин: либеральная критика мультикультурализма
В политических кругах у мультикультурализма есть два вида критиков. Консервативная критика (обозреватели часто называют ее «культурным империализмом» или «новым расизмом») исходит из необходимости замены мультикультурализма монокультурализмом и настаивает на законодательно закрепленном режиме привилегий для доминирующих культурных групп (религиозных и этнических). Апологеты такой позиции (неонацисты в Германии; активисты крайне правой «Английской лиги обороны» в Великобритании или партии Марин Ле Пен во Франции) резко отрицательно оценили выступления нынешних лидеров своих стран, рассматривая их как «беззубые», «пустой пиар», «обман общества» и т.д.
Позиция Меркель, Кэмерона и Саркози ближе к либеральной критике мультикультурализма, которая исходит из того, что сохранение культурного своеобразия является безусловным правом всех граждан. Однако зачастую такое сохранение своеобразия отнюдь не добровольно, оно происходит под давлением общин и вступает в противоречие с правами других людей, с принципом равноправия и с гражданской сущностью современного общества.
Либеральная критика приводит следующие аргументы.
Во-первых, эта политика обеспечивает государственную поддержку не столько культурам, сколько общинам и группам, которые необоснованно берут на себя миссию представительства интересов всего этноса или религии.
Во-вторых, государственное спонсирование общин стимулирует развитие коммунитарной (общинной) идентичности, подавляя индивидуальную. Такая политика закрепляет безраздельную власть общины, группы над индивидом, лишенным возможности выбора.
В-третьих, мультикультурализм искусственно консервирует традиционно-общинные отношения, препятствуя индивидуальной интеграции представителей разных культур в гражданское общество. Во многих странах Европы и в США известны многочисленные случаи, когда люди, утратившие этническую или религиозную идентичность, вынуждены были возвращаться к ней только потому, что правительство спонсирует не культуру, а общины (их школы, клубы, театры, спортивные организации и др.). В России же льготы, предназначенные для «коренных малочисленных народов Севера», вызвали в 1990-е гг. стремительный рост численности таких групп за счет того, что представители иных культур, прежде всего русские, стали причислять себя (разумеется, только по документам) к коренным народам в надежде на получение социальных льгот.
В-четвертых, главным недостатком политики мультикультурализма является то, что она провоцирует сегрегацию, порождая искусственные границы между общинами и формируя своего рода гетто на добровольной основе.
Во многих странах мира возникли замкнутые моноэтнические, монорелигиозные или монорасовые кварталы и учебные заведения. В студенческих столовых возникают столы «только для черных». Появляются «азиатские» общежития или дискотеки для «цветных», вход в которые «белым» практически заказан. В 2002 г. имам небольшого французского города Рубо посчитал недопустимым въезд в этот населенный пункт Мартины Обри, известнейшей политической персоны – мэра города Лилля, бывшего министра труда, впоследствии лидера Социалистической партии и кандидата в президенты Франции. Имам назвал свой городок «мусульманской территорией», на которую распространяется «харам», т.е. запрет для посещения женщины-христианки. Это пример часто встречающейся и парадоксальной ситуации – мультикультурализм на уровне страны оборачивается жесткой сегрегацией на локальном уровне.
Такие же превращения происходят и с иными ценностями, которые в 1970-е гг. лежали в основе самой идеи мультикультурализма. Эта политика, по замыслу ее архитекторов, должна была защищать гуманизм, свободу культурного самовыражения и демократию. Оказалось же, что на практике появление замкнутых поселений и кварталов ведет к возникновению в них альтернативных управленческих институтов, блокирующих деятельность избранных органов власти на уровне города и страны. В таких условиях практически неосуществима защита прав человека. Например, молодые турчанки или пакистанки, привезенные в качестве жен для жителей турецких кварталов Берлина или пакистанских кварталов Лондона, оказываются менее свободными и защищенными, чем на родине. Там от чрезмерного произвола мужа, свекра или свекрови их могла защитить родня. В европейских же городах этих молодых женщин зачастую не спасают ни родственники, ни закон. Карикатурный мультикультурализм, из которого выхолощены ценности гуманизма, способствует возрождению таких архаических черт традиционной культуры, которые уже забыты на родине иммигрантов.
В ряде исламских стран женщины становились не только членами парламента, судьями, министрами, но и главами правительств (Беназир Бхутто в Пакистане, Тансу Чиллер в Турции). А в исламских кварталах европейских городов турецкую, арабскую или пакистанскую женщину могут убить за любое неподчинение в семье мужчине, за подозрение в супружеской неверности, за не надетый платок. Правда, и в Германии турчанка Айгёль Озкан стала министром земельного правительства Нижняя Саксония (апрель 2010 года). Однако как раз она представляет ту, пока небольшую, часть иммигрантов, которая сумела вырваться из локальной общины и индивидуально интегрироваться в немецкое гражданское сообщество.
В замкнутых же исламских кварталах Берлина, Лондона или Парижа молодежь имеет значительно меньшие возможности социализации и адаптации, чем их сверстники, живущие вне добровольных гетто. Уже поэтому невольники общин заведомо не конкурентоспособны на общем уровне страны. К началу 2000-х гг. в Берлине лишь каждый двенадцатый турецкий школьник сдавал экзамены за полный курс средней школы, тогда как из числа немецких школьников такие экзамены сдавал каждый третий выпускник. Понятно, что и безработица затрагивает молодых турок в значительно большей степени, чем немцев. В 2006 г. 47% турчанок в возрасте до 25 лет и 23% молодых турок являлись безработными и жили за счет социальных пособий. При этом сама возможность получения пособий почти без ограничений по времени не стимулирует иммигрантов к интеграции в принимающее сообщество. Более того, социологические исследования показывают, что турецкая молодежь в Германии демонстрирует меньшее стремление к интеграции, чем турки старшего поколения. Вот это и есть реальное выражение краха политики мультикультурализма, точнее – политики культурной дезинтеграции.
Концепция «культурной свободы»: контуры политики нового века
Накапливается все больше доказательств того, что мультикультурализм появился лишь как исторический эпизод, как проявление кратковременной «обратной волны», завершающей цикл индустриальной модернизации. Эта волна была вызвана внешними по отношению к культуре импульсами, сила которых ныне слабеет.
Экономика. В 1970-е гг. мировое разделение труда определялось потребностью экономики в снижении издержек на рабочую силу, при этом ее качество, квалификация работников имели тогда меньшее значение, чем обилие и дешевизна трудовых ресурсов. Индустриальная экономика сама упрощала технологии, адаптируя их к социальным и культурным стандартам, сложившимся в данной местности. Новая же постиндустриальная экономика высоких технологий значительно менее пригодна для адаптации к локальным традиционным культурам. Сама сущность «высокой технологии» исключает возможность ее упрощения, поэтому она более требовательна к качеству трудовых ресурсов, оцениваемому по универсальным и стандартизированным критериям.
Это обстоятельство уже сейчас меняет характер мирового разделения труда. В странах «глобального Севера» уменьшается спрос на рабочую силу низкой квалификации. Большинство этих государств своей миграционной политикой поощряет приток только высококвалифицированных специалистов. Изменяется и отношение к вывозу капитала. Эксперты отмечают, что ныне американские фирмы предпочитают размещать производства первой стадии (высококвалифицированный умственный труд и опытное производство) у себя дома, второй стадии (производство элементов, требующих квалифицированного ручного труда) – в регионах, отличающихся высоким качеством технической культуры и долгой традицией квалифицированного индустриального труда (например, в Шотландии). Наконец, производства третьей стадии, требующие рутинной, трудоемкой, малоквалифицированной деятельности (скажем, изготовление элементов электронных изделий и сборка) – в таких странах, как Китай (Гонконг), Филиппины, Индонезия.
Странам, сохраняющим значительные пласты традиционной культуры, присущей неурбанизированным обществам, в современном разделении труда достаются лишь трудоемкие производства, требующие рутинного и малоквалифицированного труда. По мере того как эти государства или некоторые из них будут втягиваться в развитие собственного постиндустриального производства, им придется существенно изменять сложившийся в стране культурный климат. Экономика вновь воспроизводит креативную функцию по отношению к традиционной культуре, которую она частично утратила в эпоху ее адаптации к локальным традициям.
Политика. Индустриальная фаза модернизации могла осуществляться при разных политических режимах: демократических, авторитарных и тоталитарных. На постиндустриальном этапе модернизации возрастают требования к индивидуальной активности и творчеству работника. А это, в свою очередь, требует сравнительно радикальных изменений в обществе. Экономическая модернизация рано или поздно подталкивает модернизацию социально-политическую. Не случайно переход ряда стран Азии (прежде всего, Японии и Южной Кореи) к инновационному этапу модернизации сопровождался процессом их демократизации. Аналогичные процессы происходили в Латинской Америке (например, в Бразилии), а еще раньше – в странах Южной Европы (Испания, Португалия и Греция). Да и в России политический истеблишмент все яснее осознает, что экономические успехи будут все больше зависеть от «честных выборов». А факт того, что они уже и сегодня невозможны без справедливого суда, осознан уже давно.
Культурное развитие. Волна традиционализма в немалой мере породила архаичную политику мультикультурализма, возродившую и усилившую разобщенность. Ныне этот факт признается не только большинством экспертов, но и политическими кругами. В «Белой книге по межкультурному диалогу», выпущенной Советом Европы (2009), равно негативно оценены как концепция «культурной ассимиляции», так и «мультикультурализма» в его нынешнем виде. Международные организации и практически все демократические страны перешли к новой стратегии.
Во-первых, это поощрение интеграции иммигрантских групп в принимающее сообщество с использованием системы льгот и санкций. Во-вторых, «разделение сфер культуры». В публичной сфере поощряется культурная однородность, основанная на принятии единых формальных норм, контролируемых гражданским обществом. В приватной же области, также как и в духовной жизни, гарантируется возможность культурного разнообразия. Например, место для отправления специфических культов – это храм, тогда как улица – сфера общего светского пользования. Исходя из такого подхода, Саркози заявляет: «Мы не хотим, чтобы во Франции устраивали показательные уличные молитвы, но мечети – это нормально». Предполагается, что такая компромиссная модель позволяет обеспечить соблюдение прав человека вне зависимости от его культурных особенностей при сохранении разнообразия мультикультурного общества.
Модель «разделения сфер культуры», несомненно, отражает назревшие изменения общественных настроений, хотя и остается теоретически весьма несовершенной. В реальной жизни невозможно провести демаркационную линию между приватной и публичной жизнью. Например, воспитание детей в семье, казалось бы, относится к сугубо приватной сфере. Тогда как же оценить принятые в ряде европейских стран запреты на использование физических наказаний при воспитании детей? Таким же фактическим вторжением в личную жизнь являются законы, обязывающие родителей выплачивать алименты на поддержание детей при разводах. Да и сами защитники интересов той или иной культурной группы в приватной сфере неизбежно апеллируют к публичности. Само существование этнических или религиозных общин сегодня невозможно без общественных собраний, собственных изданий, системы просвещения и другой публичности.
Несомненно, новая концепция чрезвычайно противоречива. Вместе с тем, такая противоречивость характерна для большинства принципов, на которых держится современное политическое устройство государства-нации. Так права человека могут вступать в противоречие с принципом защиты национальной безопасности. И в случае роста угроз в любой стране вводятся ограничения прав человека, начиная с личного досмотра в аэропортах и заканчивая – в крайних случаях – установлением режима чрезвычайного положения. На практике противоречия между базовыми принципами политики всегда разрешаются за счет установления системы приоритетов. Они действовали во все времена и во всех сферах общественной жизни, в том числе и в национально-культурной.
Даже в период расцвета политика мультикультурализма имела ограничения. Так, ни одна европейская страна, допустившая на свою территорию ислам, не разрешала многоженства, принятого в мусульманской традиции, вначале потому, что этот принцип был способен разрушить всю систему европейского семейно-имущественного права, созданного для моногамной семьи. Затем этот принцип отвергался как безусловно дискриминационный по отношению к женщине. Ныне, в связи с ростом критики мультикультурализма, общегражданские нормы становятся еще более приоритетными по сравнению с нормами групповыми.
В мире не прекращаются поиски новых стратегий культурной политики. Одним из наиболее перспективных направлений является модель «индивидуальной свободы и культурного выбора», базовые принципы которой изложил Амартия Сен – известный мыслитель и ученый, лауреат Нобелевской премии по экономике. Главная его идея состоит в постепенном ослаблении групповых форм идентификации и переходе к индивидуальному выбору. «Культурная свобода, – объясняет Сен, – это предоставление индивидам права жить и существовать в соответствии с собственным выбором, имея реальную возможность оценить другие варианты». Амартия Сен подчеркивает, что «множество существующих в мире несправедливостей сохраняется и процветает как раз потому, что они превращают своих жертв в союзников, лишая их возможности выбрать другую жизнь, и даже препятствуют тому, чтобы они узнали о существовании этой другой жизни». Вот и этнические, религиозные и другие групповые культурные традиции по большей части не добровольны, они «аскриптивны», т.е. предписаны индивиду от рождения. Поэтому основная цель политики поощрения культурной свободы состоит в ослаблении этой предопределенности, в развитии индивидуального мультикультурализма.
Концепция «культурной свободы» была с энтузиазмом встречена многими специалистами в области изучения культурной политики. Однако она пока не стала нормой и в западных странах. Что касается возможности ее применения в российских условиях, то это представляется крайне маловероятным в обозримой перспективе. И вовсе не потому, что этому будет препятствовать российский народ. Наиболее труднопроходимым для инноваций слоем культурной почвы является тот, который принято называть «российской элитой».
Россия: возможно ли продвижение к мультикультурной интеграции?
На февральском (2011) заседании Госсовета России, обсуждавшем проблемы межнационального общения, президент Дмитрий Медведев попытался реабилитировать слово «мультикультурализм», заметив, что новомодные лозунги о его провале неприменимы к России. На мой взгляд, такая оценка – результат недоразумения, «эффекта Журдена», не знавшего, что он тоже говорит прозой. Дело в том, что российский лидер сам неоднократно критиковал те же стороны мультикультурализма, что и его европейские коллеги. Особенно часто он это делал, говоря о ситуации на Северном Кавказе, где мультикультурная дезинтеграция чрезвычайно ярко проявляется в клановости, в этническом сепаратизме и в религиозном радикализме. Все это порождает почти непреодолимые преграды для управляемости региона, формирует беспрецедентную волну терроризма, не говоря уже о проблемах модернизации этой территории. Президент России, как и европейские лидеры, неоднократно связывал проблему преодоления такой раздробленности с гражданской интеграцией, которую он определял по-разному. На декабрьском (2010) Госсовете, посвященном взрыву русского национализма, Медведев назвал интеграцию развитием «общероссийского патриотизма», а на февральском Госсовете в Уфе – задачей становления «российской нации».
Российская версия политики мультикультурализма древнее и намного сложнее по своим последствиям, чем европейская. Мультикультурализм как форма поощрения групповой, общинной идентичности был неотъемлемой частью сталинской политики создания национальных республик (союзных и автономных), а также национальных округов и областей. Однако в советское время дезинтеграционные последствия такой политики частично снималась имитационным характером всей системы автономий, за фасадом которой скрывалось единое территориально-партийное управление. Проблема обострилась в постсоветское время, когда местные элиты попытались наполнить реальным содержанием формальный и мнимый суверенитет своих республик.
Девяностые годы прошли под знаком мобилизации представителей так называемых титульных национальностей в республиках России, поднимаемых местными элитами на борьбу за суверенитет. В ряде случаев такая мобилизация приводила к открытым вооруженным столкновениям больших групп населения с федеральной властью, как это было в Чеченской Республике. В 2000-е гг. ситуация изменилась, ее фокусом стали другие проблемы, а именно: отторжение иноэтнических мигрантов принимающим сообществом, прежде всего жителями крупнейших городов России.
Эта проблема породила столкновения между разными группами населения, вроде того, что произошло в Кондопоге в 2006 году. Вместе с тем, этнополитическая ситуация в России стала напоминать проблематику стран «глобального Севера». Это, казалось бы, позволяет в большей мере использовать зарубежные концепции и практики культурной, миграционной и этнической политики. Однако в реальности возможность прямой имплементации позитивных концепций и практик весьма ограничена.
Проблема объекта политики. На Западе ксенофобия принимающих сообществ направлена в основном на иммигрантов, т.е. иностранных граждан, прибывших из-за рубежа. В России же основным объектом ксенофобии выступают внутренние мигранты, граждане Российской Федерации, жители республик Северного Кавказа. Уже одно это показывает, что применяемая на Западе политика ослабления миграционных проблем за счет ограничений въезда иностранных граждан и изменений условий предоставления им гражданства или вида на жительство не может быть использована в качестве инструмента решения межэтнической и религиозной напряженности в России.
Проблема раздробленности политического менеджмента в сфере миграционной и этнической политики. В странах Европейского союза направленность развития законодательства и политических практик в сфере регулирования миграции, защиты прав человека и обеспечения прав национальных меньшинств взаимоувязаны как институционально (входят в единый блок управления), так и идеологически (опираются на единые ценности). В России же нет не только единого идеологического основания для интеграционной политики, но разорваны и само управление, и законодательные практики. Так, миграционная политика в 2000-х гг. претерпела изменения. Этническая же («национальная») политика России застыла в том положении, в каком она сформировалась в 1990-е годы. Концепция государственной национальной политики, принятая в 1996 г., не пересматривается. В 2000–2010 гг. законодательная активность Государственной думы в сфере этнической («национальной») политики была парализована, а министерство, которое в 1990-е гг. под разными названиями отвечало за проведение такой политики, ликвидировано.
Проблема фундаментальных особенностей функционирования государственной власти. На Западе основные новации в сфере этнической и миграционной политики формируются политическими партиями и институтами гражданского общества, проходят общественное обсуждение, затем принимаются и кодифицируются законодательной властью, становясь нормой для власти исполнительной. В России же принципиально иной способ формирования политики во всех сферах жизни. Ее принципы и нормы создаются исполнительной властью и затем одобряются партиями, представленными в Федеральном собрании. При таком способе функционирования политики участие экспертного сообщества и широкой общественности в ее выработке и реализации весьма ограничено, а возможность принятия контрпродуктивных политических решений, напротив, чрезвычайно велика. Кроме того, партии, отчужденные от реального участия в выработке политики и не обремененные ответственностью за ее проведение, склонны к популизму. Не случайно практически все партии, представленные в Государственной думе, эксплуатируют этнофобии и мигрантофобии, тогда как в крупнейших странах Евросоюза такие партии либо не попадают в парламент (как в Германии и Великобритании), либо находятся там в меньшинстве, как во Франции. Россия в числе европейских лидеров и по уровню массовой мигрантофобии, хотя и не опережает такие страны ЕС, как Венгрия, Латвия, Греция и Португалия.
В странах Европейского союза основным механизмом реализации этнокультурной и миграционной политики выступает взаимодействие органов исполнительной власти с институтами гражданского общества. Такое взаимодействие делает участие граждан в политике непрерывным, не ограниченным только временем очередных выборов. В России же институты гражданского общества крайне слабы. Более того, наша страна, судя по материалам международных исследований, отличается от 28 стран ЕС самым низким уровнем ценности гражданской солидарности и взаимного («горизонтального») доверия. При этом подстегнуть процесс гражданской интеграции одними лишь информационными манипуляциями по развитию «общероссийского патриотизма» не удастся. Все это делает маловероятной активизацию процесса гражданской интеграции в нашей стране в ближайшие годы.
И все же я верю, что движение России от мультикультурного раскола к мультикультурной интеграции стратегически неизбежно. Наша страна вступила на путь инновационной модернизации, и это не лозунг очередного лидера, а жизненная необходимость для государства с великой историей и великой культурой. Сама же инновационная экономика настолько же неизбежно требует модернизации политико-правовой и социально-культурной, насколько вдох требует выдоха.
Э.А. Паин – доктор политических наук, профессор Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики, генеральный директор Центра этнополитических исследований.

Политика в стиле ретро
Почему Китай не стремится к мировому господству
Резюме: Главная цель китайского национального возрождения заключается в восстановлении законного положения Китая в качестве регионального лидера в Азии, которое он занимал на протяжении 18 из 20 прошедших веков. Пекин поддерживает старомодную, хрестоматийную вестфальскую архитектуру сдерживающих друг друга национальных государств, которую Меттерних метко и точно сравнил с «равновесием большого канделябра».
Данная статья подготовлена для рабочих записок Института Брукингса «Важна ли справедливость для глобального управления», октябрь 2010 г.
В оценке подходов к международным отношениям традиционно различают гоббсианское и кантианское мировоззрение, и вопрос о том, будет ли внешняя политика Китая вдохновляться идеалами Томаса Гоббса или Иммануила Канта, весьма важен. Однако следует отметить, что политические воззрения этих двух мыслителей различаются совсем не столь значительно, как может показаться на первый взгляд.
Гоббса обычно считают циником, жившим в конце Средневековья и начале новой истории. В своем знаменитом произведении «Левиафан» он предложил потомкам безрадостную картину человеческой природы, предоставленной самой себе. Это путь к неизбежной войне, в которой каждое государство сражается с другим, и люди отчаянно стремятся выжить в джунглях, где жизнь «одинока, несчастна, беспощадна, уныла и коротка». Кант, напротив, изображается с большей симпатией как «современный» немецкий философ эпохи Просвещения. Накануне наполеоновского безумия, охватившего Европу в конце XVIII века, он создает свой последний крупный трактат «Вечный мир» (издан в 1795 г.), где доказывает, что спасение человечества – в создании федерации свободных государств, обязавшихся соблюдать международную конвенцию о запрете войн.
В результате подобных размышлений можно прийти к чрезмерному упрощению, если не к ошибочному заключению, наглядной иллюстрацией которого является вышеупомянутая дихотомия. Далекий от того, чтобы верить в необходимость войн, Гоббс размышлял о порядке, который должен сдерживать своекорыстное стремление человечества к власти. Оптимальным решением он считал гражданское общество, руководимое монархом. Последний, по мнению Гоббса, должен следить за соблюдением порядка, но быть избираемым большинством населения. Чтобы понять Гоббса, необходимо помнить, что он жил в эпоху политической смуты, когда был казнен король Карл I Стюарт. Кант жил в тени, отбрасываемой Французской революцией, и жаждал мира, который могло бы гарантировать международное соглашение о запрете войны.
На самом деле эти мыслители не слишком сильно отличались друг от друга – по крайней мере в области политической философии. Восьмидесятилетние Гоббс и Кант писали свои труды в период «правления террора», который воцарился в их странах. Оба подозрительно относились к демократии и доказывали, что порядок должен обеспечиваться вертикалью власти от монарха к простому народу, который добровольно передает бразды правления во избежание анархии.
Таким образом, представления Китая об идеальном миропорядке нельзя назвать строго гоббсианскими или строго кантианскими, учитывая, что ни одно суверенное государство сегодня не будет доказывать целесообразность всемирной монархии, в центре которой находится вселенский правитель. В действительности Пекин, который давно уже критикует США за реальные или мнимые гегемонистские устремления, меньше других стран хотел бы видеть мировое правительство, возглавляемое Соединенными Штатами. Китай хорошо понимает, что в обозримом будущем у него мало шансов добиться превосходства над этой сверхдержавой.
Кроме того, КНР не заинтересована в роли «заместителя шерифа» при США. Эта должность остается вакантной с тех пор, как после поражения Джона Говарда на декабрьских выборах 2007 г. от нее отказалась Австралия, а у Европейского союза нет ни возможностей, ни заинтересованности, ни склонности, ни желания принять на себя эти обязанности.
В действительности призрак Китая, захватывающего как ненасытный колосс весь земной шар, пожирающего природные ресурсы в Африке, поглощающего компании в Америке и Европе, жадно накапливающего редкоземельные металлы внутри своих границ, строящего ракеты, чтобы сбивать спутники, а также подводные лодки-невидимки, бросающие вызов Седьмому флоту США, и мощные авианосцы для подкрепления своих ВМС, которые патрулируют Мировой океан, готовящего тайную армию хакеров для ведения кибернетической войны против Соединенных Штатов – все это похоже на сказку или поучительную притчу.
Вне всякого сомнения, Запад в целом и США в частности, которые располагают наиболее мощными резервами для модернизации и технологической революции в современной истории, пробудятся от спячки и достигнут еще больших высот. В свое время мы уже видели это, когда советский спутник заставил администрации Кеннеди, Джонсона и Никсона отправить первого человека на Луну. Чуть позже тревогу и страх вызвала книга Эзры Фогеля «Япония как номер один», которая вышла в свет в 1980-е гг., когда японцы, используя систему управления «кейрецу» (форма сотрудничества между банками и компаниями, которая, как считают, объединяет их усилия – Ред.), скупили такие американские символы, как Центр Рокфеллера и киноконцерн Columbia. Это вдохновило Соединенные Штаты на то, чтобы начать доткомовскую революцию в 1990-е годы.
Планы Пекина на будущее куда более прозаичны. Как подчеркивали в течение последних 30 лет все китайские лидеры от Дэн Сяопина до Ху Цзиньтао, Китаю нужно прежде всего сосредоточить усилия на внутренней модернизации и поддержании темпов экономического роста, близких к двузначному числу. Это необходимо для того, чтобы поднять пятую часть человечества из ужасающей нищеты до уровня умеренного процветания, характерного для низшей прослойки среднего класса (в настоящее время показатель ВВП на душу населения удалось подтянуть лишь до 3200 долларов). Для достижения цели Китаю нужна международная стабильность, при которой нефть беспрепятственно следует в Восточную Азию через Ормузский и Малаккский проливы. Ему требуется, чтобы мировая экономика восстановилась хотя бы до уровня оздоровления экспортных рынков, заинтересованных в поглощении потребительских товаров, которые сделаны в Китае.
Следуя этим путем, Пекин будет и дальше охотно признавать за Соединенными Штатами статус мировой торговой державы – как минимум на протяжении следующего поколения, – потому что Китай совершенно точно не готов стать державой номер один в ближайшее время, если вообще он когда-либо будет к этому готов. И коль скоро сверхдержава пожелает выполнять функции мирового жандарма, Китай с этим смирится, придерживаясь принципа «только не в моем дворе» – как во внешней, так и во внутренней политике. Иными словами, Пекин не только будет смотреть сквозь пальцы на «полицейские операции», но в некоторых случаях может и открыто поддерживать их, пока не будет пересечена невидимая черта. Например, пока Седьмой флот США не начнет патрулировать Тайваньский пролив или американские разведывательные корабли не станут перехватывать электронные сигналы в непосредственной близости от базы подводных лодок на Хайнане.
Всеми своими действиями в течение последнего десятилетия Китай иллюстрировал это фундаментальное представление о собственных потребностях. Вступление во Всемирную торговую организацию в 1999 г., поддержка других многосторонних организаций – в частности, ООН и всей Бреттон-Вудской архитектуры, включая Всемирный банк и МВФ – служат красноречивым свидетельством того, что Китай придерживается подобных старомодных воззрений. На самом деле взгляды Китая как нельзя лучше подходят под определение «ретро» – китайские функционеры это доказали, когда лезли из кожи вон, чтобы заполучить летнюю Олимпиаду 2008 года. Данное мероприятие считается до такой степени неактуальным в пресыщенном развитом мире, что продвинутые страны не скрывали своей иронии в отношении Китая в 2000 г., когда тот со второй попытки сумел-таки заполучить Олимпийские игры и устроил массовые празднования на улицах своей столицы. Тем временем жители Осаки, которая была главным соперником Пекина, вышли на демонстрацию, чтобы отпраздновать тот факт, что заявка их города проиграла!
Существуют ли различия между политической элитой и китайским общественным мнением по поводу внешней политики или подхода к международным отношениям? И если да, то в чем они заключаются? Даже беглое знакомство с чрезвычайно активной китайской блогосферой показывает, что общественное мнение далеко неоднородно. Следовательно, оно отличается от внешней политики или подхода к международным отношениям, сформированного политическим руководством Китая в результате трудоемкого процесса консультаций и достижения консенсуса. Этот процесс поразительно отличается от шумных межпартийных дебатов на Западе, которые драматично разворачиваются на общественной сцене, известной как «рынок идей». При этом дебаты подробно освещаются западными средствами массовой информации. Рискуя допустить слишком грубое обобщение, можно достаточно смело утверждать, что китайское общественное мнение по внешнеполитическим вопросам отличается более ярко выраженным национализмом и нетрадиционной направленностью, чем позиция политических элит, придерживающихся традиционных взглядов и ориентации на многостороннее сотрудничество.
По вопросам территориальной целостности, отношений со странами, расположенными по другую сторону проливов, объединения с Тайванем, по Тибету и Синьцзяну подавляющее большинство китайских граждан настроены как минимум столь же бескомпромиссно националистически, как и политические элиты. Что касается китайско-японских отношений, то общественное мнение, вне всякого сомнения, более жесткое и антияпонское в сравнении с позицией руководства. Относительно китайско-американских отношений можно сказать, страна в целом и отдельные граждане по-прежнему бесконечно очарованы Соединенными Штатами. Это давнишнее, фанатичное увлечение разделяется и нынешним поколением молодежи, которую свобода, открытость, оптимизм и динамизм американского социально-экономического строя соблазняют до такой степени, что для них США остаются вне конкуренции как лучшая страна для получения образования и миграции.
Однако по широким вопросам внешней политики китайское общественное мнение не менее националистично или враждебно к Америке, чем политическая элита. Напротив, быстрорастущая национальная гордость китайцев, радующихся достижениям своей страны с 1979 г. – не только экономическим, но также социальным, политическим и военным, – приводит к тому, что китайские граждане не желают подчиняться давлению или запугиванию со стороны Соединенных Штатов в вопросах внешней политики, безопасности или обороны. В то же по важным внутриполитическим вопросам, таким как государственное и корпоративное управление, власть закона, права собственности и права человека, включая право на свободу информации и самовыражения, общественное мнение заметно либеральнее политических элит. В преддверии XVIII съезда Компартии Китая в 2012 г., когда на смену пятому поколению китайских руководителей должна прийти новая плеяда лидеров, никто из нынешнего Политбюро в составе девяти человек не рискует малодушничать во внешней политике, особенно по отношению к США. Это касается как кандидата в постоянные члены Политбюро Бо Силая, секретаря компартии Чунцина, так и ныне действующих вице-президента Си Цзиньпина и исполнительного вице-премьера Ли Кэцяна.
Вопрос на миллиард долларов, на который сейчас трудно дать ответ, заключается в том, кто скорее поддержит увеличение государственных расходов на строительство более справедливого с точки зрения Пекинамеждународного порядка: китайское общественное мнение или политическое руководство. Хотя общество, безусловно, приветствует достижение более благоприятного и значительного статуса КНР на международной арене, из этого вовсе не следует, что простые китайцы одобрят увеличение расходов на внешнеполитические цели ради того, чтобы добиться более справедливого положения в мире.
Напротив, учитывая преимущественно континентальный характер китайской экономики, которая в этом смысле напоминает американскую (хотя Китай еще более замкнутая система, чем Соединенные Штаты), а также то, что КНР находится на более низкой ступени развития, большинство китайских граждан, скорее всего, предпочтет, чтобы деньги были потрачены внутри страны. Пословица «своя рубашка ближе к телу» вполне может стать главным внутриполитическим лозунгом Китая в первой половине нынешнего столетия.
Но что касается политических элит, нет сомнений в том, что они предпочли бы более высокий статус своей державы в системе международных отношений и готовы хотя бы частично финансировать усилия, направленные на достижение этой цели. Достаточно посмотреть на политику в Африке и щедрые инвестиции в таких забытых уголках мира, как Молдавия, не являющаяся рогом изобилия в смысле природных ресурсов.
После череды потрясений и трагедий, пережитых в новейшей истории и, в частности, после быстрого упадка в течение XIX века, когда доля Китая в мировом ВВП сократилась с 30% в 1820 г. до 4% в 1900 г., страна только начала долгий и мучительный путь к своему нормальному состоянию. Китаю приходится восстанавливаться после долгих лет унижения со стороны великих держав в XX веке, японской оккупации и внутренних катастроф, вызванных опустошительной «культурной революцией» и политикой «Большого скачка». Главная цель национального возрождения, конечно, заключается в восстановлении законного положения Китая в качестве регионального лидера в Азии, которое он занимал на протяжении 18 из 20 прошедших веков. Неудивительно, что КНР жаждет мира и стабильности внутри страны и на международной арене, чтобы наверстать упущенное и склеить осколки своей древней цивилизации, которая долгое время напоминала разбитую вазу времен династии Мин. Пекин также надеется достичь хотя бы какого-то подобия былого величия и славы. Китай поддерживает старомодную, хрестоматийную вестфальскую архитектуру сдерживающих друг друга национальных государств, которую Меттерних метко и точно сравнил с «равновесием большого канделябра». Неудивительно, что Китай считает Генри Киссинджера, самого знаменитого из современных последователей Меттерниха, своим старым другом.
Дэниел Фунг (Фэн Хуацзянь) – член Политической консультационной конференции КНР, в прошлом – генеральный юрисконсульт в Министерстве юстиции Гонконга.

Валютные войны
Кто оплатит выход из кризиса?
Резюме: Инструменты, имеющиеся у мирового сообщества для урегулирования валютного спора между США и Китаем, весьма ограничены. При неблагоприятном сценарии конфликт выльется в общий рост протекционизма. В случае второго витка долгового кризиса он приобретет геополитическое измерение.
«Сегодня, как и в прошлом, обострение экономических и финансовых проблем приводит к нарушению социального равновесия, подрыву демократии, падению доверия к институтам, и может перерасти в войну – гражданскую или международную».
Доминик Стросс-Кан, директор-распорядитель МВФ, 8 декабря 2010 года
В 1990-е гг. Международный валютный фонд с подачи Соединенных Штатов настойчиво рекомендовал странам с переходными экономиками привязывать обменные курсы к сильным и устойчивым мировым валютам, то есть к американскому доллару. Жесткие курсы минимизировали валютные риски зарубежных инвесторов и таким образом стимулировали приток иностранных капиталов, особенно в страны Юго-Восточной Азии.
В середине десятилетия США подняли ставки для борьбы с инфляцией. Чтобы удержать фиксированные курсы, развивающиеся страны были вынуждены тоже поднять ставки. Их валюты стали дорожать, что тормозило экспорт и увеличивало внешнюю задолженность. В 1997 г. на фоне обрушения тайского бата, индонезийской рупии, филиппинского песо и малайзийского ринггита Юго-Восточная Азия оказалась во власти сильнейшего финансового кризиса.
Понесенный ущерб фактически был той ценой, которую страны региона заплатили за одностороннее приспособление к денежно-кредитной политике Вашингтона. Теперь, 15 лет спустя, угроза односторонней адаптации нависла над Соединенными Штатами. Огромный дисбаланс по внешним расчетам, особенно с Китаем, делает американцев зависимыми от курса юаня. Впервые в современной истории страна – эмитент главной мировой валюты борется за проведение независимой экономической политики. До сих пор это право принадлежало ей безоговорочно и безраздельно.
Линия фронта
После окончания острой фазы кризиса главным стал вопрос о том, кто заплатит за восстановление экономического роста. Средства платежа определены заранее – безработица и снижение уровня жизни.
По официальным данным, рецессия в США закончилась в середине 2009 года. В четвертом квартале 2009 г. и в первом квартале 2010 г. ВВП рос со скоростью 4–5% годовых. Но во втором и третьем кварталах, когда отменили фискальные стимулы, темпы упали до 2% годовых. А этого явно недостаточно для сокращения безработицы, которая за время кризиса увеличилась вдвое – с 5 до 10% рабочей силы. Из потерянных к концу 2009 г. 8,4 млн рабочих мест за последующие три квартала удалось восстановить только 900 тысяч.
В начале ноября руководство Федеральной резервной системы (ФРС) объявило о втором этапе количественного смягчения: до конца второго квартала 2011 г. планируется скупить казначейских облигаций на общую сумму в 600 млрд долларов. Глава ведомства Бен Бернанке, выступая 19 ноября во Франкфурте-на-Майне, так объяснял это решение: «При нынешней траектории экономического развития Соединенные Штаты подвергаются риску иметь на протяжении многих лет миллионы безработных… Как общество мы должны признать этот выход неприемлемым». Согласно позиции ФРС, поддержка экономического роста в США вносит вклад в общий рост мировой экономики, а также повышает устойчивость доллара, который играет ключевую роль в международной валютно-финансовой системе.
Правда, ФРС умалчивает, что дальнейшая накачка долларовой ликвидности способствует долговременному обесценению доллара. А также о том, что дополнительная эмиссия всегда ведет к инфляции, и только страна с доминирующей в мире валютой может, по меткому выражению французского экономиста Жака Рюэффа, позволить себе «дефицит без слез». ФРС привычно рассчитывает на то, что новая порция избыточной долларовой массы будет размазана по миру, и потому не вызовет всплеска цен в самих Соединенных Штатах. То есть в денежно-кредитной политике Вашингтон действует по праву сильнейшего игрока: защищает национальные интересы и не слишком беспокоится об интересах партнеров.
Но есть сфера, где эта независимость уже нарушена. Речь идет о хроническом дисбалансе внешних расчетов США по текущим операциям, в том числе о значительном превышении импорта над экспортом (Рис. 1). В 2008 г. отрицательное торговое сальдо превысило 800 млрд долларов, увеличившись с 2001 г. вдвое. За тот же период времени дефицит в торговле с Китаем вырос в 3,2 раза, а доля КНР в данном показателе поднялась с 20 до 32%. Уже в 2004–2005 гг. Соединенные Штаты всерьез озаботились проблемой недооцененного курса юаня и начали требовать от Пекина его ревальвации. Американская позиция нашла поддержку на встречах министров финансов G7. Результатом этой кампании стало то, что Народный банк Китая (НБК), то есть центробанк, официально перешел от фиксированного курса юаня к управляемому плаванию.
Рис. 1. Баланс США по торговле товарами в 2001–2010 гг., млрд долл.

Примечание: 2010 г. – данные за 10 месяцев. Источник: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division
В июле 2005 г. обменный курс, находившийся долгие годы на отметке 8,28 юаня за 1 доллар, повысился до 8,11. Следующие три года он плавно рос и в сентябре 2008 г. достиг 6,82 юаня за доллар. В общей сложности за это время юань подорожал на 20%. Дальше случился глобальный кризис. Инвесторы стали уходить из валют развивающихся стран в доллары, считавшиеся самым надежным вложением. Хотя США находились в эпицентре кризиса, доллар испытал повышательное, а не понижательное давление рынков – исключительно благодаря статусу главной мировой валюты. Соответственно, укрепление юаня к доллару прекратилось, но, в отличие от многих других валют развивающихся стран, юань не обесценивался. Полтора года курс стоял на месте, а летом 2010 г. наметилось новое, очень осторожное повышение.
По итогам 2009 г. Соединенные Штаты значительно сократили импорт – с 2,1 до 1,6 трлн долларов, что позволило на 40% уменьшить дефицит торгового баланса – с 840 до 500 млрд долларов. В торговле с Китаем успех был минимальным, в результате на него пришлось чуть менее половины всего внешнеторгового сальдо США. Данные за десять месяцев 2010 г. немного лучше, но общей картины они не меняют. Американские власти убедились, что они могут сократить дефицит по внешним расчетам, но, увы, не с Китаем. Поднять пошлины на китайские товары или ограничить их ввоз количественно не позволяют правила ВТО. Остается только заставить Пекин ревальвировать юань. Для этого Вашингтону нужна широкая международная поддержка, особенно в лице МВФ и «Большой двадцатки».
На последнем саммите G20, состоявшемся 11–12 ноября 2010 г. в Сеуле, вопросам курсообразования придавалось первостепенное значение. В принятом совместном плане действий на первом месте значатся меры, призванные «обеспечить дальнейшее восстановление и устойчивый рост [мировой экономики], а также повысить стабильность финансовых рынков, в особенности за счет движения к рыночным системам курсообразования и поощрения гибкости валютных курсов». Участники саммита заявили о стремлении «воздерживаться от конкурентных девальваций». Развитым странам с резервными валютами было рекомендовано «избегать излишней волатильности и беспорядочных колебаний обменных курсов».
Саммит ясно обнаружил две точки зрения на происходящее в мировой валютной системе – развитых и развивающихся стран. У первых (главным образом в лице Соединенных Штатов) вызвал недовольство заниженный курс юаня и то, что были девальвированы некоторые другие валюты быстро растущих экономик. Вторые обеспокоены сильными колебаниями курсов доллара и евро, а также безответственной, по их мнению, денежно-кредитной политикой Вашингтона. И тех и других курсы валют волнуют по той причине, что в них сегодня уперся вопрос о глобальной стратегии возобновления экономического роста. То есть о том, какие страны будут на выходе из кризиса руководствоваться исключительно национальными интересами, а каким придется приспосабливаться к политике более сильных игроков. Важны не курсы сами по себе, а то, кто сможет навязать свою волю партнерам и переложить на них плату за восстановление мировой экономики.
Пекин, как и следовало ожидать, полностью отвергает обвинения США в заниженном курсе юаня. Согласно официальному заявлению, с 19 июня 2010 г. НБК перешел к более гибкому режиму курсообразования. Он также начал кампанию по подготовке китайских предприятий и банков к более частым и значительным колебаниям юаня. Экспортерам рекомендуется переключаться с трудо- и ресурсоемких производств на выпуск технологически сложных изделий, а также вкладывать средства в сферу услуг. Считается, что ее развитие позволит нарастить емкость внутреннего рынка, снизить зависимость от внешних рынков и создать множество рабочих мест.
Заместитель управляющего НБК Ху Сяолянь в заявлении, сделанном 30 июля 2010 г., главными целями экономической политики страны назвала экономический рост, полную занятость, ценовую стабильность и баланс расчетов НБК. По ее словам, «реформа режима обменного курса продемонстрировала международному сообществу приверженность Пекина задаче достижения глобального экономического баланса и обеспечения более благоприятного международного климата», притом что «плавающий курс юаня характеризует Китай как …ответственного участника мирового сообщества». Словосочетание «валютные войны» в официальных материалах НБК по понятным причинам не упоминается.
Куда более свободно и напористо выражает свои мысли Сяо Ган, председатель Совета директоров Банка Китая, одного из крупнейших коммерческих банков страны, бывшего до недавнего времени государственным. Его двухстраничная статья «Валютная война без победителей», опубликованная 12 ноября 2010 г., производит впечатление внешнеполитического ультиматума. Первый абзац звучит отрывисто, как выстрел: «Перекладывание государственного долга на другие страны, блокирование китайских инвестиций и ограничение экспорта нанесут ущерб восстановлению мировой экономики».
Федеральная резервная система Соединенных Штатов прямо называется «главной силой, подрывающей доллар», а политика денежного смягчения – опасной. «При процентных ставках, близких к нулю, страна снова печатает деньги, проталкивая их на американские рынки, откуда они растекаются по всему миру. В результате доверие к доллару подрывается, инфляционные ожидания растут, а цены на сырьевые товары бьют новые рекорды. Еще хуже то, что обесценение доллара уже негативно сказалось на экономике и валютах других стран, которые в ответ вынуждены ограничивать движение капитала или проводить интервенции на валютных рынках». По словам господина Сяо, США проводят политику разорения соседа, пытаясь интернационализировать госдолг, образовавшийся вследствие национализации частных долгов в период кризиса.
Особенно показательной является фраза, брошенная как будто невзначай, хотя в этом манифесте нет ни одного случайного слова: «Распределение накопленного долга по миру путем ослабления доллара заставит другие страны принять меры по защите своих валют, и, в конечном счете, изолирует доллар от тех, кто им пользуется. Поэтому Соединенным Штатам следует воздержаться от второго этапа количественного смягчения» (курсив мой. – О.Б.). Устами Сяо Гана Пекин сообщает Вашингтону, что век доллара не бесконечен, что его судьба зависит от доброй воли миллионов рядовых участников рынка, которых никто не может заставить использовать ту или иную валюту для заключения сделок. О том, что будет с курсом доллара, если Китай начнет диверсифицировать свои официальные резервы, достигающие 2,6 трлн долларов, говорить не приходится.
За китайской стеной
Действующий в Китае режим обменного курса власти именуют регулируемым плаванием, однако МВФ расценивает его как фиксированный – исходя из реального движения котировок. Возникает вопрос: почему Китай не переходит к свободному плаванию, то есть к курсу, который бы целиком определялся спросом и предложением на валютном рынке? Попытаемся ответить.
В финансовой сфере любая страна сталкивается с «магической триадой»: фиксированный курс, автономия денежно-кредитной политики и либеральный режим движения капиталов. Из трех условий можно выбрать только два, третьим приходится жертвовать. Когда центральный банк повышает или понижает ставку рефинансирования (иначе – учетную ставку), это приводит к соответствующему повышению или снижению всех остальных процентных ставок в экономике и заодно – доходности ценных бумаг с плавающим процентом. Зарубежным инвесторам становится более или менее выгодно, чем раньше, вкладываться в местную валюту. При росте процентной ставки их спрос на валюту растет, а при падении – падает. Приток или отток капиталов в страну толкает вверх или вниз курс местной валюты. То есть при свободном движении капиталов процентная политика самым прямым образом воздействует на обменный курс.
На практике это выливается в три возможные схемы. Первая – фиксированный курс плюс независимая денежно-кредитная политика и минус свободное движение капиталов. Именно эту схему практикует сегодня Китай. Вторая – фиксированный курс плюс свободное движение капиталов и минус независимая денежно-кредитная политика. Данная комбинация наиболее уязвима, поскольку денежные власти теряют возможность проводить антициклическое регулирование экономики. В периоды кризиса они обязаны любой ценой держать валютный курс, жертвуя интересами реального сектора. Именно это произошло в 2008–2009 гг. со странами Балтии, чьи национальные валюты были привязаны к евро в рамках механизма обменных курсов – 2 (МОК-2). Не случайно Эстония с 1 января 2011 г. поспешила перейти на евро, чтобы, наконец, освободить национальную экономику от валютного пресса. Третья схема – плавающий курс плюс независимая денежно-кредитная политика и свободное движение капиталов. Ее придерживаются все промышленно развитые страны и, естественно, эмитенты резервных валют.
При всем многообразии режимов обменного курса (валютное управление, фиксированный курс, валютный коридор, управляемое плавание и свободное плавание) главные баталии разворачиваются вокруг выбора между фиксированным и плавающим курсом. Их влияние на макроэкономическую политику одним из первых описал американский экономист Милтон Фридман, который еще в начале 1950-х гг. показал несостоятельность Бреттон-Вудской системы фиксированных курсов. Выкладки Фридмана подразумевали свободное движение капиталов, однако до начала 1990-х гг. почти все страны сохраняли валютные ограничения, а технические возможности систем трансграничных расчетов оставались весьма скромными. Рост информационных технологий, переход социалистических и развивающихся стран к открытой рыночной экономике, а также повсеместная отмена валютных ограничений радикально изменили обстановку на финансовых рынках.
Первый звонок прозвучал в 1992–1993 гг., когда под ударами спекулянтов были девальвированы фунт стерлингов, итальянская лира, шведская крона и еще несколько европейских валют. Валютный коридор, в рамках которого они привязывались к ЭКЮ (официально он именовался механизмом совместного плавания), оказался ненадежным укрытием в условиях развитых и подвижных финансовых рынков. Экономисты заговорили о том, что половинчатым решениям в курсовой политике приходит конец. Это только укрепило решимость стран ЕС перейти к единой валюте, незадолго до этого провозглашенной Маастрихтским договором. После кризисов в Юго-Восточной Азии и России 1997–1998 гг. вопрос о том, быть ли курсу фиксированным или плавающим, окончательно перебрался из учебников экономической теории на торговые площадки и в правительственные кабинеты.
С этого момента в мировой структуре валютных режимов началось вымывание середины. На Рис. 2 показано, как менялось число стран, практикующих различные валютные режимы. Для корректного сравнения из статистики исключены 34 страны с населением менее 1 млн человек (29 из которых имеют фиксированные курсы) и 14 государств Западноафриканского и Центральноафриканского валютных союзов (ЗАВС, ЦАВС). По данным МВФ, из оставшихся почти 140 стран в 1996 г. де-факто фиксированный курс имели 26, а в 2010 г. – уже 45. Число стран со свободным плаванием возросло за указанное время с 53 до 66. Правда, в 2009 г. МВФ изменил методику классификации валютных режимов, что добавило очков данной категории. Количество государств, практикующих смешанные режимы (валютные коридоры и управляемое плавание), сократилось в два с лишним раза – с 55 до 25.
Рис. 2. Режимы обменных курсов стран МВФ с населением более 1 млн человек в 1996–2010 гг.
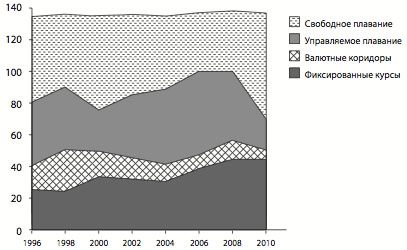
Примечание. МВФ дает сведения о реальных, а не декларируемых странами курсовых режимах. В группу стран с фиксированными курсами включены государства, практикующие также режим валютной палаты и официально отказавшиеся от национальных денежных единиц.
Источник: IMF Annual Report за соответствующие годы
Как видно, сегодня мировая практика не дает однозначного ответа в пользу свободного плавания. Да, его применяют все промышленно развитые страны и многие государства с формирующимися рынками, в том числе Мексика, Аргентина, Колумбия, Чили, Индонезия, Филиппины, Таиланд, Турция, Венгрия и Польша. Тем не менее, число стран, считающих необходимым избавить свой бизнес и население от валютных колебаний, неуклонно растет. Кроме Китая, к этой группе в 2010 г. относились, например, Гонконг, Бангладеш, Ирак, Шри-Ланка, Вьетнам, Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Катар, Бахрейн, Иордания, Кувейт, Ливия, Марокко, Намибия, Сирия, Тунис, Боливия, Венесуэла, Дания, Болгария, Латвия, Литва и Эстония. В списке мы видим не только крупный финансовый центр – Гонконг – но и богатых нефтеэкспортеров, а также членов Европейского союза.
Хотя международные институты обычно пропагандируют либеральный режим движения капиталов, его издержки не скрываются. В последнем «Глобальном докладе о финансовой стабильности», опубликованном МВФ в апреле 2010 г., говорится, что приток капиталов в страну расширяет базу для финансирования экономики, особенно в странах с недостаточными сбережениями, и содействует развитию финансовых рынков. Если же реальный сектор неспособен принять значительные объемы поступающих в страну инвестиций, это приводит к неадекватному расширению внутреннего спроса, перегреву экономики, инфляции и повышению реального обменного курса национальной валюты. Массированный приток капиталов «может также вызвать вздутие цен на фондовые активы и повышение системных рисков в финансовом секторе – в отдельных случаях даже при надлежащем надзоре и эффективной работе регуляторов». Далее эксперты МВФ честно признают, что эффективность контроля над движением капиталов оказывается тем выше, чем дольше он действует. Иначе говоря, сняв ограничения однажды, их нельзя ввести вновь, рассчитывая на прежний результат.
То есть фиксированный курс юаня вкупе с ограниченным движением капиталов необходимы Китаю для того, чтобы обеспечить управляемость национальной экономики. Легко представить, как это важно для страны с огромным населением, низким уровнем жизни и не поддающейся подсчету безработицей (по разным оценкам, она составляет от 30 до 150 млн человек). Сменив парадигму, Пекин улучшит условия для выхода из кризиса Соединенных Штатов, но оставит без тормозов собственную экономику. Возможно, через несколько лет обстоятельства изменятся, и страна проведет полную либерализацию валютной сферы. Но сейчас цена такого перехода была бы необоснованно высокой.
Мирные переговоры
Международная финансовая архитектура нуждается в коренной перестройке, с этим согласны все. Специалисты даже говорят о третьем Бреттон-Вудсе. Подразумевается, что действующая с 1971 г. система будет заменена на что-то кардинально иное. Главные направления реформы хорошо известны: изменение правил МВФ и его политики регулирования текущих балансов, совершенствование надзора за финансовыми рынками и использованием новых инструментов, учет возросшей роли развивающихся стран в мировых финансах, увязка действий МВФ и ВТО с тем, чтобы не допустить роста протекционизма.
Движение к новой системе займет несколько лет, возможно, десять и более. А решать вопрос конкурентных девальваций предстоит сейчас. Какие же для этого имеются средства?
Надо сказать, что вопрос о «правильном» обменном курсе – один из самых загадочных в современной экономике. Есть мнение, что, пока в ходу были монеты из благородных металлов, их обмен не вызывал проблем. Но это не так. Первые монеты появились в VI в. до н. э., а уже в III–II вв. до н. э. в Риме внутреннее денежное обращение было отделено от внешнего. В пределах государства ходили денарии и тяжелые бронзовые отливки полновесной монеты – aes grave. Для нужд внешней торговли чеканились монеты из серебра и легкой меди, не имевшие в самой метрополии официального статуса. Во второй половине XIX века большинство стран мира перешло с серебряного стандарта на золотой. Международная торговля велась исключительно на золото, а позже – на переводные векселя в фунтах стерлингов. Так или иначе, до краха Бреттон-Вудской системы обменные курсы базировались на золотом содержании валют.
Когда в 1971 г. это мерило исчезло, на первый план вышла концепция паритета покупательной способности (ППС), разработанная шведским экономистом Густавом Касселем. Согласно ей, валютный курс уравнивает количество товаров и услуг, которые можно приобрести за данную денежную единицу в стране-эмитенте и в другой стране после конвертирования. Увы, на практике ППС почти никогда не соблюдается. Известно, что за один доллар в Индии можно купить намного больше товаров, чем в Швейцарии. Внутренние цены сильно зависят от цен на местное сырье, топливо и рабочую силу. А поскольку в международную торговлю попадает не более трети всех производимых в мире товаров и услуг, то валютный курс не может и не должен отражать общего соотношения цен между странами. Как правило, обменные курсы развивающихся стран отклоняются вниз от ППС, а развитых – вверх (Рис. 3).
Рис. 3. Отношение номинального курса национальных валют к паритету покупательной способности в 2009 году
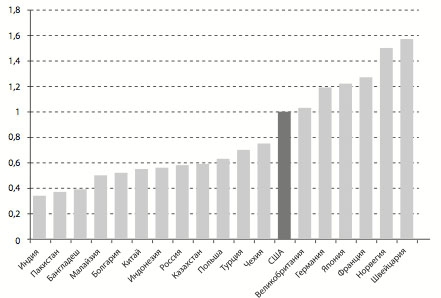
Примечание: рассчитано на основе вмененного курса международного доллара, используемого МВФ. Источник: World Economic Outlook Database, IMF
По данным МВФ, в 2009 г. текущий курс юаня составлял 55% от ППС, что находилось в одном ряду с показателями других развивающихся стран Азии. В России курс равнялся 58%, а в Польше – 63% ППС. Приведенные цифры не позволяют утверждать, что курс юаня в настоящее время занижен. Точно так же, как нельзя считать завышенными курсы норвежской кроны и швейцарского франка, хотя они в полтора раза выше ППС. Здесь уместно вспомнить девальвацию рубля в августе 1998 года. Кризис наступил в момент, когда курс поднялся до 70% ППС. По мнению многих аналитиков, для России – страны с переходной экономикой – данный уровень был завышен и не соответствовал рыночным реалиям. То, что сейчас курс рубля находится на более низкой отметке по отношению к ППС, усиливает эмпирическое обоснование данного утверждения.
Кроме ППС, существует несколько моделей равновесного курса. Их цель – рассчитать, при каком курсе экономика страны будет находиться в состоянии внутреннего и внешнего равновесия. Речь идет о нулевом или минимальном сальдо баланса по текущим расчетам, низкой инфляции, минимальной безработице и устойчивых темпах роста. Хотя данные модели позволяют выяснять, какой уровень курса лучше отвечает задачам экономического развития конкретной страны, они непригодны для международных сравнений. Тем более с их помощью невозможно измерить «справедливость» курсовых соотношений.
Трудно себе представить, как мировое сообщество могло бы заняться урегулированием валютного конфликта между США и Китаем, перейди он в острую фазу. Величина искомого курса неизвестна, а инструменты воздействия на участников поединка крайне ограничены. Да, G20 рекомендовала странам с активными балансами текущих расчетов наращивать внутренний спрос, а странам с пассивными балансами увеличивать размер сбережений и стимулировать экспорт. Начать первым, конечно, не захочет никто. Вернее, обе стороны осуществят небольшие подвижки, не противоречащие их текущим интересам. Китай, например, уже неоднократно повышал ставку рефинансирования и норму обязательного резервирования.
Решения G20 не имеют обязательной силы, и проведение их в жизнь зависит от приверженности участников общим целям. Средства принуждения возникают у МВФ, но только когда страна обращается к нему за кредитом. Изначально фонд создавался для помощи развивающимся и бедным странам на случай, если их отрицательное сальдо по внешним расчетам ведет к резкому обесценению национальной валюты. Механизмы МВФ не рассчитаны на то, чтобы заставить страну с главной мировой валютой восстановить баланс внешних расчетов или прекратить кредитную экспансию. Точно так же фонд не обладает полномочиями на случай заниженного курса валюты при большом профиците торгового баланса. То есть конфликт США и Китая выходит за пределы мандата МВФ. Тем более им не хочет и не будет заниматься ВТО, хотя некоторые склонны толковать конкурентные девальвации как необоснованные преимущества национальным экспортерам.
Еще один широко обсуждаемый выход – возвращение (частичное или полное) к золотому стандарту. С началом кризиса тема приобрела всемирную популярность, в России же с ностальгией стали вспоминать золотой червонец периода НЭПа. 8 ноября 2010 г. новостные ленты многих стран сообщили, что глава Всемирного банка Роберт Зеллик предложил привязать валюты ведущих экономик мира к золоту. Ничего подобного профессиональный экономист сказать, конечно, не мог. Дословно Зеллик заявил следующее: «Двадцатке следует дополнить ее программу восстановления экономики планом построения валютной системы, работающей на принципах взаимопомощи и отражающей экономические условия стран с формирующимися рынками. В новую систему, как представляется, нужно включить доллар, евро, иену, фунт и юань… Следует также рассмотреть возможность использования в данной системе золота как международного ориентира рыночных ожиданий в отношении инфляции, дефляции и будущей стоимости валют». В действительности возвращение к золоту невозможно, поскольку на этом пути лежит несколько непреодолимых препятствий.
Первое – золота недостаточно для того, чтобы обеспечить растущие потребности мировой экономики. Если курс валют будет жестко фиксирован к золоту, выпуск каждой новой банкноты должен будет сопровождаться новой порцией желтого металла, положенного в государственное хранилище. С 2004-го по март 2010 г. объем золота в резервах стран МВФ сократился с 898 до 871 млн унций (примерно с 28 до 27 тыс. тонн). Ежегодная мировая добыча золота держится в последние годы на уровне 2,5 тыс. тонн и не увеличивается, несмотря на рост цен. Почти половину названного объема добывают пять стран: Китай, Австралия, ЮАР, США и Россия (автор благодарит пользователя журнала old-pferd.livejournal.com за дискуссию и консультацию по вопросам добычи золота).
Отношение добычи к резервам составляет 9%, а ежегодный прирост денежной массы – не менее 6–8% (исходя из 4–5-процентного прироста ВВП и 2–3-процентной инфляции). Иначе говоря, привязав сегодня все валюты мира к имеющемуся золоту, мир очень скоро столкнется с его нехваткой для обеспечения нормального денежного оборота. И это при условии, что вся добыча пойдет в хранилища центробанков.
Вторая причина коренится в показанной выше взаимосвязи денежно-кредитной и валютной политики. При курсе, фиксированном к золоту, странам удастся сохранить свободное движение капиталов, только если они откажутся от проведения независимой денежно-кредитной политики. Другими словами, возвращение к золотому стандарту означало бы, что все страны переходят к режиму валютной палаты (currency board), при котором ЦБ фактически не может проводить антициклическую политику. Что станет при золотом стандарте с межбанковскими ставками, вообще трудно себе представить. Не исключено, что денежные рынки тихо отомрут.
Третья причина – золото не только денежный, но и обыкновенный промышленный товар. Спрос на него предъявляют ювелирная промышленность, а также электронная, электротехническая, космическая и передовое приборостроение. То есть при гипотетической привязке денег к золоту цели денежной политики будут вступать в противоречие с развитием высоких технологий. Коллизия, прямо скажем, не из лучших.
Общие выводы, которые следует сделать мировому сообществу, включая Россию, сводятся к следующим тезисам:
Трансформация мировой валютной системы в сторону многополярности, начавшаяся с введения в 1999 г. единой европейской валюты, медленно набирает силу. Участие в нынешнем валютном конфликте первой и третьей по величине ВВП стран мира придает происходящему важное геополитическое звучание.
Конфликт еще раз высвечивает проблемы, с которыми сталкиваются промышленно развитые страны ввиду усиливающейся глобализации. В последнее десятилетие они поддерживали экономический рост и уровень благосостояния во многом за счет увеличения государственного долга. Теперь этот источник близок к исчерпанию, а противоречие между экономическими центрами с разной стоимостью рабочей силы и разными системами социального обеспечения приобретает новые формы.
России следует максимально осторожно подходить к дальнейшей либерализации ее валютного режима и режима движения капиталов. Не исключено, что в ближайшее время отдельные страны начнут усиливать контроль над этой сферой, особенно если политика денежного смягчения в США усугубит волатильность курсов главных валют и мобильность спекулятивных капиталов.
Инструменты, имеющиеся у мирового сообщества для урегулирования валютного спора между Соединенными Штатами и Китаем, весьма ограничены. При благоприятном сценарии конфликт останется латентным. При неблагоприятном – выльется в общий рост протекционизма. Многое будет зависеть от того, насколько странам Запада удастся снизить уровень государственной задолженности. При втором витке долгового кризиса он приобретет геополитическое измерение.
О.В. Буторина – д. э. н., профессор, заведующая кафедрой европейской интеграции, советник ректора МГИМО (У) МИД России, член научно-консультативного совета журнала «Россия в глобальной политике».

Два ориентира для России
Сочетается ли идеология БРИК с модернизацией в западном понимании?
Тома Гомар – директор Французского института международных отношений (IFRI).
Резюме Историческая дилемма, перед которой всегда оказывалась Россия, – как модернизировать страну и сблизиться с Европой, но при этом не утратить собственную идентичность? – объяснялась ключевой ролью Европы в глобальной политике. А она эту роль утрачивает в связи с быстрым смещением центра тяжести мировой системы в сторону Азии.
Статью Дмитрия Медведева «Россия, вперед!», опубликованную в сентябре 2009 г., можно рассматривать и как заклинание, и как призыв. Часто в ней видят попытку отмежевания от Владимира Путина, но она интересна не столько своим содержанием, сколько политическим контекстом, в условиях которого она вышла в свет. Спустя год после «грузинской войны», в момент экономического спада, накануне встречи «Большой двадцатки» в Питсбурге и в обстановке улучшения российско-американских отношений Дмитрий Медведев вновь обратился к традиционной для российской политики теме модернизации. Тема эта никогда не была политически нейтральной, поскольку затрагивает неоднозначные отношения Москвы с внешним окружением.
Россия занимает на международной арене своеобразное положение. Будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, ядерной, космической и энергетической державой, она остается единственной страной «Большой двадцатки», которая не состоит во Всемирной торговой организации (ВТО). Отвергая любые формы принудительной интеграции в международные структуры, Россия считает альфой и омегой своей внешней политики стратегическую независимость. В то же время ей присуще стремление создать в глазах окружающих привлекательный имидж государства, которое в ближайшем будущем станет одной из ведущих мировых держав, и с этой целью она часто относит себя к немногочисленной группе стран, чье развитие протекает особенно быстрыми темпами. В рамках дискурса, избранного российскими властями, внутренняя модернизация (приветствуемая Западом) и членство в упомянутой группе (БРИК) выступают как два сочетающихся фактора, призванных упрочить геостратегические позиции Москвы. И дело не ограничивается риторикой: политика, начатая Владимиром Путиным и продолженная Дмитрием Медведевым, в чем-то принесла и реальные плоды. В 2010 году Россия, бесспорно, пользуется большим влиянием в мире, чем в 2000 году. Говоря совсем просто, ее больше уважают.
Модернизация и ускоренное развитие вписываются в процесс диалектических изменений, способный трансформировать отношения России и Запада и, как следствие, открыть новые области стратегического, политического, экономического глобального взаимодействия, а также, возможно, новое видение будущего. В самом деле, историческая дилемма, перед которой всегда оказывалась Россия, – как модернизировать страну и сблизиться с Европой, но при этом не утратить собственную идентичность? – объяснялась ключевой ролью Европы в глобальной политике. А она эту роль утрачивает в связи с быстрым смещением центра тяжести мировой системы в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
Предчувствуя ослабление позиций Запада в целом и Европы в частности, Россия охотно соглашается с тезисом о грядущем выходе на лидирующие позиции нескольких ускоренно развивающихся государств, включая в их число и себя. Если она и позиционирует себя отдельно от трех других держав группы БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай), то лишь с тем, чтобы подчеркнуть собственное значение в Европе. Выступая под вывеской БРИК, Россия получает возможность легитимировать дискурс, отражающий трансформацию экономической мощи этих четырех стран в политическое влияние. Ту трансформацию, которая подводит идейную основу под разнообразные формы протеста против универсального значения западных ценностей, противопоставляя им принципы многополюсного релятивизма, но не исключая in fine и чисто силовую логику во всем ее объеме.
БРИК: счастливая находка
Неизвестно, отблагодарил ли Кремль группу Goldman Sachs так, как она того заслуживала. Именно сотрудники знаменитого коммерческого банка, желая дифференцировать свою инвестиционную стратегию для разных регионов планеты, изобрели после 11 сентября 2001 г. аббревиатуру БРИК. Если и существует страна, чей престиж заметно укрепился благодаря изобретению аналитиков Goldman Sachs, то это Россия. Для государства, утратившего в 90-е гг. прошлого века геополитическое влияние, фирменный знак «БРИК» оказался счастливой находкой, которой Москва искусно воспользовалась. Кремль и крупнейшие российские концерны сразу осознали, какие преимущества можно извлечь из новой картины мира, в основе которой лежит представление о четырех государствах, развивающихся особенно стремительно. Создавая «по краям» западного сообщества различные коалиции, они сознательно превратили аббревиатуру в символ нового типа международного управления.
Ощущение той или иной страной собственной мощи, передающееся другим акторам, находится под непосредственным воздействием факторов имиджа и престижа. И данные факторы, несомненно, сыграли в судьбе современной России совершенно особую роль. Чтобы оценить путь, пройденный за последние десять лет, достаточно прочитать аналитические отчеты начала 2000-х, в которых российская экономика сопоставляется с португальской. Благодаря резкому росту стоимости энергоносителей Россия в течение одной декады из разряда экономических карликов поднялась на уровень крупных геоэкономических игроков. Во всяком случае, ее недавняя эволюция так и воспринимается. Отчасти это объясняется и ощущением определенного упадка, которое испытали жители Европейского союза после того, как в 2005 г. Конституционный договор не был одобрен. В последнее время Россия, если говорить о ВВП, входит в десятку ведущих мировых экономик, хотя по показателю ВНП на душу населения занимает в мире лишь 69-е место. Предполагается, что ее ведущее положение в международной торговле энергоносителями (прежде всего нефтью и газом, но также ядерным топливом и углем) и в дальнейшем будет укрепляться.
Вот несколько цифр, помогающих оценить стремительность перемен, происшедших в последние годы. С 2000 по 2008 гг. средний годовой рост ВВП в России составил 6%. С 2003 по 2008 гг. объем торговли России с Китаем увеличился в 3,6 раза и достиг 57 млрд долларов. В тот же период объем торговли с Индией вырос в 5 раз и достиг 7 млрд долларов, а с Бразилией утроился до 6 миллиардов.
Ощущение эйфории мгновенно улетучилось в 2009 году. Россия – единственная страна БРИК, пережившая жестокую рецессию, падение ВВП составило 8%. С тех пор страна вернулась к экономическому росту (в 2010 г. он должен составить 4,4%), однако ключевым моментом является другое: Россия уступает Китаю не только по показателям экономического развития, но и по тому, как сравнительная мощь обеих стран воспринимается на международной арене. Напомним, что в 1993 г. размеры российской и китайской экономик были сопоставимы. Спустя 17 лет Китай стал втрое богаче своих российских соседей по объему ВВП, хотя и остается втрое беднее по ВНП на душу населения (занимает по этому показателю лишь 90-е место в мире). В геоэкономическом плане КНР ориентируется на США (40% китайского внешнеторгового оборота), тогда как Россия – на Евросоюз (соответственно 55% российского внешнеторгового оборота). Среди ста крупнейших мировых предприятий по объему капитализации насчитывается три российских концерна («Газпром», «Роснефть» и Сбербанк). Для сравнения: в сотню входят семь китайских финансово-промышленных групп и, кроме того, две базирующиеся в Гонконге, три бразильских и одна индийская.
Аббревиатура БРИК очень выгодна для России, так как служит удобным инструментом и политики, и дипломатии. В политическом плане российская модель апеллирует к принципам авторитаризма, национального своеобразия и патриотизма. Она опирается на государственный капитализм, идеологи которого, начиная с 2003 г., открыто отвергают западные неолиберальные рецепты. Такой тип государственного капитализма воплощает в себе желание российских властей прямо или косвенно присутствовать на мировых рынках и извлекать из этого присутствия политические дивиденды, не упуская и возможностей личного обогащения.
Разумеется, в Европе и Соединенных Штатах тоже прибегают к государственному вмешательству (о чем свидетельствуют действия правительств в ходе теперешнего кризиса). Но оно всегда ограничивается во времени, поскольку считается, что функция государства – лишь восстановить доверие на рынках и нормальное функционирование экономики, а затем выйти из игры. В России ситуация принципиально иная. Здесь государственный капитализм 2000-х гг. опирается на закамуфлированное смешение общественных и частных интересов, отсутствие разделения властей (исполнительной, законодательной и судебной), а также на отрицание чисто западного представления о тождественности рыночной экономики и демократической формы правления.
В дипломатическом плане аббревиатура БРИК отражает переход к многополярному миру, иначе говоря, несет в себе неявный протест против доминирования Запада. В рамках «Большой двадцатки» страны БРИК выступают за перераспределение властных полномочий в Международном валютном фонде. Еще более значимо то, что в практику вошли ежегодные встречи лидеров четырех стран, первая из которых состоялась в 2009 г. в Екатеринбурге. В рамках саммита российские власти удостоили приема иранского президента Махмуда Ахмадинежада, для которого это приглашение стало неожиданной формой признания на международной арене в тот самый момент, когда его переизбрание на пост президента энергично оспаривалось внутри Ирана. Второй саммит БРИК прошел в городе Бразилиа в апреле 2010 года. Как заявил на этой встрече Дмитрий Медведев, страны БРИК «объективно содействуют созданию условий для укрепления международной безопасности». В конечном счете понятие БРИК легитимирует дискурс ускоренного развития, изначально опирающийся на контекст экономического роста, а затем и на расширение присутствия в дипломатической сфере, и логически завершающийся в сфере военно-политической, особенно важной для российских властей. В России не меняют основных ориентиров.
Эксплуатация темы ускоренного развития
Настаивая на своей принадлежности к группе БРИК, Кремль стремится сегментировать своих партнеров и изменить положение России на международной арене. Как ни парадоксально, ближайшей целью Москвы остается укрепление позиций в Европе – на главном рынке российских энергоносителей. Представая в облике бурно растущей страны, Россия как бы демонстрирует прочный потенциал развития на фоне топчущегося на месте Старого Света. Связи России с США несут на себе печать эпохи холодной войны: хотя объем торговли незначителен, отношения остаются структурообразующими в стратегическом плане, поскольку обе державы обладают мощными ядерными арсеналами.
Что касается отношений с тремя остальными участниками группы БРИК, то на этом направлении Москва старается нарастить политико-стратегический потенциал, развивая два главных компонента своей внешней торговли: поставки энергоносителей и продажу оружия. Вне традиционной сферы влияния Россия предпринимает попытки вновь утвердиться на Ближнем Востоке и, менее активно, в Северной Африке. Однако поиск новой роли в международных отношениях не отменяет некоторых существенных противоречий в нынешнем положении России.
Во-первых, эксплуатация темы ускоренного развития в «бриковском» понимании плохо согласуется с тем фактом, что Россия смотрит на свою новую и новейшую историю сквозь призму традиционной великодержавности. То есть опирается на психологию, свойственную не поднимающемуся «третьему миру», а бывшим колониальным империям.
Москва стремится укрепить свою легитимность, представ на международной арене не выскочкой, а наследницей могучего государства с многовековой традицией. Для нее важно вернуть себе международную роль, отвечающую национальной истории, которая неотделима от имперской традиции. Именно этот взгляд на прошлое нации объясняет, почему Владимир Путин предпочел логику реставрации логике трансформации. Забота о том, чтобы стереть следы унижения, пережитые Россией в 1990-х гг., служила одной из главных побудительных причин его деятельности.
Частичное восстановление былого влияния, которое произошло в 2000-е гг., в глазах российских властей является возвратом к нормальному положению вещей.
Москва стремится закрепиться в группе ускоренно развивающихся стран, но они в основном озабочены решением внутренних проблем, а Россия вдохновляется желанием внешнего реванша, который подчас включает и неоимпериалистские коннотации. Подобная мотивация не обязательно предполагает внутреннюю модернизацию. Напротив, успехи на пути восстановления влияния могут способствовать соскальзыванию к постимперской риторике (тем более что ее подпитывает новое соотношение сил на международной арене) и диктуемым ею формам власти и подчинения.
И в том и в другом случае открытым остается вопрос о российской идентичности. Заметную печать на нее наложило двойное – царистское и советское – историческое наследие, к тому же она существенно трансформировалась в последние 20 лет, когда российское общество пережило потрясения, до сих пор не осмысленные во всей их глубине. Необходимо отметить, что идентичность эта не распалась, но проявляется в новых условиях как чувство подчеркнутой национальной гордости, которое европейцы стараются учитывать и понимать.
Во-вторых, эксплуатация темы ускоренного развития может входить в противоречие со стремлением России придать себе облик «нормальной» страны, характерным после 2000 г. для ее властей. Прагматизм – слово, наиболее часто используемое теми, кто характеризует деятельность Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Однако этот прагматизм, если присмотреться, не свободен от идеологической нагрузки, а именно – твердого желания сопротивляться внешним влияниям. Нервная реакция России на «цветные» революции, оказавшие серьезное воздействие на российскую политику 2000-х гг., объясняется именно такой логикой. Москва отвечает на доктрину «распространения демократии», которая широко использовалась администрацией Джорджа Буша с помощью понятия «суверенная демократия».
Взяв на вооружение это двусмысленное словосочетание, Кремль одновременно послал сигнал и Западу, и странам постсоветского пространства. Западу указали на то, что Россия не станет территорией для миссионеров, несущих «демократическую веру». Вместе с тем Россия всячески старается представить себя «нормальной страной», чьи политические практики схожи с западными. Это позволило ей поддерживать имидж государства, абсолютно не нуждающегося для перехода к «нормальному» состоянию в помощи извне, и прежде всего со стороны Европы. Странам постсоветского пространства Россия напомнила, что намерена остаться для них основным актором в сфере безопасности, не проводя, впрочем, никакой прямой параллели между предоставлением гарантий безопасности в рамках ОДКБ и политическим режимом государств, входящих в эту зону.
Наконец, как показывает подробный анализ возможностей России, эксплуатировать тему ускоренного развития в трактовке, принятой остальными участниками БРИК, мешает неблагополучное состояние общего и в первую очередь демографического потенциала. В последнее время здесь наметились некоторые позитивные сдвиги (которые власть склонна приписывать своей политике стимулирования рождаемости), но они не отменяют того факта, что Россия переживает чрезвычайно тревожный демографический кризис, особенно если сравнить ее показатели с Китаем, Индией и даже Бразилией.
При этом, как ни странно, Россия – единственная страна из группы БРИК, где уровень жизни (ВНП на душу населения) в течение ближайших 20 лет может сравняться с некоторыми государствами Организации по экономическому сотрудничеству и развитию. Но, несмотря на эти перспективы, включение России в одну группу с Бразилией, Индией и Китаем открыто оспаривают авторитетные эксперты, например, Нуриель Рубини. И дело тут не только в демографии. Рубини называет российский режим «лживым» и по-прежнему опирающимся исключительно на энергетическую ренту. Такой режим, по его мнению, не в состоянии вывести страну на путь глубокой и сквозной модернизации экономики: «Россия, с ее дряхлеющей инфраструктурой, еще больше дискредитировала себя своей реваншистской и анахроничной политикой и практически необратимым демографическим крахом».
Этот приговор решительно отказывает России в принадлежности к группе ускоренно развивающихся стран и способности осуществить экономическую модернизацию. А ведь Россия и Евросоюз, начиная с осени 2009 г., решили развивать отношения как раз в контексте «партнерства для модернизации», призванного выдвинуть на первый план отраслевой подход (речь идет о том, чтобы постепенно перейти от институциональной логики к логике конкретных проектов).
В своих отношениях с Европой Россия, желая представить свой государственный капитализм как нечто солидное и основательное, сочетала тему модернизации (в западном духе) с темой ускоренного развития (в контексте БРИК); при этом она ловко играла на идеологических расхождениях между немцами, французами, англичанами и скандинавами. Москва старается извлечь пользу из статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН в дипломатической сфере, а вывеску БРИК использовать в сфере экономической. Этот бренд берется на вооружение с тем, чтобы подчеркнуть смещение центра тяжести в мировой системе. В отличие от остальных трех стран данной группы Россия очевидно намерена занять особое положение по отношению к Европейскому союзу, который необходим для развития ее экономики. Все это нужно Москве для того, чтобы реализовать с максимальной выгодой свой геоэкономический потенциал. Отчасти она уже решила поставленную задачу.
От евразийства к евроазиатству
Желая конвертировать экономическую мощь БРИК в политическое влияние, Россия преследует несколько целей. В первую очередь речь идет о том, чтобы изменить весовую категорию на международной арене: перейти от положения обанкротившегося государства, которое в 1990-е гг. резко опустилось вниз в мировой иерархии, к статусу мощной региональной державы, притязающей и на глобальную роль. Далее, Москва использует чередование тем модернизации и ускоренного развития, чтобы проектировать будущее России и вписать ее в цикл обновления. Конструируя для своих нужд новые ментальные пространства, российские власти обрели способность заглядывать в завтрашний день.
Наконец, российские лидеры намерены использовать в своих интересах ощущение упадка, испытываемое Западом, который более не в силах оперативно реагировать на глобальные изменения и на смещение фокуса мировой политики в Азиатско-Тихоокеанский регион. Понятие БРИК позволяет им атаковать – пусть не в лоб, а с фланга, – доминирующие позиции западных стран. При этом замалчиваются некоторые ключевые факторы, мешающие проводить эту политику: слабые места, присущие российской политико-экономической системе, неравномерное заселение российской территории (более 75% ее граждан проживают западнее Урала) и прежде всего эволюцию китайско-российских отношений с Китаем.
Видя свое будущее в составе группы БРИК, Москва в то же время придает особое значение центральному положению России в Евразии. Хотя российские власти ныне предпочитают представлять свою страну не как евразийскую, а как евроазиатскую. Первый термин, опирающийся на специфическую историко-идеологическую традицию, делает акцент на русской уникальности, азиатской сущности России в противовес ее исторической укорененности в Европе. Второй наполнен намного более практическим содержанием и отсылает в первую очередь к географии, к особому положению между Европой и Азией.
Понятие БРИК прекрасно вписывается в эту ментальную карту, поскольку подчеркивает важность связей, которые Россия поддерживает с Китаем и Индией, двумя демографическими исполинами (нисколько не принижая и значение сотрудничества с Бразилией). Особенно же важно то, что это понятие позволяет Москве определить свою позицию по отношению к Европе и США.
Все это не устраняет главного препятствия на пути развития России: по-прежнему остается крайне маловероятным, что страна сможет в обозримом будущем притязать на роль источника «модерности», каким могла бы стать в конце XIX – начале XX века. Неизбежным следствием стремления России к стратегической автономии является то, что за пределами традиционной сферы своего влияния она не обретает какой-либо притягательной силы в глазах других стран. Следующий вопрос становится принципиальным. В какой степени или, лучше сказать, в каких областях Россия сможет рассматривать Китай и Индию как альтернативные Западу источники модернизации? Этот вопрос неотделим от дальнейших судеб западных стран и трех остальных членов БРИК, от способности тех и других стать воплощением не только экономической, но и политической «модерности». России еще предстоит нащупать путь, на котором ей удастся примирить модернизацию и ускоренное развитие. Экономическая модернизация может стать синонимом прочной связи с Западом, тогда как ускоренное развитие, как его воспринимают сегодня, то есть в контексте БРИК, способно, напротив, стать синонимом политического регресса в западном понимании этого слова.

География китайской мощи
Как далеко может распространиться влияние Китая на суше и на море?
Роберт Каплан – старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности и автор книги «В тени Европы: две холодные войны и тридцатилетние скитания по Румынии и за ее пределами».
Резюме Китай очень выгодно расположен на карте мира. Благодаря этому он имеет возможность широко распространить свое влияние на суше и на море: от Центральной Азии до Южно-Китайского моря, от российского Дальнего Востока до Индийского океана.
Статья опубликована в журнале Foreign Affairs, № 3 (май – июнь) за 2010 г. © Council on Foreign Relations, Inc.
В конце своей статьи «Географическая ось истории», опубликованной в 1904 г. и получившей мировую известность, сэр Халфорд Макиндер выразил особое беспокойство в отношении Китая. Объяснив, почему Евразия является силовым геостратегическим центром мира, он высказал предположение, что китайцы, если они смогут распространить влияние далеко за пределы своей страны, «способны превратиться в желтую опасность для мировой свободы. И как раз по той причине, что они соединят с ресурсами громадного континента протяженную океанскую границу – козырь, которого была лишена Россия, хозяйничавшая в этом осевом регионе прежде».
Вынося за скобки расистские настроения, обычные для начала XX века, а также истерическую реакцию, которую всегда вызывает на Западе появление могучей внешней силы, можно сказать, что Макиндер тревожился не зря. Если такой евразийский исполин, как Россия, был и до сих пор остается главным образом сухопутной державой, чья океанская граница блокирована арктическими льдами, то Китай сочетает в себе признаки державы и сухопутной, и морской. Его береговая линия протянулась на девять тысяч миль, изобилует удобными естественными гаванями и пролегает в зоне умеренного климата. (Макиндер даже предупреждал о том, что Китай когда-нибудь завоюет Россию.) Потенциальная зона влияния Китая простирается от Центральной Азии с ее богатейшими запасами полезных ископаемых и углеводородного сырья до основных морских путей, пересекающих Тихий океан. Позже в книге «Демократические идеалы и реальность» Макиндер предсказывал, что в конечном счете Китай будет править миром наряду с Соединенными Штатами и Великобританией, «построив для четверти человечества новую цивилизацию, не вполне восточную и не вполне западную».
Выгодное географическое положение Поднебесной настолько очевидно, что о нем не всегда вспоминают, говоря о стремительном экономическом прогрессе этой страны и напористом национальном характере китайцев. И все же это не следует забывать, поскольку рано или поздно география обеспечит Китаю ключевую роль в геополитике, каким бы извилистым ни был его путь к статусу мировой державы. (В течение последних 30 лет годовой прирост китайского ВВП превышал 10 %, но в следующие три десятилетия едва ли можно ожидать таких же темпов.) Китай сочетает в себе элементы предельно модернизированной экономики западного образца с унаследованной от древнего Востока «гидравлической цивилизацией» (термин историка Карла Виттфогеля, используемый применительно к обществам, практикующим централизованный контроль над орошением почвы).
Благодаря управлению из единого центра китайский режим способен, например, вербовать миллионные трудовые армии на строительство крупнейших объектов инфраструктуры. Это и сообщает Китаю неуклонное поступательное развитие – подобных темпов попросту нельзя ожидать от демократических государств, которые привыкли неторопливо согласовывать интересы своих граждан. Китайские лидеры формально считаются коммунистами. Но в том, что касается заимствования западных технологий и практики, они – преемники примерно 25 императорских династий, правивших в стране на протяжении четырех тысяч лет и встраивавших западный опыт в жесткую и развитую культурную систему, которая обладает, помимо всего прочего, уникальным опытом навязывания вассальных отношений другим государствам. «Китайцы, – сказал мне в начале этого года один сингапурский чиновник, – умеют добиваться своего и пряником, и кнутом, систематически чередуя оба метода».
Внутреннее развитие Китая питает его внешнеполитические амбиции. Империи редко строятся по готовому проекту, их рост происходит органически. Становясь сильнее, государство культивирует новые потребности и, как это ни парадоксально, новые опасения, побуждающие его так или иначе расширяться. Так, даже под руководством самых бесцветных президентов конца XIX века – Резерфорда Хейза, Джеймса Гарфилда, Честера Артура, Бенджамина Гаррисона – экономика Соединенных Штатов устойчиво и ровно развивалась. По мере того как страна увеличивала объем торговли с внешним миром, у нее возникали разносторонние экономические и стратегические интересы в самых отдаленных уголках света. Иногда – как, например, в Южной Америке и в Тихоокеанском регионе, – этими интересами оправдывалось военное вмешательство. В это время американская администрация еще и потому могла сосредоточиться на внешней политике, что внутри страны положение было прочным, – последнее крупное сражение индейских войн датируется 1890 годом.
Сегодня КНР укрепляет сухопутные границы и направляет свою активность вовне. Внешнеполитические амбиции эта страна проводит в жизнь столь же агрессивно, как столетием раньше – США, но по совершенно иным причинам. Пекин не практикует миссионерский подход к внешней политике, не стремится утвердить в других странах собственную идеологию или систему правления. Нравственный прогресс в международной политике – цель, которую преследует Америка; китайцев эта перспектива не привлекает. Поведение Срединного царства по отношению к другим странам целиком продиктовано его потребностью в поставках энергоносителей, металлов и стратегического сырья, необходимых для поддержания постоянно растущего жизненного уровня гигантского населения, которое составляет примерно одну пятую населения земного шара.
Чтобы решить эту задачу, Китай построил выгодные для себя сырьевые отношения и с соседними, и с удаленными странами, – со всеми, кто обладает ресурсами, в которых он нуждается для подпитывания роста. Во внешней политике Китай не может не исходить из основополагающего национального интереса – экономического выживания, и поэтому мы вправе охарактеризовать эту страну как сверхреалистичную, сверхпрагматичную державу. Отсюда стремление упрочить присутствие в различных частях Африки, где находятся большие запасы нефти и полезных ископаемых, обезопасить транспортные пути в Индийском океане и Южно-Китайском море, связывающие побережье страны с арабо-персидским миром, который столь богат углеводородным сырьем. По существу лишенный выбора в своих действиях на международной арене, Пекин не особенно заботится о том, с какими режимами ему приходится иметь дело; в партнерах ему нужна стабильность, а не добропорядочность, как ее понимает Запад. А поскольку некоторые из этих режимов – скажем, Иран, Мьянма (известная также как Бирма) и Судан, – погружены во мрак отсталости и авторитаризма, неустанный поиск поставщиков сырья, который Китай ведет по всему свету, порождает конфликты между ним и Соединенными Штатами с их миссионерской ориентацией. Существуют трения и с такими странами, как Индия и Россия, в чьи сферы влияния Пекин пытается проникнуть.
Разумеется, он никак не угрожает существованию этих государств. Вероятность войны между Китаем и США незначительна; китайская армия представляет для Соединенных Штатов лишь косвенную опасность. Речь здесь идет главным образом о вызове географического свойства – несмотря на принципиальные разногласия по вопросам внешнего долга, структуры товарообмена или глобального потепления. Зона китайского влияния, формирующаяся в Евразии и Африке, постоянно растет, причем не в том поверхностном, чисто количественном смысле, какой придавали этому понятию в XIX веке, а в более глубоком, отвечающем эпохе глобализации. Преследуя простую цель – надежно удовлетворить свои экономические потребности, Китай сдвигает политическое равновесие в сторону Восточного полушария, и это не может не затрагивать самым серьезным образом интересы Соединенных Штатов. Пользуясь удобным положением на карте мира, Китай распространяет и расширяет свое влияние везде и всюду – от Центральной Азии до Южно-Китайского моря, от российского Дальнего Востока до Индийского океана. Эта страна превращается в мощную континентальную державу, а политику таких государств, согласно знаменитому изречению Наполеона, нельзя отделить от их географии.
Пограничный болевой синдром
Синьцзян и Тибет – два наиболее значимых региона в пределах китайского государства, чьи жители смогли сохранить самобытность, устояв перед преимущественным положением китайской цивилизации. В известном смысле именно самобытный характер и той и другой области делает Китай похожим на империю. Кроме того, этническая напряженность в обоих регионах осложняет отношения Пекина с прилегающими к ним государствами.
«Синьцзян» означает «новое владение»; так называется китайский Туркестан, самая западная китайская провинция, в два раза превосходящая по площади Техас и отделенная от центральных районов страны пустыней Гоби. Хотя государственность Поднебесной в той или иной форме насчитывает тысячелетия, Синьцзян официально стал ее частью лишь в конце XIX века. С тех пор история этой провинции, как заметил еще в прошлом веке английский дипломат сэр Фицрой Маклин, «была исключительно неспокойной»; Синьцзян то и дело восставал и временами добивался полной независимости от Пекина. Так продолжалось вплоть до 1949 г., когда коммунистические войска Мао Цзэдуна вторглись в Синьцзян и силой присоединили провинцию. И тем не менее сравнительно недавно, в 1990 г., и в прошлом, 2009 г., ее тюркское население – уйгуры, потомки тюркских племен, правивших в VII–VIII вв. Монголией, – восставало против пекинского режима.
Уйгуров в Китае насчитывается лишь около восьми миллионов – менее одного процента от общей численности населения, однако в Синьцзяне их 45 %, почти половина. Основной этнос Китая, народность хань, населяет плодородные низменные регионы в центре страны и на побережье Тихого океана, тогда как засушливые плоскогорья на западе и юго-западе являются историческими местами обитания уйгурского и тибетского меньшинств. Подобное распределение населения остается источником постоянной напряженности, поскольку Пекин считает, что современное китайское государство должно осуществлять в горных районах жесткий и безраздельный контроль. Стремясь прочно привязать к себе обе области – вместе с запасами нефти, природного газа, медной и железной руды, которые находятся в их недрах, – Пекин на протяжении нескольких десятилетий целенаправленно переселял туда ханьцев из центральных областей. Кроме того, он усердно заигрывал с независимыми тюркскими республиками в Центральной Азии – отчасти для того, чтобы лишить мятежных синьцзянских уйгуров всякого потенциального тыла.
Налаживая связи с правительствами центральноазиатских республик, китайское руководство преследовало и другую цель – расширить зону своего влияния. Китай глубоко проник в Евразию уже сейчас, но этого все еще недостаточно для удовлетворения его потребности в природных ресурсах. Влияние Пекина в Центральной Азии символизируют два крупных трубопровода, строительство которых близится к завершению: один пролегает через Казахстан и предназначен для снабжения Синьцзяна нефтью, добываемой в Каспийском море; по другому, проходящему через Казахстан и Узбекистан, в Синьцзян будет поступать природный газ из Туркмении. Мало того: острая нужда в природных ресурсах заставляет Пекин пускаться в довольно рискованные предприятия. В истерзанном войной Афганистане он ведет разработку месторождения меди, находящегося к югу от Кабула, и давно присматривается к запасам железа, золота, урана и драгоценных камней (одни из последних в мире нетронутых залежей). Пекин рассчитывает проложить в Афганистане и в Пакистане дороги и трубопроводы, которые свяжут многообещающий центральноазиатский регион, где он утверждает свое господство, с портовыми городами на берегу Индийского океана. Так что в стратегическом плане географическое положение Китая только улучшится, если Соединенным Штатам удастся стабилизировать ситуацию в Афганистане.
Тибет, как и Синьцзян, играет принципиальную роль для государственного самосознания китайцев, и, подобно Синьцзяну, осложняет взаимоотношения Китая с другими государствами. Скалистое Тибетское нагорье, богатое железной и медной рудой, занимает колоссальное пространство. Именно поэтому Пекин испытывает все большую тревогу в связи с возможностью автономии Тибета, не говоря уже о полной его независимости, и с таким усердием строит шоссе и железные дороги, связывающие этот регион с другими частями страны. Если бы Тибет отделился, от Китая осталось бы лишь куцее охвостье; к тому же Индия в этом случае резко усилилась бы на субконтиненте за счет присоединения северной зоны (речь идет о спорных районах в принадлежащем Китаю Кашмире, а также об индийском штате Аруначал-Прадеш, которые по площади составляют почти 150 кв. км. – Ред.).
Индия с ее более чем миллиардным населением уже сейчас рассекает тупым клином зону китайского влияния в Азии. Это особенно хорошо видно на карте «Великого Китая», помещенной в книге Збигнева Бжезинского «Большая шахматная доска» (1997). В известной степени географическое положение Китая и Индии действительно обрекает их на соперничество: страны-соседи с гигантским населением, богатейшими и древнейшими культурами давно притязают на одни и те же территории (например, индийский штат Аруначал-Прадеш). Проблема Тибета только осложняет ситуацию. Индия предоставила убежище правительству далай-ламы, с 1957 г. находящемуся в изгнании. Даниель Твайнинг, старший научный сотрудник Германского фонда Маршалла, считает, что недавние инциденты на китайско-индийской границе «могут объясняться беспокойством Китая по поводу преемника далай-ламы». Ведь вполне вероятно, что следующий далай-лама окажется родом из тибетского культурного пояса, включающего северную Индию, Непал и Бутан, а значит, более склонным к проиндийской и, соответственно, антикитайской ориентации. Китаю и Индии предстоит сыграть между собой «по-крупному» не только в этих регионах, но также в Бангладеш и Шри-Ланке. Синьцзян и Тибет, как и раньше, остаются внутри официально признанных границ Китая, но, принимая во внимание натянутые отношения между китайским правительством и жителями обеих провинций, можно ожидать, что в будущем попытки Пекина распространить свое влияние за пределы ханьского этнического большинства встретят серьезное противодействие.
Ползучее влияние
Даже на тех отрезках границы, где Китаю ничто не угрожает, сама форма страны выглядит пугающе незавершенной, как если бы в этих местах были изъяты части некогда существовавшего Великого Китая. Северная граница Китая охватывает Монголию, громадную территорию, которая выглядит словно клок, выдранный из его «спины». Плотность населения Монголии – среди самых низких в мире, и близость городской китайской цивилизации представляет для нее несомненную демографическую угрозу. Завоевав некогда Внешнюю Монголию, чтобы получить доступ к более пригодным сельскохозяйственным землям, ныне Китай готов покорить ее вновь, но уже на современный лад – поставив себе на службу запасы нефти, угля, урана, а также роскошные пустующие пастбища. Поскольку неконтролируемая индустриализация и урбанизация превратила Китай в крупнейшего мирового потребителя алюминиевой, медной, свинцовой, никелевой, цинковой, оловянной и железной руды (его доля в мировом потреблении металлов за последнее десятилетие подскочила с 10 до 25 %), китайские горнорудные компании откровенно делают ставку на разработку богатых недр соседней страны. Взаимоотношения с Монголией лишний раз показывают, как широко простираются империалистические замыслы Пекина, – особенно если вспомнить, что ранее Китай уже поставил под контроль Тибет, Макао и Гонконг.
К северу от Монголии и трех северо-восточных китайских провинций лежит российский Дальний Восток – обширнейшая, в два раза превосходящая Европу по площади депрессивная область с крайне немногочисленным и постоянно убывающим населением. Русское государство окончательно включило в себя эти территории в XIX – начале XX века, когда Китай был крайне обессилен. В настоящее время он окреп, а власть российского правительства нигде так не слаба, как в этой восточной трети России. При этом совсем рядом с семимиллионным русским населением Дальнего Востока (к 2015 году его численность может сократиться до 4,5 млн), в трех приграничных провинциях Китая, проживает около 100 млн человек. По плотности они превосходят российский Дальний Восток в 62 раза. Китайские мигранты просачиваются в Россию, наводняя Читу к северу от монгольской границы, а также другие города региона. Доступ к ресурсам остается главной целью китайской внешней политики в любом регионе мира, и малонаселенный российский Дальний Восток, располагающий огромными запасами природного газа, нефти, строевого леса, алмазов и золота, не является исключением. «Москва с подозрением взирает на хлынувшие в этот регион потоки многочисленных китайских поселенцев, следом за которыми тянутся лесозаготовительные и горнорудные компании», – писал минувшим летом Дэвид Блэр, корреспондент лондонской Daily Telegraph.
Как и в случае с Монголией, никто не опасается, что китайская армия когда-нибудь завоюет или формально аннексирует российский Дальний Восток. Страх внушает другое: все более заметное ползучее демографическое и экономическое влияние Пекина в этом регионе (частью которого Китай кратковременно владел в эпоху правления династии Цин). В период холодной войны пограничные споры Китая и Советского Союза привели к тому, что в прилегающих районах Сибири были размещены мощные войсковые части, насчитывавшие сотни тысяч человек; временами напряженность на границе выливалась в прямые столкновения. В конце 1960-х периодические трения привели к разрыву отношений между КНР и СССР. Географический фактор и сейчас вполне способен стать причиной размолвки Китая и России, поскольку нынешний их союз носит чисто тактический характер. Это может быть выгодно Соединенным Штатам. В 1970-х гг. администрация президента Никсона оказалась в выигрыше в результате столкновения между Пекином и Москвой и положила начало новым отношениям с Китаем. В будущем, когда последний станет по-настоящему великой державой, Соединенные Штаты, по-видимому, могли бы заключить стратегический союз с Россией, чтобы уравновесить влияние Срединного царства.
Южные перспективы
Влияние Китая распространяется также на юго-восток. Здесь, в сравнительно слабых государствах Юго-Восточной Азии, строительство будущего Великого Китая встречает наименьшее сопротивление. Существует не так уж много серьезных географических преград, отделяющих Китай от Вьетнама, Лаоса, Таиланда и Мьянмы. Естественным центром сферы влияния, которая охватывает бассейн реки Меконг и связывает все страны Индокитая сетью наземных и водных транспортных путей, должен стать город Куньмин, находящийся в китайской провинции Юньнань.
Самая большая страна материковой части Юго-Восточной Азии – Мьянма. Если Пакистан, постоянно находящийся под угрозой распада, можно назвать азиатскими Балканами, то Мьянма скорее напоминает Бельгию начала XX века, так как над ней постоянно нависает угроза быть захваченной могущественными соседями. Подобно Монголии, российскому Дальнему Востоку и другим территориям, прилегающим к сухопутным границам Китая, Мьянма – слабое государство, весьма богатое природными ресурсами, в которых крайне нуждается Китай. Китай и Индия борются за право заняться модернизацией глубоководного порта Ситуэ на мьянманском побережье Индийского океана, причем обе страны питают надежду проложить в будущем газопровод к месторождениям на шельфе Бенгальского залива.
Если говорить о регионе в целом, то Пекин применяет здесь, в несколько обновленном виде, известный стратегический принцип «разделяй и властвуй». В прошлом он вел сепаратные переговоры с каждой страной – членом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), но никогда не вступал в контакты с этим блоком как единым целым. Даже недавно вступившее в силу соглашение о зоне свободной торговли, которое он заключил со странами АСЕАН, показывает, как искусно Китай развивает выгодные для себя связи с южными соседями. Он использует эту организацию в качестве рынка сбыта дорогостоящих китайских товаров, покупая в странах АСЕАН дешевую сельскохозяйственную продукцию. Отсюда неизменное активное сальдо торгового баланса с китайской стороны, тогда как страны АСЕАН постепенно превращаются в свалку для промышленных товаров, произведенных дешевой рабочей силой в городах Китая.
Все это происходит на фоне утраты Таиландом прежнего значения регионального лидера и естественного противовеса Китаю. Еще в недавнем прошлом весьма сильное государство, Таиланд в последнее время испытывает серьезные внутриполитические затруднения. Тайская правящая фамилия с болезненным королем во главе уже не может, как прежде, выполнять стабилизирующую функцию, а тайская армия поражена фракционными раздорами. (Китай активно развивает двустороннее военное сотрудничество и с Таиландом, и с другими странами Юго-Восточной Азии, используя то обстоятельство, что США уделяют не слишком много внимания военно-стратегическому положению этого региона, так как им приходится тратить силы главным образом на операции в Афганистане и Ираке.)
Две страны к югу от Таиланда – Малайзия и Сингапур – вовлечены в ответственный процесс перехода к демократической форме правления, между тем как их прежние лидеры, Махатхир Мохамад и Ли Куан Ю, – сильные личности, перестроившие свои государства, – сходят со сцены. В экономическом плане Малайзия все больше втягивается в сферу влияния Китая, несмотря на то, что живущие в ней этнические китайцы чувствуют постоянную угрозу со стороны мусульманского большинства. Что же касается Сингапура, населенного в основном этническими китайцами, то его правительство боится оказаться в вассальной зависимости от Поднебесной; в последние годы оно завязало тесные отношения с Тайванем и проводит с ним совместные военные учения. Ли Куан Ю открыто призвал Соединенные Штаты, как и прежде, участвовать в жизни региона, оказывая ему военную и дипломатическую поддержку. Положение Индонезии также противоречиво: с одной стороны, она нуждается в присутствии американского флота, чтобы чувствовать себя защищенной от возможной китайской угрозы, с другой – опасается, что в других странах исламского мира ее видимое союзничество с США может вызывать раздражение.
Поскольку американское влияние в Юго-Восточной Азии миновало зенит и идет на убыль, а влияние Китая постоянно растет, государства региона все чаще объединяют усилия, чтобы противостоять стратегии «разделяй и властвуй», которую стремится реализовать Пекин. Так, например, Индонезия, Малайзия и Сингапур заключили союз для борьбы с морским пиратством. Чем больше эти государства будут уверены в собственных силах, тем меньшую опасность для них будет представлять дальнейшее укрепление Китая.
Ситуация в армии
Центральная Азия, Монголия, российский Дальний Восток и Юго-Восточная Азия – естественные зоны китайского влияния. Однако политические границы этих зон в будущем едва ли изменятся. Принципиально иной выглядит ситуация на Корейском полуострове: в этом месте карта Китая предстает в особенно урезанном виде, и здесь политические границы еще вполне могут сместиться.
Наглухо отгородившийся от мира северокорейский режим неустойчив в самой своей основе, и его крушение грозит затронуть весь регион. Как бы «свисая» с Маньчжурии, Корейский полуостров занимает положение, которое позволяет полностью контролировать морские торговые пути, ведущие в северо-восточный Китай. Разумеется, никто всерьез не думает, что Китай аннексирует какую-либо часть полуострова, но нет сомнений в том, что его по-прежнему раздражает, когда другие страны слишком явно осуществляют свой суверенитет в этом регионе, особенно на севере. И хотя Пекин поддерживает сталинистский режим Северной Кореи, он явно вынашивает в отношении Корейского полуострова определенные планы на будущее – по завершении царствования Ким Чен Ира. Похоже, сразу после этого китайцы намерены отправить обратно тысячи перебежчиков из КНДР, нашедших пристанище в Китае, и создать с их помощью благоприятную политическую основу для постепенного экономического овладения регионом в бассейне реки Тумыньцзян (Туманная). Там соседствуют три страны – Китай, Северная Корея и Россия, и существуют благоприятные условия для развития морской торговли с Японией, а через нее – с Тихоокеанским регионом в целом.
Это одна из причин, по которой Пекин хотел бы создать на месте теперешней Северной Кореи государство пусть и авторитарного типа, но гораздо более модернизированное. Именно такое государство могло бы стать буфером между Китаем и динамичной южнокорейской демократией, опирающейся на средний класс. Впрочем, возможное объединение Корейского полуострова также может оказаться выгодным для КНР. После воссоединения Корея скорее всего будет националистическим образованием, в известной степени враждебным и по отношению к Китаю, и к Японии – странам, в прошлом пытавшимся ее оккупировать. Но корейская неприязнь к Японии значительно сильнее, нежели к Китаю. (Япония оккупировала полуостров с 1910 по 1945 г., и Сеул и Токио продолжают вести спор о статусе островков Токдо/Такешима.) Экономические отношения нового государства с Китаем наверняка окажутся более прочными, чем с Японией: объединенная страна будет в большей или меньшей степени находиться под контролем Сеула, а Китай уже сейчас самый крупный торговый партнер Южной Кореи. Важно, наконец, и то, что объединенная Корея, отчасти тяготеющая к Пекину и, напротив, не приемлющая Японию, не будет видеть смысла в том, чтобы и дальше сохранять на своей территории американские войска. Иными словами, нетрудно представить себе будущее Кореи в составе Великого Китая и то время, когда военное присутствие США в Северо-Восточной Азии начнет сокращаться.
Как показывает пример Корейского полуострова, на сухопутных границах китайцы вправе ожидать скорее благоприятное, чем опасное для себя развитие событий. Еще Макиндер полагал, что Китай сможет со временем стать великой сухопутной и морской державой, которая как минимум затмит Россию в Евразии. Политолог Джон Миршеймер писал в своей книге «Трагедия великодержавной политики», что «самыми опасными государствами в системе международных отношений являются континентальные державы с большими армиями». И по мере того как Китай приближается к статусу континентальной державы, возникают все основания опасаться его влияния. Однако КНР лишь отчасти отвечает определению Миршеймера: ее вооруженные силы, насчитывающие 1,6 млн человек, – крупнейшие в мире, но в ближайшие годы Пекину не под силу создать современные экспедиционные войска. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проявила себя во время землетрясения в Сычуани в 2008 г., недавних этнических беспорядков в Тибете и Синьцзяне, пекинской олимпиады 2008 г., проведение которой требовало особых мер безопасности. Однако, как заметил Абрахам Денмарк, сотрудник Центра разработки новой стратегии национальной безопасности США, это доказывает лишь способность НОАК перебрасывать войска из одной части материкового Китая в другую. Но вовсе не говорит о том, что она в состоянии перемещать тяжелое вооружение и ресурсы, необходимые для развертывания войсковых частей в ходе масштабных военных операций. Впрочем, даже если такая возможность появится, это, по-видимому, мало что изменит: маловероятно, что подразделения НОАК будут пересекать границы Китая по каким-либо иным причинам, нежели серьезный политический просчет (если, например, дело дойдет до новой войны с Индией) или необходимость заполнить внезапно возникшие пустоты на карте (если рухнет северокорейский режим). Но Китай и без того вполне способен заполнить возможные области силового вакуума вблизи любого участка своих протяженных границ с помощью такого оружия, как демографическое и экономическое давление: у него попросту нет нужды опираться при этом на экспедиционные войска.
Беспрецедентная мощь Китая на суше отчасти объясняется успехами китайских дипломатов, которые в последние годы приложили немало стараний, чтобы урегулировать многочисленные пограничные споры с республиками Центральной Азии, Россией и другими соседями (Индия в этом ряду является бросающимся в глаза исключением). Значение этой перемены трудно переоценить. Отныне границы Маньчжурии не испытывают колоссального военного давления извне, а ведь в годы холодной войны из-за этой постоянной угрозы Мао Цзэдун был вынужден расходовать львиную долю оборонного бюджета на сухопутные войска и пренебрегать военно-морскими силами. Великая Китайская стена лучше всего свидетельствует о том, что, начиная с глубокой древности и по наши дни, Китай неизменно тревожила угроза внешней агрессии на суше. Теперь он может вздохнуть свободно.
Обретение возможности стать морской державой
Благодаря сложившейся ситуации на суше Китай может в спокойной обстановке заняться укреплением своего флота. В то время как для прибрежных городов-государств или островных стран стремление наращивать военно-морскую мощь представляется чем-то самоочевидным, для держав, которые подобно Китаю на протяжении всей своей истории были замкнуты в пределах материка, это выглядит роскошью. В данном случае, однако, подобное состояние легко достижимо, поскольку береговая линия, которой природа наделила Поднебесную, не уступает по своим качествам ее внутренним областям. Китай занимает господствующее положение на тихоокеанском побережье Восточной Азии в зоне умеренного и тропического климата, а южная граница страны находится в непосредственной близости к Индийскому океану, и в будущем ее можно связать с побережьем сетью дорог и трубопроводов. В XXI веке Пекин будет проецировать вовне «жесткую силу» прежде всего с помощью своего военно-морского флота.
Нельзя не отметить, что на море Китай сталкивается с гораздо более враждебным окружением, чем на суше. Проблемной зоной для китайского флота является так называемая «первая островная гряда»: Корейский полуостров, Курильские острова, Япония (включая острова Рюкю), Тайвань, Филиппины, Индонезия и Австралия. Любое звено в этой цепи, за исключением Австралии, в будущем может стать горячей точкой. Китай уже сейчас вовлечен в споры о принадлежности различных участков дна Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, богатых энергоносителями: с Японией предметом дискуссии являются острова Дяоюйтай/Сэнкаку, с Филиппинами и Вьетнамом – острова Спратли. Подобные распри помогают Пекину подогревать националистические настроения внутри страны, но китайским военно-морским планировщикам от этого не легче: положение дел на театре потенциального противоборства представляется им крайне безрадостным.
Первая островная гряда, по мнению сотрудников Колледжа ВМФ США Джеймса Холмса и Тоши Йошихары, представляет собой нечто вроде «Великой Китайской стены, развернутой против Китая». Это эффективно организованный оборонительный рубеж, выстроенный союзниками Соединенных Штатов наподобие сторожевых вышек, позволяющих наблюдать за Китаем и, если понадобится, воспрепятствовать его проникновению в воды Тихого океана. Реакция Пекина на своеобразную блокаду временами была агрессивной. Морская мощь обычно не проявляется столь жестко, как сухопутная: как таковые корабли не могут занимать большие пространства и предназначены для проведения операций, которые, вообще говоря, сами по себе более важны, чем морские сражения, а именно для обороны торговых путей.
Казалось бы, можно было ожидать, что Китай станет не менее снисходительной державой, чем великие морские нации прошлого – Венеция, Великобритания и Соединенные Штаты, – и будет, как они, заботиться в первую очередь о сохранении мира на морях, что предполагает среди прочего и свободу торговли. Однако он не столь уверен в себе. По-прежнему сознавая свою неполную защищенность на море, Пекин задействует по отношению к Мировому океану чисто территориальный подход. Сами по себе понятия «первая островная гряда» и «вторая островная гряда» (последняя включает остров Гуам, принадлежащий США, и Северные Марианские острова) подразумевают, что в глазах китайцев эти архипелаги представляют собой не что иное, как отроги материкового Китая. Глядя на прилегающие к их стране моря сквозь призму мышления в терминах «игры с нулевой суммой», китайские адмиралы выступают наследниками агрессивной философии американского военно-морского стратега начала XX века, Альфреда Тайера Мэхэна, который отстаивал концепции «контроля над морями» и «решающего сражения». Однако в настоящее время они не располагают достаточно мощным флотом для решения своих задач, и это расхождение между обширными притязаниями и реальными возможностями привело в последние несколько лет к ряду нелепых инцидентов.
В октябре 2006 г. китайская подводная лодка вела слежение за американским авианосцем Kitty Hawk, после чего всплыла на поверхность вблизи от него, на расстоянии торпедного выстрела. В ноябре 2007 г. китайцы не разрешили Kitty Hawk и его ударной группе, искавшей укрытия от надвигавшегося шторма, войти в гонконгскую гавань Виктория. (В 2010 г. Kitty Hawk все же нанес визит в Гонконг.) В марте 2009 г. группа кораблей НОАК помешала работе американского судна дальнего гидроакустического наблюдения Impeccable, когда оно открыто проводило операции за пределами 12-мильной территориальной зоны КНР в Южно-Китайском море. Китайцы преградили путь американскому кораблю и совершали угрожающие маневры, как если бы намеревались его таранить. Все это говорит не столько о серьезной силе, сколько о недостаточной развитости китайского флота, которую пока не удалось преодолеть.
О твердом желании Китая обеспечить свои позиции на море свидетельствуют и крупные приобретения последних лет. Пекин стремится использовать не реализованные до сих пор асимметричные возможности, чтобы перекрыть американскому флоту доступ в Южно-Китайское море и в китайские прибрежные воды. Китай модернизировал свои эсминцы и намерен обзавестись одним-двумя авианосцами, но действует точечно и не склонен скупать военные суда без особого разбора. Он предпочел сосредоточить усилия на строительстве дизельных, атомных и ракетных подводных лодок нового типа. Как считают Сет Кропси, бывший помощник заместителя министра военно-морских сил США, и Рональд О'Рурк, сотрудник Исследовательской службы Конгресса США, Китай способен в течение 15 лет создать флот подводных лодок, который превзойдет американский аналог, насчитывающий в настоящее время 75 боеготовных подводных лодок. Более того, китайские военно-морские силы, по словам Кропси, намереваются ввести в действие систему наведения противокорабельных баллистических ракет, используя в ней загоризонтные радиолокаторы, космические спутники, донные гидролокационные сети и оборудование для компьютерных войн. В сочетании с формирующимся подводным флотом такая система в будущем должна помешать беспрепятственному доступу военно-морских сил США в наиболее значимые области Тихого океана.
Пытаясь установить контроль над прибрежной зоной в Тайваньском проливе и Восточно-Китайском море, Пекин также совершенствует группу морских тральщиков, покупает у России истребители четвертого поколения и развернул вдоль побережья около полутора тысяч российских ракет класса «земля-воздух». Даже вводя в действие систему подземных оптико-волоконных кабелей далеко на западе страны, вне пределов досягаемости морских ракет потенциального противника, китайцы исходят из агрессивной стратегии, предполагающей поражение символов американской мощи – авианосцев.
Разумеется, в обозримом будущем Китай не собирается атаковать американские авианосцы, и он по-прежнему крайне далек от того, чтобы бросить Соединенным Штатам прямой военный вызов. Однако налицо стремление нарастить на своих берегах необходимый потенциал устрашения, чтобы американцы не смели вводить свои корабли, когда и где им того захочется, в пространство между первой островной грядой и китайским побережьем. Поскольку способность влиять на поведение противника составляет самую суть любой державы, эта стратегия лишний раз доказывает, что планы строительства Великого Китая реализуются не только на суше, но и на море.
На очереди – Тайвань
Для создания Великого Китая особенно важно будущее Тайваня. Тайваньская проблема часто обсуждается в терминах нравственности: Пекин настаивает на необходимости восстановить целостность национального наследия и объединить Китай ради блага всех этнических китайцев; Вашингтон печется о сохранении образцовой демократии, какой является Тайвань. Однако подлинную проблему следует искать в другом. Как говорил американский генерал Дуглас Макартур, Тайвань – это «непотопляемый авианосец», занимающий позицию ровно посередине береговой линии Китая. Именно отсюда, по мнению военно-морских планировщиков Холмса и Йошихары, такая держава как США может «проецировать силу» в сторону китайского побережья и прилегающих к нему районов. Если Тайвань вернется в лоно материкового Китая, то китайский флот не только внезапно окажется в стратегически выгодной позиции по отношению к первой островной гряде, но и будет в состоянии свободно, в беспрецедентных масштабах, проецировать свою мощь за пределы этой гряды. Очень часто, говоря о будущем мировом порядке, употребляют слово «многополярный», – но только слияние Тайваня с материковым Китаем ознаменовало бы возникновение в Восточной Азии действительно многополярной военной ситуации.
Согласно результатам исследования, проведенного в 2009 г. RAND Corporation, к 2020 г. Соединенные Штаты не смогут, как раньше, защитить Тайвань в случае нападения Китая. Китайцы, говорится в отчете, к этому времени будут в состоянии нанести США поражение в возможной войне в Тайваньском проливе, даже если американцы будут иметь в своем распоряжении истребители пятого поколения F-22, две авианосных ударных группы и сохранят доступ к авиабазе Кадена на японском острове Окинава. В отчете делается акцент на боях в воздухе. Здесь же указывается, что китайцы по-прежнему будут стоять перед необходимостью высаживать на острове многотысячный пехотный десант, а их транспортные суда останутся уязвимыми для американских подлодок. Освещая ситуацию с разных сторон, отчет, однако, не может скрыть тревожной тенденции. Китай отделяют от Тайваня всего-навсего сто миль, тогда как Соединенным Штатам придется доставлять свои войска с другого конца планеты, причем действовать в условиях более ограниченного доступа к иностранным базам, чем в период холодной войны. Стратегия создания препятствий на пути перемещения американских военных кораблей в определенных морских зонах не просто преследует цель держать их подальше от китайских берегов, но и в особенности направлена на то, чтобы упрочить доминирующее положение Китая в акватории Тайваня.
Пекин делает все, чтобы взять Тайвань в тесное кольцо не только в военном, но и в экономическом и социальном плане. Примерно 30 % тайваньского экспорта приходятся на Китай. Еженедельно между Тайванем и материковым Китаем совершается 270 коммерческих авиарейсов. В последние пять лет две трети тайваньских компаний осуществили инвестиции в китайскую экономику. Ежегодно остров посещают около полумиллиона туристов с материка, а 750 тысяч тайваньцев проживают в Китае, проводя там каждый год по шесть месяцев. Углубляющаяся интеграция выглядит весьма привлекательно, но вот чем этот процесс разрешится, пока сказать трудно. Так или иначе, его исход будет иметь ключевое значение для политики великих держав в этом регионе. Если Соединенные Штаты попросту отдадут Тайвань Пекину, то Япония, Южная Корея, Филиппины, Австралия и другие американские союзники в Тихоокеанском регионе, а также Индия и даже некоторые африканские государства начнут сомневаться в прочности обязательств, которые берет на себя Вашингтон. Это может побудить некоторые страны к сближению со Срединным царством, и тогда формирующийся Великий Китай охватит едва ли не все Восточное полушарие.
В этом заключается одна из причин, по которым Вашингтон и Тайбэй должны искать асимметричные ответы на военную угрозу со стороны Пекина. Им следует стремиться не к тому, чтобы нанести Пекину поражение в возможной войне в Тайваньском проливе, а к тому, чтобы тот ясно осознал: подобная война обойдется для него недопустимо дорого. Если эта цель будет достигнута, американцам удастся сохранять функциональную независимость Тайваня до тех пор, пока Китай не станет более либеральным обществом, – тем самым они смогут сохранить и доверие союзников. В этом смысле действия администрации Обамы, заявившей в начале 2010 г. о намерении продать Тайваню вооружений на общую сумму 6,4 млрд долларов, имеют принципиальное значение для политики США в отношении Китая и, шире, всей Евразии. Кстати, нельзя сказать, что трансформация Китая изнутри – несбыточная мечта: миллионы туристов, прибывающих на Тайвань с материка, видят тамошние оживленные политические ток-шоу и крамольные заголовки в книжных магазинах, и это наверняка оказывает на них влияние. Тем не менее, хотя это звучит несколько парадоксально, демократический Китай может оказаться еще более динамичной великой державой в экономическом и, как следствие, в военном плане, чем Китай репрессивный.
Концентрируя военно-морские силы на тайваньском направлении, Пекин не забывает укреплять присутствие своего флота и в Южно-Китайском море, которое служит для него воротами в Индийский океан и обеспечивает доступ к мировым путям транспортировки энергоносителей. На этом направлении основные проблемы создают пираты, радикальные исламисты и крепнущий морской флот Индии, в том числе и вблизи труднодоступных морских зон, через которые вынуждены проходить китайские нефтяные танкеры и торговые суда. В геостратегическом плане Южно-Китайское море, как говорят многие, может стать «вторым Персидским заливом». Еще в первой половине XX века Николас Спайкмен, специалист по геополитике, заметил, что на протяжении всей истории государства желавшие утвердить свой контроль над прилегающими морями втягивались в «периферическую наземную и морскую экспансию». Греция стремилась подчинить Эгейское море, Соединенные Штаты – Карибское, и вот теперь Китай – Южно-Китайское. Спайкмен называл Карибское море «Средиземным морем Америки», чтобы подчеркнуть его значение для Соединенных Штатов. Южно-Китайское море в ближайшие десятилетия может стать «Средиземным морем Азии» и подлинным средоточием политической географии.
Высоколиквидные угрозы
Впрочем, попытки Китая проецировать силу в «Средиземное море Азии» противоречивы по самой своей сути. С одной стороны, Китай вроде бы полон решимости максимально осложнить доступ американских судов в прибрежные моря. С другой, он по-прежнему не способен защитить свои морские коммуникации, что, вообще говоря, делает любое нападение на американский военный корабль бессмысленным, поскольку в этом случае флот США может попросту отрезать Китай от поставок энергоносителей, перекрыв для китайских судов выход в Тихий и в Индийский океаны. Зачем же планировать что-то, если в действительности не собираешься осуществить намеченное? Как считает советник по вопросам обороны Жаклин Ньюмайер, Пекин хочет добиться «столь благоприятного соотношения сил», что «на деле ему и не придется прибегать к оружию для защиты своих интересов». Недаром он устраивает выставки новых видов оружия, строит портовые сооружения и оборудует станции подслушивания в Тихом и Индийском океане, предоставляет военную помощь приморским государствам, находящимся между китайской территорией и Индийским океаном. Все эти ходы делаются открыто и являются сознательной демонстрацией силы. Китайцы не столько ввязываются в непосредственную схватку с Соединенными Штатами, сколько стремятся повлиять на поведение американцев таким образом, чтобы избежать возможной конфронтации.
Вместе с тем активность Китая на море обнаруживает и более грозные аспекты. В самом центре Южно-Китайского моря, на южной оконечности острова Хайнань, китайцы строят мощную морскую базу с подземными доками, позволяющими разместить до 20 атомных и дизельных подводных лодок. Они как бы реализуют на практике доктрину Монро, утверждая свое господство над близлежащими международными водами. В настоящее время и в обозримом будущем у Китая едва ли появится намерение затеять войну с Америкой, но позже мотивации могут измениться. Лучше заранее оценить возможные варианты.
Ситуация на границах Евразии выглядит сейчас гораздо более сложной, чем в первые годы после Второй мировой войны. По мере того как американская гегемония пойдет на убыль, мощь военно-морских сил США будет уменьшаться или оставаться прежней, а экономическое и военное могущество Китая – крепнуть, расклад сил в Азии начнет все заметнее приобретать многополярный характер. Соединенные Штаты поставляют Тайваню 114 противовоздушных ракет Patriot и десятки ультрасовременных систем военной связи. Китай строит подземные доки для подлодок на острове Хайнань и запасается противокорабельными ракетными установками. Продолжают модернизацию своего флота Япония и Южная Корея. Мощные военно-морские силы создает Индия. Каждое из государств стремится сдвинуть равновесие сил в свою сторону.
Именно поэтому отказ государственного секретаря США Хиллари Клинтон от политики равновесия сил, будто бы являющейся реликтом прошлого, представляется либо актом лицемерия, либо заблуждением. В Азии продолжается гонка вооружений, и Соединенные Штаты неизбежно столкнутся с суровой реальностью, как только существенно сократят свои войска в Афганистане и Ираке. Притом что ни одно из азиатских государств не имеет побудительных причин для войны, с течением времени и по мере накапливания сухопутных и морских вооружений в регионе (даже если говорить только о Китае и Индии) риск неверной оценки соотношения сил будет возрастать. Из-за напряженности на суше грозит усилиться и напряженность на море: зоны силового вакуума, в которые сейчас проникает Китай, станут через некоторое время яблоком раздора в его отношениях с соседними странами – как минимум с Индией и Россией. Некогда пустые пространства заполнятся множеством людей, дорог, трубопроводов, кораблей и ракетных установок. Политолог из Йельского университета Пол Брэкен в 1999 г. предупреждал, что Азия становится обособленным географическим регионом и что на нее надвигается кризис «жизненного пространства». С тех пор этот процесс только усугублялся.
Так как же Соединенным Штатам сохранять стабильность в Азии, защищать в этой части света своих союзников и препятствовать возникновению Великого Китая, избегая в то же время открытого конфликта с Пекином? Перевес, который они имеют на море, рискует оказаться недостаточным. Как сказал мне в начале этого года один высокопоставленный индийский чиновник, основные союзники США в Азии (Индия, Япония, Сингапур и Южная Корея) хотят, чтобы американский флот и авиация координировали свои действия с вооруженными силами этих стран. Именно так Соединенные Штаты и в будущем останутся неизымаемой частью азиатского военного ландшафта на суше и на море, а не превратятся в абстрактную угрозу, таящуюся где-то в отдалении. Между пререканиями с американским правительством по поводу прав на размещение военных баз, которые недавно затеяла Япония, и желанием полностью удалить войска США из региона лежит дистанция огромного размера.
Один из планов, циркулирующих в Пентагоне, предполагает, что Соединенные Штаты способны «противостоять китайской стратегической мощи... без прямой военной конфронтации», опираясь на военный флот, насчитывающий 250 кораблей (а не 280, как было раньше), и на урезанный на 15 % оборонный бюджет. Этот план, составленный полковником ВМФ в отставке Пэтом Гарретом, весьма интересен, поскольку включает в евразийское уравнение такую стратегическую величину, как Океания. В самом деле, Гуам, Каролинские, Маршалловы, Северные Марианские и Соломоновы острова являются либо американскими территориями, либо республиками, имеющими военные соглашения с США, либо независимыми государствами, которые, вероятно, будут готовы заключить подобные соглашения. Значение Океании будет расти, поскольку она находится, с одной стороны, сравнительно близко к Восточной Азии, а с другой – вне той зоны, из которой Китай хотел бы вытеснить американский флот. От Гуама всего четыре часа лета до Северной Кореи и два дня плавания до Тайваня. Держать базы в Океании для Соединенных Штатов удобнее, чем, как это было и остается, сохранять воинские части в Японии, Южной Корее и на Филиппинах.
Авиабаза Андерсен на Гуаме уже сейчас играет роль господствующей высоты, с которой Соединенные Штаты могут проецировать «жесткую силу» в любом направлении. Это самая мощная стратегическая авиабаза США в мире, обеспечивающая скоростную заправку самолетов; здесь хранится сто тысяч авиаснарядов и 66 млн галлонов авиационного топлива. Взлетные полосы базы заполнены длинными рядами транспортных самолетов C-17 Globemaster и истребителями F/A-18 Hornet. Кроме того, на Гуаме размещена эскадра американских подводных лодок; здешняя военно-морская база в настоящее время расширяется. Гуам и соседние Северные Марианские острова находятся на почти равном расстоянии от Японии и Малаккского пролива. А юго-западная оконечность Океании, выглядывающая из-под Индонезийского архипелага, – группки принадлежащих Австралии островов Ашмор и Картье и близлежащий западный берег самой Австралии (от Дарвина до Перта), – держит под прицелом Индийский океан. Таким образом, согласно плану Гаррета, флот и авиация США способны использовать географические преимущества Океании, чтобы поддерживать «региональную боеготовность» (regional presense in being), локализуемую «непосредственно за горизонтом» Великого Китая (в его неофициальных границах) и той акватории, где проходят основные евразийские морские пути. (Понятие «региональная боеготовность» – отголосок известного выражения «флот в боевой готовности», fleet in being, сто лет назад его предложил английский военно-морской историк сэр Джулиан Корбетт. Подразумевались стоящие в различных портах корабли, способные при необходимости быстро объединяться в мощную армаду. Словосочетание «непосредственно за горизонтом» отражает и равновесие сил на море, которое США будут поддерживать самостоятельно, и американское участие в концерте азиатских держав).
Укрепляя присутствие американского флота и авиации в Океании, США могли бы реализовать компромиссный подход: не сопротивляться возникновению Великого Китая любой ценой и одновременно не соглашаться пассивно с возможным переходом первой островной гряды под контроль китайского флота. Такой подход заставил бы Китай заплатить высокую цену в случае любой военной авантюры против Тайваня. Кроме всего прочего, это позволило бы Соединенным Штатам постепенно сворачивать свое непосредственное присутствие в акватории первой островной гряды (так называемое наследие военных баз), но вместе с тем сохранять возможность воздушного и морского патрулирования в этом регионе.
План Гаррета предусматривает также резкое усиление активности американского военно-морского флота в Индийском океане. Впрочем, Гаррет не предлагает расширять существующие здесь военные базы; он рассчитывает опираться на уже имеющийся костяк таких баз на Андаманских островах, Коморах, Мальдивах, Маврикии, Реюньоне и Сейшелах (некоторые из них прямо или косвенно управляются Францией и Индией), а также на военные соглашения с Брунеем, Малайзией и Сингапуром. Это обеспечило бы свободу мореплавания и беспрепятственное движение потоков энергоносителей во всей Евразии. Кроме того, такой план, не настаивая более на важности существующих американских баз в Японии и Южной Корее и в то же время разнообразя сферу присутствия США в Океании, положил бы конец основным базам, представляющим собой удобную цель для поражения.
Железная хватка, которой Соединенные Штаты до сих пор держали первую островную гряду, в любом случае начинает ослабевать под давлением новых обстоятельств. Местное население стало менее терпимо к присутствию иностранных баз на своей территории. А укрепление Китая делает его одновременно и отталкивающим, и привлекательным. Подобное смешанное чувство способно осложнить двусторонние отношения Вашингтона с тихоокеанскими союзниками. Все дело лишь в том, когда это произойдет. Теперешний кризис в американо-японских отношениях – возникший из-за того, что неопытное правительство Хатоямы хочет переписать соглашения о двустороннем сотрудничестве в свою пользу и вдобавок говорит о желании углублять связи с Китаем, – мог случиться и несколькими годами раньше. (Премьер-министр Хатояма ушел в отставку в июне 2010 г. из-за кризиса, связанного с неспособностью кабинета выполнить обещание о выводе американской базы с Окинавы. – Ред.) Все еще сохраняющаяся ситуация абсолютного превосходства Соединенных Штатов в Тихом океане есть не что иное, как анахронизм, унаследованный от Второй мировой войны, отголосок того краха, который пережили в результате глобального конфликта Китай, Япония и Филиппины. Не может бесконечно сохраняться и американское присутствие на Корейском полуострове – побочный продукт другой войны, закончившейся более полувека назад.
Центральная Азия, Индийский океан, Юго-Восточная Азия, западная часть Тихого океана – таковы обширные регионы, которые рискуют оказаться под политическим, экономическим и военным контролем возникающего у нас на глазах Великого Китая. Однако вдоль границ этого громадного царства будет курсировать американский флот, дислоцированный, как можно ожидать, по большей части в Океании и тесно сотрудничающий с военно-морскими силами Индии, Японии и других демократических государств. А со временем, когда возрастет доверие Китая к внешнему миру, а его военная доктрина уже не будет опираться на сугубо территориальный подход, китайский флот и сам сможет влиться в этот широкий региональный альянс морских держав.
Пока же стоит отметить, что с исключительно военной точки зрения, как указал в 1999 г. политолог Роберт Росс, отношения между Соединенными Штатами и Китаем останутся более стабильными, чем были в свое время отношения между США и Советским Союзом. Причина этого – географические особенности Восточной Азии. В период холодной войны одного только американского подводного флота было недостаточно, чтобы устрашать Советский Союз, – для этого требовалось держать многочисленные сухопутные войска в Европе. Но размещения подобных сил вдоль пределов Евразии никогда не понадобится: как бы сильно ни сокращалось присутствие сухопутных войск у границ Великого Китая, американский флот и в будущем останется сильнее китайского.
Так или иначе, в ближайшие годы сам факт укрепления экономической и военной мощи Китая усугубит напряженность в американо-китайских отношениях. Перефразируя Миршеймера, можно сказать, что Соединенные Штаты, гегемон Западного полушария, приложат все возможные усилия, чтобы помешать Китаю сделаться гегемоном большей части полушария Восточного. И не исключено, что это станет самой потрясающей драмой нашей эпохи.

Тихоокеанские комбинации
Споры вокруг интеграции в Азии
А.В. Иванов – старший научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО (У) МИД РФ.
Резюме Москве следует внимательно следить за интеграционными идеями, которые в последнее время обсуждаются в АТР. Необходимо понять, с какими азиатскими структурами России было бы полезно в первую очередь иметь дело, чтобы максимально эффективно вписаться в экономику региона.
Мировой финансовый кризис серьезно потрепал Европу и США, однако многие государства Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) пережили его, не понеся ощутимых экономических потерь. Более того, по некоторым прогнозам, ряд стран этой части планеты, к примеру, Китай, выйдут из кризиса окрепшими. Это подтверждает представление о регионе как о будущем локомотиве мирового развития и повышает его ценность в качестве потенциального партнера России, сотрудничество с которым поможет не только поднять Сибирь и Дальний Восток, но и оживить всю российскую экономику. В духе объявленного руководством курса на модернизацию и избавление от сырьевой зависимости крайне важно использовать возможности для развития и инноваций, которые открывает впечатляющий рост Азии. Этому было посвящено представительное совещание по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и сотрудничеству со странами АТР, которое прошло в Хабаровске под председательством Дмитрия Медведева в начале июля 2010 года. На нем президент России поставил задачу вывести экономическое взаимодействие «на новый уровень», уделяя особое внимание соглашениям о свободной торговле.
Глава государства заявил о том, что у России «достаточно прочные позиции» в различных объединениях АТР, однако «от нас ждут более активных действий». В этом контексте Москве следует внимательно следить за интеграционными идеями, которые в последнее время обсуждаются в АТР. С какими азиатскими структурами России было бы полезно иметь дело, чтобы максимально эффективно вписаться в экономику региона?
Плюсы и минусы АТЭС
В АТР действуют несколько региональных образований разного формата и различной нацеленности. С некоторыми из них Россия уже сотрудничает.
Прежде всего это организация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), создание которой стало в значительной степени ответом на углубление европейской экономической интеграции. Впрочем, в отличие от Европейского союза форум не предусматривает органов надгосударственного управления и признает незыблемость государственного суверенитета, и именно это сделало его привлекательным для обсуждения региональных и даже глобальных проблем. У АТЭС нет специального административного аппарата, полномочий правопринуждения при разрешении конфликтов, стремления жестко планировать перспективы собственной эволюции, сложилась практика сотрудничества на основе консенсуса и невмешательства во внутренние дела членов организации. С другой стороны, те же факторы стали причиной чрезвычайно низкой практической эффективности форума, закрепившей за АТЭС ярлык «говорильни». Стоит отметить, что формально участниками этой структуры являются не страны, а «экономики». Это позволяет обойти болезненную проблему статуса Тайваня.
Превращение Азиатско-Тихоокеанского региона в зону свободной торговли и инвестиций остается под большим вопросом, поскольку внутри АТЭС нет единства по поводу темпов ее формирования. В частности, США вместе с Австралией и рядом других стран выступают за ускорение этого процесса и открытие рынков Восточной Азии. В то же время Япония и Республика Корея хотели бы, напротив, такую тенденцию притормозить, поскольку они не спешат пускать конкурентов на свои рынки, например, рынок сельскохозяйственной продукции. Аналогичную позицию занимают и входящие в АТЭС страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), больше заинтересованные не в либерализации торговли, а в развитии научно-технического сотрудничества, которое помогло бы им сократить технологический и экономический разрыв с развитыми странами.
Пробуксовка процесса либерализации торговой и инвестиционной деятельности, как и то обстоятельство, что АТЭС стала все больше напоминать формальную организацию, ежегодно принимающую декларации, которые не приносят конкретных результатов в экономической области, привели к снижению интереса членов к совместной работе. Осознание возникших проблем заставило участников сингапурского саммита организации в ноябре 2009 г. поднять вопрос о необходимости реформ.
В частности, председатель КНР Ху Цзиньтао призвал, во-первых, продолжить создание благоприятных условий для либерализации торговли и инвестиций. Во-вторых, на практике помочь развивающимся странам – членам форума в их развитии, расширить и активизировать передачу технологий и повысить уровень экономического и технического сотрудничества. В-третьих, путем реформ и инноваций сделать более динамичным механизм функционирования АТЭС.
Следующие два саммита пройдут в Японии и Соединенных Штатах. Ожидается, что на них могут быть приняты какие-то важные решения, касающиеся реформирования АТЭС, причем не исключено, что они будут иметь более обязывающий характер. В связи с этим пока достаточно сложно предположить, как может измениться стратегия развития этой организации и что вообще она будет представлять собой к 2012 г., когда председательство перейдет к России и саммит АТЭС пройдет во Владивостоке.
С момента вступления в 1998 г. Москва постепенно наращивала активность в работе форумов этой организации. Так, на саммите в Сантьяго в 2004 г. Россия совместно с США добилась одобрения инициативы о контроле над перемещением в регионе АТЭС переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). По настоянию России в итоговых документах была тогда отмечена необходимость того, чтобы контртеррористическая активность АТЭС опиралась на соответствующие международно-правовые документы, в частности, резолюцию СБ ООН 1566. Также подчеркивалась важность активизации взаимодействия форума с профильными международными организациями и институтами. Кроме того, Москва выступила одним из инициаторов создания в рамках АТЭС механизма сотрудничества в области повышения готовности государств региона к чрезвычайным ситуациям.
Впрочем, Россия выступала и с экономическими предложениями. На том же саммите в Сантьяго по ее инициативе в рамках АТЭС был создан Диалог по цветным металлам, где за Россией совместно с Чили был закреплен статус сопредседателя. Москва неоднократно предлагала свою помощь в формировании новой энергетической конфигурации в АТР и прежде всего в Восточной Азии путем создания системы нефте- и газопроводов, поставок судами сжиженного природного газа из восточных регионов России, где имеются значительные запасы углеводородов. На саммите-2008 в Лиме президент Дмитрий Медведев заявил о намерении России «содействовать созданию такой системы энергообеспечения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая позволит потребителям энергоресурсов диверсифицировать географию импорта, обеспечить надежные и бесперебойные поставки».
Однако до последнего времени Москва оставалась для стран АТЭС гораздо менее привлекательным торгово-экономическим партнером, чем они для нее (доля России во внешнеторговом обороте стран организации составляет примерно 1 %, в то время как в российском внешнеторговом балансе на них проходится более 15 %). Причина проста: Россия пока может предложить региону главным образом сырье, в то время как саму ее интересует в первую очередь высокотехнологичная продукция. Что касается российских производителей сложной технологической и наукоемкой продукции, то они пока там слабо представлены. Хорошим шансом прорекламировать возможности России как партнера АТЭС станет проведение саммита во Владивостоке в 2012 г.
Поиск новых форм
Однако следует иметь в виду, что в АТР уже успешно действуют вполне реальные экономические союзы, например АСЕАН. Российские эксперты отмечают, что наиболее эффективно сотрудничество России и АСЕАН осуществляется в области безопасности, а одной из основных задач Российской Федерации в АТР является формирование региональной системы коллективной безопасности с участием максимального числа государств, включая США, Японию, Китай, Россию, Индию, Республику Корея, КНДР и АСЕАН.
Основой экономического сотрудничества между Россией и АСЕАН стало Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области экономики и развития, подписанное в декабре 2005 г. Особое место занимает военно-техническая сфера, ведь на долю АСЕАН приходится до 15 % стоимости мировых поставок вооружений и военной техники. В странах организации разработаны долгосрочные программы модернизации вооруженных сил, многие из них являются активными импортерами российских вооружений. Россия интересна для АСЕАН и как партнер, с точки зрения диверсификации поставок энергоресурсов, несмотря на то что ряд стран АСЕАН, таких как Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Бруней, сами являются крупными производителями нефти и газа. По мнению российских экспертов, участники АСЕАН интересуются и российскими научными разработками в сфере биотехнологии, телекоммуникаций, новых материалов, перспективами использования космической техники. Кроме того, Москва настойчиво пытается заинтересовать страны организации взаимодействием в области ядерной энергетики. Однако многие проекты сотрудничества пока остаются на бумаге, а по объему торговли с соответствующими странами, и тем более по объему инвестиций в этот регион Россия занимает последние места в списке.
Тон в сотрудничестве с АСЕАН сейчас задает Китай. С января 2010 г. начала действовать зона свободной торговли «АСЕАН+Китай», в которой основной валютой является юань. Это облегчило Пекину доступ на рынки стран АСЕАН и способно компенсировать спад в американо-китайской торговле. Кроме того, открывается перспектива превращения юаня в резервную валюту данного региона.
Укрепление позиций КНР в АТР беспокоит США, Японию, Австралию. Еще одна причина озабоченности – сохранение в регионе противоречий между столь разными по размеру, населению, весу экономик, культуре, политическому устройству государствами. Поэтому местные элиты ищут пути преодоления всех этих противоречий и проблем путем создания в регионе некоего единого формирования. Наиболее заметными стали две инициативы: формирование к 2020 г. Азиатско-Тихоокеанского сообщества (АТС), с этой идеей выступил в июне 2008 г. премьер-министр Австралии Кевин Радд; а также создание Восточноазиатского сообщества (ВАС), предложенное в 2009 г. премьер-министром Японии Юкио Хатоямой.
Инициативы не остались незамеченными в России. В частности, 5 ноября 2008 г. в Токио на встрече с представителями политических, научных и общественных кругов Японии («Политика России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и российско-японские отношения») министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил появление плана Радда тем обстоятельством, что АТР «по-прежнему стоит перед необходимостью построения оптимальной системы безопасности». Он признал, что это нелегкая задача, поскольку «в Азии нет договорно-правовой основы для обеспечения безопасности наподобие Хельсинкского Заключительного акта, Венских документов по мерам доверия». А 4 декабря 2009 г. на конференции в Сиднее, посвященной теме «Азиатско-Тихоокеанский регион: сообщество XXI века», об инициативах Радда и Хатоямы упомянул в своем выступлении «Многомерная архитектура для полицентричного Азиатско-Тихоокеанского региона» первый заместитель министра иностранных дел России Алексей Бородавкин. Кратко изложив суть обоих предложений, он отметил, что им пока не хватает концептуальной четкости, что не позволяет странам региона выработать однозначное отношение. И вообще вариант создания в АТР единой интеграционной структуры по типу Евросоюза, к чему, собственно, и призывают Радд и Хатояма, представляется проблематичным.
Замечания о том, что реализация идей о создании региональных сообществ в АТР столкнется с большими трудностями, несомненно, справедливы, что скорее всего осознают и сами их авторы. Кстати, оба уже оставили свои должности. Кевин Радд ушел в отставку в июне 2010 г. из-за внутрипартийных разногласий. Юкио Хатояма также покинул пост премьер-министра Японии в начале июня, взяв на себя ответственность за невозможность выполнить свое предвыборное обещание о выводе с территории Окинавы американской военной базы «Футэмма». Жесткая позиция США по этому вопросу стала косвенным ответом на попытки нового японского руководства добиться «более равноправной» модели отношений между Токио и Вашингтоном. Правда, сменивший Хатояму на посту премьера Наото Кан уже заявил, что работа по конкретизации и реализации инициативы ВАС будет продолжена.
Сообщество по-японски
Главную цель создания ВАС Хатояма видел в том, чтобы помочь Японии сохранить политическую и экономическую независимость и защитить интересы страны, зажатой между Соединенными Штатами, которые пытаются удержать свое доминирующее положение в мире, и Китаем, стремящимся занять их место. Причину, по которой идею Токио по созданию ВАС могут поддержать государства региона, экс-премьер видит в желании целого ряда малых и средних стран Азии, с одной стороны, обеспечить продолжение военного присутствия США для сохранения стабильности в регионе, с другой – ограничить политические и экономические издержки американского влияния. Кроме того, налицо желание этих государств уменьшить военную опасность со стороны КНР, но в то же время они заинтересованы в том, чтобы растущая китайская экономика развивалась должным образом. Эти факторы, считает Хатояма, благоприятствуют региональной интеграции.
Признавая сложности с реализацией идеи ВАС, экс-премьер Японии предложил начать с региональной валютной интеграции. Тем самым, по его мнению, был бы естественным образом продолжен стремительный экономический рост, некогда начатый Японией, за которой последовали Южная Корея, Тайвань и Гонконг, а затем страны АСЕАН и Китай. Хатояма также призвал приложить максимум усилий к созданию региональных структур безопасности, которые станут в дальнейшем основой и валютной интеграции. Он выразил уверенность, что Япония, которая раньше не решалась играть активную роль в АТР из-за исторических обстоятельств, вызванных ошибками прошлого, сумеет преодолеть проблемы непонимания с соседями и станет «мостом» между странами Азии.
15 ноября 2009 г. в Сингапуре на саммите АТЭС Хатояма попытался объяснить, почему именно Япония должна стать инициатором создания Восточноазиатского сообщества. По его мнению, Япония – уникальная страна в Азии, она первой осуществила модернизацию, обладает превосходными технологиями, зрелой экономикой, опытом командной работы, имеет долгую историю парламентской демократии. О зрелости последней свидетельствует среди прочего тот факт, что на выборах 29 августа 2009 г. народ проголосовал за смену правительства, нарушив десятилетия монополии одной партии. Но особое значение Японии заключается и в том, что с «вызовами постэкономического роста», такими как снижение рождаемости, старение населения, ускорение урбанизации и депопуляции сельских районов, она столкнулась задолго до того, как это ощутили на себе другие страны Азии. После многих проб и ошибок страна приобрела знания и опыт реагирования на подобные вызовы. Поэтому другие государства Восточной Азии, которых рано или поздно коснутся эти проблемы, могут воспользоваться японским опытом, что поможет Азии стать сильнее.
Целями сотрудничества в рамках ВАС Хатояма назвал совместное процветание на основе соглашений о партнерстве и о свободной торговле; создание «Зеленой Азии» (мероприятия по защите окружающей среды); спасение человеческих жизней от стихийных бедствий и инфекционных болезней; создание «Моря братства» (совместная борьба с пиратами в морях региона, через которые проходят торговые пути). Сотрудничество может распространяться и на области ядерного разоружения и нераспространения, культурных обменов, социальных гарантий, проблем урбанизации, а в будущем – на политическую сферу.
Страны Юго-Восточной Азии в целом благосклонно относятся к идее ВАС. Ее с интересом восприняли в Сеуле и даже в Пекине. Китайские эксперты не сомневаются, что интерес Японии к участию в создании ВАС в качестве члена-основателя объясняется ее стремлением добиться более независимых отношений с Вашингтоном и упрочить свои национальные интересы и влияние в Восточной Азии, но эти «эгоистические» мотивы находят понимание у КНР. Более независимая (от США) Япония и новая региональная организация, подобная ВАС, согласуются с дипломатической стратегией Пекина – стремлением к многополярному миру. Успешное строительство широкого сообщества в Восточной Азии способствовало бы долговременному миру и стабильности в регионе, а это важный фактор развития экономики КНР. Более тесная региональная интеграция помогла бы Китаю диверсифицировать экспорт и уменьшить зависимость от рынков США и Европы. А обладая такой экономической мощью, как сегодня, он не встретил бы на своем пути никаких препятствий, чтобы играть лидирующую роль в ВАС.
Тем не менее разногласия по историческим вопросам, территориальные споры, недоверие между странами региона заставили некоторых китайских и японских аналитиков скептически отнестись к идее ВАС, за которой даже закрепилось выражение «миссия невыполнима». В КНР, например, полагают, что без более честной позиции Токио по прошлым военным преступлениям, в которых его обвиняют, налаживание доверия в регионе вообще невозможно. Несмотря на это, многие специалисты в Китае верят, что объединение реально, если оно будет создано с помощью экономической интеграции на основе существующих механизмов, а другие противоречия преодолимы со временем.
Отправной точкой для образования ВАС называют достигнутую во время саммита Японии, Китая и Республики Корея в Пекине (октябрь 2009 г.) договоренность о более глубокой кооперации между тремя странами как ключевыми торговыми партнерами. Китайские эксперты отмечают, что Хатояма не конкретизировал, сколько стран должно входить в ВАС, а Пекин может выступить за содружество из 13 государств – например, АСЕАН+3, которое уже работает. Правда, препятствие для образования ВАС Китай видит в Соединенных Штатах, которые не одобрят региональное объединение, контролируемое четырьмя восточноазиатскими державами, и с большим трудом примирятся с полной независимостью Токио. Несмотря на заявления Хатоямы о том, что США и союз с ними Японии останутся стержнем обеспечения мира и стабильности в АТР, в Пекине предпочли бы видеть ВАС без Америки.
Что касается самой Японии, то в ее экспертном сообществе нет однозначной точки зрения относительно целесообразности создания ВАС. Сомнения по этому поводу отразились, в частности, в дискуссии, проведенной на страницах февральского за 2010 г. номера журнала МИД Японии «Гайко фораму» («Дипломатический форум»), озаглавленной «Куда направляется политический режим Хатоямы?». Принявший в ней участие директор Института Восточноазиатских исследований Университета Кэйё (Токио) Рёсэй Кокубун отмечает, что для Китая, преследующего цель стать глобальной силой, рамки региональной организации, подобной ВАС, будут тесны. Но, по его мнению, они вряд ли устроят и Японию. «Когда я услышал о концепции Восточноазиатского сообщества, я подумал: неужели Япония собирается стать региональной державой?» – не может сдержать удивления Кокубун. Он напоминает, что Япония была ранее мировой державой, она нацеливалась на «Большую двойку», под которой, видимо, следует понимать некий союз с США, на пару с которыми Япония могла бы править миром, но потерпела неудачу. Получается, отмечает далее Кокубун, что концепция «Восточноазиатского сообщества» отражает психологию превращения в региональную державу. «Я сомневаюсь, что отказ от идентичности мировой державы и следование региональным ценностям – это хорошо», – заключает он. Однако это лишь частное мнение. Официальный Токио включил ВАС в число приоритетных задач японской внешней политики, вошедших в «Голубую книгу японской дипломатии», которая вышла весной 2010 года.
Тормозом реализации идеи ВАС может стать обострение отношений между КНР и Соединенными Штатами, вышедшее наружу зимой этого года. Непосредственной причиной послужило одобрение Белым домом сделки по продаже Тайваню крупной партии американского оружия. В ответ Пекин сделал несколько жестких заявлений и демонстративных жестов, однако до прямой конфронтации дело не дошло.
Напротив, Китай поддержал санкции против Ирана в Совете Безопасности ООН (правда, гарантировав все свои экономические интересы), а накануне встречи «Большой двадцатки» в Канаде даже пообещал более гибко подойти к вопросу о курсе юаня (это комментаторы считают не более чем риторикой). По мнению экспертов, в частности, директора Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО (У) МИД России Александра Лукина, Пекин пока воздержится от эскалации напряженности: «Сегодня Китай в отличие от СССР периода холодной войны явно недостаточно силен с военной и экономической точки зрения, чтобы начать глобальное соревнование с Соединенными Штатами».
Эта оценка скорее всего верна. Но в Токио предпочитают перестраховаться: участники состоявшегося в феврале этого года заседания Совета по вопросам обороны и безопасности согласились, что Японии следует внимательно следить за тенденциями развития КНР, особенно за военным строительством, а также установить новую форму сотрудничества в области безопасности с Южной Кореей.
Уже сейчас все явственнее начинают проявляться факторы, как стимулирующие формирование ВАС, так и тормозящие этот процесс. К первым относится потребность Японии, КНР, Южной Кореи и стран АСЕАН в объединении экономических ресурсов для поддержания высоких темпов роста и повышения конкурентоспособности экономики региона перед лицом экономик США и интегрирующейся Европы. Ко вторым – объективное столкновение интересов Соединенных Штатов и Китая. Вашингтон и союзный ему Токио по-прежнему воспринимают Пекин в качестве политического конкурента и источника угрозы.
Сообщество по-австралийски
Нет пока ясности и с тем, как будет реализовываться инициатива создания к 2020 г. Азиатско-Тихоокеанского сообщества (АТС), с которой выступил в июне 2008 г. премьер-министр Австралии Кевин Радд. Предполагаемое объединение должно включить в себя США, КНР, Японию, Индию и другие страны региона на базе АТЭС, Регионального форума АСЕАН, а также АСЕАН плюс восточноазиатская «тройка» (Китай, Япония, Южная Корея) в формате 10+3, саммита Восточной Азии и т.д. Целями служат развитие потенциала трансграничной борьбы с нетрадиционными угрозами безопасности, укрепление механизмов открытой, недискриминационной торговой системы, создание гарантий для обеспечения долгосрочной энергетической, ресурсной и продовольственной безопасности.
По оценке китайских экспертов, идея АТС была холодно встречена в Сингапуре, Таиланде и других странах АСЕАН, поскольку она предусматривает сохранение стратегического доминирования Соединенных Штатов как ключевого фактора поддержания региональной безопасности. К тому же скорее всего шансы России на членство в АТС будут меньше, чем на участие в ВАС. Напомним, что в 2005 г. премьер-министр Австралии Джон Говард выступил против приглашения России участвовать в Восточноазиатском саммите, одним из инициаторов которого тогда был премьер-министр Малайзии Махатхир Мохаммад. По мнению ученого секретаря Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Вячеслава Амирова, позиция Говарда объяснялась чисто экономическими мотивами: Австралия видит в России конкурента в области поставок в страны АТР сырьевых и энергетических ресурсов, прежде всего сжиженного газа. В 2005 г. сопротивление Австралии удалось преодолеть благодаря поддержке Малайзии. Но сейчас инициатором АТС является Австралия, и идея будет продвигаться дальше при новом премьере Джулии Гиллард, и скорее всего ее мнение о том, кого и на каких условиях приглашать в эту организацию, будет достаточно весомым, чтобы заблокировать принятие нежелательных конкурентов.
Появление инициатив Кевина Радда и Юкио Хатоямы, а также первая реакция на них стран региона свидетельствует о том, что вопрос о строительстве нового регионального порядка в АТР, стимулирующего развитие сотрудничества и создающего условия для предотвращения конфликтов, назрел. Рассматриваемые идеи, хотя и предлагают некий набор объединяющих целей, не дают действенных рецептов преодоления главного препятствия на пути создания в Восточной Азии или, шире, в АТР единой интеграционной структуры по типу Евросоюза – несходство, а в некоторых случаях и противоборство национальных интересов стран региона. Именно поэтому обе идеи не могут заручиться широкой поддержкой.
На инициативу Радда косо смотрят в ряде стран АСЕАН, которые опасаются, что она лишь укрепит гегемонию США. А Вашингтон, в свою очередь, с подозрением относится к идее ВАС как к попытке ослабить американское влияние в регионе. Этим подозрением и было вызвано заявление Барака Обамы в ходе визита в Токио в конце 2009 г. о том, что Соединенные Штаты намерены и дальше сохранить свою важную роль в АТР. Вашингтон не успокоили заверения Хатоямы о стремлении Японии при поддержке других стран строить ВАС с учетом ведущей роли США в обеспечении региональной безопасности.
Это означает, что разработка концепции нового сообщества АТР будет продолжаться. И России имеет смысл принять в ней активное участие, возможно, выдвинув собственные идеи, которые должны быть лишены недостатков, обнаружившихся в инициативах по созданию АТС и ВАС.

Горизонт в тумане
© "Россия в глобальной политике". № 6, Ноябрь - Декабрь 2009
О позиционировании России в условиях глобальной неопределенности
Влад Иваненко – доктор экономики, советник Министерства природных ресурсов Канады. Положения статьи отражают личную точку зрения автора и ни в коей мере не позицию его работодателя.
Резюме Кризис выявил ограниченность способности рынков к саморегулированию, что повлечет за собой ревизию отношений между частными компаниями и государством в пользу последнего. Складывается впечатление, что правительственные программы стимулирования рынков, начатые осенью 2008 года, пришли всерьез и надолго.
Всякий кризис, особенно такой сложности, как нынешний, создает ситуацию неопределенности, когда опасности неразрывно связаны с возможностями. Для России, которая на протяжении уже многих лет находится в поиске собственной стратегии развития, адекватная оценка сложившихся обстоятельств – как собственного потенциала, так и протекающих вокруг процессов – особенно важна.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОРЯДКА-2009
Переустройство мирового экономического порядка, спонтанно начавшееся осенью 2008 г. и перешедшее в вялотекущую стадию к зиме 2009–2010 гг., можно охарактеризовать тремя явлениями.
Во-первых, низкая ликвидность системообразующих банков стран с устойчивым торговым дефицитом (Великобритания и Соединенные Штаты) вызвала паралич мировой банковской системы в сентябре – октябре 2008 г. Платежный баланс построен по принципу двойного счета, поэтому увеличение дефицита по текущему счету товаров и услуг должно идти параллельно с ростом счета операций с финансовыми инструментами. Так и происходило до 2008 г., когда банки США «связывали» приходящие капиталы долгосрочными активами (например, казавшимися выгодными вложениями в американскую ипотеку).
Падение стоимости этих фондов побудило инвесторов закрывать свои позиции, что привело к оттоку денег из тех банков Соединенных Штатов, которые реинвестировали их под ипотечный залог. Стремясь привести в норму ликвидность, пострадавшие банки начали продавать зарубежные активы, выводя из равновесия банковские системы других стран. Чтобы избежать финансового хаоса, связанного со спонтанным перераспределением ликвидности, правительствам, в первую очередь администрации США, пришлось прибегнуть к массовому кредитованию национальных банковских систем.
Это принесло свои плоды. К ноябрю 2009 г. можно было говорить о восстановлении ликвидности трансатлантической банковской системы, на что указывает уменьшение разницы между процентными ставками на межбанковские кредиты в Лондоне и ставками на государственные облигации в Вашингтоне (TED spread) до предкризисного уровня начала 2007 г.
Во-вторых, одновременно с банковским кризисом падал товарооборот мировой торговли. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), суммарный месячный товарооборот стран, входящих в ОЭСР, и восьми стран, претендующих на членство в этой организации (включая Россию), упал с 2 трлн 320 млрд долларов в июле 2008 г. до 1 трлн 469 млрд в феврале 2009 г. Значительно сократились сальдо счета товаров и услуг нетто-импортеров и нетто-экспортеров, о чем можно судить по уменьшению коэффициента вариации сальдо до самого низкого значения с 2003 г.
В-третьих, активное правительственное вмешательство в дела кредиторов и должников, до сей поры считавшихся частными, указало на фактическую смену экономической парадигмы в Соединенных Штатах – страны, на модели которой базируется система современной мировой экономики. Практика массового вливания государственных денег сначала в банковскую систему, потом в автомобильную промышленность, затем в энергетику означала фактический разрыв бюрократического Вашингтона с традицией свободного рынка и переход на более знакомую в России модель «ручного управления».
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
Наметившаяся экономическая стабилизация не означает, что мир стал более определенным. Напротив, в самое ближайшее время правительствам нескольких государств придется принимать непростые решения.
Наибольшие трудности ожидают Вашингтон, который еще не определился с тем, как выбраться из бюджетной западни. Согласно данным Казначейства США, правительственный долг вырос с 9 трлн 646 млрд долларов на конец августа 2008 г. до 11 трлн 813 млрд на конец августа 2009 г., причем скорость роста долга по месяцам не замедлялась до последнего времени. Расклад держателей долга американского правительства показывает, что дополнительные покупки совершают частные вкладчики, включая иностранных. Поскольку поведение этой категории инвесторов непредсказуемо, Вашингтон очень скоро может оказаться в ситуации, когда рынок согласится предоставить ему кредиты лишь под большие проценты. Он может пойти и на повышение процентной ставки, рискуя при этом выстроить финансовую пирамиду из своих облигаций, либо предпочесть обратиться к помощи печатного станка с возможным раскручиванием инфляционной спирали.
Второй вариант представляется для экономики Соединенных Штатов менее убыточным в краткосрочном плане. При падении курса доллара значительная доля потерь будет перенесена на иностранных держателей американских долговых бумаг из Китая, Японии, арабских стран – экспортеров нефти и офшорных центров, расположенных в бассейне Карибского моря и в Великобритании. Однако инфляционное перераспределение благосостояния затронет и США: пенсионные фонды обесценятся, и усилится разрыв в доходах между жителями относительно благополучных и обедневших штатов. Остается только гадать, как средний класс Америки (основа ее демократии) отреагирует на потерю сбережений всей жизни.
Кроме проблемы бюджетного дефицита, Вашингтону придется разбираться с моделью экономического развития, прежнюю версию которой – свободный рынок – он спонтанно заменил под давлением обстоятельств последнего года. Хотя американское правительство на словах заявляет о неизбежной реприватизации «временно» национализированных активов, в первую очередь банковских и в автомобилестроении, создается впечатление, что частные компании всерьез начали подстраивать свои инвестиционные планы под программы правительства. Поэтому, даже если оно и захочет выставить на продажу свои доли в компаниях, сомнительно, чтобы национальные частные игроки проявили желание их выкупить без существенного дисконта и без обещания продолжения государственной поддержки. Иностранным претендентам, скорее всего, укажут на дверь, ссылаясь на «стратегическую важность» активов. Не окажется ли тогда возврат к утерянным экономическим идеалам невозможным?
Проблема дисбаланса внешней торговли и возможный пересмотр Вашингтоном модели развития влекут за собой существенные последствия для государств, выбравших экспортную стратегию, таких, к примеру, как дальневосточные экономики (Китай, Япония), Германия и в определенной мере Россия. Отличительной чертой данной парадигмы является явная или неявная специализация на обслуживании рынков других держав – более крупных и богатых. Чтобы преуспеть в рамках такой модели, необходим постоянный рост экспорта, но, по последним данным ОЭСР на август 2009 г., в мировых масштабах он не восстановился. Возникшая неопределенность ставит под вопрос целесообразность экспортной модели развития, что в конце концов может перерасти в необходимость пересмотреть идеологию развития в Берлине, Москве, Пекине и Токио.
Быстрый рост расходов американского правительства одновременно начинает беспокоить внешних кредиторов. Особенно это заметно на примере Китая, который, согласно данным Казначейства Соединенных Штатов, с июня 2009 г. начал покидать рынок федеральных бумаг. Вашингтон пока смог найти замену в лице более лояльных инвесторов из Японии, Гонконга и Великобритании (включая офшорные зоны), но подобную игру невозможно продолжить без решения проблемы бюджетного дефицита США. Если же последняя будет решена за счет инфляционного финансирования, перед другими странами встанет дилемма: либо последовать примеру Вашингтона, что повлечет за собой рост мировых цен, либо разрабатывать инновационные методы защиты национальных экономик от последствий падения курса доллара.
Чтобы перевести опасности и возможности, возникшие в мире за последний год, в плоскость практического применения, следует сначала определить, какие цели ставит перед собой Россия как федеральное евразийское образование.
Для установления национальных приоритетов можно воспользоваться методом демократического выбора. В этом случае ориентиры развития предлагаются политическими партиями, наиболее популярные из которых поддерживаются на выборах избирателями. В целом данный метод подходит для России, граждане которой имеют право голоса, если не возможность задавать цели правительству. Российская специфика такова, что программа победившей в 2007 г. партии «Единая Россия» («План Путина») не расшифрована в деталях, что предоставляет широкие возможности для интерпретаций. Все же на основе действий, предпринятых российскими властями после выборов, и результатов опросов общественного мнения можно сделать вывод, что элита и «молчаливое большинство» ставят перед собой две главные цели:
сохранение единого российского культурного пространства, что подразумевает независимую внешнюю и внутреннюю политику;
развитие экономики и инфраструктуры, достаточное для поддержания жизнедеятельности государства и высокого уровня жизни населения.
В практическом плане данные цели означают определение и фиксацию границ этого пространства с соседними цивилизационными блоками, а также более быстрый рост благосостояния России относительно других держав. Исходя из названных приоритетов, рассмотрим, насколько благоприятна сложившаяся ситуация и какие меры могут способствовать решению поставленных задач.
ГРАНИЦЫ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ РЕАЛИЯМ
Хотя общность культуры можно интерпретировать несколькими способами, в экономическом плане она определяется как идентичность моделей поведения предпринимателей и чиновников сопредельных территорий, их производителей и потребителей в процессе создания и передачи товаров и услуг, обладающих рыночной стоимостью. Подобная поведенческая близость облегчает контакты, или, выражаясь экономическим жаргоном, «сокращает издержки обращения». Поэтому единое цивилизационное пространство, будь то российское либо иное, отличается от сопредельных территорий не только общностью формальных законов, но и повышенным объемом торговли, более тесным переплетением технологических цепочек и тенденцией к формированию «особых» отношений между ее формально независимыми членами.
В моей статье, опубликованной в вашем журнале два года назад («Россия в глобальной политике», 3/2007), я поставил вопрос об идентификации естественных границ российского пространства на основе данных взаимной торговли государств Евразии. Используя гравитационную модель, я рассчитал временные изменения в «расстоянии» между Россией и ее торговыми партнерами как соотношение ВВП и объема обоюдного экспорта за 1997–2005 гг. Чем меньше получался показатель расстояния, тем более сильным считалось притяжение. Выяснилось, что к России наиболее тесно прилегают Белоруссия, Казахстан и Украина, из чего был сделан вывод, что эти четыре страны формируют единое экономическое пространство.
С тех пор появились новые данные, которые позволяют проверить стабильность полученного результата. Оказалось, что расстояние между Россией и вышеуказанными странами продолжало быстро сокращаться в 2006–2008 гг. вопреки регулярным новостям о «торговых войнах» между ними. Подобное развитие отношений свидетельствует о возможной идентификации культурного блока в пределах Белоруссии, Казахстана, России и Украины.
В то же время обнаружилось быстрое расширение торговых связей России с партнерами, принадлежащими к иным – североевропейскому (Финляндия) и центральноевропейскому (Германия, Италия, Нидерланды) – цивилизационным образованиям. Более детальный анализ торговых потоков показывает, что резкое сокращение расстояния между Россией и этими странами происходит в первую очередь благодаря российскому экспорту энергоресурсов в обмен на широкий ассортимент товаров с высокой долей передела. Подобный расклад торговых потоков свидетельствует о зарождающейся интеграции России в экономическое пространство части Евросоюза через энергетический сектор, который становится все более транснациональным. То же можно сказать и о Казахстане, нефтедобывающая промышленность которого постепенно «встраивается» в европейский рынок.
Вторым индикатором интеграции, на сей раз технологической, служат данные о торговле промежуточными товарами, список которых можно найти на портале Статистического отдела ООН. К ним относятся как товары с небольшой долей передела (например, полуфабрикаты из черных и цветных металлов), так и узкоспециализированные товары (в частности, электронные комплектующие). Рынок таких изделий менее развит, чем рынки сырья или товаров конечного спроса, поскольку их производители больше зависят от покупателей. Таким образом, повышенная доля промежуточных товаров в экспорте страны указывает на «встроенность» ее национальных производителей в зарубежные технологические цепочки.
Доля промежуточных товаров в экспорте России составляла на 2008 г. около 15 % , что свидетельствует о том, что страна была относительно мало интегрирована в мировые промышленные конгломераты (за исключением металлургической отрасли, которая в основном нацелена на обслуживание потребителей по всему миру). С другой стороны, доля полуфабрикатов в российском импорте достигала 30 % (за 2008 г.), что может свидетельствовать о потенциальном включении зарубежных поставщиков в местные технологические цепи.
Более детальное изучение структуры поставок в Россию из стран СНГ указывает на неоднородность интеграционных процессов. Например, Украина имеет высокую долю поставок промежуточных товаров, но это преимущественно продукты черной металлургии, которые Украина в еще большей пропорции, чем в Россию, поставляет в другие страны. Более заметны интеграционные процессы в поставках Белоруссии, особенно в области автомобилестроения и электроаппаратуры. Как и Россия, Казахстан в значительной мере ориентирован на сырьевое производство, и присутствие его предприятий в российских или иных международных технологических цепях малозаметно за исключением металлургических производств. Таким образом, можно сделать вывод, что производственная структура современной России больше совпадает с границами государства, нежели с предполагаемым единым культурным полем.
Данные голосований в международных организациях можно принять за указатель схожести взглядов национальных элит на проблемы мировой политики. ООН ведет статистику голосований в Генеральной Ассамблее, данными которой с 2006 г. по 2008 г. мы воспользуемся. По результатам 249 голосований позиция России наиболее часто совпадает с точкой зрения Белоруссии и трех центральноазиатских государств (Казахстан, Киргизия, Узбекистан), а наиболее часто расходится с мнением Украины, которая голосует в унисон со странами Евросоюза. Отсюда можно сделать вывод о наличии взаимопонимания между элитами России и некоторых ее соседей за исключением Украины. Выбор Киева, правда, может быть вызван определенным оппортунизмом, нежели принципиальностью, поскольку позиция стран ЕС чаще всего преобладает в ходе голосований в Генеральной Ассамблее ООН.
По совокупности наблюдений можно заключить, что российская заявка на статус регионального центра только частично подкрепляется фактами и что в некоторых областях страна выходит за пределы, а в других – не доходит до границ своего возможного цивилизационного блока.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ РОСТА БЛАГОСОСТОЯНИЯ РОССИИ
Выбор между стратегиями развития страны можно условно свести к выбору между экспортной моделью и моделью роста за счет повышения внутреннего спроса.
Как мы уже говорили, первая модель подразумевает специализацию на производстве наиболее конкурентоспособной на территории страны продукции, после чего происходит наращивание экспорта этой продукции путем устранения зарубежных конкурентов. Этот результат достигается либо естественным образом за счет уникальных природных ресурсов или климата, а также сокращения трудовых издержек, что позволяет продавать продукцию по демпинговым ценам, либо за счет инноваций, которые делают национальную продукцию лидером по качеству.
Вторая модель подходит для стран, не способных по каким-то причинам наладить экспорт (например, из-за высоких транспортных расходов) или экономика которых переросла рынки их ранее влиятельных партнеров. В таком случае экономические агенты фокусируются на обслуживании тех внутренних рынков, которые наиболее важны для региона, порождая при этом побочный спрос на дополнительные продукты и услуги. Внешнеторговые отношения приобретают второстепенный статус, так как государство экспортирует не столько ради оплаты закупок потребительских товаров либо вывоза финансового капитала, сколько для импорта сырья и товаров, предназначенных для инвестиционных проектов внутри страны.
Как экспортная модель, так и ее альтернатива имеют свои преимущества и недостатки. Экспортную модель проще запустить, однако она работает, когда рынки потенциальных стран-импортеров достаточно емки, а их возможности расплатиться за поставки велики. С другой стороны, модель внутреннего роста более капризна: в частности, ее успех зависит от присутствия того, что называют духом предпринимательства.
Предпринимательство, или способность находить и осваивать новые рынки, есть, пожалуй, один из самых трудноуловимых факторов достижения национального успеха. Советы о том, как преуспеть на этом поприще, обычно сводятся к комплексу правил для правительств, нацеленных на создание «благоприятного делового климата». При этом предполагается, что предпринимательство расцветает только в оранжерейных условиях, предоставленных государством, а не в процессе создания удобной для ведения бизнеса институциональной среды. Данное предположение противоречит историческим наблюдениям, которые увязывают экономический успех модели внутреннего развития скорее с интенсивностью предпринимательской деятельности, нежели с государственной поддержкой бизнеса. При этом нужно отметить, что мелкие предприниматели действительно реагируют на окружающую среду, созданную государством и обществом, поскольку из-за своего малого размера они вынужденно подстраиваются под заданные условия.
Современную российскую модель развития можно классифицировать как вариант модели экспортного развития. Выбранный еще в 1970-х гг. на основе экспорта нефтегазовых ресурсов, он привел к возникновению и установлению устойчивого обмена российских углеводородных продуктов на потребительские товары Европы. Следует отметить, что страна может полагаться на экспортную модель для решения задачи повышения благосостояния. Результаты последних десяти лет свидетельствуют о том, что Россия с ее 16 тыс. долларов на душу населения в 2008 г. (по паритету покупательной способности) ненамного отличается от новых членов Европейского союза. При благоприятной конъюнктуре на нефтяных рынках можно надеяться, что она достигнет уровня благосостояния беднейшего государства «старого» Евросоюза – Португалии с ее 23 тыс. долларов на человека – в ближайшее десятилетие.
Правда, для оптимизации работы экспортной модели необходимо диверсифицировать экспорт, то есть расширить ассортимент предложения Европе за счет инвестиций в производство таких полуфабрикатов, как металлопрокат, лесоматериалы либо удобрения. В этом случае российский экспортный доход будет меньше зависеть от мировых цен на нефть, что положительно скажется на достатке россиян. Но, с другой стороны, решение задачи повышения благосостояния за счет экспортной модели означает фактический отказ от решения другой задачи, то есть поддержания культурного пространства, отличного от Евросоюза. Экспорт ведет к взаимозависимости между Большой Европой и Россией и соответственно размывает границу российского культурного пространства.
Таким образом, модель внутреннего развития лучше соответствует целям повышения достатка с одновременным сохранением национальной идентичности; однако, как уже отмечалось, ею труднее воспользоваться. Данные подсказывают, что частное предпринимательство, основы которого были заложены в России в 1992 г., не проявило себя как эффективная форма деятельности, причем не обязательно из-за ограничений, накладываемых на бизнес извне. Согласно данным Всемирного банка, который оценивает качество деловой среды, российские предприниматели недовольны работой государственных органов в обратном порядке к оценке их коррумпированности. Получается, что бизнесмен в России скорее доволен возможностью нарушить правила, нежели ищет возможности работать в рамках этих правил. Это подкрепляется данными Всемирного экономического форума о сомнительных достижениях российского бизнеса в области деловой этики.
Дополнительным фактором, позволяющим усомниться в эффективности российского частного рынка, служат сведения об уровне неравенства доходов в России, который является самым высоким среди стран «Большой восьмерки» (за исключением Соединенных Штатов). По информации Федеральной службы государственной статистики РФ за 2008 г., коэффициент Джини, величина которого указывает на степень неравенства, равнялся 42,3 для России против 43,9 для США (2007), причем российский индекс продолжает расти. Такое распределение валового продукта невозможно объяснить различиями в «человеческом капитале», поскольку в среднем россияне имеют примерно одинаковый уровень образования. Скорее условия для ведения частного бизнеса в России таковы, что в результате возникает ситуация, когда немногие могут выгадывать за счет остальных.
Непонятна также ситуация с инфляцией, которая остается стабильно высокой вопреки попыткам Москвы ограничить рост цен, используя классические денежные инструменты. Создается впечатление, что российский предприниматель настроен на приобретение монопольных привилегий больше, чем на максимизацию прибыли путем снижения издержек и повышения качества.
ВОЗМОЖНОСТИ РОССИИ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ
Сопоставление возможных сценариев экономического кризиса и вариантов поведения России указывает как на открывающиеся возможности, так и на потенциальные опасности.
Падение популярности англо-американской модели мировой экономики ведет к пересмотру стратегий развития ведущих стран мира. Те государства, которые до сих пор придерживались экспортной модели развития, вероятно, пострадают больше остальных. Это наблюдение касается и России как крупного поставщика нефти, но относительная негибкость спроса на этот продукт означает, что хотя ситуация на рынках сбыта и окажет влияние на стабильность поступления экспортных доходов в российскую казну, но степень их максимального падения окажется ниже, чем по другим группам товаров. В этом отношении смена парадигмы означает более серьезные последствия для другого потенциального члена общего российского пространства – Украины, которая может потерять существенную часть рынков сбыта на свой основной товар – изделия из черных металлов. Таким образом, кризис способствует переориентации украинских экономических интересов в сторону интеграции со своими восточными и северными соседями.
Кризис выявил ограниченность способности рынков к саморегулированию, что повлечет за собой кардинальную ревизию отношений между частными компаниями и государством в пользу последнего. Складывается мнение, что правительственные программы стимулирования рынков, начатые осенью 2008 г., пришли всерьез и надолго. В этих условиях Россия будет шагать в ногу со временем, если ее правительство возьмет на себя всю полноту ответственности за развитие страны. При этом вовсе не обязательно делать ставку на государственные корпорации как локомотивы роста. От правительства требуется задать параметры развития таких крупных инвестиционных программ, как жилищное строительство, модернизация инфраструктуры или технологическое переоснащение, которые станут катализаторами развития внутреннего рынка.
Рост влияния государства в кризисных условиях ужесточает требования к качеству государственного управления, которое оценивается традиционно низко для России (например, согласно данным Всемирного экономического форума за 2006 г., Россия занимала 110-е из 117 мест в мире по степени «читабельности» правительственных инструкций). Ожидаемое усиление роли чиновников в качестве заказчиков новых программ национального развития подчеркивает необходимость, по крайней мере, ограничить возможности для коррупционных растрат выделенных средств – тема, которая заслуживает отдельной статьи.
Среди новых угроз, вызванных кризисом, можно также отметить потенциальную девальвацию основной валюты мира – американского доллара, что ведет к обесцениванию долларовых накоплений стран нетто-экспортеров. В настоящее время мировое сообщество еще не считает необходимым найти лучший способ для хранения излишков экспортного капитала, который продолжает абсорбироваться в виде американских финансовых активов. Создается впечатление, что многие государства пытаются сохранить паритет своих валют с долларом, при этом, вероятно, втайне надеясь, что пресловутый дух американского предпринимательства вызволит Соединенные Штаты из рецессии.
Данный подход рискован. Он не учитывает того, что американская рецессия может затянуться на годы, если не на десятилетия. В этом случае возможен внезапный всплеск мировой товарной инфляции с последующими крайне болезненными перераспределительными процессами, сравнимыми с теми, которые испытала на себе бЧльшая часть россиян в 1991–1998 гг. Побочный эффект роста цен, правда, будет скорее благоприятным для России – в данном случае как экспортера дорожающего сырья, и он может уберечь страну от потрясений, связанных с обесцениванием долларовых накоплений.
Завершение активной стадии кризиса не означает автоматического возврата к прежней ситуации. В течение следующих нескольких лет мы, скорее всего, станем свидетелями кардинальной перестройки мировой экономической системы. При этом роль государства как инициатора программ развития повышается до такого уровня, при котором идея свободного рынка оказывается неработоспособной. В условиях нарастающей неопределенности России, как, впрочем, и любой другой стране, следует держаться старой морской истины: «Если вышел в море, то не подстраивайся под капризы природы, а держи курс на цель, к которой идешь».

Прошлое как оружие
© "Россия в глобальной политике". № 6, Ноябрь - Декабрь 2008
В.И. Головнин – руководитель бюро ИТАР – ТАСС в Токио.
Резюме Баланс мирового влияния явно смещается на Восток. Однако помимо обширных возможностей для роста и развития там присутствует и другой богатейший потенциал – межгосударственных конфликтов, самые древние из которых уходят корнями еще в период до начала новой эры.
Восток Азии неуклонно наращивает свой вес в мире, хотя его политический голос явно не соответствует колоссальной экономической мощи. Общим местом стали рассуждения о том, что именно в этот регион во многом будет смещаться баланс мирового влияния в ХХI веке. Однако помимо обширных возможностей для роста и развития там присутствует и другой богатейший потенциал – межгосударственные конфликты, самые древние из которых уходят корнями еще в период до начала новой эры.
ТОВАРООБОРОТ РАСТЕТ, ПРЕТЕНЗИИ ОСТАЮТСЯ
Описание взаимоотношений в Азии стоит начать с напоминания о том, что Китай – единственный из немногих подлинно самобытных очагов мировой цивилизации, который сумел не только выжить в политическом отношении, но и вновь, спустя тысячелетия, завоевал положение одного из лидеров планеты.
Без сомнения, окружающие его «коренные» страны региона имеют свою ярко выраженную и уже достаточно оригинальную культуру, которая зиждется, однако, на китайских образцах. К России, конечно, это не относится: она до сих пор в чем-то остается чужаком, пришельцем на Дальнем Востоке и отнюдь не всегда вписывается в региональные конструкции. Зато ее не миновали общие беды этой части света: за свое относительно недолгое присутствие к востоку от Байкала Россия создала себе немало проблем с соседями, хотя острота их, понятное дело, далеко не одинакова.
Запутанные хронические конфликты издавна существуют и в зонах соприкосновения других наиболее развитых государств. Однако в Европейском союзе они почти погашены и потеряли остроту – за малыми и явно исчезающими исключениями. (Правда, «заискрило» на стыке евро-атлантической и евро-азиатской сфер – в основном вследствие возвращения на геополитическую арену России.) На севере Америки исторические обиды тоже присутствуют, но ситуация там не идет ни в какое сравнение с обстановкой на Дальнем Востоке, где взаимные претензии имеют болезненный характер, зачастую активно поддерживаются властями и постоянно становятся фактором острой дипломатической борьбы.
Дело, конечно, не в чрезмерной эмоциональности обитателей Дальнего Востока. Просто ситуация там не устоялась, а баланс сил еще способен коренным образом измениться, что дает надежду на тактические либо стратегические приобретения. Исторические обиды в этих условиях – надежное средство сплотить население вокруг курса властей, поставить соседа на место или даже кое-что у него отнять.
Очевидно, что никакой «войны всех против всех» в регионе нет: лидеры Китая, Южной Кореи и Японии более-менее регулярно проводят трехсторонние встречи, растут тенденции к экономической интеграции (пока без участия России), которую подхлестывают огромные объемы торговых и инвестиционных связей. Совокупный объем торговли в треугольнике Китай – Южная Корея – Япония достиг в 2007 году 478 млрд долларов. Товарооборот России с этими странами тоже стремительно возрастает (на десятки процентов каждые двенадцать месяцев), однако в минувшем году он составил лишь 84,5 млрд долларов.
Пекин, Сеул и Токио уже начали проводить пока еще вялые консультации о создании в перспективе зоны свободной торговли. Однако разговор идет ни шатко ни валко: и дело тут не только в крайней сложности задачи, но и в постоянно вспыхивающих эмоциональных конфликтах, большинство которых, опять же, уходит корнями в историю.
КТО БОЛЬШЕ ОТРУБИЛ ГОЛОВ?
Главный и самый шумный из таких конфликтов связан с японскими колониальными и военными захватами на азиатском континенте в XIX–XX веках. Токио начал их в 1894–1895 годах, разгромив императорский Китай: тогда армия микадо, кстати впервые, взяла штурмом Порт-Артур, устроив резню его защитников. После поражения слабеющий пекинский владыка уплатил контрибуцию, отказался от прав сюзерена в Корее и отдал победителю остров Тайвань. Попутно японцы прибрали еще несколько прилегавших к нему островков, включая группу Сенкаку (по-китайски – Дяоюйдао). Все это положило начало длинному списку унижений и страданий, которые Китай испытывал полвека по милости своего островного соседа.
Все последующие годы Япония настойчиво продвигалась в Китай, который, казалось, разваливался на бесхозные куски. После победы в Русско-японской войне 1904–1905 годов под контроль Токио перешла часть Маньчжурии, по окончании Первой мировой войны японцы получили германские владения в Циньдао. В 1931-м Япония завершила оккупацию всей Маньчжурии и создала там под своим контролем «Великую Маньчжурскую империю» – Маньчжоу-го. В 1937 году началось полномасштабное японское вторжение в Китай с целью создания «большого Маньчжоу-го» – гигантского протектората, который полностью бы подчинялся Токио.
Во время вторжения и в ходе Второй мировой войны Япония, в отличие от союзной ей гитлеровской Германии, не ставила себе целью осуществление программы геноцида, но жестокости совершались чудовищные. Известен, например, случай, когда в 1937-м японские офицеры заключили пари, кто быстрее самурайским мечом отрубит головы 100 пленным китайцам. Символом зверств стала резня в Нанкине в декабре 1937 – январе 1938 года: китайцы уверяют, что там было убито 300–400 тыс. человек, в основном холодным оружием. Также имеются сведения о 20 тыс. изнасилованных женщинах. По свидетельству Пекина, всего до 1945-го в результате японской агрессии в Китае погибло 35 млн человек.
Завоевание Кореи долго вынашивалось Японией. Еще в XVI столетии самурайская армия почти выполнила эту задачу, однако была вытеснена в результате вмешательства китайских войск. Творцы японской модернизации по западному образцу во второй половине XIX века открыто рассуждали о необходимости покорить расположенный поблизости полуостров. Аргументов приводилось много, в том числе и опасность иностранного, в первую очередь российского, вторжения через Корею. Действительно, оттуда даже столетие назад можно было относительно легко перебросить войска в Японию через неширокий Цусимский пролив. Одна из причин Русско-японской войны (1904–1905) заключалась именно в том, что Токио видел в проникновении России на Корейский полуостров попытку создания плацдарма для нападения на Японию.
После поражения Санкт-Петербурга Токио тут же установил протекторат над Кореей, а в 1910 году подписал с марионеточным правительством договор об аннексии, по которому корейский император уступил Японии все свои права. Корея стала генерал-губернаторством, где началась активная политика японизации: поощрялось преподавание на японском языке, практиковался отказ от корейских имен в пользу японских, искоренялась национальная культура. Об этом периоде корейцы вспоминают с содроганием и ненавистью, а активных пособников колонизаторов преследуют до сих пор.
ОШИБКА ИЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ?
Жители Корейского полуострова превратились в подданных островной империи: их призывали в армию, принудительно вывозили в Японию и на принадлежавшую ей южную часть острова Сахалин, где корейцы выполняли тяжелые, полурабские работы – прежде всего на шахтах. При этом японцы никогда не считали корейцев «своими». Неоднократно вспыхивавшие восстания и партизанские выступления в Корее жестоко подавлялись. В 1923-м, когда Токио был практически уничтожен мощным землетрясением, всеобщее смятение и паника дали неожиданный результат: начались массовые погромы «грязных корейцев», которых обвиняли в мародерстве, в отравлении колодцев и вообще в том, что они «слишком радовались» японским бедам. Возбужденные толпы японцев забили сотни, а то и тысячи новых подданных империи.
Словом, первый, самый заметный круг претензий китайцев и корейцев ясен: островитяне, воспользовавшись в совсем недавней истории временным ослаблением соседей, захватывали их территории, убивали людей и т. п. Китайцы и корейцы солидарны в том, что Токио не раскаялся в полной мере, до сих пор пытается приуменьшить свою ответственность и оправдать случившееся.
После Второй мировой войны Япония выплатила Южной Корее крупную компенсацию в виде льготной помощи, которая во многом заложила основу южнокорейского экономического чуда. Массированные японские кредиты на крайне выгодных условиях инициировали фантастический подъем деловой активности и в китайской экономике: Токио рассчитывал таким образом привязать к себе континентального соседа и сделать его зависимым от своих технологий и капиталов. После нормализации отношений с Китайской Народной Республикой во второй половине 1970-х годов и заключения с ней Договора о дружбе и сотрудничестве в начале 1980-х в Японии начался подлинный «китайский бум»: к вольерам с подаренными пандами выстраивались длинные очереди, в материалах прессы преобладал тон умиления. Токио считал Москву главной угрозой для своей безопасности, а Пекин, находившийся в конфронтации с «советскими ревизионистами», стал почти что другом и союзником. Но все изменилось с распадом СССР: выяснилось, что старые модели не работают, поскольку не учитывают как глубинных конфликтов, так и новых реалий.
После крушения Советского Союза КНР достаточно быстро дала понять, что не намерена закрывать глаза на настойчивые попытки влиятельных сил в Токио излечить страну от комплекса вины за минувшую войну, тем более что в Японии, в отличие от Германии, не было проведено тотальной кампании расставания с прошлым. Минувшая война считается в Токио «ошибкой», но вовсе не преступлением. Постоянно проводится мысль о том, что это был просто нерациональный выбор – ввязаться в схватку, которую невозможно выиграть. В то же время принято указывать на массу объективных причин, будто бы вынудивших страну начать боевые действия (например, американское нефтяное эмбарго). Японские фильмы о минувшей войне наполнены ностальгией и восхищением героями, погибшими в неравной схватке с врагом, который победил лишь вследствие обладания более совершенной боевой техникой.
Токио не соглашается и с утверждениями о массовых зверствах в Китае. Например, в японских школьных учебниках лишь скромно указывается, что после штурма Нанкина в 1937 году было «убито много людей». Более того, многие японские историки утверждают, что все сообщения о резне в этом городе были сфабрикованы. Япония не согласна и с заявлениями КНР об общем числе погибших с 1937 по 1945-й. Ссылки делаются на отсутствие документов и четкой статистики, которую, мол, мало кто скрупулезно вел в годы войны и оккупации. Токио отрицает также утверждения о том, что командование японской императорской армии насильственно набирало в солдатские бордели китаянок, кореянок и других жительниц оккупированных территорий, хотя существует масса свидетельств такой принудительной проституции.
Сообщения о разрешении издать в Японии новые учебники с неприемлемой для Пекина и Сеула трактовкой истории немедленно вызывают очередные вспышки напряженности в отношениях, заявления по линии МИДов, демонстрации у посольств. Китай при этом постоянно ставит Японии в пример Германию, которая тотально покаялась за прошлое и даже не помышляет о том, чтобы отрицать существование лагерей смерти или, скажем, спорить с Польшей о количестве погибших поляков.
ФАКТОР «ЯСУКУНИ»
Все дело в том, что в Японии и власти, и общественность категорически не согласны сравнивать действия их страны с преступлениями Третьего рейха. Решения Международного военного трибунала для Дальнего Востока токийская печать упрямо называет расправой победителей над побежденными. В 2007 году премьер-министр Синдзо Абэ демонстративно встретился с родственниками индийца Радхибинода Пала, который был единственным судьей трибунала, выступившим против казни главных японских военных преступников.
Эта тема – отдельный мощный фактор раздражения в отношениях Токио с Китаем и обоими корейскими государствами. Повешенные в 1948-м главные японские военные преступники были внесены в списки героев, погибших за императора, которые хранятся в токийском храме Ясукуни, считающемся в Пекине и Сеуле духовным центром японского милитаризма. Территория святилища заполнена военными памятниками, включает в себя богатое хранилище старой боевой техники и в целом очень напоминает музей боевой славы императорских вооруженных сил.
Храм не имеет официального статуса, но туда регулярно совершают паломничество ведущие деятели правительства Японии. Премьер-министр Дзюнъитиро Коидзуми (находился на посту с 2001 по 2006 год) посещал Ясукуни ежегодно, считая такие походы частью своих предвыборных обязательств. Местной публике это нравилось («Наконец-то мы перестали унижаться и решились открыто поклониться памяти своих погибших», – сказал мне в связи с этим один достаточно влиятельный токийский журналист). Зато Пекин и Сеул протестовали жестко: их контакты с Коидзуми на высшем уровне были прекращены, прервался диалог по многим направлениям. Аргумент звучал один: поклонение душам казненных военных преступников призвано оправдать агрессию и колониальные захваты.
Преемники Коидзуми на посту премьера на время прекратили походы в храм Ясукуни. Но они продолжают блокировать в целом разумную идею создания гражданского и нейтрального в политическом отношении мемориала всем погибшим в годы Второй мировой войны, включая жертвы Хиросимы, Нагасаки и американских ковровых бомбардировок других городов. Судя по всему, тень Ясукуни будет еще долго витать над отношениями Токио с соседями. Существенная часть японской общественности считает этот храм символом своего тихого, но упрямого несогласия с иностранной оценкой участия Японии во Второй мировой войне. Впрочем, на официальном уровне Токио ведет себя достаточно смирно.
Каждый год 15 августа в столичном Зале боевых искусств собираются император и императрица, высшие государственные чины и представители Японской ассоциации родственников погибших на войне. По случаю очередной годовщины объявления о капитуляции премьер-министр произносит традиционную формулу: мы навечно отказываемся от войны, привержены миру и выражаем раскаяние за те страдания, которые причинили другим народам, особенно народам Азии. Раскаяние не относится к России, поскольку в Токио считают, что СССР сам совершил агрессию против Японии.
КТО НАЙДЕТ ОСТРОВА НА КАРТЕ?
Советский Союз, как заявляют наши островные соседи по Дальнему Востоку, в нарушение международного права расторг Пакт о нейтралитете с Японией и нанес ей 9 августа 1945 года коварный удар: советские войска начали военные действия против Японии (теперь в этот день местные националисты ежегодно проводят акции протеста против «русского предательства»).
15 августа после вступления СССР в войну и американских атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки Токио объявил о своем поражении: 2 сентября на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции. США, как в Японии особо подчеркивается, немедленно прекратили военные действия, тогда как Советский Союз продолжал наступление в Маньчжурии. А Южные Курилы занял уже после подписания акта о капитуляции. Действия Советского Союза называют в Токио нарушением договоренностей, грубым захватом чужих земель. Указывается также на то, что они противоречат провозглашенному союзниками по антигитлеровской коалиции принципу нерасширения территории по итогам войны.
После объявления о капитуляции японские войска прекратили боевые действия, начали сдаваться. В Токио заявляют, что советские войска захватили 600 тыс. японцев, которые были отправлены в разбросанные по всему СССР лагеря (в основном в его восточной части), где принуждались к тяжелому труду вопреки международным конвенциям. Умерло, по японским данным, до 100 тыс. заключенных, которых Токио военнопленными не считает, поскольку они сложили оружие не в результате боевых действий, а по приказу своего командования после объявления о капитуляции. Надо признать, что СССР, в отличие от американцев и других союзников, очень долго скрывал подлинное число захваченных японских солдат, всеми силами удерживал их на работах в лагерях – массовая репатриация произошла только в 1950-х. Мучения этих людей – крайне эмоциональная тема, один из важных факторов антироссийских настроений.
Впрочем, на межгосударственном уровне тема пленных закрыта: в 1956 году в процессе нормализации двусторонних отношений был снят вопрос о каких-либо претензиях и компенсациях, а впоследствии Михаил Горбачёв (1991) и Борис Ельцин (1993) фактически принесли извинения за случившееся. Зато с Южными Курилами, как известно, дело зашло в тупик.
Как продемонстрировал проведенный в нынешнем году опрос, точно показать эти острова на карте могут менее 70 % японцев. Однако для всех жителей страны Южные Курилы – символ советской агрессии и оккупации, жестокой насильственной депортации мирных жителей.
Вопрос поставлен прямо: Токио желает вернуть острова назад, ссылаясь на то, что они никогда легально не принадлежали России или СССР. Япония считает также, что Южные Курилы не входят в те «Курильские острова», от которых она отказалась по Сан-Францисскому мирному договору (1951) с Соединенными Штатами и рядом других стран антигитлеровской коалиции.
Тема островов присутствует как постоянный фон, как мощный негативный психологический раздражитель. Однако данный спор в последние годы заметно потерял эмоциональность и, в сущности, утратил полемический запал – я не припомню уже, когда дипломаты обеих стран реально дискутировали по этому поводу. В японской печати обсуждение темы Южных Курил практически сошло на нет: какие-либо столкновения мнений по данному вопросу отсутствуют, публичные дискуссии не проводятся. Вопрос давно перестал быть и фактором внутриполитической жизни – о нем даже не вспоминают в ходе избирательных кампаний. Но это свидетельствует скорее о единстве всех слоев японской публики в подходе к территориальной проблеме. В то же время каких-либо намеков на сближение позиций с Россией не наблюдается, компромисс пока невозможен, и конфликт в целом перешел в «спящую» фазу.
«ЯПОНСКОЕ» ИЛИ «ВОСТОЧНОЕ» МОРЕ?
Однако о «спячке» говорить не приходится, когда речь заходит о территориальных проблемах с Китаем и Южной Кореей. Вокруг утраченной Пекином в 1885 году группы островов Сенкаку (Дяоюйдао) происходят постоянные вспышки напряженности.
В 1980-х лидер КНР Дэн Сяопин призвал оставить проблему «на суд грядущих поколений»: тогда Китаю были позарез нужны японские инвестиции. Ситуация изменилась в 1990-х годах: на Сенкаку один за другим хлынули десанты китайских патриотов, которые на рыбацких шаландах как бы по собственной инициативе выходили из Гонконга или портов прибрежной провинции Фуцзянь. Происходили стычки с японскими пограничниками, погиб человек, пытавшийся вплавь добраться до вожделенных островов. В 2004-м семеро китайцев неожиданно высадились на Сенкаку и подняли там флаг КНР. Десантников без боя отловила японская полиция и во избежание дальнейших осложнений без суда депортировала их на родину. Несмотря на это, разразился крупный скандал: посыпались дипломатические протесты, зазвучали резкие заявления с обеих сторон…
Сейчас, кстати, Пекин надавил на активистов кампании за возвращение Сенкаку – сообщалось даже о том, что полиция задержала нескольких смельчаков, собиравшихся вновь поплыть к этим островам на рыбацкой шхуне. При всем при том похоже, что сделано это было ради максимального умиротворения соседа накануне Олимпиады в Пекине и на фоне волнений в Тибете. Есть основания полагать, что проблема группы островов Сенкаку (Дяоюйдао) вполне может вновь обостриться в ближайшее время.
Поводом для острого кризиса стали в нынешнем году и находящиеся под контролем Сеула необитаемые крохотные островки Токто площадью около 23 га, которые японцы именуют Такэсима. В 1905 году под шумок войны с Россией Токио включил их в состав своей территории. Однако в 1950-х южнокорейский диктатор Ли Сын Ман провел на карте новую морскую границу, присоединив «архипелаг» к своей стране. По сей день ссылки делаются на то, что они с незапамятных времен входили в состав корейского государства. Япония с этим соглашаться не собирается: в этом году, например, утверждено пособие для учителей средних школ, которым дано указание разъяснять ученикам, что не только Южные Курилы, но и Такэсима – исконные японские территории. Ответ Южной Кореи был сокрушительным: она отозвала своего посла из Японии, заявила протест в самой резкой форме, а у островов были проведены демонстративные военно-морские маневры. Потом, правда, посла вернули к месту прежней работы, однако холод, которым повеяло во взаимоотношениях обеих стран, сохраняется.
Еще один скандал между Сеулом и Токио вызвала пекинская Олипиада: на церемонии ее закрытия транслировалась гигантская карта мира, на которой, я уверен, российские зрители не разглядели скромную надпись «Японское море». Зато на нее с негодованием обратили внимание в Южной Корее и немедленно направили официальный протест КНР. По мнению Сеула, термин «Японское море» Токио навязал миру на волне своих колониальных захватов в Восточной Азии. Южная Корея требует использовать название «Восточное море», хотя по отношению к Японии оно скорее Западное. Или же Юго-Восточное, если смотреть со стороны России. По этому поводу Сеул уже долгие годы ведет с Токио ожесточенную схватку в Международной гидрографической организации, а Пхеньян, кстати, идет еще дальше: без излишних экивоков он требует называть Японское море Корейским.
Сеульская печать, кстати, считает, что организаторы Олимпиады в Пекине вовсе не случайно приняли сторону Токио в картографическом споре: в Южной Корее находят в этом еще одно из проявлений недружественной политики Китая. А корни ее, как там полагают, во многом уходят в острые дискуссии по поводу трактовки событий прошлого – на сей раз совсем уже седой древности.
КАК СОХРАНИТЬ 700 ЛЕТ РОДНОЙ ИСТОРИИ?
В КНР с 1993 года действует проект изучения истории северо-восточных провинций страны, участники которого склонны рассматривать северное корейское царство Когурё (I век до н. э. – VII век н. э.) как часть Китая того времени. Для справки: Когурё занимало значительную территорию Маньчжурии и всю северную половину Корейского полуострова, включая нынешний Пхеньян и даже Сеул. Историки КНР уверяют, что население государства было «некорейским», а соответствовало этническому составу северо-востока Китая. Корейцы же, как утверждается, жили значительно дальше – только на крайней, южной, части полуострова. В 2004-м МИД КНР без объяснений убрал упоминание о Когурё с той части своего официального сайта, где рассказывается о корейской истории. Это вызвало взрыв негодования в Сеуле, который заявил Китаю официальный протест.
В обоих корейских государствах Когурё считают основой своей национальной идентификации, исходным очагом национальной культуры. Само западное слово «Корея», кстати, происходит от названия «Когурё». В то же время в Пекине снисходительно намекают на то, что это царство было одним из китайских государств, откуда корейцы просто переняли большую часть своей культуры. Включение Когурё в историю Китая отнимает у Кореи 700 лет ее собственной истории, а исконную коренную территорию сводит к незначительному участку на юге полуострова.
Ряд экспертов в Сеуле уверяют, что в случае краха нынешнего режима в Пхеньяне (слухи об этом активизировались из-за болезни северокорейского лидера Ким Чен Ира) Пекин может пойти на вмешательство в КНДР как «одну из исконных китайских территорий». С другой стороны, объявление о претензиях на древнее царство может быть превентивным шагом и против потенциальных поползновений соседей – специалисты не исключают, что при объединении корейских Севера и Юга новое единое государство заявит о своих претензиях на некоторые земли КНР.
Помимо древнего Когурё есть, кстати, и территориальные проблемы поновее. В 1909 году, например, хозяйничавшие в Корее японцы самовольно передали Китаю часть берега реки Туманная (Тумыньцзян, корейское название – Туманган) в обмен на право построить железную дорогу в Маньчжурии. В 2004-м 53 депутата Национальной ассамблеи Южной Кореи подписали петицию с требованием вернуть стране эти ее исконные земли.
Не следует считать, что территориально-исторические битвы Сеул ведет только с КНР. В южнокорейской печати раздаются призывы забрать у России остров Ноктундо у северного берега той же реки Туманная, поскольку Китай якобы незаконно отдал его России в 1860 году по условиям Пекинского трактата, определившего границу между двумя империями. Как утверждает сеульская газета «Тона ильбо», остров Ноктундо (сейчас он уже превратился в полуостров и прирос к российскому берегу) на самом деле входил в состав ослабевшего корейского государства, неспособного тогда отстаивать свои интересы. Эксперты не исключают, что вопрос о новой демаркации границы может встать в случае ликвидации КНДР и создания объединенной Кореи.
Претензии друг к другу имеют и два корейских государства: помимо весьма свежих воспоминаний о жестокой братоубийственной войне в середине прошлого века (1950–1953) в Пхеньяне вообще любят поговорить о предательской сущности южан, которые, мол, издавна наводили врагов на родную землю. В 669 году, напоминают на Севере, они вместе с китайцами напали на все то же царство Когурё и поделили его территорию. От событий многовековой давности мостик тут же перекидывается к нынешнему союзу Сеула и Вашингтона, направленному против КНДР. Пхеньян к тому же не признаёт правомочность морской границы с Югом в зоне Желтого моря, где в последние годы не раз происходили стычки между боевыми кораблями двух корейских государств.
На сегодняшний день претензии, связанные с историей, вслух не высказывают друг к другу только Россия и Китай: границу обе страны недавно окончательно закрепили договором, а последние спорные острова поделили пополам. Однако в Интернете можно найти и напоминания о былых претензиях КНР на Приморье с Владивостоком, и статьи отечественных авторов, призывающих аннулировать договоренности о передаче Пекину части территорий в зоне Амура, Уссури и Аргуни.
ДО ИНТЕГРАЦИИ ДАЛЕКО
Давние споры и обиды часто играют в регионе вполне прикладную роль. Достаточно было Токио в 2005-м активизировать попытки получить место постоянного члена Совета Безопасности ООН, как Китай отреагировал на это беспрецедентными демонстрациями. Около 20 тыс. человек забросали камнями и мусором посольство Японии в Пекине, толпы людей громили японские рестораны и представительства в других городах страны. Лозунги не изменились: «Помните о Нанкине!», «Долой японский милитаризм!», «Не дадим Японии перечеркнуть уроки истории!».
Результат был достигнут: Япония выставлялась перед всем миром как бывший кровавый агрессор, не раскаявшийся в совершенных им преступлениях. Это явилось, конечно, не единственной, но важной причиной провала попыток Токио резко повысить свой статус и вес в Организации Объединенных Наций.
Стратегическая цель КНР в данном случае очевидна: она не хочет допустить, чтобы Япония вновь стала державой с мощным дипломатическим и военным влиянием, способной претендовать на доминирование в Восточной Азии. Пекин постоянно заставляет соседа через силу каяться за прегрешения прошлого или же вступать в заранее проигрышные словесные перепалки. Китай при этом отлично понимает, что любые попытки японцев отрицать свою ответственность за войну вызывают раздражение в США (только в прошлом году американский Конгресс официально потребовал от Токио принести извинения за обращение женщин на оккупированных территориях в сексуальное рабство).
Схожие цели и у Южной Кореи: она последовательно стремится ограничить роль Японии в регионе и в мире, особенно военную. Характерно, что японских военных наблюдателей демонстративно не приглашают на совместные учения, которые проводят вооруженные силы Республики Корея и Соединенных Штатов. Близкая ситуация и в отношениях Токио с Пекином: оборонные контакты обеих стран заметно отстают от уровня, достигнутого, например, в отношениях Токио с Москвой.
На Дальнем Востоке только Россия не имеет претензий к своим соседям – удержать бы то, что есть. Москва лишь пытается уйти от наскоков, в первую очередь от спора о Южных Курилах, отравляющего ее отношения с Токио. Кстати, он ничего не дает и самой Японии. Отказаться от требования «вернуть северные территории» она не может, однако это не позволяет стране успешно разыграть «российскую карту» в регионе, хотя, кроме Южных Курил, между Токио и Москвой больше нет никаких проблем, а многое объективно подталкивает их друг к другу.
Впрочем, и оппоненты Японии не пытаются договориться между собой: не наблюдается, в частности, ни малейших попыток Москвы и Сеула совместно выступить против притязаний соседа на их территории, полученные по итогам Второй мировой войны. На Дальнем Востоке каждый предпочитает пока вести собственную игру, не желая обременять себя лишними обязательствами на фоне в целом нестабильной ситуации в регионе. Кто знает, к примеру, что будет на Дальнем Востоке после ухода нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ира? Слияние с Югом при сохранении американского влияния? Долговременный хаос? Стабилизация под китайским протекторатом? Останутся ли после этого военные базы США в регионе? Что будет с российским Дальним Востоком, теряющим население?
Уже приведенные в действие и пока еще замороженные исторические споры и претензии в регионе в этих условиях еще могут громко «бабахнуть». И уж в любом случае они будут серьезно препятствовать в обозримом будущем началу конструктивного разговора о реальной интеграции – до европейской модели общежития Дальнему Востоку еще очень далеко. Соперничество за лидерство в регионе будет обостряться, а у внешних сил появится масса заманчивых возможностей поиграть на противоречиях.

«Балканизация» Европы vs «европеизация» Балкан
Павел Кандель
Резюме Сделав допуск в свои ряды инструментом балканского умиротворения, Евросоюз вынужден смягчать критерии для не вполне созревших кандидатов. Соответственно возрастает и цена расхождения между формальным «возвращением в Европу» стран Балканского региона и их подлинной «европеизацией». А для Европейского союза адаптация «вернувшихся» создаст проблемы, выходящие далеко за рамки региональных.
© "Россия в глобальной политике". № 3, Май - Июнь 2008
П.Е. Кандель – к. и. н., ведущий научный сотрудник Института Европы РАН.
За перелистыванием американских и европейских статей последнего времени о Юго-Восточной Европе вспомнилась игра из раннего детства. Какой-нибудь карапуз, забравшись на ближайший пригорок, провозглашал себя «царем горы», а остальные бросались его спихивать, чтобы занять «престол». Воспоминание всплыло отнюдь не случайно – во всех текстах лейтмотивом звучит одна мысль: если Европейский союз не будет проводить наступательную политику, то Россия «вернется на Балканы».
Некоторые считают это свершившимся фактом. Новейший предлог для подобных рассуждений – упорная российская поддержка Белграда в вопросе о судьбе Косово (для западных политиков она почему-то стала неожиданностью) и удачное продвижение «Газпромом» проекта «Южный поток» в Болгарии, Греции, Венгрии и Сербии.
ЧЕГО ХОЧЕТ РОССИЯ?
Все это вызывает удивление по многим причинам. Странным кажется уже неверие европейцев в свои силы. Ведь все государства региона (за исключением особого случая – Сербии) с начала 1990-х годов рвутся в Европейский союз и НАТО, и только от самих этих организаций зависит скорость интеграции. Болгария и Румыния уже стали членами данных евро-атлантических структур. Македония и Хорватия имеют статус кандидатов на вступление в ЕС. С Албанией, Черногорией и Сербией подписаны, а с Боснией и Герцеговиной (БиГ) парафировано соглашение о стабилизации и ассоциации с Евросоюзом. Он является основным экономическим партнером большинства Балканских стран. Членами НАТО вот-вот станут Албания и Хорватия.
Нет оснований считать, что Россия может либо хочет заменить Европейский союз в качестве донора наименее развитой в социально-экономическом отношении части европейского континента. Товарооборот со странами региона составляет 2–3 % российской внешней торговли. Никто в Москве не полагает, что можно помешать расширению ЕС, да таких попыток и не предпринималось. Не только в официальных инстанциях, но и даже в политических кругах, склонных к размышлениям в духе православно-славянской солидарности, отсутствует концепция, предполагающая создание на Балканах альтернативной организации или блока под эгидой России. Подобного рода мечтания остаются уделом маргиналов.
Западные поборники распространения Евросоюза и НАТО на Юго-Восточную Европу, рассматривая его в логике конфронтации и геополитического соперничества с Москвой, невольно выдают свои подспудные мотивы и недостаточный интерес к самому региону. Но для России Балканы ценны не сами по себе, а именно как зона начавшегося расширения ЕС, где еще есть возможность заблаговременно закрепиться. И можно не сомневаться в предпочтениях большинства российских компаний, если бы их попытки проникновения на рынки Западной либо Центральной и Восточной Европы не блокировались по политическим мотивам на правительственном уровне или даже по недвусмысленным сигналам из Брюсселя.
Таким образом, в России регион воспринимается скорее как поле экономической конкуренции, где она имеет некоторые сравнительные преимущества и видит незанятые ниши, причем главным достоинством считается европейское будущее Балкан. Поэтому экономическое наступление России в Юго-Восточной Европе вовсе не направлено против расширения Европейского союза. Интересы Москвы и Брюсселя в регионе вполне можно гармонизировать, будь на то добрая воля и желание считаться с Россией.
Однако концепция «энергетической безопасности», которая фактически трактуется Евросоюзом как безопасность от России, придала экспансии российских энергетических компаний на Балканы черты геоэкономического противоборства. Европейцам, естественно, обидно, что в последнее время Москва зачастую переигрывает их на этом поле. Но это лишь свидетельствует о сомнительной экономической обоснованности европейских предложений, в основе которых лежит прежде всего политическая логика: ослабить влияние Москвы на Кавказе и в Центральной Азии, получить рычаги давления на нее. Странно ожидать, что Россия будет пассивно наблюдать за попытками ее окружить и обесценить наиболее значимые экономические и политические активы.
Можно успокоить европейцев: играть в «царя горы» на Балканах Россия не собирается. В этой забаве европейцы столкнутся со своими заокеанскими союзниками. Те беспокоятся об «энергетической безопасности» Европы от России, похоже, больше самих европейцев, не считая при этом нужным согласовывать вопросы размещения своих баз и объектов ПРО не только с ЕС, но и с НАТО. Юго-Восточная Европа, несомненно, станет частью единой Европы, как только та сама будет к этому готова. В конечном счете там окажутся даже БиГ, Косово и Сербия, поскольку все они вряд ли рискнут остаться в стороне от общего движения. Только от Брюсселя зависит, когда это произойдет.
«СЕРБСКИЙ ВОПРОС»
Европейский союз сам постоянно усложняет себе задачу ошибочными политическими решениями. Так и нынешний «косовский кризис» европейцы создали собственными руками с американской подачи. Ведь если бы проблема статуса края решалась в момент приема в Евросоюз Сербии и Косово, обе стороны оказались бы гораздо более уступчивы и способны на компромисс. Но Брюсселю трудно разыгрывать роль благодетеля Белграда, проводя последовательно антисербскую политику и ослабляя позиции проевропейских сил в этой стране.
Победу Бориса Тадича в недавнем соперничестве за пост президента Сербии с минимальным преимуществом в 107 тыс. голосов на Западе поспешили представить как торжество европейского выбора. И что за охота обманывать себя? Ведь, по последним опросам, на предположительном референдуме о присоединении к Европейскому союзу сторонники интеграции вполне могли рассчитывать примерно на 64 % голосов. Между тем Брюссель навязал сербам другой, более тяжелый вопрос: какова цена присоединения к Европе? И на это социологи дают ясный ответ: более 70 % против того, чтобы быстрее вступить в ЕС в обмен на признание независимости Косово. Эта доля мало менялась с октября 2007-го по апрель 2008 года.
В результате президентских выборов страна разделилась почти пополам, затем раскол произошел в правительстве и правящей демократической коалиции. Их и без того хрупкое единство не выдержало испытание на прочность после провозглашения независимости Косово и ее признания европейскими государствами. У некоторых излишне самонадеянных европейцев в Белграде и Брюсселе возникло желание избавиться от мешающего им премьера Воислава Коштуницы с его «косовским синдромом».
Популярность стоящего за ним «народнического блока» (Демократическая партия Сербии и Новая Сербия) сейчас невысока. Между тем сербский премьер, при всей ограниченности его политических ресурсов, обладал незаменимыми качествами: он лишал националистов монополии на патриотизм, обеспечивая демократам алиби от обвинений в предательстве и лояльность влиятельной Сербской православной церкви. Когда на фоне событий вокруг Косово размежевание «демократов» и «националистов» сменилось фронтальным столкновением «европеистов» и «патриотов», вероятность прихода к власти националистической Сербской радикальной партии значительно возросла.
Она, правда, не смогла добиться предсказывавшейся всеми победы на внеочередных парламентских выборах 11 мая, уступив лидерство проевропейской коалиции Бориса Тадича. Но поспешное провозглашение очередного подтверждения европейского выбора Сербии оказалось с горьким привкусом. Обладателями «золотой акции» стали социалисты – партия покойного Слободана Милошевича. Для них союз с радикалами и блоком Воислава Коштуницы куда органичнее посулов «европеистов», вдруг забывших о былой брезгливости.
Весьма примечательна позиция российского руководства в связи с сербскими выборами, ясно обозначившая приоритеты Кремля. Если бы Россия была одержима соблазном геополитического соперничества с ЕС за Сербию, ей следовало бы отдать предпочтение Томиславу Николичу с его пророссийской риторикой. Однако приема на высшем уровне в январе удостоился не он, а его проевропейски настроенный соперник, которому пришлось заплатить за «российскую карту» в кармане договором с «Газпромом». Но в Москве решили не класть все яйца в одну корзину, и Николич добился встречи с наследником Владимира Путина. Российские власти недвусмысленно дали понять, что не только проповедуют прагматизм, но и действуют в соответствии с этими принципами.
Не менее существенно, что Москва воздержалась от попыток дестабилизировать ситуацию в Боснии и Герцеговине. Этого естественно было ожидать, задайся Кремль целью создать больше проблем западным партнерам в регионе. 26–27 февраля 2008 года в Брюсселе прошло малозаметное, но важное заседание Руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения в БиГ, куда входят не только западные, но и российские представители. Единогласно было принято заявление, в котором подчеркивалось, что ни одно из составляющих это государство образований (следовательно, и Республика Сербская) не имеет права на отделение. Одновременно были продлены полномочия Верховного представителя Мирослава Лайчака – высшей власти в этом международном протекторате, хотя его деятельность в последнее время вызывала недовольство боснийских сербов.
Запланированный в Вашингтоне и в Брюсселе сценарий «бархатной» ампутации Косово, возможно, и удастся реализовать. Сербские митинги протеста или уличные беспорядки в Белграде и на административной границе с Косово сами по себе не помеха для осуществления этого плана. Позиция сербских властей на деле оказалась очень осторожной. Они удержались от наиболее резких действий вроде экономического эмбарго, энергетической блокады либо активного подтверждения своей власти в населенной сербами северной части края. Похоже, в Белграде хотели бы ограничить противостояние по косовской проблеме политико-дипломатическим полем. Но как долго сербские лидеры смогут оставаться «непротивленцами», зависит не от них, а от степени народного возмущения. Чем бы ни закончились переговоры о формировании правительства, один результат известен заранее: раскол в стране и в парламенте сохранится. В этих условиях даже Тадич и его проевропейские сторонники вне зависимости от их желания еще долго не смогут пойти на признание косовской независимости.
Явно противореча собственной прежней риторике, умеренно повели себя и руководители Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. 21 февраля ее парламент принял резолюцию, в которой осуждается и не признаётся односторонне провозглашенная независимость Косово. Однако отделения Республики Сербской по примеру Косово, которым ее лидеры ранее шантажировали Вашингтон и Брюссель, не последовало. В принятом документе лишь сказано, что на такой шаг Республика Сербская пойдет при попытках изменить ее статус и полномочия против ее воли или же если власти БиГ вознамерятся признать независимость Косово. Поэтому не исключено, что собственно переходный период пройдет относительно спокойно. Но это не означает, что «сербский вопрос» решен.
Без согласия Сербии и России Косово не удастся добиться приема в ООН либо в ОБСЕ. Без решения ООН и миссия Европейского союза не будет легитимной. Договоренность с Сербией и Россией остается условием выхода из тупика. Возникшее смешение юрисдикций ООН, Евросоюза, властей Приштины и Белграда превращает территорию края в зону беззакония. Это будет порождать повседневные конфликты в таких жизненно важных вопросах, как границы, гражданство и имущественные права. Когда они вызовут массовые волнения сербов, антисербские погромы и окончательный исход сербов из края, остается только гадать.
Нынешняя линия Сербии, требующей восстановления ее «бумажного» суверенитета над Косово, безусловно, нереалистична. Вряд ли кто-то в Белграде либо в Москве всерьез рассчитывает на то, что США и ЕС захотят вернуть ситуацию назад. Между тем правящей сербской элите и в Белграде, и в Баня-Луке необходимо не просто спасать репутацию – она вынуждена бороться за самосохранение. Поэтому у Сербии осталась только одна запросная позиция, с которой возможен разговор об условиях и цене признания новой действительности. Раздел Косово, сначала фактический, а затем и юридический, видится единственно возможным компромиссом. Правда, из Вашингтона постоянно раздаются окрики о «недопустимости нарушения территориальной целостности Косово».
Столь откровенный цинизм свидетельствует лишь о том, что Соединенные Штаты менее всего хотели бы разрешения косовского кризиса. Европейский союз также волен и далее следовать нынешним курсом. Но рассчитывать на долговременную стабильность в регионе, превращая Сербию в подобие веймарской Германии, по меньшей мере, неосмотрительно.
У России нет оснований ни торопить своих сербских партнеров, ни идти навстречу партнерам западным, пока с их стороны не наблюдается встречного движения. Она уже заработала немалые дивиденды на созданном чужими руками кризисе и может заниматься этим впредь. Кремлю стоило бы выразить глубокую признательность Вашингтону и Брюсселю за их неоценимый вклад в укрепление позиций России на Балканах. Как отмечают не потерявшие здравомыслие западные наблюдатели, Москва останется в выигрыше при любом исходе косовского кризиса.
НЕЗАВИСИМОЕ КОСОВО И «АЛБАНСКИЙ ВОПРОС»
Тяжелым испытанием для европеизации Балкан окажется «албанский вопрос», который независимость Косово не закроет, а, напротив, обострит. Предоставление краю «зависимой» независимости не решает ни одной из серьезных проблем этой территории. Все они, начиная с демографических и социальных и заканчивая экономическими и политическими, тесно взаимосвязаны, образуя порочный круг. И ничто не позволяет предположить, что в обозримом будущем возникнет состоявшееся, экономически самодостаточное да еще и демократическое государство. В этом легко удостовериться, хотя бы ознакомившись со свежими докладами международной правозащитной организации Human Rights Watch или Европейской комиссии о ситуации в Косово, с отчетом ЦРУ об экономическом положении и уровне преступности в соседней Албании. При этом можно говорить о типологически общих проблемах двух названных территорий.
На европейские нормы поведения нелепо рассчитывать уже из-за «африканского» уровня рождаемости (коэффициент детности – 7,8; более половины населения моложе 25 лет; ежегодный прилив рабочей силы на рынок труда – 30 тыс. человек при населении около 2 млн человек). Большинство западноевропейских государств уже ощутили остроту этой проблемы в своих африканских и мусульманских пригородах, а Косово представляет собой одно такое большое «предместье». В отсутствие сколько-нибудь достоверной статистики оценки уровня безработицы варьируются от 45 до более 60 %, причем основная доля работающих занята в обслуживании международных миссий и в новоиспеченных государственных институтах.
Край, стабильно дотационный еще в социалистической Югославии, таковым и остался. Слабо развитая промышленность практически стоит. Экспорт равняется 3 % от импорта, а таможенные пошлины составляют 70 % доходов бюджета. 60 % населения проживает в деревне, но сельскохозяйственное производство, несмотря на плодородные земли и благоприятный климат, является в основном натуральным. Лишь 10 % хозяйств можно отнести к категории товарных производителей, да еще 15–20 % могут квалифицироваться как полукоммерческие. Косово аграрно перенаселено и трудоизбыточно. 47 % населения живет в бедности, а еще 13 % – в крайней нужде. Не случайно, по последним опросам, около 50 % молодых жителей хотели бы эмигрировать, хотя уже сейчас 17 % косоваров покинули родину.
Надежды на приток внешних инвестиций в новое государство явно преувеличены. Вряд ли возможна эффективная защита прав собственности в полукриминальном государстве, где, по данным Косовского имущественного агентства, с 1999 года накопилось более 30 тыс. требований о возврате незаконно захваченной недвижимости. За годы протектората ООН Косово приобрело репутацию европейского центра транзита наркотиков, контрабанды и торговли «живым товаром». По оценкам экспертов Евросоюза, ежегодный объем теневых операций составляет около 1 млрд евро и примерно равняется годовому бюджету. При очень низком уровне образования и квалификации рабочей силы, а также исключительной неразвитости инфраструктуры охотников вкладывать средства в экономику края найдется немного. Но даже если таковые обнаружатся, наиболее острых социально-экономических проблем это не решает. Потенциально перспективные инвестиционные объекты находятся в сфере энергетики и добычи полезных ископаемых – отраслях капиталоемких, но не предполагающих большого числа рабочих мест.
Независимое Косово надолго останется генератором региональной нестабильности. Социальное давление на власти новоиспеченного государства будет нарастать, а такого громоотвода, как борьба за суверенитет, уже не будет. Недолго роль объекта вымещения социально-политического недовольства суждено исполнять и национальным меньшинствам. 60 % косовских сербов, судя по опросам, хотели бы остаться в крае, но вся история сербо-албанского немирного сосуществования подсказывает, что окончательное выдавливание сербского населения – вопрос ближайшего времени.
Иллюзий на сей счет не строят и западные эксперты. Поэтому пытаться снижать внутреннюю напряженность руководство Косово будет на испытанных путях внешней экспансии. Европейцы, уступив угрозе насилия (главный и фактически не скрываемый ими мотив ускоренного предоставления краю независимости), сами провоцируют своих подопечных на продолжение столь высокорентабельной политики. И сами же станут ее объектом.
Даже если косовских лидеров и удастся удержать от подобных внешнеполитических шагов на государственном уровне, процесс неуправляемой внешней миграции, сопровождающийся албанизацией сопредельных территорий Македонии и Черногории, будет развиваться самопроизвольно. Однако интеграции албанцев при этом не происходит. Среди них практически нет смешанных браков. Их партии имеют строго этнический характер. В районах расселения албанцев за короткое время не останется представителей других национальностей, которые фактически вытесняются с этих земель. Так происходило и происходит и в Косово, и в Македонии, и в Черногории. Исходная причина – сохранившаяся у албанцев архаичная социальная самоорганизация (большая патриархальная семья, клан, непререкаемая лояльность этим институтам и традиционным нормам «обычного права», а не закону, не вполне изжитый институт кровной мести). Это и очень удобное средство этнической мобилизации, и идеальная матрица для любого криминального сообщества.
Такая внутренне сплоченная и герметично замкнутая по отношению к «чужакам» структура обеспечивает повышенную степень защиты и взаимопомощи, сводя к нулю шансы других противостоять ей в повседневной жизни. Для ставших нежелательными «инородных» соседей посредством постоянного и безнаказанного силового давления создаются невыносимые условия существования, что побуждает их покинуть враждебную среду. Одновременно им могут делаться коммерчески выгодные предложения, поскольку семейная и клановая солидарность, а также теневые доходы обеспечивают повышенные возможности привлечения финансовых ресурсов.
Все это свидетельствует о том, что албанцы живут в ином историческом времени, нежели другие народы региона, чем и объясняется неразрешимая сложность их совместного существования. Следовательно, после кратковременного затишья «албанский вопрос» вновь встанет со всей остротой в сопредельных государствах. Будет ли он поднят сознательно или стихийно, «сверху» или «снизу» – значения не имеет. В Сербии и России многие склонны считать независимое Косово потенциально «талибским» государством. Такие опасения не лишены оснований, учитывая налаженные на поприще наркоторговли «деловые отношения» с Афганистаном. Да и социально-экономические условия благоприятствуют тому, чтобы общественный протест у албанцев-мусульман принял радикально-исламистский характер. Правда, среди них есть и католики, и православные. Поэтому аналогии с Сицилией более уместны. Но вряд ли кому-то будет в этом случае легче.
Формальное сохранение сербского суверенитета над Косово, конечно, не решало проблем края, но и не мешало его развитию. Сербские власти не претендовали на многое. Их последнее компромиссное предложение – статус по образцу Гонконга – вполне позволяло ЕС взять на себя активную роль в «европеизации» Косово, отложив до лучших времен наиболее болезненный, но сугубо символический вопрос о независимости. Изменив логичную очередность решения проблем, занявшись государственным строительством вместо модернизации последнего островка архаики на континенте, Европа ничего не выиграла. Она лишь существенно повысила издержки своего «косовского проекта», превратив локальную задачу в серьезную международную проблему с долговременными негативными последствиями.
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЕВРОПУ» БЕЗ «ЕВРОПЕИЗАЦИИ»
Даже после того как Западные Балканы станут частью Европейского союза, условная линия, отделяющая их от «старой» Европы, сохранится надолго. Брюсселю придется иметь дело еще с одной «новой» или, вернее, теперь уже «новейшей» Европой. Внешнеполитически она будет ориентирована на США и в большей мере, чем государства Центральной и Восточной Европы, служить орудием Вашингтона для разрыхления европейского единства и обуздания Евросоюза как самостоятельной политической и военной силы. В этом смысле независимое Косово, как источник управляемого «замороженного конфликта» и «стабильный дестабилизатор» ситуации в регионе, является для Соединенных Штатов отличным инструментом сохранения своего влияния на стратегически важном перекрестке между Средиземноморьем и Черноморьем, между Европой и Ближним Востоком.
Сколько времени потребуется странам Юго-Восточной Европы для преодоления социально-экономического отставания, можно только гадать. Даже Греция, давно состоящая в ЕС и не имевшая тяжелого наследия тоталитаризма (правление «черных полковников» было непродолжительным), пока не смогла повторить успех не только Ирландии, но и даже Испании.
Не менее сложным будет и процесс внутриполитической «европеизации». Утверждение в странах региона основ политической демократии уже можно считать немалым достижением. Но от европейского образца эти государства еще очень далеки. Повсеместная коррупция не просто серьезный порок государственного механизма, а социальная болезнь, являющаяся проявлением господствующих в обществе патрон-клиентских отношений. Проблематична независимость судебной власти и ее эффективность. Свобода прессы постоянно является предметом политических и общественных баталий.
И неразвитость внутрипартийной демократии, и «вождистский» характер многих партий, и предельно низкий уровень доверия к ним в обществе показывают, что консолидация несовершенной партийной системы достаточно условна. Политическая жизнь развивается в унаследованных от прошлого координатах, когда определяющим фактором остается раскол на посткоммунистов и их противников. Местной спецификой является «двух с половиной партийная» система. Роль условной «половины», не раз предрешавшей расстановку сил, судьбу кабинетов, а иной раз (как в Черногории) и государства, выполняют этнические партии национальных меньшинств (в этом смысле характерен правительственный кризис в Македонии, случившийся вскоре после провозглашения независимости Косово и вызванный позицией албанской партии). Настораживают крайне невысокий авторитет всех государственных и общественных институтов, кроме церкви и армии, и рост влияния национал-популистских течений антисистемной оппозиции.
Внешние факторы – европейский пример и прямое воздействие Брюсселя, компенсирующие недостаточность внутренних ресурсов демократии, – являются эффективными, пока перспектива приема в Европейский союз считается главным орудием влияния. Однако Евросоюз, сделав допуск в свои ряды инструментом политики умиротворения, вынужден смягчать критерии для не вполне созревших кандидатов и ускорять интеграцию. Поэтому расширение ЕС на Балканы становится еще более политически мотивированным и еще менее социально-экономически оправданным, чем в случае принятия в свои ряды стран Центральной и Восточной Европы. Соответственно возрастает и цена этого расхождения между формальным «возвращением в Европу» стран региона и их подлинной «европеизацией». А Европейскому союзу предстоит очень тяжелая работа по адаптации «вернувшихся», чреватая проблемами для всего сообщества.

Великобритания: после захода солнца
© "Россия в глобальной политике". № 6, Ноябрь - Декабрь 2005
А.А. Громыко – д. полит. н., руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН.
Резюме Исчезновение империи, «над которой никогда не заходило солнце», вызвало надлом в английском самосознании, лишило его привычной целостности.
В 1962 году мир обошла фраза Дина Ачесона, бывшего госсекретаря, а в то время советника президента США: «Британия утратила империю и не нашла новой роли в мире». Кризис идентичности, постигший страну во второй половине прошлого века, дает себя знать до сих пор. Исчезновение империи не только обусловило внешнеполитическую растерянность Лондона, которому пришлось в исторически очень сжатые сроки выстраивать новую систему приоритетов на мировой арене, но и вызвало надлом в национальном самосознании, потерявшем привычную целостность. Многие из нынешних проблем британского общества уходят корнями не в столь уж давнее имперское прошлое, являясь порождением психологического стресса, пережитого нацией, которая привыкла ощущать себя супердержавой.
PAX BRITANNICA
Своеобразное геополитическое положение Соединенного Королевства, отделенного от континентальной Европы узким проливом, всегда служило важным фактором его развития. Окружающий страну океан не столько защищал ее от иностранного нападения, сколько способствовал территориальному расширению, будучи не преградой, а проводником устремленности британцев вовне. В XVI–XVIII веках сложилась невиданная по размаху и мощи империя, над которой «никогда не заходит солнце». В XIX столетии она владела колониями на пяти континентах, на ее территории проживало 500 миллионов человек.
Империя не рассматривалась британцами исключительно как источник наживы и механическая сумма отдаленных территорий, которые Лондон контролировал силой. Ее воспринимали как взаимосвязанную корпорацию. Границы самой метрополии носили промежуточный, второстепенный характер; именно внешние рубежи империи очерчивали мир, в котором британцы долгое время чувствовали себя как дома. Империя имела для них экзистенциальный смысл, определяла их мироощущение, к ней относились как к живому организму, вызывавшему особые чувства.
Империя являла собой ключевой фактор не только внешней, но и внутренней жизни метрополии, поддерживала в ней социальное спокойствие, заставляя представителей всех слоев общества чувствовать себя членами великой нации избранных. Став для англичан символом величия, их гордостью, неотъемлемой частью национального самосознания, империя в то же время воспринималась как нечто обыденное, свойственное естественному порядку вещей. До середины XX века выезд из Великобритании в колонии, протектораты, доминионы и зависимые территории намного превышал въезд. Коренные британцы охотно жили там годами и поколениями, будучи военными, чиновниками, миссионерами и пр.
Во второй половине XIX столетия, во времена, отмеченные деятельностью таких личностей, как Бенджамин Дизраэли, Джозеф Чемберлен и Сесил Родс, Британская империя находилась на пике своего могущества. Тогда-то и сформировалось представление о «бремени белого человека» как моральное оправдание имперского правления. В глазах большинства британцев того периода управление империей являлось хотя и драгоценной, но тяжелой ношей, требовавшей, помимо материальных и физических затрат, таких качеств, как чувство долга, альтруизм и самопожертвование.
Со временем британцы стали относиться к своей империи как к явлению вечному и непреходящему. Имперский менталитет, то есть мышление в глобальных категориях свободного перемещения людей, финансов, товаров и услуг, просвещенческий мессианизм, снисходительное отношение к другим народам, ощущение англосаксонской исключительности, в значительной степени свойствен им и по сей день.
Считалось, что в общеисторическом контексте империя внесла бесценный вклад в мировое развитие, освободив многочисленные народы от варварства. Многие политики, особенно консервативного толка, вплоть до середины XX века утверждали, что Британская империя – это наиболее эффективный из известных инструментов распространения демократии. (Как в данной связи не вспомнить аргументы современных сторонников неоимперской политики, обслуживающих интересы единственной сверхдержавы!)
Планы либерализации режима колониального правления разрабатывались уже с середины XIX столетия. Правящие элиты не почивали на лаврах, а прилагали усилия по модернизации. К 1914 году британские доминионы Канада, Австралийский Союз (Австралия), Новая Зеландия и Южно-Африканский Союз пользовались широким самоуправлением, а Вестминстерский статут, принятый в 1931-м, еще больше расширил их самостоятельность. (Доминионы – государства в составе Британской империи, позднее Британского содружества наций, первоначально заселенные в основном европейцами и добившиеся самоуправления, в отличие от колоний, где население небританского происхождения управлялось чиновниками из метрополии. Официально термин утвержден Имперской конференцией 1926 года, указавшей, что Соединенное Королевство и доминионы являются автономными сообществами в рамках империи, равными по своему статусу и не подчиненными друг другу в своих внутренних и внешних делах. В 1947-м термин «доминион» был заменен термином «член Содружества», что, однако, не изменило там форму власти. – Ред.)
Начиная с этого времени британские законы вступали в силу в доминионах только с согласия последних, а законы, инициировавшиеся на местах, больше не нуждались в одобрении Лондона. Годом позже на Оттавской конференции была принята система имперских преференций, защитившая рынки ввозными пошлинами. В 1935 году получил одобрение либеральный Закон об управлении Индией. Сложилась концепция Содружества как новой формы отношений между метрополией и доминионами, а затем и всеми бывшими колониями Британии. (По мере распада британской колониальной системы на смену понятию «Британская империя», официально употреблявшемуся с 1870-х, пришло понятие «Британское содружество наций». С 1947 года – «Содружество» (Commonwealth). В настоящее время Содружество не выступает как единый актор на международной арене. Связи между его государствами-членами носят скорее символический характер, при этом каждая страна пользуется безоговорочным правом одностороннего выхода из объединения. Особое положение Великобритании в Содружестве определяется не юридическими нормами, а политическими и экономическими отношениями между ней и соответствующими странами. – Ред.)
Тем трагичнее воспринимались постепенное угасание, упадок империи, ставшие необратимыми в результате новой расстановки сил после Второй мировой войны. Даже в середине XX века, в самый разгар деколонизации, около четверти всего экспорта и импорта Великобритании приходилось на ее имперские владения. А если учесть другие дивиденды – престиж, многочисленные военные базы и коммуникации, то легко представить себе масштабы смятения в головах британских политиков, вынужденных в 1940–1960-е расставаться со всем этим добром.
В 1947 году Индия, «жемчужина в короне Британской империи», обрела независимость. Это событие «открыло шлюзы», однако поначалу значительная часть лондонского истеблишмента все еще считала, что этой потерей можно ограничиться. В Форин оффисе рассматривалась идея создания блока западноевропейских стран, лидирующая роль в котором отводилась Великобритании со всеми ее владениями и который мог бы на равных соперничать с СССР и США. Уинстон Черчилль выступил с концепцией «трех кругов», опоясывающих Британию. Первый круг, или сфера, – это империя, второй – США, Канада и другие английские доминионы, третий – континентальная Европа. «…Мы являемся единственной страной, которая играет великую роль в каждой из сфер. Фактически мы – главный центр связи… мы имеем возможность объединить все три сферы», – писал Черчилль. А после прихода консерваторов к власти в 1951-м он заявил, что выиграл выборы не для того, чтобы «председательствовать при закате Британской империи».
Последние иллюзии о возможности сохранить империю развеял Суэцкий кризис 1956 года. Именно тогда бЧльшая часть британского политического класса окончательно осознала, что претензии на сохранение статуса глобальной державы не подкреплены ни экономической, ни финансовой, ни военной мощью.
В 1960-м, когда была провозглашена независимость сразу 17 государств африканского континента, премьер-министр Великобритании Гарольд Макмиллан, выступая в Кейптауне, признал неизбежность деколонизации. В 1964 году новый глава правительства Гарольд Вильсон еще заявлял, что границы Британии «проходят по Гималаям», однако уже в 1967-м на фоне экономических проблем и девальвации фунта стерлингов кабинет объявил о выводе британских войск «к востоку от Суэца». После этого оставалось вести лишь «арьергардные бои» – решать родезийскую проблему, а потом уходить из Гонконга.
В стране, жители которой прежде отличались монолитным ощущением принадлежности к метрополии, произошла трансформация самого понятия «британство», начавшего с небывалой интенсивностью дробиться на английскую, шотландскую, валлийскую и ирландскую составляющие. Кроме того, Великобритании был брошен еще один вызов – необходимость по-новому строить отношения в треугольнике Британия – Европа – США.
Менялись и другие аспекты мировосприятия. Культурная парадигма, заданная викторианской Англией, уступала место неприятию конформизма, новым представлениям об общественной морали, искусстве, отношениях между полами, человеческой индивидуальности. С новой силой зазвучали многие пассажи из эссе Мэтью Арнолда «Культура и анархия» (Matthew Arnold. Culture and Anarchy. 1869), критиковавшего англичан за излишний прагматизм и филистерство и призывавшего их к более широкому, «европейскому» взгляду на вещи. В 1970-е годы страна столкнулась с социально-экономическими проблемами, Британию стали именовать «больным человеком Европы». До этого так называли Францию в годы послевоенной правительственной чехарды, а еще раньше – Османскую империю на закате ее существования.
Однако никакие перипетии развития не стерли из исторической памяти жителей Альбиона воспоминания о Pax Britannica. Это стало очевидным в 1982 году, когда вспыхнул британо-аргентинский вооруженный конфликт из-за Фолклендских островов. По сути, эта война, которую можно рассматривать как защиту британской заморской территории от нападения извне, была справедливой. Однако само отношение к этому конфликту, сопровождавшая его риторика, возрождение джингоизма (приверженность крайним шовинистическим воззрениям, агрессивный, воинствующий патриотизм. Данный термин, впервые появившийся в конце 1870-х, произошел от английского слова jingo – «джинго», кличка английских шовинистов. – Ред.) продемонстрировали стремление англичан показать всему миру, что Великобритания не просто европейское государство, а по-прежнему великая держава.
Однако фолклендский «всплеск» не получил продолжения. На самом деле Британия уже не только не могла, но и не желала чувствовать себя наследницей империи. Несмотря ни на что, отношение британцев к окружающему их миру изменилось. В противовес постимперскому синдрому, время от времени все-таки дававшему себя знать, начал формироваться комплекс «маленькой Англии» – ощущение уязвимости своей страны перед внешними опасностями и стремление во что бы то ни стало оградиться от них. Одним из признаков такой трансформации стало нарастание враждебности к иностранцам, особенно цветным, появление в стране националистических, шовинистских настроений.
БРЕМЯ НАЦИОНАЛ-ШОВИНИЗМА
В 1968 году лидер консерваторов Эдвард Хит вывел из состава «теневого кабинета» видного консервативного политика Инока Пауэлла за некорректные высказывания в адрес иммигрантов из бывших британских колоний. Выступая в Бирмингеме, Пауэлл сравнил Британию с Древним Римом, павшим под натиском варваров. «Словно римлянин, – патетически восклицал он, – я вижу воды Тибра, бурлящие кровью». (По прогнозам, именно Бирмингем, характеризующийся значительным культурным многообразием, станет в 2007-м первым городом в Великобритании, где цветные жители, в первую очередь мусульмане, превысят по численности белых.)
Несмотря на крушение политической карьеры Пауэлла, «твердая позиция» по вопросам иммиграции стала с тех пор одной из отличительных черт политики Консервативной партии. Хотя в целом представителям британского истеблишмента удавалось не переступать грань политической корректности, скандалы, связанные с расистскими высказываниями то одного, то другого политика, случались не раз. В 1979 году предвыборный манифест Консервативной партии содержал обещание ужесточить политику в отношении иммигрантов и этнических меньшинств.
Иммиграционный контроль за лицами, приезжающими из государств Содружества, был введен в 1962-м и усилен в 1971 году. После принятия в 1981-м и 1987-м законов об иммиграции нахождение в стране сверх установленного срока стало уголовно наказуемым. Закон 1996 года усложнил правила выплаты социальных пособий определенным категориям переселенцев. Фактически это означало отказ от старой доброй традиции, коренящейся в идее «бремени белого человека», его ответственности перед колонизованными народами.
Вплоть до конца 1980-х этнические меньшинства не имели своих представителей в британском парламенте. Лишь на выборах 1987 года от лейбористов избираются четыре депутата с черным цветом кожи. В 1997-м от трех ведущих партий было выставлено 42 кандидата, относящихся к этническим меньшинствам (13 – от лейбористов, 10 – от консерваторов и 19 от либерал-демократов). На следующих всеобщих выборах – 66 (соответственно 22, 16 и 28). Лишь два депутата представляли интересы мусульманской общины. К началу 1990-х годов в Британии стали говорить о смерти идеалов Содружества, о том, что дискриминация по расовому и национальному признаку приняла в стране институциональный характер.
Лейбористы, сменившие консерваторов в 1997-м, более благосклонно относились к выходцам из стран Третьего мира, главным образом бывших британских колоний, но здесь сказались не столько рудименты имперского мышления, сколько демократические идеалы и электоральные императивы. Вместе с тем ужесточение подхода лейбористов к проблеме иммиграции в последние годы, война в Ираке оттолкнули от лейбористского правительства многих представителей этнических меньшинств, особенно мусульман. Именно этим фактором в значительной степени объясняются потери правящей Лейбористской партии на довыборах в 2004–2005 годах.
Влияние имперского прошлого особенно заметно в деятельности современных ультраправых движений. После Второй мировой войны в их агитации на первый план вновь, как когда-то, вышла имперская тематика и идея «бремени белого человека». Однако если раньше в основе подобных настроений лежало ощущение снисходительного превосходства над туземными народами, то с началом болезненного распада империи их сменили враждебность, неприязнь и агрессия.
Откровенную шовинистическую риторику использовали несколько политических движений. В 1967 году в результате объединения ряда организаций был образован Национальный фронт (National Front, NF). Национал-популизм NF нашел отклик главным образом в среде городских неквалифицированных рабочих. Пик популярности NF пришелся на конец 1970-х, когда его численность достигла 20 тысяч человек. В следующее десятилетие популярность NF несколько снизилась в связи с тем, что ура-патриотическую риторику перехватила Маргарет Тэтчер.
Тогда же о себе заявила Британская национальная партия (British National Party, BNP), пользующаяся репутацией расистской организации. Питательной почвой для роста ее популярности оказалось враждебное отношение к иностранцам, но если раньше проявление шовинизма и расизма представляло собой реакцию на проблемы, связанные с распадом Британской империи, то теперь оно было обусловлено новым испытанием для британского самосознания – процессами глобализации, которые привели в движение большие массы людей.
BNP выступает за прекращение «провалившегося», по ее мнению, мультиэтнического эксперимента и позиционирует себя как защитницу коренных британцев от проводимой «новыми лейбористами» политики «культурного обезличивания». «Если нынешняя демографическая тенденция продолжится, – говорится на сайте организации, – то мы, коренные британцы, через 60 лет превратимся в этническое меньшинство в собственной стране. Мы призываем к незамедлительному прекращению всякой иммиграции, к депортации незаконных иммигрантов и введению системы добровольного переселения для законных иммигрантов… Мы запретим “позитивную дискриминацию”, которая превратила белых британцев в жителей второго сорта».
К 2004 году присутствие BNP на политической сцене стало настолько заметным, что представителям трех ведущих партий пришлось провести серию консультаций для координации действий, направленных против ультраправых. Если в 1997-м на выборах в британский парламент свои голоса отдали BNP около 50 тысяч человек, то в 2005 году – уже свыше 200 тысяч. Популярности организаций, подобных BNP, способствовали беспорядки на расовой почве в истекшие десятилетия. В последний раз межэтнические столкновения, нередко провоцируемые ультраправыми, прокатились по городам Северо-Западной Англии в 2001-м. В Лидсе причиной беспорядков послужил арест одного бангладешца, в ходе которого полиция, по словам очевидцев, проявила чрезмерную грубость. В столкновениях азиатской молодежи со стражами порядка не обошлось без баррикад из горящих автопокрышек и «коктейля Молотова».
Главные лозунги ультраправых – запрет иммиграции и защита этнической чистоты коренных британцев – перемежались с проявлениями враждебности к Европейскому союзу. В этом BNP и близкие ей движения смыкались с партиями антиевропейской направленности.
Тем не менее очевидно: несмотря ни на что, демографические и миграционные тенденции неизбежно приведут к тому, что политический вес выходцев из бывших британских колоний и протекторатов возрастет, причем их позиции будут становиться все более самостоятельными.
МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И США
В 1950–1960-е годы в Британии доминировала точка зрения, согласно которой, чтобы компенсировать потерю империи и влияния, Лондону необходимо было стать «особым партнером» заокеанского соседа. Когда в годы холодной войны США и Европа объединились во имя противостояния общему противнику, Британия выстраивала с ними не альтернативные, а взаимодополняющие отношения.
Однако окончание холодной войны подтолкнуло страны – участницы интеграции к самоутверждению в качестве самостоятельного игрока на мировой арене. Со времени прихода к власти в США Рональда Рейгана, который положил конец американскому либеральному проекту так же решительно, как Маргарет Тэтчер уничтожила политический консенсус в Великобритании, европейская и американская модели развития все больше расходились. Современное европейское мировоззрение основано на философских и социологических коммунитарных теориях Юргена Хабермаса, Эмиля Дюркгейма, Ричарда Тоуни, Джона Роулса и Джона Кейнса и имеет мало общего с индивидуалистическими традициями американского консерватизма, опирающимися на идеи Роберта Нозика, Лео Штраусса, Ирвинга Кристолла, Дэниела Патрика Мойнихэна и Томаса Фридмена.
После окончания эпохи тэтчеризма Британия вновь задалась вопросом: может ли она одновременно быть и европейской, и англосаксонской страной? В начале XXI века, особенно на фоне ситуации в Ираке, значительная часть интеллектуальной и деловой элиты Британии остро ощущает шаткость положения страны, одной ногой стоящей в США, а другой – в Европе. Европеизации Британии сопротивляются в основном правые круги политической элиты и часть военного истеблишмента. Хотя процесс европейской интеграции приостановился вследствие провала ратификации евроконституции, время принципиального выбора для Великобритании приближается. Стране долго удавалось балансировать на краю внутрицивилизационного надлома, однако, когда он становится все больше похож на разлом, необходимо определяться.
Большинство британских политиков считают «особые отношения» с США исчерпавшим себя проектом. Однако проблема состоит в том, что англичане, составляющие 80 % населения страны, настороженно относятся и к Европе. Это усиливает нерешительность лейбористов и подпитывает антиевропейские настроения Консервативной партии. Растет спрос на популистские движения, опирающиеся на два взаимоисключающих свойства английской самоидентификации: с одной стороны, неспособность смириться с падением глобальной роли Британии, с другой – комплекс уязвимой «маленькой Англии».
В 1993 году на британскую политическую сцену явилась под лозунгом выхода страны из Европейского союза Партия независимости Соединенного Королевства (UK Independence Party, UKIP). Эта организация – политическое воплощение агрессивного и популистского аспектов английского национализма, она опирается как раз на тех, кто страдает комплексом «маленькой Англии». Ее идеологи усматривают главный источник опасности в евробюрократии, подтачивающей суверенитет страны; их излюбленные лозунги – «Кто правит Британией?», «Вернем британцам родину!», «Восстановим контроль над нашими границами!».
UKIP с готовностью эксплуатирует ксенофобию, исторические обиды и уничижительные национальные стереотипы, избрав демагогию в качестве главного орудия агитации. Популярность UKIP показывает, что подспудное неприятие иностранцев – явление достаточно массовое в Британии. То же самое продемонстрировал и опрос, проведенный социологами из агентства MORI в марте 2001 года: 71 % респондентов поддержали идею проведения референдума о выходе Британии из состава ЕС, 52 % выразили готовность проголосовать за такой шаг.
Так же как и в других популистских движениях Британии, включая BNP, ведущую роль в UKIP играют не маргиналы, а представители истеблишмента. С 2002-го партией руководит Роджер Кнапман, который в 1987–1997 годах представлял в парламенте Консервативную партию, занимал высокие министерские и партийные посты, в частности был «партийным кнутом» (party whip – организатор работы партийной фракции в парламенте, в обязанности которого входит поддержание дисциплины, обеспечение голосования в соответствии с «генеральной линией» и т. д. – Ред.).
Однако наиболее известный деятель UKIP – Роберт Килрой-Силк, который, в отличие от большинства видных евроскептиков, вышел из рядов Лейбористской партии. За его плечами диплом Лондонской школы экономики, преподавательская работа в университете, многолетняя деятельность в парламентской фракции лейбористов, а затем успешная карьера телеведущего.
Эксплуатируя глубинные страхи обывателя, Килрой-Силк умело трансформировал свою известность в политический капитал. Газеты окрестили его «британским Берлускони», претендующим на роль защитника «простого человека» от «продажных политиков», «незваных иностранцев» и «брюссельских бюрократов». За Килрой-Силком стоят такие фигуры, как, к примеру, магнат Ричард Десмонд – владелец медиагруппы Express (газеты The Express, The Sunday Express и The Star).
Популярность UKIP обусловлена не столько политической конъюнктурой, сколько проблемами, связанными с самоидентификацией британцев в условиях деволюции – постепенной федерализации государственного устройства страны – и европейской интеграции, совпавших с всеобщим недовольством политическим истеблишментом, непоследовательным европеизмом лейбористов и продолжающимся кризисом Консервативной партии.
БРИТАНИЯ НАЕДИНЕ С СОБОЙ
Помимо «трех кругов», о которых в свое время говорил Уинстон Черчилль, у Британии имелось и четвертое, внутреннее измерение – сфера первоначальной экспансии Англии, вовлекшей в свою орбиту Ирландию, Уэльс и Шотландию. Сплав этих составляющих и стал ядром британства. Недаром эпос о короле Артуре и рыцарях Круглого стола имеет кельтское происхождение, и если Ланселот и Гвиневьера – персонажи древних англосаксонских сказаний, то Тристан и Изольда – это опять же герои кельтского фольклора (Друстан и Ессилт).
В то время как регионы «кельтской периферии» обладали широкой автономией, сердцем Великобритании всегда оставалась Англия, а англичане составляли государствообразующую нацию. Английский национализм не был ни этническим, ни разъединяющим, а выполнял гражданскую, интегрирующую функцию. Британская империя представляла собой не что иное, как воплощение английского мессианизма и английского видения международного устройства. Распад империи привел к фундаментальному сдвигу в самосознании британских граждан. Активизировались национальные движения, все большее число людей ощущали себя не британцами, а шотландцами, валлийцами, ирландцами. По опросам общественного мнения, даже в Англии лишь треть населения считает себя в первую очередь британцами.
Факторы, долгое время объединявшие жителей страны (протестантизм, превосходство британских институтов власти, монархия, империя), переставали работать. Известный британский мыслитель Дэвид Маркуэнд назвал идею «британства» в ее традиционном виде анахронизмом.
Если раньше доминировала точка зрения о Великобритании как об однородном государстве, то в последние десятилетия англоцентристская версия британской истории подверглась критике. Фрагментация британского самосознания ускорилась в результате реформ «новых лейбористов», направленных на расширение региональной автономии. Ряд британских интеллектуалов сделали вывод о том, что центробежные процессы однозначно приведут к дезинтеграции страны. Так, шотландский исследователь Том Нейрн утверждает: лейбористы глубоко заблуждаются, полагая, что деволюция остановит рост национализма. Только отделившись друг от друга, Англия и Шотландия обретут жизнеспособную постимперскую идентификацию. Другие, признавая факт подспудной федерализации государства, не усматривают в этом опасность для ее территориальной целостности. «Миф о “единой и неразделимой” британской нации показывает, как Британия воспринимала себя в прошлом, – пишет специалист по Шотландии Джеймс Митчелл. – Новый миф об особости Шотландии искажает реальность не меньше». Характерно, что с 2001-го слово «Британия» в названии ежегодника Государственного бюро национальной статистики было заменено на «Соединенное Королевство».
Нынешнее лейбористское правительство убеждено в необходимости сохранить единство Великобритании путем дальнейшей модернизации ее конституционного устройства, развития культурного многообразия. Немало и тех, кто видит путь к сохранению целостности в установлении республиканской формы правления взамен монархии, переставшей служить символом единства нации.
Процесс обособления различных частей страны вряд ли обратим, однако вовсе не обязательно рассматривать это как трагедию. Англия достаточно либеральная страна, чтобы избежать местечкового национализма. Возможно, что единство в долгосрочной перспективе будет сохранено именно благодаря развитию федерализма. Однако движение от крупных и гетерогенных политических и культурных образований к более мелким и однородным может усилить опасность идентификации на основе этнических и религиозных принципов.
***
В свете трагических событий в Лондоне в июле 2005 года, организаторами которых были не иностранцы, а натурализованные и даже выросшие в Британии мусульмане, особенно остро встал вопрос о том, что такое британская нация, как соотносятся интеграция и ассимиляция, жизнеспособна ли концепция мультикультурализма. В Британии неожиданно появились свои «лица кавказской национальности» – мусульмане. А ведь совсем недавно, в 2002-м, девять из десяти жителей страны считали, что британец необязательно должен быть белым, четверо из пяти – что необходимо уважать права этнических меньшинств.
Как теперь изменятся общественные настроения? Как реанимировать британство, и прежде всего чувство сопричастности и доверия друг к другу, если в обществе царит атмосфера всеобщей подозрительности, а за жизнью британцев на улицах, в магазинах и банках, аэропортах и общественном транспорте наблюдают более четырех миллионов камер слежения? Хочется верить, что Великобритания не поддастся культурной автаркии и ксенофобии, не растеряет свое многообразие и не откажется от диалога культур и образов жизни. То есть останется такой, каковой в эпоху своего расцвета была Британская империя.

После затишья: Россия и арабский мир на новом этапе
Владимир Евтушенков
© "Россия в глобальной политике". № 3, Май - Июнь 2005
В.П. Евтушенков – президент АФК «Система», член бюро правления и руководитель Комитета по промышленной политике РСПП, председатель Российско-арабского делового совета, член попечительского совета журнала «Россия в глобальной политике».
Резюме После распада СССР Москва значительно утратила интерес к арабскому миру. Сегодня, по мере стремительного возрастания общемировой геополитической значимости Ближнего Востока, там открываются и принципиально новые экономические возможности. Россия возвращается в этот регион в лице не только государственных ведомств, но и частных корпораций.
Ближний и Средний Восток всегда вызывал к себе повышенный интерес. Сегодня он и вовсе мог бы возглавить рейтинг внимания великих держав к регионам планеты – ведь на этой огромной, многонаселенной и богатой природными ресурсами территории сосредоточено особенно много «болевых точек», имеющих отношение к глобальным проблемам человечества. Исключительно актуальны здесь вопросы, связанные с безопасностью, угрозой терроризма, растущим спросом на энергоносители. Не случайно именно данный регион оказывался в последние годы объектом наиболее масштабных международных инициатив. Достаточно вспомнить план Соединенных Штатов по демократическому переустройству «Большого Ближнего Востока», нашедший затем отражение в инициативе «большой восьмерки» по «расширенному Ближнему Востоку», а также различные проекты Организации Объединенных Наций, направленные на стимулирование развития, на попытки ликвидировать бедность и неравенство. Развитие событий со всей очевидностью продемонстрировало: ни одна держава, даже столь мощная, как США, не способна в одиночку справиться с проблемами, возникающими в этом ключевом регионе.
СУДЬБА СОВЕТСКОГО НАСЛЕДИЯ
Россия на Ближнем и Среднем Востоке не просто сторонний наблюдатель – она пользуется здесь большим уважением. Благодаря советским кредитам и технической помощи арабские страны имели возможность возводить крупные объекты инфраструктуры, энергетики, металлургии, оборонной промышленности, содержать хорошо вооруженные и обученные национальные армии.
Так, основу египетской экономики и поныне составляют промышленные предприятия, построенные с помощью советских специалистов при президенте Гамале Абдель Насере. Это прежде всего высотная Асуанская плотина, Хелуанский металлургический комбинат, алюминиевый завод в Наг-Хаммади, комплекс по производству фосфатов в Абу-Тартуре, судоверфь в Александрии и многие другие – всего около ста объектов.
Серьезное содействие Москва оказала Алжиру, в результате чего там начали развиваться такие отрасли, как энергетика, горно-добывающая и металлургическая промышленность, машиностроение, водное хозяйство и др. При поддержке СССР сооружены металлургический завод в Эль-Хаджаре, металлургическое предприятие в Аннабе, теплоэлектростанция в городе Жижель, газопровод Альрар – Тинфуйе – Хасси-Мессауд, плотина Бени-Зид и др.
В рамках сотрудничества с Ираком заключались крупные контракты по обустройству нефтепромыслов на юге страны, построены газопровод Насирия – Багдад, ТЭС «Юсифия» и ряд других объектов. С 1990 года, после введения Советом Безопасности ООН экономических санкций в отношении Ирака, бЧльшая часть контрактов оказалась заморожена.
В Ливии построен Центр атомных исследований «Таджура», сооружены линии электропередач, газопровод, пробурено около 130 нефтяных эксплуатационных скважин; проведены почвенные, геоботанические и экологические исследования на площади 3,5 млн га; разработаны схемы развития газовой промышленности, электросетей высокого напряжения и предприятий машиностроения; подготовлено технико-экономическое обоснование для второй очереди металлургического комплекса в городе Мисурата (1,67 млн т в год с возможностью расширения до 5 млн т).
Созданные и эксплуатируемые при нашем содействии объекты играют важную роль и в экономике Сирии, обеспечивая стране выработку около 22 % электроэнергии, добычу около 27 % нефти и орошение свыше 70 тыс. га засушливых земель. Каскад гидроэлектростанций на реке Евфрат, гидроузлы «Аль-Баас» и «Тишрин», около 1,5 тыс. км железных дорог, 3,7 тыс. км высоковольтных ЛЭП, ирригационные и водохозяйственные объекты, нефтепродуктопровод Хомс – Алеппо, завод азотных удобрений в Хомсе, ряд центров профтехобразования – все это построено главным образом в счет предоставленных советских государственных кредитов.
Арабские страны (Египет, Сирия, Алжир) расплачивались за советские госкредиты потребительскими товарами, которые почти целиком производил местный частный сектор. Поэтому в ряде стран арабского мира становление и укрепление национального производственного капитала происходило в значительной степени за счет работы на предельно емкий и стабильный советский рынок.
Наша страна традиционно получала из арабских стран продовольственные товары: цитрусовые, фрукты, консервы, кондитерские изделия. Неизменным спросом пользовались парфюмерно-косметические изделия, в частности египетские духи «Нефертити» и «Клима», хлопчатобумажные ткани, сирийский текстиль: портьеры, тюль, гипюр, кримплен.
Однако с началом драматических перемен в нашей стране все эти процессы, по сути, остановились. Новые подходы, реализуемые после развала СССР в управлении государством и народным хозяйством, обусловили стремление Москвы искусственно отгородиться от ряда традиционных союзников СССР, что особенно ярко проявлялось в первоначальный период прозападной эйфории. Впоследствии отношения с некоторыми арабскими странами омрачились политическими разногласиями в связи с ситуацией на Северном Кавказе.
В результате после событий 1991-го экономические связи с арабским миром были большей частью заморожены или свернуты. Колоссальный совместный потенциал, наработанный за предшествующие годы, оказался почти невостребованным. Государство ушло из сферы торгово-экономических отношений с этими странами, а частный российский капитал долгое время не мог демонстрировать готовность к возвращению на традиционные рынки. Да и опыта взаимодействия даже со старыми партнерами – представителями арабского национального капитала – новым российским бизнесменам подчас не хватало, как не хватало ни знания местной специфики, ни умения вести дела в сложившихся в регионе условиях. На долгие годы в наших отношениях с арабским миром наступила пауза.
ЭКОНОМИКА И НЕ ТОЛЬКО
Вместе с тем глобальная роль Ближнего и Среднего Востока чрезвычайно важна. Здесь, на территории в 14 млн кв. км, расположенной на двух континентах – африканском и евразийском, проживает около 300 млн человек. Средние темпы экономического роста арабских стран за последние два десятилетия – 3–6,4 %. Каждая из них по-своему своеобразна и тем привлекательна для внешних партнеров. Более того, в последние годы на региональном рынке наблюдаются все более отчетливые изменения.
Долгое время господствовало представление о том, что экономика арабских государств была, есть и будет основана исключительно на нефти. Конечно, нефтяная сфера остается пока главным полем для сотрудничества (как, впрочем, и источником политической напряженности). В 2004 году для участия иностранного капитала открылось более 20 объектов в различных отраслях экономики Саудовской Аравии – от нефтедобычи до розничной торговли. В итоге ОАО «ЛУКойл» подписало в марте 2004-го концессионное соглашение, предоставляющее ему право в течение 40 лет вести геолого-разведочные работы и разрабатывать месторождения газа и газового конденсата в районе пустыни Руб эль-Хали на площади около 30 тыс. кв. км (оценка объема обязательств – 4 млрд дол.). Для реализации проекта создано СП «ЛУКСАР», в котором компаниям «ЛУКойл» и «Сауди АРАМКО» принадлежат 80 % и 20 % уставного капитала соответственно.
В регионе быстро формируется рынок капитала и появляются мощные финансовые центры. В последнее время особую активность в этом направлении проявляет Бахрейн, правящие круги которого намерены превратить страну в крупнейший торговый и финансовый центр не только регионального, но и международного значения. По степени открытости экономики Бахрейн ставят на третье место в мире после Гонконга и Сингапура. Здесь отсутствуют налоги на доходы физических и юридических лиц, нет ограничений на вывоз капитала, прибыли и конвертацию валюты. Установлен беспошлинный режим ввоза сырья, полуфабрикатов и капитала для местного производства. Разрешено создание компаний со 100-процентным иностранным капиталом, и упрощена процедура их регистрации.
Крупнейший центр инвестиционной деятельности – Кувейт. Страна обладает развитым местным рынком капитала, а ее население держит на банковских депозитах больше денег, чем население Саудовской Аравии, Абу-Даби (эмират в составе Объединенных Арабских Эмиратов, ОАЭ. – Ред.) и Катара, вместе взятых. Кувейт – крупнейший инвестор долгосрочных капиталов за границей, однако субъектом является уже не частный капитал, а правительство.
Тенденция к либерализации экономики и процессы глобализации мировых экономических отношений привели к тому, что в странах Ближнего Востока и Северной Африки все бЧльшую популярность приобретает идея создания свободных экономических зон (СЭЗ). Будучи одной из форм привлечения иностранного капитала, в том числе и российского, такие зоны существуют в Сирии, Иордании, Ливане, ОАЭ, Египте, Тунисе, Марокко, Джибути и Йемене.
К наиболее успешным и привлекательным СЭЗ в арабском мире можно причислить «Джебель Али» в эмирате Дубай. Стабильное законодательство, высокоразвитые коммуникации и транспортные сети способствовали тому, что сегодня в этой свободной экономической зоне насчитывается более двух тысяч компаний из 97 стран мира. Существенный опыт в развитии СЭЗ накоплен и в Иордании, где стало возможным внедрение последнего поколения свободных экономических зон – специальных индустриальных зон, как раз и привлекающих наибольшую часть иностранного капитала. В процессе становления находятся СЭЗ в Бахрейне, Катаре и Кувейте.
Особый интерес представляет собой Ливан. Здешний банковский сектор имеет богатую историю. В Бейрут традиционно стекались средства, вырученные от экспорта нефти. Длительные торговые и культурные связи с европейскими и арабскими государствами позволили этой стране превратить торговлю в один из важнейших секторов экономики. До гражданской войны 1975–1990 годов экономика Ливана стабильно росла, действовали жесткие законы о соблюдении тайны банковских вкладов, что привлекало сюда капиталы; за страной в то время даже закрепилось название «ближневосточная Швейцария». Самые крупные компании западного и арабского мира всегда охотно приглашали на работу ливанских менеджеров высшего звена.
Война отбросила экономику Ливана далеко назад, лишив ее около 30 млрд дол., тогда как остальные страны Ближнего Востока переживали экономический бум. Деловая активность переместилась из Бейрута в другие экономические центры. Однако при этом ливанские банковские активы удивительным образом увеличились, поскольку в начале войны их удачно вложили в экономику США и Европы. И хотя сегодня долг Ливана составляет около 160 % ВВП, ни страну, ни внешний мир это ничуть не беспокоит. В 2002-м Ливан исключили из списка стран, находящихся под контролем Международной группы по борьбе с легализацией незаконных доходов. Одиннадцать ливанских банков вошли в сотню наиболее успешных арабских финансовых учреждений. Правда, политические события, последовавшие за гибелью бывшего премьер-министра Рафика Харири, внушают некоторые опасения относительно перспектив дальнейшего развития страны; тем не менее с учетом того, что стабильность целиком и полностью отвечает интересам экономики Ливана и его деловых кругов, есть надежда на то, что страна преодолеет нынешний кризис.
Вместе с тем странам региона приходится сталкиваться с рядом серьезных проблем. Экономика многих арабских стран, как и российская, испытывает серьезную зависимость от конъюнктуры нефтяного рынка. По существу, арабским странам приходится решать те же проблемы, что и России. Они осознают наличие дефицита во внешних инвестициях и необходимость поиска новых рынков сбыта для своих товаров. Даже Саудовской Аравии в последнее время пришлось прекратить экспорт капитала и заговорить о привлечении средств в те или иные проекты на собственной территории. Кроме того, арабский мир обеспокоен своим невысоким экономическим ростом. Так, объем ВВП на душу населения в Саудовской Аравии упал с 28 тыс. дол. в 1982 году до 7 тыс. дол. в 2004-м.
Перед Россией открываются реальные возможности расширения экономического сотрудничества с арабскими странами. Речь идет о высоких технологиях, банковских услугах, поставках металлопродукции и материалов для промышленного использования, а также о передаче технологического опыта, особенно в нефтегазовой сфере.
Возможно сотрудничество и в таких областях, как бурение с целью разведки месторождений подземных вод, опреснение морской воды (дефицит водных ресурсов в среднесрочной перспективе вообще способен превратиться в главную проблему региона), нефтехимия и металлургия. Разработаны также совместные проекты по производству химических удобрений, побочной продукции нефтяной промышленности, древесины, изделий кожевенной промышленности, охотничьих принадлежностей и аксессуаров, рыболовной оснастки, речных лодок, катеров, судов, кабельной арматуры, готовых быстросборных деревянных домов, автомобилей и других транспортных средств.
Особо перспективным является военно-техническое сотрудничество (ВТС) с арабскими странами, обеспечивающее высокорентабельными заказами предприятия военно-промышленного комплекса России. По объему поставок военной техники и вооружений в арабские государства Россия пока не в состоянии сравняться со странами Запада. Однако дальнейшее развитие сотрудничества с Россией в данной сфере поможет арабам диверсифицировать источники приобретения оружия и тем самым уменьшить свою зависимость от американских поставок.
Активизация экономического взаимодействия России с арабскими странами имеет и огромное геополитическое значение. Во-первых, Россия является международно признанным коспонсором ближневосточного урегулирования. Политическое присутствие нашей страны в регионе достаточно стабильно и отвечает важнейшей государственной задаче – играть роль одного из полюсов в многополярном мире. Визит на Ближний Восток президента России Владимира Путина в апреле 2005-го значительно повысил авторитет России в региональном и глобальном масштабе.
Во-вторых, и это особенно важно в долгосрочной перспективе, Россия способна сыграть уникальную роль в деле защиты интересов арабских народов в международном масштабе и внести свой вклад в предотвращение их вытеснения на обочину современного мира, которое зачастую осуществляется под флагом борьбы с угрозой «исламского экстремизма». Существуют силы, стремящиеся ответить на активизацию международного терроризма новым разделом мира. Только теперь границу предполагается провести не по идеологическому, а по цивилизационно-религиозному признаку. Большинство арабских государств рискуют попасть в разряд «подозрительных», то есть таких, по отношению к которым дозволены все действия, вплоть до прямого вооруженного вмешательства во внутренние дела.
Не случайно, что нарастающий интервенционизм внешнеполитической доктрины США вызывает беспокойство даже у таких традиционно ориентированных на Запад стран, как государства Персидского залива. В условиях, когда Вашингтон нередко проводит высокомерную и неуклюжую политику, они всё больше осознают необходимость диверсификации внешних связей c тем, чтобы если не нейтрализовать, то хотя бы ослабить американское давление. С этой точки зрения отношения с Россией, которая, несмотря на временное ослабление своих позиций в 1990-е годы, продолжает оставаться влиятельным игроком на мировой арене, имеют существенное значение для арабских государств.
Россия остается надежным партнером для тех, кто выступает против одностороннего (в обход Совета Безопасности ООН) применения силы в отношении любого государства. По двум самым животрепещущим проблемам позиции России и арабских стран совпадают или очень близки. Во-первых, и мы, и они признаём необходимость передачи всей полноты власти в Ираке самим иракцам с целью сохранения территориальной целостности и стабилизации положения в этой многострадальной стране. Во-вторых, обе стороны поддерживают идею справедливого урегулирования ближневосточного конфликта на основе резолюций Совета Безопасности ООН и мадридской формулы «Мир в обмен на территории».
Однако, если Москва не подкрепит свое влияние на Ближнем Востоке соответствующими экономическими действиями, ее роль будет здесь неуклонно ослабевать, что в конечном итоге может привести к вытеснению России из ближневосточной региональной политики. Неоценимую услугу нашей внешней политике может оказать отечественный бизнес, действуя через разрабатываемую ныне систему связей. Путем экономического взаимодействия со всеми без исключения странами региона Россия на деле подтвердит свою роль успешного и дружественного посредника между столь разными государствами.
Экономическое сближение России с арабским миром должно сопутствовать упрочению обоюдных политических связей. Не случайно президент России Владимир Путин призвал российские деловые круги в короткий срок поднять уровень российско-арабского сотрудничества в торгово-экономической области, дабы привести его в соответствие с нынешним благоприятным климатом в сфере межгосударственных и общественно-политических отношений.
ПАРТНЕРЫ СТАРЫЕ И НОВЫЕ
После ухода из российско-арабских отношений идеологической составляющей заметно расширился круг потенциальных партнеров России. Экономические интересы, равно как и стремление к получению экономической выгоды, диктуют необходимость налаживания контактов со всеми странами региона в зависимости от их реальной готовности к сотрудничеству и от спектра предлагаемых ими товаров или услуг, а не от политических лозунгов, стоящих там на повестке дня.
Ключевую роль среди традиционных партнеров России играет Египет. Товарооборот между обеими странами уже составляет около полумиллиарда долларов в год и имеет тенденцию к росту. К числу новых, наиболее перспективных областей сотрудничества относится сфера коммуникации и информационных технологий. Вряд ли простым совпадением стал тот факт, что недавно назначенный премьер-министр Египта Ахмед Назиф возглавлял ранее Министерство коммуникаций и информационных технологий. За время пребывания Назифа на этом посту данная отрасль постоянно демонстрировала успехи, обеспечивая в течение прошедших пяти лет 34 % роста.
Широкий резонанс получил запуск проекта «Умная деревня». Речь идет о своеобразном технопарке, т. е. об оснащенной самым современным оборудованием и удобной жилищной инфраструктурой территории, где предполагается разместить ведущие фирмы и компании в области разработки и внедрения информационных технологий. Компании, желающие обосноваться здесь, получают от властей «налоговые каникулы» сроком на 10 лет и к тому же пользуются упрощенной процедурой регистрации документов в административных учреждениях Египта. Ведущие египетские компании (Alcatel Egypt, Al Ahly Telecom и др.) уже приобрели на территории «Умной деревни» участки под офисы. Разместиться здесь планируют и российские фирмы. Помимо всего прочего, национальный рынок Египта моложе, а следовательно, он способен более гибко реагировать на изменения конъюнктуры и располагает более существенными возможностями. Да и цены в Египте значительно ниже, чем, например, в Объединенных Арабских Эмиратах, и потому производственные издержки здесь заметно меньше.
Ливан – это еще один яркий пример государства, с которым у России восстанавливаются исторические и налаживаются новые контакты. Поощрение взаимной торговли и инвестиций, содействие установлению тесных партнерских связей по линии частного капитала представляют собой важнейшую составляющую экономических отношений. Однако наиболее пристальное внимание этой страны направлено на сотрудничество с Россией в нефтегазовой отрасли. Ливанская сторона неоднократно давала понять, что она приветствовала бы участие России в строительстве нефте- и газопроводов через свою территорию. Бейрут также заинтересован в привлечении к сотрудничеству российских специалистов по сооружению ирригационных систем, строительству плотин.
Особый случай представляет собой Саудовская Аравия. Россию разделял с этим королевством барьер полувековой неприязни, и по ряду причин в Москве изначально почти не питали надежд на то, чтобы основательно там закрепиться.
Во-первых, вся новейшая история России характеризовалась отсутствием политических позиций в Саудовской Аравии. Местные правящие круги не забыли о враждебном отношении Советского Союза к их стране. Да и в России Саудовская Аравия ассоциируется скорее с радикальным исламом – тем самым, проявлениям которого российская сторона противостоит на Северном Кавказе. Саудовское общественное мнение, в свою очередь, крайне отрицательно оценивает действия российских властей в этом регионе РФ. Во-вторых, саудовские элита и общество в целом, традиционно ориентирующиеся на Запад, просто не привыкли к работе с другими партнерами.
Подобного рода препятствия имеют скорее политический характер, однако пути их постепенного преодоления и формирования атмосферы доверия могут быть найдены в экономической области. В качестве потенциальных сфер кооперации традиционно называют энергетику и военно-техническое сотрудничество. Однако нельзя обходить вниманием и области, где инвестиции быстро окупаются. Это в первую очередь недвижимость, строительство, торговля, ценные бумаги, развитие транспортной инфраструктуры.
Важную роль может сыграть уже имеющийся у России опыт в таких высокотехнологичных сферах, как сжижение газа, прокладка газопроводов, регазификация. Саудовцы же готовы инвестировать средства в российскую аэрокосмическую промышленность. И наконец, несмотря на то что саудовская армия уже укомплектована американским и западноевропейским вооружением, Эр-Рияд, похоже, внимательно присматривается к российским боевым вертолетам. С учетом вышесказанного первый Российско-саудовский экономический форум, проходивший в Москве в июле 2003-го, можно считать поистине историческим.
РОССИЙСКО-АРАБСКИЙ ДЕЛОВОЙ СОВЕТ: МИССИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ
Достигнутый до 1991 года уровень торгово-экономических и военно-политических отношений между нашей страной и арабским миром, выражавшийся в миллиардах долларов, обеспечивался исключительно государственными структурами и рычагами, общей государственной политикой. Основой для сотрудничества служили главным образом политические соображения и логика холодной войны. Но на нынешнем этапе особенно важным фактором углубления российско-арабских отношений становится развитие частно-государственного партнерства.
Связать воедино систему торгово-экономических отношений России со странами этого обширного, политически разобщенного и экономически разнородного региона, придать импульс их возрождению на новом качественном уровне призван недавно созданный Российско-арабский деловой совет (РАДС).
Он быстро превратился в активного и уважаемого участника российско-арабского сотрудничества не в последнюю очередь потому, что Торгово-промышленную палату (ТПП) – учредителя его российской части – возглавляет академик РАН Евгений Примаков, чей авторитет в арабском мире чрезвычайно высок, а опыт и знание региона повсеместно признаны.
С арабской стороны РАДС учрежден Генеральным союзом торговых, промышленных и сельскохозяйственных палат 22 арабских государств, куда входят руководители и представители местных ТПП, крупные бизнесмены. С российской стороны одну из ведущих ролей играет Акционерная финансовая корпорация «Система». К числу основных задач РАДСа относятся: создание совместно с каждой из арабских стран двусторонних комитетов, ответственных за реализацию конкретных проектов сотрудничества; установление прямых контактов между российскими и арабскими предпринимательскими структурами; стимулирование инновационной деятельности.
За полтора года существования Российско-арабский деловой совет зарекомендовал себя как эффективный инструмент восстановления и налаживания деловых связей, центр сбора, анализа и распространения необходимой обеим сторонам коммерческой информации. Уже сейчас обратившийся в РАДС арабский или российский коммерсант может рассчитывать на консультацию и на обретение достойного делового партнера. При поддержке РАДСа учреждены три комитета на двусторонней основе: Российско-египетский, Российско-сирийский и Российско-ливанский. Готовится формирование аналогичных комитетов с другими странами. Создание двусторонних комитетов позволит упорядочить отношения между предпринимателями и выявить наиболее привлекательные направления взаимодействия по каждой стране.
Результаты деятельности РАДСа и заметное увеличение деловых контактов позволяют утверждать, что период «безвременья» в российско-арабских отношениях подошел к концу. При поддержке и в рамках РАДСа сотрудничество России и стран арабского Востока получает шанс для выхода на новый качественный уровень. Главными его признаками становятся отсутствие идеологических барьеров и конструктивное взаимодействие между бизнесом и государством. В области бизнеса решающая роль должна принадлежать новейшим информационным технологиям и сфере услуг, что позволит как России, так и странам арабского Востока преодолеть стереотип тотальной энергозависимости их экономик и совместно войти в высокотехнологичную экономическую среду XXI века.

Война, изменившая мир
© "Россия в глобальной политике". № 4, Июль - Август 2004
«По своим размерам эти колониальные военные операции, конечно, не представляют ничего грандиозного, но на жизнь человечества в течение ближайшего столетия они могут оказать влияние исключительное». Так начинается первая корреспонденция Валерия Брюсова, направленная им из Варшавы в журнал «Русская мысль» 1 сентября 1914 года, спустя месяц после начала Первой мировой войны. Знаменитый русский поэт, отправившийся на фронт в качестве военного корреспондента, не ошибся в своем прогнозе: именно та война положила начало распаду прежней системы глобального управления, последствия чего ощущаются до сих пор. Мы решили перепечатать материал 90-летней давности, потому что, по нашему мнению, сегодня, когда мир вновь переживает синдром «начала века», стоит вспомнить многое из того, что происходило тогда.
Фёдор Лукьянов, главный редактор
***
«Великая война» наших дней захватила не только европейские государства, но и значительную часть внеевропейских стран. При той тесной связи, которая установилась теперь между всеми народами и землями мира, это совершенно естественно. Во-первых, все государства земного шара сплетены сетью разнообразнейших взаимных отношений (прежде всего торговых); во-вторых, у воюющих европейских держав на других материках и океанах есть колониальные владения, значение которых для их метрополий существенно и теперь, а в будущем должно стать огромным. Поэтому, в то время как решительные события ожидаются на старых полях Европы, видавших уже по нескольку «битв народов», военные действия ведутся также и в отдаленнейших от нас странах, и на «черном материке», и на водах, омывающих все пять частей света. По своим размерам эти колониальные военные операции, конечно, не представляют ничего грандиозного, но на жизнь человечества в течение ближайшего столетия они могут оказать влияние исключительное.
Внеевропейские события, связанные с войной, можно разделить на следующие категории: 1) содействие колоний своим метрополиям; 2) война Японии с Германией на Дальнем Востоке; 3) военные операции в Африке; 4) военные операции на разных океанах.
Германия на помощь своих колоний рассчитывать не могла. При настоящем положении дел она от них совершенно отрезана, да и вообще содержит в колониях лишь небольшие гарнизоны, преимущественно туземных войск, для местной службы. Почти не пришлось воспользоваться Германии и своими военными судами, стоявшими в Киао-Чао и в гаванях Тихого океана, благодаря энергичным действиям английских крейсеров и вмешательству Японии. Не могла воспользоваться и Бельгия помощью своего «вассального» Конго, так как местная армия (14–15 тыс. человек) не предназначена для действий на европейском театре войны. Таким образом, поддержку от колоний в войне могли получить только Франция и Англия.
В начале войны германцы пытались прервать сношения Франции с ее североафриканскими владениями, т. е. с Алжиром и Тунисом. Германские крейсеры (знаменитые отныне «Гебен» и «Бреслау», проданные туркам) бомбардировали Бону и Филиппвиль (в восточной части Алжира), но безрезультатно. Вступление Англии заставило германо-австрийский флот прекратить всякие активные действия на Средиземном море. После этого Франция получила возможность свободно перевезти в Европу свои африканские войска (как сообщают, до двух армейских корпусов). Войска эти в начале войны уже показали свое превосходство при действиях в горных местностях, именно в Вогезах. Новые эшелоны африканских войск все продолжают прибывать во Францию, постепенно усиливая французскую армию. Телеграмма 29 августа сообщает, какими овациями встречал вновь прибывших тюркосов Париж, готовящийся к осаде.
Англии оказали поддержку прежде всего ее колонии, ныне автономные и полуавтономные государства, входящие в состав Британской империи. В самом начале войны Канада предложила корпус в 20 тыс. человек, с тяжелой и легкой артиллерией, и помощь продовольствием и деньгами, что правительством метрополии было «принято с благодарностью». Телеграф последовательно извещал нас, что из Канады отправлен первый транспорт в миллион мешков муки, что канадские женщины снаряжают для Англии госпитальный корабль и что в канадский парламент внесен законопроект об отпуске 10 миллионов фунтов стерлингов на военные нужды. Сходные предложения поступили от правительств Австралии и Новой Зеландии, предложивших также 20-тысячный корпус и весь свой флот. Эта помощь была использована Великобританией на водах Тихого океана.
Из собственно «колоний» Англия могла полнее всего использовать Индию, где она содержит постоянную армию, известную по своим боевым качествам. Британское правительство решило перевезти часть индийских войск в Европу. Лорд Крю заявил в палате общин (телеграмма 19 августа), что эти войска «горят нетерпением сразиться в Европе». В настоящее время через Порт-Саид уже прошла, под прикрытием особой эскадры военных крейсеров, первая колонна индийских войск, на пяти транспортах, в составе 25 тыс. человек; всего же предполагается доставить в Европу два корпуса. Полунезависимые индийские раджи, со своей стороны, выразили готовность отдать свои войска в распоряжение Англии и проявили, если верить «сообщению великобританского правительства» (29 августа), «величайший энтузиазм». Представители бенгальских мусульман послали в Турцию, великому везирю, телеграмму, в которой высказывают огорчение по поводу недоразумений между Великобританией и Портой и заявляют, что считают священнейшим долгом остаться верными британской короне. В других колониях Англия не содержит настолько значительных военных сил, чтобы их стоило перевозить в Европу; этим войскам был поручен ряд выступлений «на местах», т. е. в колониях же. Впрочем, было известие, что часть южноафриканских войск высадилась в Марселе.
Постоянное войско содержит Англия еще в Египте, который фактически находится в английских руках. Но египетским войскам оказалось достаточно своего местного дела. С самого начала войны Египет «поручил свою защиту Англии». Вслед за тем английское правительство объявило, что в Египте обнаружен какой-то «заговор» против Великобритании, деятельное участие в котором приняли турецкие и германские агитаторы, пробравшиеся под видом «хамалей» и чернорабочих. Произведено было много арестов, и арестованные были преданы военно-полевому суду; вместе с тем английский комендант в Каире предложил дипломатическим представителям Германии и Австрии, состоявшим при особе хедива, покинуть Египет в 24 часа. Таким образом Египет оказался втянутым в сферу войны, а английским египетским войскам поручено преимущественно охранять Суэцкий канал.
* * *
В Азии война отразилась особой японо-германской войной. Ее причины лежат в том политическом и коммерческом положении, которое за последние годы Германия стремилась занять на Дальнем Востоке, опираясь на свои тихоокеанские владения и на гавань Киао-Чао, которую она в 1897 г. «арендовала» у Китая на 99 лет. Немцы углубили прежде мелководную бухту, сильно укрепили ее и превратили в первоклассную гавань, в настоящее время едва ли не лучшую на всем китайском побережье. Желание овладеть этой гаванью и сломить значение Германии на Дальнем Востоке повело к тому, что Япония, ссылаясь на свой военный союз с Англией, сначала послала Германии свой известный ультиматум, а потом, не получив на него ответа, перешла «в состояние войны» как с Германией, так и с Австро-Венгрией.
Как известно, германцы приняли вызов. Проскользнуло сообщение (впрочем, маловероятное), будто в одной телеграмме к коменданту Киао-Чао, перехваченной японцами, император Вильгельм писал, что ему было бы «более стыдно сдать Киао-Чао японцам, чем Берлин русским». Как бы то ни было, немцы с лихорадочной поспешностью взялись за укрепление крепости, заставляя работать китайцев. Население было выселено в Шанхай; нейтральным судам приказано покинуть гавань, на что японцами был дан срок в 24 часа. Крепость окружили рядом новых фортов (Мольткеберг, Бисмарксберг, Вильгельмсберг и тому под.), выдвинутых на 8 и даже на 12 миль от города Цзинтао; перспектива местности очищена, деревья вырублены, строения взорваны и т. д.; гарнизон и военные суда в гавани приведены «в боевую готовность».
Самый ход военных операций японцев вполне ясен. После объявления войны они приступили к высадке десанта и блокаде бухты. Одна эскадра, под командой вице-адмирала Садакичи-Като, прикрывала десант сухопутных войск, привезенных на 18 транспортах со стороны Лун-Коу; другая, под командой адмирала Томи, – высадку на западном берегу артиллерии. Небольшая эскадра, в составе 2 крейсеров, 2 канонерок и 5 миноносцев, осуществила действительную блокаду гавани, выловив германские мины и поставив свои; остальные силы японского флота остались крейсировать в Печилийском заливе. Официально Киао-Чао был объявлен под блокадой с 14 августа. Одновременно с этим японцы перерезали кабели, шедшие из Киао-Чао в Шанхай и Чи-Фу, отрезав немцам сообщение с внешним миром (есть, впрочем, предположение, что немцы успели проложить новый кабель к острову Яп в Каролинском архипелаге). Последние известия сообщали, что японцы уже приступили к обстрелу крепости; что японские гидропланы несколько раз бросали в нее бомбы; что японцами заняты острова, лежащие против бухты (Тай-Пунг, Шьиао-Пунг, Галиен и др.), и что ими даже взяты три форта, из которых один – «штыковым ударом». Кроме того известно, что Япония присоединилась к соглашению, состоявшемуся между Россией, Францией и Англией, – не заключать сепаратного мира.
Конечный исход борьбы несомненен. Небольшой гарнизон крепости и ее наскоро построенные форты не могут держаться долго против дальнобойных орудий и целой армии японцев. Германская эскадра в гавани, по-видимому, сведена к двум броненосным крейсерам «Гензинау» и «Шацугорст» (по 11,600 тонн, с ходом 22,5 узла, вооруженным орудиями сравнительно небольшого калибра) и отряду миноносцев. Где находятся в настоящее время три легких германских крейсера, принадлежащих к той же эскадре, – «Лейпциг», «Нюрнберг» и «Эйден», – неизвестно. Имеется в Киао-Чао еще австрийский бронепалубный крейсер «Императрица Елизавета», но это небольшое судно, построенное в 1890 г. и перестроенное в 1905 г., не представляет серьезной боевой единицы; впрочем, именно оно обстреливало 21 августа японские контр-миноносцы. О серьезных столкновениях на море около Киао-Чао ничего не было слышно; известно только, что японский контр-миноносец «Широтае» наскочил здесь на подводную скалу и затонул.
Военные операции японцев в значительной мере были облегчены позицией, занятой Китаем, который воспользовался случаем свести счеты с Германией, «арендовавшей» его гавань. Дело в том, что собственно «арендованная» полоса земли вокруг Киао-Чао очень невелика, так что на ней произвести десант было бы невозможно. Но вокруг нее тянется, по радиусу в 50 километров, так называемая «нейтральная зона». По-видимому, Китай «посмотрел сквозь пальцы» на то, что японцы высадились именно на этой нейтральной зоне, если только не за пределами ее. По крайней мере, германский поверенный по делам при китайском правительстве протестовал против нарушения японцами нейтралитета Китая, но протест остался без последствий. Между тем раньше Китай сделал Германии «категорическое представление» о недопустимости каких-либо военных действий за чертой арендованной территории и отказал в просьбе немцев – расширить ее пределы в целях защиты порта. Китай отказался также от предложения Германии – возвратить ему Киао-Чао. Ряд других мер, принятых Китаем, также были направлены против Германии. Так, Китай потребовал, чтобы все германские суда, находившиеся в китайских портах, покинули их или остались бы в них до конца войны; с последних были сняты аппараты беспроволочного телеграфа; затем пекинское правительство предписало администраторам Маньчжурии «немедленно прекратить» в ней антияпонскую агитацию и т. под.
Надо добавить, что, в связи с японо-германской войной в Азии, возникла мысль о посылке японской эскадры в европейские воды и японского десанта на европейский театр войны. Это предположение, несколько раз опровергавшееся, продолжает обсуждаться в печати. Вопрос о возможности (политической) для японского флота пройти через Панамский канал решается специалистами (бар. Б.Э. Нольде) в положительном смысле, на основании договора 1901 г. между Великобританией и Соединенными Штатами С.А. Говорят также, что десант – по слухам, в размере 6 корпусов – будет направлен в Малую Азию, где движения турок угрожают новыми осложнениями делу союзников. Кроме того, японская колония в Канаде самостоятельно предложила Великобритании сформировать для европейского театра войны отряд японцев-волонтеров.
К событиям на Дальнем Востоке самый живой интерес проявили Соединенные Штаты. Заатлантическая печать единогласно заявила, что выступление Японии является «событием величайшего политического и экономического значения», так как после него Германия должна потерять всю свою торговлю и свое положение на Тихом океане. Общественное настроение в Америке оказалось вообще враждебным Германии, с которой у Штатов идет напряженное экономическое соперничество. Немецкая агитация в Штатах, которой руководила, по слухам, особая миссия, с министром Дернбургом во главе, и которая привлекла на свою сторону несколько распространенных газет, не имела успеха в широких кругах общества. Правящие круги посмотрели на дело, кажется, иначе, и одно время весь мир был встревожен выходом в море американской эскадры с неизвестным назначением. Постепенно, однако, выяснилось, что правительство Соединенных Штатов опасалось не за участь Киао-Чао, а за судьбу германских владений в Тихом океане. Америке не могло быть выгодным, чтобы они стали достоянием Японии, которая могла бы обратить их в морскую военную базу, в случае столкновения с Штатами. Недоразумение было улажено, и «англо-германский конфликт локализован» пределами операции против Киао-Чао. Сами Соединенные Штаты окончательно заняли позицию самого строгого нейтралитета, имея в виду выступить впоследствии с предложением посредничества между воюющими сторонами.
* * *
В Африке военные действия свелись к захвату германских колоний. Немецкие газеты утверждают, что Англия и Франция уже заключили договор о разделе германских колоний в Африке, и это весьма вероятно. Колониальной державой Германия сделалась недавно, первые земли в Африке заняла только в 1884 г., но в настоящее время ее африканские колонии уже занимают третье место – после английских и французских. Всего владения Германии в Африке простираются на 2,6 милл кв. километров, включая в себя области: Камерун (750 тыс. кв. кил., приобретен в 1884 г.), Того (87 тыс. кв. кил., приобретено в 1884 г.), Юго-Западная Африка (835 тыс. кв. кил., окончательно присоединена в 1890 г.) и Юго-Восточная Африка (941 тыс. кв. кил., окончательно присоединена в 1890 г.), с населением более чем в 11 милл человек (из которых более 20 тыс. европейцы). Эмиграция в эти области пока ничтожна, но торговое их значение для Германии огромно: так, например, она получает отсюда собственные «колониальные товары», каучук, слоновую кость, какао, кофе, бананы, сахарный тростник, продукты масличных и кокосовых пальм и т. п. Между тем германские колонии в Африке расположены так, что со всех сторон окружены владениями английскими, французскими и бельгийскими. Отрезанные от метрополии английским флотом, защищаемые лишь небольшими гарнизонами туземных войск, германские колонии в Африке становятся легкой добычей союзников.
Уже окончательно определилась судьба Тоголанда. Эта колония лежит в Верхней Гвинее и представляет узкую полоску земли, уходящую в глубь страны, с береговой полосой всего в 35–40 километров. На западе Того граничит с английской колонией Золотого Берега, на востоке – с французской Дагомеей, на севере – с областями, находящимися под протекторатом Франции (французская Западная Африка). В конце июля англичане заняли главный город Того – небольшой порт Ломе (10–12 тыс. жителей), единственный пункт побережья, соединенный с внутренностью страны железной дорогой. Позднее пришло известие, что английское войско Золотого Берега разбило в Тоголанде германский отряд и захватило столько пленных, что для перевозки их пришлось употребить два поезда. Немецкое агентство Вольфа уже 3 августа извещало, что Того стало «добычей англичан». 13 августа пришло известие, что немцы уничтожили телеграф в Коринне и послали к английскому отряду парламентера с выражением согласия капитулировать на почетных условиях. Британцы потребовали безусловной сдачи, и в тот же день немцы капитулировали без всяких условий. 14 августа союзные англо-французские войска вступили в Коринну, и Того перестало быть немецкой колонией.
Сходная судьба постигла колонию Камерун, лежащую дальше к востоку, в самой глубине Гвинейского залива. С суши она защищена природой, так как с запада, где она граничит с английской колонией Нигерией, тянутся горные кряжи, а с востока, в том месте, где она соприкасается с французским Конго, лежит пустыня. (По морскому берегу с юга, где Камерун более доступен, он граничит с небольшой испанской колонией, носящей название испанского Конго.) Но 22 августа английский флот захватил у берегов Камеруна два германских крейсера – «Зеадлер» и «Гейер». Крейсера, не приняв боя, сдались, причем в плен попали 61 офицер и около 2 000 солдат. Затем англичане высадили десант, которому также не решился оказать сопротивление местный гарнизон, состоящий из 205 немцев и 1 650 туземцев... Англичане заняли на берегу дом генерал-губернатора, военное управление, все общественные здания и подняли английские и французские флаги. Камерун был объявлен оккупированным.
К менее решительным результатам пришли пока союзники в германской Юго-Западной Африке. Эта обширная область представляет собой еще почти пустынную страну, требующую значительных расходов от метрополии. Предполагают, что край богат минералами (золото и медь), но они не разрабатываются; земледелие требует в нем искусственного орошения; сколько-нибудь успешно ведется лишь первобытное скотоводство. С юга эта область граничит с английским Капландом, и кроме того в руках англичан остается клочок берега в самой Юго-Западной Африке (Китовый залив), несколько гаваней и побережные острова. Оборонять эту свою колонию Германия не имеет никакой возможности. Уже 29 июля было получено известие, что немцы очистили порт Свакопмунд (лежащий близ северной границы Китовой бухты), – пункт, связанный кабелем с рядом других городов побережья и далее с Европой. Затем немцы взорвали набережную и затопили буксиры в Людериц-бухте, самом значительном поселении в южной части колонии. «Лавки и товарные склады, – говорится в телеграмме агентства Рейтера, – закрыты, и жизненные припасы перевезены в Виндхек». Последнее означает, что немцы бежали внутрь страны. Большой Виндхек, главный город Юго-Западной Африки, – конечный пункт железной дороги, идущей от Свакопмунда, и лежит от морского берега по прямой линии в 350 километрах, а по линии железной дороги – в 500 километрах.
Для Англии наибольший интерес представляет занятие германской Юго-Восточной Африки. Эта колония отделяет владения англичан на севере материка (Египет, Судан, Уганда, Британская Восточная Африка) от их владений на юге (Капланд, Трансвааль, Бечуанланд, Родезия). Занятие германской Юго-Восточной Африки позволило бы Англии осуществить мечту Сесиля Родса и «провести рельсовый путь от Александрии до Капштадта по английской земле». Операции против Восточной Африки облегчаются для англичан тем, что у центра ее побережья лежат острова Занзибар и Пембо, принадлежащие Англии. Кроме того, на севере германская Восточная Африка граничит с английскими владениями на всем пространстве от морского берега до страны великих озер. Наконец, неподалеку лежит и французский Мадагаскар. В начале войны инициатива военных действий принадлежала и здесь англичанам. Еще в конце июля английский крейсер разрушил станцию беспроволочного телеграфа в Дарессалеме, главном городе страны (свыше 20 тыс. жителей), лежащем прямо против Занзибара. При этом все портовые суда были захвачены и плавучий док был затоплен в самой гавани. 2 августа пришло известие, что английским военным пароходом «Гвендолен» захвачен немецкий военный пароход на озере Виктория-Нянца, поделенном пополам между английскими и германскими владениями.
Зато позднее, 4 августа, германский отряд занял городок Табету, лежащий в пределах британской Восточной Африки, на самой границе, у подножья горы Килиманджаро (в 150 кил. от морского берега). Позднейшее известие шло из Найроби, другого города, лежащаго в глубине британской Восточной Африки и соединенного телеграфом и железной дорогой с портом Момбаса. 15 августа из Либервиля пришло известие, что немцы напали на восточную часть бельгийского Конго, которое граничит с германской Юго-Восточной Африкой по озеру Танганайка. Бельгия, как гласила телеграмма, «по соглашению с Англией, приняла меры к защите своей колонии, о чем довела до сведения французского правительства». 28 августа в области озера Ньясса (Ньяссаленд), т. е. в английской Родезии, немецкий отряд, численностью до 400 человек, напал на городок Каромгу, но был отбит после серьезного боя и отступил в направлении к Сонгме, оставив 7 офицеров убитыми, 2 ранеными, много убитых и раненых солдат, два полевых орудия и два пулемета. Последнее обстоятельство показывает, что наступление велось с серьезными силами. Таким образом, в Юго-Восточной Африке немцы, хотя и с переменным счастьем, пытались перейти в наступлеше. Это объясняется, однако, тем, что Англии требовалось время для мобилизации своих вооруженных сил в Южной Африке. Только 29 августа Министерство иностранных дел в Лондоне заявило, что эта мобилизация закончена и что южноафриканские войска приведены «в боевую готовность». Между прочим, в них записалось много буров, недавних упорных врагов Великобритании.
* * *
На Тихом океане Германия также начинает терять свои колонии. Ей принадлежит там целый ряд весьма ценных владений: под ее протекторатом находится северо-восточная часть Новой Гвинеи (земля имп. Вильгельма) с архипелагом Бисмарка (240 тыс. кв. кил., с 1886 года), а в непосредственном владении острова Маршальские (400 кв. кил., с 1886 г.), острова Марианские, Каролинские и Палау (всего до 2,5 тыс. кв. кил., купленные у Испании после ее неудачной войны в 1899 г.) и два острова архипелага Самоа (Савойи и Уполу, занятые в 1899 г., благодаря затруднениям Англии в период войны с бурами). Оккупацию этих колоний Англия поручила Австралии и Новой Зеландии, которые за последние годы обзавелись собственными военными флотами (хотя и небольшими).
16 августа, как сообщают из Веллингтона, на Новой Зеландии, десантный отряд, посланный из этой колонии, высадился в Апии, немецком городке на Савойи, в Самоа. Германский губернатор сдался без сопротивления и был отправлен вместе со своим незначительным гарнизоном на острова Фиджи. Несмотря на скромные размеры колонии, утрата самоанских островов очень чувствительна для Германии. Последние годы она тратила много сил и средств на разведение на Самоа различных плантаций – кокосов, бананов, какао, кофе, каучука. Стоимость продуктов, которые Германия получала ежегодно с Самоа, исчисляется миллионами марок .
Несколько позже, 29 августа, был занят теми же новозеландскими войсками город Гербергеэ на острове Новая Померания, самом большом из островов архипелага Бисмарка. Высадка на берег десанта произошла беспрепятственно, но на пути к станции телеграфа немцы пытались оказать сопротивление. Дорога, шедшая на протяжении 3 миль через густой девственный лес, была минирована, и в лесу засели в засадах немецкие стрелки. Однако новозеландцы с оружием в руках пробили себе путь. Офицер, командовавший немецким отрядом, сдался без всяких условий. На Новой Померании также поднят английский флаг.
Наряду с этими совершающимися и возможными территориальными захватами идет преследование германских судов англичанами по всем океанам. Насчитывают, что англичанами уже захвачено в разных частях света свыше 200 германских судов, стоимостью в «миллиард франков» (последняя цифра явно преувеличена), французами – свыше 50, русскими и японцами – свыше 30. Лучшими трофеями оказались захваченные англичанами в Атлантическом океане великаны Северо-Немецкого Ллойда «Кронпринцесса Цецилия» (на котором взято будто бы 40 миллионов марок золотом ) и «Кронпринц Вильгельм». Два других великана той же фирмы «Император» и «Фатерландт» были спешно проданы одной нью-йоркской фирме, а «Вифания», долго ускользавшая от английских крейсеров, захвачена, 29 августа, у берегов Ямайки. Германский пароход «Император Вильгельм Великий» (14 000 тонн), превращенный в крейсер, захватил было у берегов Африки несколько английских судов (в том числе пароходы «Арланда», «Гелициан» и др.), но затем у Золотого Берега был застигнут английским крейсером «Гайфлейер» и потоплен. В Тихом океане немцы захватили близ Цусимы небольшой русский пароход Добровольного флота «Рязань», но англичанами взяты зато германские океанские пароходы «Принц Вольдемар» и «Георг», шедшие из Самоа. Германский крейсер «Карлсруэ» был застигнут в Атлантическом океане английским крейсером «Бристоль» и едва успел спастись, воспользовавшись наступавшей темнотой. Германский крейсер «Блюхер» принужден был укрыться в Пернамбуко (Бразилия) и там разоружиться. В Гонконге, как говорят, видели два германских крейсера, сильно поврежденные в бою, которые вынуждены были снять весь экипаж на берег. И т. д.
Сводя все эти известия к одному, приходится признать, что морское и колониальное могущество Германии уже теперь, в начале войны, потрясено до основания, если не сломлено совсем. Почти треть ее торгового флота находится в руках неприятеля; остальные суда в лучшем случае обречены на бездействие, а иные из них приходится спешно продавать нейтральным государствам. Военный флот доказал свою неспособность померяться силами с английским флотом и защитить колонии. Император Вильгельм говорил когда-то немцам: «Ваше будущее – на воде», имея в виду деятельность флота и развитие колоний. На создание германского флота истрачены были миллиарды марок как из общеимперских сумм, так и собранных по всенародной подписке. Крушение этих заветных надежд – первый решительный и очень чувствительный удар, постигший Германию. Как бы ни развивались события далее, от этого удара Германии не скоро оправиться.
1 сентября 1914 г. Варшава
© Журнал "Россия в глобальной политике", № 4 июль-август 2004

Международная финансовая система: конец единовластия
© "Россия в глобальной политике". № 4, Октябрь - Декабрь 2003
О.В. Буторина – д. э. н., заведующая кафедрой европейской интеграции МГИМО МИД РФ, член научно-консультативного совета журнала «Россия в глобальной политике»
Резюме В ближайшие десять-пятнадцать лет мировая гегемония доллара будет разрушена. Костяк новой международной системы составят два-три десятка наиболее значимых валют, замкнутых в высокоэффективную сеть скоростных расчетов. Такая смена формата может кардинально улучшить позиции российского рубля и сменить ориентиры национальной валютной политики.
В ближайшие десять-пятнадцать лет мировая гегемония доллара будет разрушена. Ей на смену придет не единая мировая валюта, как предлагали Кейнс и Манделл, не множественность денежных единиц в рамках одного государства, как считал Хайек, и не раздел мира на несколько валютных зон. Костяк новой международной системы составят два-три десятка наиболее значимых валют, которые посредством новейших технологий будут замкнуты в высокоэффективную сеть скоростных расчетов. Такая смена формата может кардинально улучшить позиции российского рубля и сменить ориентиры национальной валютной политики.
Если Россия войдет в число стран, денежные единицы которых подключатся к общемировой паутине политвалютных платежей, то отечественные предприятия смогут расплачиваться рублями за импортные товары. Одновременно российский рубль станет главной валютой СНГ. Это резко расширит сферу его применения, понизит спрос на иностранные валюты и спровоцирует выведение долларов из внутреннего обращения. Как следствие, значительно увеличатся внутренние инвестиционные источники, а также возрастут количественные и качественные характеристики российского фондового рынка. Банку России не придется иметь огромные валютные резервы ради поддержания стабильности рубля. В целом же Россия сможет воспользоваться многими благами рыночной экономики, которые сейчас для нее не доступны из-за того, что в условиях глобализации ее валюта и финансовая система ежедневно вступают в конкуренцию с неизмеримо более сильными соперниками.
Чтобы подобный шанс был реализован, России следует уже сегодня делать три вещи. Во-первых, всеми доступными способами расширять сферу обращения рубля. Во-вторых, максимально использовать современные технологии расчетов. И в-третьих, быть готовой к системным изменениям в международных валютных отношениях, включая масштабные и плохо поддающиеся оценке перемены в глобальной роли американского доллара.
ОТ ЗОЛОТА К ДОЛЛАРУ
История человечества знает четыре международные валютные системы. Первая – Парижская – была создана в 1867 году и просуществовала до Первой мировой войны в общей сложности 47 лет. Самой недолговечной оказалась Генуэзская: возникнув в 1922-м, она распалась уже в 1931 году с началом Великой депрессии. Бреттон-Вудская система продержалась с 1944 по 1971 год, когда США прекратили размен долларов на золото, – то есть 27 лет. Ровно столько же действует нынешняя Ямайская система, официально оформленная совещанием стран – членов МВФ в Кингстоне в январе 1976 года.
Смена валютной системы всегда означала упразднение одних элементов международного денежного устройства и введение других. Закат Парижской системы – это отмена золотомонетного стандарта. С расстройством Генуэзской системы обменные курсы перестали фиксироваться по отношению к золоту. По Бреттон-Вудским соглашениям лишь доллар сохранил связь с золотом, а все остальные валюты привязывались к нему. Ямайская система упразднила последнее звено в цепи, связывавшей деньги с золотом, – мир раз и навсегда перешел к плавающим курсам.
Современный мировой валютный рынок невообразимо далек от того, каким он был в момент создания Ямайской системы. Однако способ его регулирования остался тем же, что и в 1976 году. Тогда, вспомним, в Китае прощались с Великим кормчим, в Москве открылся XXV съезд КПСС, а в Калифорнии два приятеля собрали в гараже первый персональный компьютер.
ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ: ГЛОБАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
В последней четверти XX века валютные рынки оказались под воздействием пяти новых факторов: 1) всеобщая либерализация движения капиталов, 2) развитие информационных технологий, 3) изменение природы курсообразования, 4) распад социалистической системы и 5) введение евро.
О размахе валютной либерализации говорит следующий факт: в 1976 году обязательства по VIII статье Устава МВФ (она запрещает ограничения по текущим платежам, дискриминационные валютные режимы и барьеры на пути репатриации средств иностранных инвесторов) выполняла 41 страна, в 2002 году – 152. Сравнительно недавно даже самые развитые страны Запада имели множество валютных ограничений. Так, например, в Англии до середины 1970-х резидентам запрещалось приобретать наличную иностранную валюту сверх установленного крайне низкого лимита, а во Франции в 1983 году были введены жесткие правила репатриации экспортной выручки, покупки валюты для импорта, покрытия валютных сделок на срок финансирования инвестиций за границей.
Для многих развивающихся стран и стран с переходной экономикой результаты валютной либерализации конца прошлого века оказались далеко не однозначными. По утверждению МВФ, валютная либерализация должна была содействовать интеграции в мировую экономику и росту конкурентоспособности. На практике же отмена валютных ограничений часто выпадала из макроэкономического контекста и ее темпы не соизмерялись с темпами формирования механизмов и институтов рынка. Как следствие, была создана почва для долларизации, утечки инвестиционных ресурсов, беспорядочного движения спекулятивных капиталов.
Революция в средствах связи и обработки информации сделала международные финансовые потоки еще более подвижными. В 1970–1980-е годы во многих странах были созданы общенациональные системы расчетов в режиме реального времени (Real Time Gross Settlement – RTGS). В 1990-е между ними возникли связующие звенья. Например, в Гонконге существуют такие системы расчетов в гонконгских долларах, в долларах США, а с апреля 2003-го – в евро, причем все они функционально дополняют друг друга. Кроме того, усовершенствованы традиционные системы международного клиринга, повышена их надежность, увеличены лимиты кредитования, расширен круг участников и набор функций. Это позволило перемещать огромные суммы денег из одной точки мира в другую простым нажатием клавиши.
За последнюю четверть века произошел и другой серьезный качественный сдвиг: обменный курс той или иной валюты перестал формироваться во внешней торговле. Это было вызвано стократным увеличением объемов международных валютных рынков. Действительно: если в 1970-е ежедневный объем валютных операций в мире составлял 10–20 млрд дол. (то есть приближался к стоимости ВВП, производимого в развитых странах в течение одного рабочего дня), то в 2001 году эта цифра равнялась 1,2 трлн долларов. На обслуживание товарных сделок теперь приходится всего 2 % от совершаемых в мире валютообменных операций. Поэтому возможность отклонения рыночного курса валюты от паритета покупательной способности (по которому курсовое соотношение двух валют должно отражать соотношение цен в данных странах) намного возросла. К примеру, на один доллар в России можно купить вдвое больше товаров, чем в США. То есть рыночный курс рубля составляет 50 % от паритета его покупательной способности (ППС). Такое положение характерно для большинства государств Центральной и Восточной Европы. В некоторых странах курс национальной валюты занижен еще больше, например, в Индии и Китае он находится на уровне 20 % от ППС.
Если в 1971 году обменные курсы оторвались от золотого якоря, то потом они оторвались и от казавшегося естественным товарного якоря. Несмотря на глобализацию и наличие развитого мирового рынка (который, правда, составляет менее 20 % от мирового ВВП), в настоящее время нет и намека на выравнивание внутренних цен между странами. Иначе говоря, коридор возможных колебаний курса той или иной валюты резко расширился. Моментальное обесценение валюты в два или в четыре раза, как это было с российским рублем, теперь никого не удивляет.
На рубеже 1980–1990-х годов распалась социалистическая система, бывшие страны СЭВ начали переход к рыночной экономике. Большинство из них сразу сделали конвертируемыми свои валюты и сняли основные ограничения по текущим операциям. В России в 1992 году был принят закон «О валютном регулировании и валютном контроле», разрешивший конверсионные операции и трансграничное движение капиталов. К мировым валютным рынкам добавился не существовавший ранее сегмент. Это серьезно изменило облик международной валютной системы, хотя на указанные регионы приходится только 2 % совершаемых в мире конверсионных операций. Достаточно вспомнить, что все новые валюты пережили периоды высочайшей инфляции и резкого обесценения. Одновременно произошла глубокая долларизация постсоветского пространства. Американские деньги, будучи гораздо сильнее и надежнее, чем встававшие на ноги местные валюты, выдавили последние из большой части внутреннего оборота. А в 1998 году Россию поразил финансовый кризис.
Еще один новый фактор современных валютно-финансовых отношений – введение с 1 января 1999 года единой европейской валюты. Два первых года своей жизни она теряла в цене, а уже на рубеже 2002–2003 годов евро стал стоить дороже доллара. Это показало частным и государственным инвесторам, что европейская валюта может использоваться как средство диверсификации их накоплений. Никогда еще европейские денежные единицы не использовались в международном масштабе столь широко, сколь теперешний евро. И если курс единой валюты останется стабильным, то ее привлекательность будет расти и впредь. С прежними национальными денежными единицами этого не могло случиться в принципе.
В то же время для мировых финансовых рынков евро стал еще одним фактором турбулентности. Связано это с тем, что у операторов появилась реальная альтернатива доллару (пусть не во всех сферах), а у Евросоюза – возможность проводить более независимую от США экономическую и валютную политику. В 2001 году, по данным Банка международных расчетов в Базеле, волатильность (краткосрочная изменчивость) курса евро по отношению к доллару США была в три раза (!) больше, чем аналогичный показатель для немецкой марки в 1998 году. Одновременно увеличилась амплитуда и частота колебаний в большинстве других важнейших валютных пар. Введение евро, конечно, явилось не единственной причиной, обусловившей нестабильность валютных рынков, однако налицо его «вклад» в сложившуюся ситуацию.
Все эти процессы привели в 1990-е годы к росту нестабильности международной валютной системы. Серию региональных кризисов открыл кризис Европейской валютной системы 1992–1993 годов. Тогда атакам впервые подверглись валюты даже тех стран, правительства которых придерживались вполне адекватного и грамотного курса. Экономисты заговорили о кризисах «второго поколения», когда решающим оказывается не качество национальной политики, а соотношение денежных средств, которые правительство с одной стороны и валютные спекулянты с другой готовы бросить в схватку. Спекулянты рассчитывают, какую сумму государство может потратить на интервенции, и если их собственные возможности оказываются весомее, то игра на понижение начинается.
В 1997–1998 годах на мир обрушился очередной ряд финансовых потрясений. Началось с Юго-Восточной Азии и России, дальше завибрировали валютные системы Латинской Америки, в 2001 году разразился кризис в Турции, в 2002-м – в Аргентине. Как бы ни хотелось считать эти события случайными, они, увы, таковыми не являются. Дело здесь не в безответственности властей и не в фатальном стечении обстоятельств, а в изменении глобального валютно-финансового климата как такового.
Что же мировое сообщество готово предпринять в ответ?
УПРАВЛЕНИЕ ВАЛЮТНЫМИ КУРСАМИ: КЛАССИКА ЖАНРА
Основными методами управления курсами до сих пор являлись валютные интервенции, изменение процентной ставки, регулирование текущего баланса и привязка национальной денежной единицы к более сильной. Однако с каждым из них в последние полтора десятилетия произошла глубокая метаморфоза.
Количество средств для интервенций снизилось. Не то чтобы их число в целом сократилось (напротив, с 1990 по 2002 год совокупные валютные резервы всех стран мира увеличились с 640 до 1730 млрд СДР (специальные права заимствования, расчетная единица МВФ. – Ред.) – почти в 3 раза) – их мало относительно объема рынка. Если потребуется поддерживать курс евро или доллара, то имеющихся запасов (все валютные резервы Европейской системы центральных банков составляют 300 млрд евро, а Федеральной резервной системы (ФРС) США – 60 млрд дол.) хватит лишь на косметические мероприятия. Осенью 2000 года Европейский центральный банк четырежды проводил интервенции в поддержку евро. Результат оказался минимальным: после первой интервенции, проведенной совместно с ФРС и Банком Японии, курс поднялся с 0,86 до 0,89 доллара за один евро, а после последней – котировки колебались вокруг отметки 0,85. О размере средств, потраченных зоной евро на интервенции, косвенно можно судить по тому, что за ноябрь 2000 года валютные резервы ЕЦБ (без золота, СДР и резервной позиции в МВФ) уменьшились на 13 млрд евро.
Крупнейшими в мире держателями золотовалютных резервов являются страны Юго-Восточной Азии. В середине 2003 года официальные валютные запасы Японии выросли до 540 млрд дол., Китая – до 350 млрд дол., Тайвань, Южная Корея и Сянган (Гонконг) имели по 100 с лишним миллиардов каждый. Получается, что главные мировые валюты эмитируют одни страны, а основной частью резервов владеют другие. Асимметрия налицо. В случае падения курса доллара или евро едва ли азиатские государства пожертвуют сколько-нибудь крупными средствами ради укрепления хотя и важных для них, но все-таки чужих валют.
Что касается процентной ставки, то ее влияние на обменный курс тоже довольно ограниченно. Связь между двумя показателями прослеживается более или менее отчетливо только для валют, имеющих широкое международное признание, в основном для доллара и евро. (В Японии последние годы процентные ставки близки к нулю, и на фоне вялой конъюнктуры власти не скоро смогут их повысить. В Великобритании естественным ограничителем роста ставки является высокая задолженность домохозяйств, большинство британских семей выплачивает ипотеку. В Швейцарии ставка традиционно низка благодаря банковской тайне, владельцы капиталов сомнительного происхождения мирятся с нулевой или отрицательной доходностью депозитов, обеспечивая швейцарским предприятиям дешевый доступ к внешнему финансированию.) Но и это происходит не всегда. Так, с лета 2001 года рыночные ставки в зоне евро превысили американские, но подъем евро начался полтора года спустя. Для нерезервных валют повышение ставки рефинансирования мало способствует притоку иностранных капиталов, затрудненному не только в силу отсутствия доверия, но и вследствие слабости местных финансовых рынков. Внешние операторы резонно опасаются, что, вложившись в редкую валюту или номинированные в ней ценные бумаги, они не смогут в нужный момент продать данные активы по прежней цене. Ведь резкие колебания конъюнктуры – обычное дело для неразвитых рынков.
Важнейшим фактором курсообразования считается состояние баланса по текущим операциям. Выдача кредитов на урегулирование текущих балансов стран-членов – один из основных инструментов МВФ в деле содействия курсовой стабильности. Однако неотрицательный баланс по текущим операциям в странах, чьи валюты не участвуют в международном обороте, на практике не гарантирует ровной курсовой динамики, хотя и благоприятствует ей (в 1998 году Россия имела положительное сальдо в размере 700 млн дол., но это никак не уберегло рубль от девальвации). В государствах же, чья валюта доминирует в мире, отрицательный текущий баланс может вполне компенсироваться притоком долгосрочного капитала, что и происходит в США уже многие годы.
До кризисов в Юго-Восточной Азии и России МВФ с подачи США настойчиво рекомендовал развивающимся странам и странам с переходной экономикой жестко привязывать свои валюты к наиболее сильным валютам мира, главным образом к американскому доллару. Считалось, что такой режим валютного курса быстро восстанавливает доверие инвесторов к местной денежной единице, подавляя инфляцию и увеличивая приток капиталов из-за рубежа. События 1997–1998 годов показали, насколько тяжелыми могут быть средне- и долгосрочные последствия такой политики. Обязательства правительств поддерживать жесткие паритеты и прозрачность сведений о работе центральных банков (в том числе о величине официальных резервов) позволили спекулянтам «правильно» сориентироваться на местности, точно определить время и характер наступательных действий.
НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ – НОВЫЕ РЕЦЕПТЫ
Если испытанные методы действуют все с меньшей эффективностью и явно не соответствуют вызовам времени, значит, нужны новые решения. Их усиленно ищут, особенно после 1997 года. Новые или значительно модернизированные в последнее время способы валютно-финансовой стабилизации можно разделить на три группы: 1) региональное сотрудничество, 2) международное регулирование и 3) использование новых операционных технологий. Кроме того, в стадии обсуждения находится еще одно средство международной валютной стабилизации – увязка курсов основных валют.
Валютная стабилизация в рамках отдельного региона – процесс, в принципе, отработанный. Таким путем шла Западная Европа после Второй мировой войны: в 1950 году был создан Европейский платежный союз, в 1972 году – уже под эгидой Европейского экономического сообщества – «валютная змея», в 1979 году – Европейская валютная система, наконец, в 1999 году – Экономический и валютный союз. Упорство европейцев диктовалось хозяйственной необходимостью: для большинства стран региона торговля с соседями составляла больше половины всего внешнеэкономического оборота, а разнонаправленное движение курсов после распада Бреттон-Вудской системы нарушало традиционные товарные потоки.
Европейский опыт давно стал образцом для подражания: им попытались воспользоваться в Центральной Америке (в 1964 году Гватемала, Коста-Рика, Никарагуа и Сальвадор подписали Соглашение о Центральноамериканском валютном союзе) и в Африке (в 1975 году 16 стран Экономического сообщества Западной Африки (ЭКОВАС) создали Западноафриканскую клиринговую палату). В ноябре 1997 года 14 стран Юго-Восточной Азии создали Манильскую рамочную группу (Manila Framework Group), которая должна была разработать механизмы управления кризисами. Затем Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур и Таиланд заключили СВОП-соглашение (ASEAN Swap Arrangement) о кредитах. Система (аналогичная действовавшей в ЕС в 1980–1990-е годы) позволяет стране, валюта которой подверглась атаке, получить иностранную валюту для интервенций под залог государственных ценных бумаг. В мае 2000 года все страны АСЕАН, а также Китай, Япония и Южная Корея подписали в Таиланде соглашения о соответствующем расширении зоны действия данного механизма. Документы получили название «Инициативы Чианг-Май» (Chiang Mai Initiative). К весне 2003 года действовало уже 10 двусторонних кредитных линий на общую сумму 29 млрд дол. и еще три находились в процессе согласования.
Как видно, объем кредитов, предоставляемых в рамках инициативы, совсем не велик. Тем не менее организаторы считают, что она дает важный сигнал рынкам, так как центральные банки, не увеличивая резервы, получают дополнительные возможности противостоять спекуляциям. По мнению азиатских экономистов, ценно и то, что данные средства доступны по первому зову, тогда как финансовая помощь МВФ приходит с большим опозданием. Кроме того, кредиты МВФ всегда являются жестко обусловленными. Правительства не спешат обращаться за ними, боясь морального давления, вмешательства во внутреннюю политику и усиления оттока капиталов из страны.
Из остальных регионов мира, где имеются планы валютного сотрудничества, реальный шанс есть, разве что, у СНГ. Хотя в ближайшие 20–30 лет единая валюта здесь наверняка не появится, тем не менее страны Содружества способны значительно продвинуться по пути консолидации своего валютно-финансового пространства. Определенные результаты уже достигнуты. В 2000 году начали действовать банковская ассоциация «Объединенная платежная система Содружества» и Международная Ассоциация бирж (МАБ) стран СНГ. В 2001 году Межпарламентская ассамблея СНГ приняла модельные законы «О рынке ценных бумаг» и «О валютном регулировании и валютном контроле», также было разработано Соглашение о принципах организации и функционирования валютных рынков стран Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭс). В 2002 году девять стран СНГ договорились о создании Совета руководителей государственных органов по регулированию рынков ценных бумаг, была разработана Конвенция об интеграции фондовых рынков стран СНГ.
Перечисленные шаги сегодня имеют лишь косвенное отношение к проблеме стабилизации валютных курсов. И все же они содействуют увеличению масштабов и степени развития национальных валютно-финансовых рынков, что является одной из ключевых предпосылок для повышения их устойчивости. В перспективе введение коллективной расчетной единицы (подчеркну – не единой валюты), совместные действия по дедолларизации и реализация мер, аналогичных азиатской инициативе, могли бы заметно укрепить позиции валют СНГ.
Из международных инструментов валютно-финансовой стабилизации наиболее известным является налог Тобина. В 1972 году американский экономист, будущий лауреат Нобелевской премии Джеймс Тобин выступил с идеей обложить в масштабах всего мира спекулятивные движения капиталов особым налогом в размере до 0,1 % от суммы операции, а вырученные средства направить на нужды развивающихся стран. После финансовых кризисов 1997–1998 годов дискуссия об этом налоге наконец перешла в практическую плоскость. О его необходимости официально заявили правительство Финляндии, парламент Канады, президент Бразилии, а также различные парламентские фракции США, Великобритании, Франции, Бельгии, Италии. В 2001 году 40 членов Европейского парламента и национальных парламентов Евросоюза призвали ввести в ЕС налог Тобина, установив его на двух уровнях: нормальном и экстренном. Последний мог повышаться до 50 % при угрозе резкого обесценения той или иной валюты. Однако руководство Союза отклонило инициативу, сославшись на то, что налог вынудит бизнес уйти в офшорные зоны и в результате он скорее дестабилизирует рынки, нежели упорядочит их. Сейчас меры, аналогичные налогу Тобина, применяются на некоторых фондовых площадках: в Сингапуре сделки облагаются налогом в размере 0,2 %, в Сянгане – 0,4 %, в США – 0,0034 %, во Франции – от 0,3 до 0,6 %. Перспективы того, что налог Тобина будет введен сразу во всем мире – а только в этом случае он имеет смысл, – весьма призрачны.
Наконец, еще один тип методов валютной стабилизации – применение новых информационных технологий. Здесь основную нагрузку несет частный бизнес, а не государство. Как отмечалось выше, в 1990-е годы многие страны создали системы скоростных расчетов, сначала национальные, а потом трансграничные. В ЕС сейчас действует две крупные международные системы. Первая из них – ТАРГЕТ – проводит двусторонние расчеты между банками из разных стран через их центральные банки и специальную стыковочную платформу. Вторая – Евробанковская ассоциация – работает на основе многостороннего клиринга между коммерческими банками-участниками, а роль расчетной палаты выполняет Европейский центральный банк. Эти системы не только сократили время прохождения платежей (до нескольких минут), но и устранили валютные риски, поскольку по своей природе они могут работать только в одной валюте.
Что касается страхования валютных рисков, то это еще одна сфера, где требуются и уже начались перемены. Такие давно существующие на рынках инструменты страхования валютных рисков, как форварды, фьючерсы, опционы, уже не способны удовлетворить растущие требования бизнеса к инфраструктуре рынка. С сентября 2002 года в США начал действовать БПСР – Банк продолженных связанных расчетов (Continuous Linked Settlement Bank), созданный крупнейшими банками мира при взаимодействии с семью центральными банками. Данный механизм позволяет значительно снизить риск при проведении многовалютных платежей (возникающий из потенциальной возможности не получить купленную валюту после поставки проданной). В системе участвуют финансовые институты США, Европы и Юго-Восточной Азии – их число возросло с 42 в ноябре 2002 года до 70 в июле 2003 года. За это же время доля нового банка в общем объеме мирового валютообменного рынка увеличилась с 16 до 50 %, теперь он ежедневно осуществляет сделки на сумму более 600 млрд долларов. Операции ведутся в семи валютах: долларах США, евро, японских иенах, фунтах стерлингов, швейцарских франках, канадских и австралийских долларах. К ним планируется добавить еще шесть валют: шведскую, датскую и норвежскую кроны, а также сингапурский, гонконгский и новозеландский доллары.
Еще одно широко обсуждаемое средство международной валютной стабилизации – увязка курсов доллара, евро и, возможно, иены. В 1985 и 1987 годах страны «большой семерки» заключили сначала Соглашение «Плазы» (Plaza Agreement), а потом Луврское соглашение (Louvre Accord) с целью снизить завышенный тогда курс доллара и выровнять курсовую динамику. При отклонении котировок на 2,5 % начинались добровольные односторонние интервенции, при отклонении на 5 % – обязательные многосторонние. Больше подобные действия никогда не предпринимались.
В конце 1998 года – перед введением евро – идея увязать курсы двух или трех основных валют снова вышла на авансцену. Возможность создания коридора долго обсуждалась лидерами США, ЕС и, отчасти, Японии, но в конце концов она была отвергнута. Главное препятствие состоит в том, что модели рыночной экономики в США, ЕС и уж тем более Японии, сильно отличаются друг от друга. Не совпадают и не будут совпадать их экономические циклы, что делает невозможной синхронизацию инфляции и процентных ставок. Кроме того, объявление пределов колебаний наверняка дало бы повод спекулянтам для атак на одну из валют, а средства центральных банков США и ЕС не достаточны для результативных интервенций. Вопрос об увязке курсов вновь поднимался на недавней встрече «большой восьмерки» в Эвиане, однако вероятность того, что такая увязка действительно состоится, минимальна. Лучшим исходом данной дискуссии может быть закрытая договоренность о координации общих направлений валютной политики, например об управлении официальными резервами.
Казалось бы, в решении специфических валютных проблем развивающихся стран и стран с переходной экономикой одну из ключевых ролей должны играть МВФ и другие международные организации. Тем не менее они почти ничего не сделали в этой области. Наличие у развивающихся и «переходных» стран особых механизмов курсообразования, отличных от тех, что характеризуют промышленно развитые государства, до сих пор не получило официального признания. Им все еще предлагаются рецепты, пригодные для доллара, евро, иены и других международных валют. При этом игнорируются очевидные факты – а именно то, что инфляция там может расти и при зажиме денежной массы (она пополняется за счет иностранной валюты); что вследствие долларизации целые сегменты денежного рынка выводятся из-под влияния центрального банка; что импорт не оплачивается национальной валютой, а валютные рынки неглубоки и плохо держат удар.
Региональные кризисы конца 1990-х годов, вернее, неспособность их предвидеть и купировать, стали основанием для резкой критики МВФ со стороны как пострадавших государств, так и лидеров промышленно развитых стран, деловых кругов и мировой элиты в целом. Выяснилось, что фонд, располагавший первоклассными специалистами и проводивший жесткую «воспитательную работу» с развивающимися странами, оказался беспомощным в ситуации, когда от него требовались решительные действия.
В конце 2001 года МВФ опубликовал доклад о реализованных и готовящихся инициативах по предотвращению кризисов. Представленные в нем меры в основном касаются финансовых рынков, а непосредственно валютному регулированию посвящен всего один подраздел – о золотовалютных резервах. Точно так же в центре внимания Форума финансовой стабильности, созданного в 1999 году «большой семеркой», находится не что иное, как финансовый и пруденциальный надзор, координация действий и обмен информацией в данной области. (Форум собирается дважды в год на уровне министров финансов, представителей центральных банков и органов банковского надзора стран «большой семерки», Нидерландов, Сингапура, Австралии и Гонконга.) Бесспорно, курсовая динамика зависит от экономической политики, от состояния финансовой сферы и поведения зарубежных инвесторов. Но дело не только в этом. В 1990-е природа валютных кризисов изменилась. Теперь они имеют собственные причины, далеко не всегда проистекающие из слабой бюджетной дисциплины и безответственной государственной политики.
НА ПУТИ К ПЯТОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЕ
Последовательная смена четырех международных валютных систем включала в себя два параллельных процесса: вытеснение из обращения золота и переход валютного лидерства от одной страны к другой. В первом случае мы имеем дело с эволюцией собственно денег, во втором – с использованием национальной валюты в качестве мировой.
Выше было показано, что современная Ямайская система становится все менее эффективной. Ее конструктивные элементы не справляются с возрастающей нагрузкой. Пустоты, возникающие из-за снижения активности традиционных инструментов, заполняются лишь в небольшой части. Что может спровоцировать закат системы? До сих пор таким толчком являлись войны или тяжелые экономические кризисы, однако, как показал опыт Югославии и Ирака, локальный характер военных конфликтов XXI века, в которых к тому же применяются точечные удары и высокотехнологичное, нелетальное оружие, только лишь деформирует траекторию обменных курсов. К счастью, невелика и возможность глубочайшей депрессии в мире или в США.
Ямайскую систему подточат не катаклизмы, а высокие технологии. Они заявят о своих институциональных правах. До XIX века, когда мировыми деньгами были серебро и золото, покупателя и продавца не интересовало, чей герб красовался на монетах. По мере отступления золотого стандарта одни валюты приобретали функции мировых, а другие уходили с международной арены. Критерием отбора было то, насколько те или иные национальные валюты могли выполнять функции денег на внешних рынках. К концу XX века большинство национальных денежных единиц стали конвертируемы, однако они по-прежнему не обслуживают мировую торговлю. Россия не покупает китайские товары за рубли, а Китай не продает их за юани, хотя ни та ни другая сторона не ограничивает движение капитала по текущим операциям. Двусторонний бартер крайне неудобен, а многосторонний возможен только в общей расчетной единице.
Таким образом, доллар, евро и несколько других общепризнанных валют работают в качестве мировых денег именно потому, что урегулирование гигантской паутины международных платежей технически невозможно в поливалютном режиме. Это касается не только торговли и инвестиций, но и валютных рынков, на которых девять сделок из десяти совершаются с целью купли или продажи долларов. Поскольку большинство валют не обмениваются друг на друга напрямую, доллар США выполняет функцию денег на рынках, где продаются и покупаются деньги других стран.
Как только удастся наладить поливалютные многосторонние платежи, спрос на главенствующие валюты, особенно на доллар, уменьшится, а международное значение прочих валют начнет возрастать. Искомое техническое решение, скорее всего, будет найдено в течение десяти лет – к нему, как видно на примере применения оптико-волоконных технологий, уже подбираются. Балансировать платежи в 150 валютах не обязательно – для радикального перелома достаточно сделать это в валютах 20–30 стран, на которые приходится более 4/5 мировой торговли и финансовых потоков. Третьи страны, например Грузия, смогут перевести свою внешнюю торговлю с долларов на валюты основных партнеров – евро, российские рубли, турецкие лиры.
Данная система значительно сократит трансакционные издержки. Новая парадигма, кроме того, будет означать, что мировые деньги совершат виток в развитии, вернувшись в ином качестве на линию, от которой они начали движение при отмене золотомонетного стандарта. Единой мировой валюты не потребуется. А в процессе интернационализации имеющиеся центростремительные силы (региональные валютные организации) будут сочетаться с валютной полифонией.
В целом пятая валютная система может иметь следующий вид: развитая сеть поливалютных платежей для двух-трех десятков наиболее значимых денежных единиц плюс несколько региональных ареалов продвинутого валютно-финансового сотрудничества. Первый, ключевой элемент схемы имеет шанс материализоваться до конца десятилетия. Возможно, это произойдет и раньше, по крайней мере в отдельных сегментах финансовых рынков. Ждать осталось недолго.

Будущее свободы. Нелиберальная демократия дома и за границей
Fareed Zakaria. The Future of Freedom. Illiberal Democracy at Home and Abroad. New York: W. W. Norton & Co., 2003. 286 p. (Фарид Закариа. Будущее свободы. Нелиберальная демократия дома и за границей.)
Резюме Демократия – это лишь форма организации политического процесса, но не его содержание, утверждает в нашумевшей книге «Будущее свободы» известный американский аналитик Фарид Закариа. Автор приходит к выводу, что, вопреки утверждениям идеологов Белого дома, демократия не способна предложить адекватное решение современных проблем.
Несвободные от будущего
За столетия трудной и непредсказуемой истории люди создали множество концепций, призванных не столько усовершенствовать окружающий мир, сколько убедить самих себя в возможности и даже неизбежности его изменения к лучшему. Теории, предлагающие наиболее убедительные обоснования такой возможности, по сей день надежно защищены даже от непредвзятой научной критики. Их единственным, но бескомпромиссным критиком оказывается именно история, всякий раз демонстрирующая человечеству несбыточность его надежд на безоблачное будущее.
На протяжении последних столетий мечта о справедливом обществе, основанном на принципах демократического правления, обретает все большую власть над умами людей. Вера в то, что демократия способна изменить мир к лучшему, соперничает по своей распространенности и истовости разве что с основными мировыми религиями. Но почему демократию наделяют чуть ли не сверхъестественными качествами? Этим непростым, но своевременным вопросом задается в новой книге Фарид Закария, один из наиболее оригинальных политических аналитиков современной Америки, главный редактор журнала Newsweek и автор нескольких бестселлеров.
Со всей определенностью он заявляет, что демократия лишь форма организации политического процесса, но не сущностный его элемент. Уже сам по себе этот тезис заслуживает пристального внимания, поскольку чуть ли не каждый внешнеполитический шаг США обосновывается потребностями борьбы за расширение зоны демократии. Но система аргументов и выводов автора оставляет еще большее впечатление.
Закария утверждает, что демократическое правление не обязательно должно считаться справедливым (см. рр. 18–19), а одних лишь демократических процедур далеко не достаточно, чтобы говорить о либеральном порядке и соблюдении гражданских свобод (см. р. 25–26). Многие успешно развивающиеся территории, как, например, Сингапур и Гонконг, строго говоря, не являются демократическими, но отвечают требованиям, предъявляемым к либеральному правовому государству (см. р. 86). Напротив, соблюдение формально демократических принципов в Югославии не помешало установлению там автократического режима Милошевича и развязыванию этнических чисток и гражданской войны (см. р. 113–114). Анализируя пути демократии в современном мире, автор приходит к выводу, что адекватное решение нынешних проблем может быть предложено не демократией, а республиканской системой в ее кантовском понимании, где имеют место «разделение властей, сдержки и противовесы, верховенство закона, защита прав личности и определенная степень представительства (но отнюдь не всеобщее избирательное право)» (р. 116). Ценности современного западного мира, пишет Закария, берут свое начало не в греческих традициях, где «демократия зачастую предполагала… подчинение индивида власти сообщества», а в римских установлениях, главным из которых было «равенство всех граждан перед законом». «Римская республика, – продолжает он, – с ее разделением властей, избранием должностных лиц на ограниченный срок и акцентом на равенство перед законом с тех времен служит образцом [политической] организации, наиболее последовательно [принятым за основу] при создании Американской республики» (р. 32).
Исходя из таких посылок, Закария предлагает свою типизацию демократии, основанную на противопоставлении либеральной демократии (liberal democracy), явления всецело позитивного, демократии нелиберальной (illiberal democracy), препятствующей, по мнению автора, формированию республиканских порядков, адекватных современным требованиям. Термин «нелиберальная демократия» вряд ли достаточно полно передает смысл английского illiberal democracy. Говоря о «нелиберальной демократии», мы подчеркиваем не ее враждебность либеральной демократии как институту или как распространившейся практике (и потому не обозначаем ее как non-liberal democracy), а то обстоятельство, что этот тип демократии не «впитал в себя» истинные ценности либерализма (illiberal в том же смысле, в каком неграмотный человек называется illiterate). На первый взгляд некоторые тезисы автора позволяют предположить, что нелиберальная демократия чаще всего возникает в условиях копирования демократических порядков в странах, не имевших продолжительной демократической традиции, – так, едва лишь заговорив о ней, Закария приводит в качестве примера Китай и Россию (см. р. 89–96). Но фактически автор идет дальше – к утверждению, что нелиберальная демократия может возникнуть и там, где прежде существовала демократия либерального типа.
В начале XXI века, утверждает Закария, пути демократии и свободы, прежде «переплетенных в политической ткани западных обществ, во все большей степени расходятся повсюду в мире» (р. 17). Оказывается, что дефицит демократии отнюдь не всегда может вызывать сожаление, а избыток ее – удовлетворение. Автор доказывает, что демократические процессы в Югославии привели к гражданской войне, что в современной России демократически избранный президент урезает свободу прессы и способствует становлению умеренно авторитарной системы (см. р. 92). Он считает, что проблемы ряда африканских и азиатских государств, которые иногда объясняются недостаточным усвоением демократических принципов, обусловлены неспособностью их руководства реализовать меры, давно претворенные в жизнь в десятках менее демократических, но более развитых стран (см. р. 98). Автор отмечает, что демократизация арабского мира может оказаться предельно опасной, так как сегодня демократические выборы здесь могут привести лишь к победе исламистов и утрате тех немногочисленных достижений вестернизации, которые мы видим сегодня (см. р. 136–140). Наконец, он решительно отвергает спекуляции о якобы антидемократической природе Европейского союза. Институты ЕС, утверждает Закария, получили уникальную возможность принимать рациональные решения без учета популистских соображений, что в значительной мере и обусловило успех европейской интеграции (см. р. 242–243).
На протяжении многих десятилетий либеральная традиция утверждала, что демократия самоценна, как таковая, а ассоциирующиеся с ней проблемы порождены лишь ее недостаточной развитостью. «Лекарство от болезней демократии, – писал еще в 1927 году известный американский философ Джон Дьюи, которого цитирует в своей книге Закария, – это бЧльшая демократия» (р. 240). Анализируя опыт недавней истории, автор приходит к выводу об ошибочности этого рецепта. Распространение демократии «по-американски», которое он удачно сравнивает со столь типичным для американских корпораций франчайзингом (см. там же), способствует становлению режимов, основанных на нелиберальной демократии. Но «в целом, за пределами Европы, нелиберальная демократия не стала эффективным средством формирования демократии либеральной» (р. 100), и потому подобные режимы гораздо менее прогрессивны по сравнению с теми, что не вполне демократическими методами утверждают принципы гражданского общества (Фарид Закария называет их «либерализирующими автократиями», см. р. 56).
Система либерального и при этом «не вполне демократического» общества рассматривается в рецензируемой книге как оптимальная для нынешней ситуации политическая форма. Обосновывая ее достоинства, автор апеллирует к историческому опыту не только западных демократий, сформировавшихся на базе аристократических режимов, но и стран Третьего мира, среди которых последовательно придерживаются демократических принципов только бывшие британские колонии (см. р. 57). Политическое устройство, которое должно опираться на демократические процедуры, но не подменяться нелиберальной демократией, Закария определяет как конституционный либерализм: «На протяжении большей части современной истории характерной чертой правительств Европы и Северной Америки, отличавшей их от правительств в других частях мира, была не демократия, а конституционный либерализм» (р. 20). В начале 30-х годов XIX века в Британии право голоса на выборах в Палату общин имело лишь 1,8 % населения, а избирательное законодательство 1832-го, казавшееся в то время чуть ли не революционным, повысило долю избирателей всего до 2,7 %. Лишь в 1884 году она выросла до 12,1 %, а с 1930-го было введено всеобщее избирательное право. В США ситуация была несколько лучше – в 1824 году на президентских выборах могли голосовать около 5 % взрослых граждан страны, – но это не меняло ситуацию коренным образом (см. р. 20, 50). Не демократические плебисциты, а твердое установление законов и четкое следование им – вот что, по мнению автора, привело к тому, что демократия стала оптимальным дополнением конституционализма в западном мире.
Некритическое отношение к демократии рассматривается в книге как главная угроза, с которой сталкиваются западные общества, угроза тем более опасная, что она исходит изнутри самих этих обществ и редко анализируется с должным вниманием. В последнее время большинство населения стран Запада не готово признать, что у них «демократия процветает, свобода – нет» (р. 17). Сегодня для Запада становится особенно актуальной мысль Гёте, уверенного, что в самом жестоком рабстве пребывает тот, кто ошибочно считает себя свободным.
По мнению Закария, упадок свободы в условиях укрепляющейся демократии наиболее заметен именно в Соединенных Штатах. Он иллюстрирует эту мысль самыми разнообразными примерами. Так, «демократизация» финансовой сферы привела к тому, что солидные и уважаемые банки поглощаются новыми, ориентированными исключительно на предоставление стандартизированных услуг массовому клиенту (см. р. 200). Юристы все больше становятся бизнесменами, и их деятельность способна породить скорее пренебрежение к закону, чем уважение к нему (см. р. 232). Люди на выборных должностях быстро утрачивают интерес к чему бы то ни было, кроме собственного переизбрания (см. р. 172). Политические партии, которые прежде имели четко различающиеся идеологии и подходы, сегодня не располагают сколь-нибудь ясными программами и оказываются придатками своих лидеров (см. р. 181). Даже Церковь уступает свою роль десяткам сект и течений, единственная задача которых – вербовка все новых последователей (см. р. 205–206, 214–215).
Причины всех этих явлений автор видит в изменении отношения общества к заслугам граждан, что привело к «самоубийству элит». Этот момент в его рассуждениях настолько важен, что я остановлюсь на нем подробнее. Какой бы эгалитарной ни считала себя Америка, утверждает Закария, элиты присутствовали в ней всегда; сохраняются они и поныне. Но «прежние элиты представляли собой закрытый круг и основывались на родословной, родстве и этнической близости. Новая система более демократична: людей возвышают их богатство, таланты или известность – и этот процесс отбора, несомненно, является более открытым и предпочтительным. Однако другое важное отличие в том, что прежние элиты ощущали бЧльшую социальную ответственность, в том числе и потому, что их статус был незыблем. Новые элиты действуют в гораздо более открытом и конкурентном мире… Их интересы не простираются далеко и оказываются ограниченными, их горизонтом становится не отдаленное будущее, а непосредственное завтра. В результате они не думают и не действуют так, как должны были бы думать и действовать элиты, и это печально, поскольку они всё еще являются таковыми» (р. 228). Величайшее достоинство демократии, несомненно, состоит в том, что она дала народу возможность контролировать власть и ограничивать ее в действиях, которые большинство считает неправомерными. Величайший же недостаток демократии в том, что она отождествила неправомерные действия с неправильными и отдала большинству на откуп решение вопроса относительно того, что считать верным, а что – ошибочным. Возникшая в результате система сузила горизонты верхушки общества до горизонта низов, свела совершенные интересы к примитивным, сделала логику действий прямолинейной, а ответы на нестандартные вызовы недопустимо шаблонными и упрощенными.
Гражданин Соединенных Штатов, Закария критикует их за выхолащивание принципа демократии и вспоминает в данной связи Индию – свою историческую родину. Как известно, эта страна добилась независимости под руководством Махатмы Ганди, одного из самых выдающихся гуманистов и политиков ХХ века. Затем на протяжении более пятнадцати лет ею руководил Джавахарлал Неру, получивший образование в Хэрроу и Оксфорде по специальности «английская история и литература», человек, не чуравшийся называть себя «последним англичанином, которому довелось управлять Индией». Под его руководством были заложены основы самого большого демократического государства современного мира, где число голосующих избирателей в 3,5 раза больше, чем в США. Но каков результат? Сегодня в правительстве крупнейшего штата Индии, Уттар-Прадеша, каждый третий министр ранее подвергался уголовному преследованию, а каждый пятый обвинялся или даже был осужден за предумышленное убийство. При этом процент явки на избирательные участки в штате (откуда, кстати, избирались в национальный парламент сам Неру и его дочь Индира Ганди) остается наиболее высоким в стране (подробнее см. р. 105–113). В США, разумеется, вряд ли мыслимо что-то подобное. Но не стоит судить о возможных перспективах слишком поспешно.
Каковы же основные выводы рецензируемой книги? На мой взгляд, их два. Во-первых, создание демократического общества в странах нынешней периферии не требует немедленной «демократизации» в традиционном понимании. Автор проводит своеобразную параллель между политической демократизацией и экономической модернизацией. На протяжении последних десятилетий экономические успехи стран, где практикуются преимущественно авторитарные методы руководства, оказываются гораздо более впечатляющими, чем в государствах, начавших с реформирования политической сферы. В книге подчеркивается, что в современных условиях автократические режимы, приверженные соблюдению строгих законов, открывают перед своими народами больше перспектив, чем нелиберальные демократии.
Во-вторых, желание США максимально способствовать распространению демократии служит опасным дестабилизирующим фактором. Американская демократия стремительно вырождается в некий особый тип нелиберальной демократии, и сегодня, когда в самих США «в политической жизни необходимо допускать не больше, а меньше демократии» (р. 248), американцам нечему учить остальной мир. Более того, Фарид Закария находит фундаментальное различие между началом и концом ХХ столетия. Тогда основной целью было «сделать мир более безопасным для демократии», теперь же главной задачей стало «сделать демократию менее опасной для мира» (р. 256).
Справится ли Запад с этой задачей? Если это ему и удастся, главенствующая роль в данном процессе не будет принадлежать Соединенным Штатам. И даже если многим странам придется копировать демократические порядки, то лучше с европейского оригинала, а не с американской копии. Хотя именно она и предлагается сегодня гораздо более настойчиво, но это никого не должно вводить в заблуждение: везде и всегда копии тиражировались в избытке, но ценились дешевле.

Глобализация и неравенство: что – причина, что – следствие?
© "Россия в глобальной политике". № 1, Январь - Март 2003
В.Л. Иноземцев – д. э. н., научный руководитель Центра исследований постиндустриального общества, председатель научно-консультативного совета журнала «Россия в глобальной политике», заместитель главного редактора журнала «Свободная мысль–XXI».
Резюме Современное неравенство – результат не столько внешней экспансии западного мира, сколько его внутреннего прогресса. Впервые в истории оно порождается личными усилиями и успехами представителей одной части общества или цивилизации – потому «новое неравенство» нельзя признать несправедливым.
Рассуждения о глобализации стали приметой нашего времени. Этот не вполне четкий термин, появившийся в литературе в начале 1980-х годов, распространился по страницам научных работ и публицистических статей не менее стремительно, чем в свое время «постиндустриальное общество» или эпоха «модернити». Прошедшие двадцать лет дискуссий о глобализации резко поляризовали отношение исследователей к феномену, скрывающемуся за этим словом. Оказалось, что многие фундаментальные проблемы теории глобализации (если можно говорить о наличии таковой) остались нерешенными. Так, например, до сих пор остается вопросом, не представляет ли собой понятие «глобализация» лишь более «политкорректную» версию термина «вестернизация». Следует ли считать феномен глобализации новым явлением международной и социальной жизни? Ведь общественные науки доказывают, что сегодняшние процессы могут рассматриваться, по меньшей мере, как третья волна глобализации, что масштабы взаимодействия крупнейших национальных экономик в конце XIX столетия по большинству параметров были солиднее, чем в канун XXI века. Наконец, вопрос о связи глобализационных процессов и углубления неравенства в мире не только не имеет вразумительного ответа, но и, как я полагаю, даже не сформулирован пока адекватным образом.
Современная глобализация представляется мне процессом преобразования региональных социально-экономических систем, уже достигших высокой степени взаимозависимости, в единую всемирную систему, развивающуюся на базе относительно унифицированных закономерностей. Используя термины, введенные в научный оборот Фернаном Броделем, можно сказать, что глобализация представляет собой превращение ряда обособленных мирохозяйств (l’Economie-monde) в мировую экономику (l’Economie mondiale).
В то же время следует иметь в виду, что сами по себе различия между l’Economie-monde и l’Economie mondiale не слишком очевидны; любое l’Economie-monde потому и выступает в качестве такового, что границы самого мира (monde) представляются совсем не такими, какими они кажутся нам сегодня. Становление Римской империи, проникновение венецианской торговли на Восток и утверждение европейских позиций на американском континенте были для современников не менее «глобальными» процессами, чем опутывание земного шара сетями Интернета. Рассматривая динамику глобализации, необходимо не упускать из виду два важнейших обстоятельства.
Во-первых, каждый из ее этапов – начиная с развития средиземноморской торговли и до наших дней – был непосредственно обусловлен технологическими достижениями и поступательной сменой доминирующих социальных укладов. Каждое из великих технических новшеств – от косого паруса до паровой машины, от электричества до современных информационных технологий – открывало новую страницу в летописи глобализации. Не менее важно и то, что все эти новшества могли реально повлиять на динамику общемировых процессов лишь в том случае, если они оказывались востребованными обществом. Ни для кого не секрет, что вплоть до начала XIX века Китай оставался наиболее могущественной державой, чей хозяйственный потенциал превосходил суммарную экономическую мощь всех стран Европы [1] и где наука достигала невиданных успехов. Между тем специфика социальной структуры стран Востока, которую можно отчасти охарактеризовать как закоснелую, препятствовала их активной экспансии, как политической, так и культурной. Напротив, склонная к постоянной модернизации западная модель социального устройства способствовала беспредельному расширению границ monde, что в конечном счете и превратило европейское l’Economie-monde в l’Economie mondiale.
Во-вторых, процессы глобализации были четко направлены от «центра» – наиболее динамично развивающегося региона мира – к его «периферии». Тем, кто пытается, используя понятие глобализации, завуалировать «вестернизаторский» аспект нынешних социальных процессов, не следует забывать об этом очевидном обстоятельстве. Историческая правда не должна приноситься в жертву политической корректности; говоря словами Дайнеша Д’Сузы, полезно помнить, что «именно Колумб и его корабли пустились в опасный путь и достигли побережья Америки, а не американские индейцы высадились на берегах Европы» [2]. Выдающийся исследователь экономической истории Энгас Мэддисон имеет все основания называть страны, возникшие за пределами Европы и первоначально населенные европейскими колонистами, – США, Канаду, Австралию и Новую Зеландию – «боковыми ветвями Запада» (Western offshoots) [3]. Элементарные подсчеты свидетельствуют, что из 188 стран, в начале 2000 года входивших в ООН, 36 представляли европейский континент, а еще 125 – территории, в то или иное время находившиеся под управлением европейцев [4].
Таким образом, оценивая глобализацию в историческом контексте, можно без преувеличения рассматривать ее как продолжительный процесс установления европейского доминирования над миром. Даже соглашаясь с критикой сегодняшней ее стадии, проходящей «по сценарию Соединенных Штатов», нужно учитывать, что, хотя «сегодня много говорится об “американском мире”, словосочетание “европейский мир” более подходит для описания двух предшествующих mondialisations, поскольку именно Европа рассеяла по всем континентам свои капиталы, свою технику, свои языки и своих жителей» [5].
Рассматривая глобализацию в историческом контексте, нельзя не заметить, что одной из ее особенностей было формирование новой социальной и хозяйственной культуры в отдаленных регионах мира. Этот процесс способствовал, как правило, ускоренному развитию населявших эти регионы народов. Среди современных антиглобалистов распространено мнение, что отсталость большинства стран Третьего мира порождена в первую очередь разрушительными последствиями европейского колониального господства и варварской эксплуатацией европейцами материальных и людских ресурсов целых континентов. На мой взгляд, этот тезис в значительной степени ошибочен.
Колониализм и его последствия остаются сегодня одной из наиболее спорных проблем мировой истории. Что принесла европейская колонизация народам Африки, Латинской Америки и Азии? Безусловно, во многих своих проявлениях она обернулась позором для европейцев. В колониальных войнах гибли массы коренного населения; введенная колонизаторами в практику работорговля привела в XVI–XIX веках к сокращению населения африканского континента на 16 млн человек [6]. В Европу в гигантских объемах экспортировались золото и драгоценные камни, редкие породы дерева, полезные ископаемые и т. д. Но именно колонизаторы положили начало тем отраслям промышленности и сельского хозяйства, которые подчас и сегодня остаются важнейшими для экономики стран «периферии». Разработка алмазов в Африке, металлов в Латинской Америке, даже возделывание чая на Цейлоне и выращивание каучуковых деревьев в Малайзии – все это было бы невозможно без вмешательства европейцев. Накануне Первой мировой войны хозяйственным лидером планеты стали США, объединившие, как известно, бывшие британские, французские и испанские колониальные владения, а Аргентина, также бывшая испанская колония, заняла седьмую строку в списке крупнейших экономик.
История не знает сослагательного наклонения. Поэтому успехи и неудачи одних стран приходится сравнивать с успехами и неудачами других, а не с тем, какими могли бы быть их собственные успехи и неудачи при ином повороте событий. В таком свете современное положение Третьего мира выглядит удручающим. Но многие ужасы этого положения следует поставить «в заслугу» правительствам и народам самих этих стран. Людские потери в колониальных войнах были огромны, но лишь с 1988 по 2001 год в семи основных конфликтах в Африке было убито не менее 6,3 млн человек [7]. Начиная с 1973-го население континента растет быстрее валового национального продукта (ВНП) составляющих его стран; как следствие, уровень жизни и даже ее продолжительность, считавшаяся главным завоеванием постколониальной эпохи, начинают снижаться [8]. При этом потери природных ресурсов несопоставимы с любыми грабежами, на которые были способны колонизаторы.
Мы далеки от того, чтобы рассматривать европейскую колонизацию как благо для народов стран мировой «периферии», но остается фактом, что именно после того как распались европейские колониальные империи, разрыв в благосостоянии граждан «первого» и Третьего мира стал расти особенно быстрыми темпами. Если в начале XIX века средние доходы в расчете на душу населения в развитом мире превосходили показатели стран, ныне относящихся к развивающимся, в 1,5–3 раза, а в середине ХХ – в 7–9 раз, то существующий в наши дни разрыв составляет 50–75 раз [9]. В какой мере новый виток глобализации ускорил данный процесс? Вызвано ли нарастание разрыва обнищанием населения периферийных регионов? Отличается ли современная глобализация от ее предшествующих стадий?
Начавшийся в 60-е годы прошлого века новый этап развития глобализационных процессов не только не опроверг закономерности, обнаруживаемые на более ранних этапах, но и подтвердил их.
Во-первых, современная глобализация со всей очевидностью продемонстрировала, что экономическое развитие «периферии» в еще большей степени, нежели прежде, зависит от хозяйственных потребностей (и возможностей) великих держав. Нуждаясь в сокращении издержек производства и будучи заинтересованы в импорте дешевых качественных товаров, западные предприниматели обратили взоры к периферийным экономикам, способным освоить значительные инвестиции и обеспечить высокую эффективность производства. В результате выявились новые «точки роста», прежде всего в Юго-Восточной Азии, где, однако, темпы роста ВНП всегда оставались ниже темпов роста внешних инвестиций (которые увеличились в 1987–1992 годах в Малайзии в 9 раз, в Таиланде – в 12, а в Индонезии – в 16 раз [10]); большинство технологий импортировалось, а устойчивость экономического развития целиком определялась возможностями экспорта производимой продукции в развитые страны (так, в 1980-е экономический рост Южной Кореи и Тайваня соответственно на 42 % и 74 % был обусловлен закупками их продукции со стороны одних только США [11]; доля экспорта в ВНП составляла в Южной Корее 26,8 %, на Тайване – 42,5, в Малайзии – 78,8, а в Гонконге и Сингапуре – соответственно 117,3 и 132,9 % [12]). Напротив, в странах Африки, расположенных к югу от Сахары, где совокупные инвестиции в 90-е годы не превосходили объема безвозмездной помощи, предоставляемой по линии гуманитарных программ, хозяйственный рост практически остановился.
Во-вторых, как прежде, так и во второй половине ХХ века неучастие той или иной страны в процессе глобализации представляло собой серьезное препятствие для развития. Согласно данным Всемирного банка, 24 развивающиеся страны, в которых отношение объема экспорта к ВНП в 1960–90-х в среднем удвоилось, повысили темпы роста среднедушевого ВНП с 1 до 5 % в год. В то же время, согласно тем же данным, в 30 странах, наименее активно вовлеченных в международное разделение труда, показатель ВНП на душу населения снизился по сравнению с серединой 1970-х [13]. Последние десятилетия продемонстрировали, что даже мощные экономики не способны обеспечить устойчивое развитие, оставаясь обособленными от мирового хозяйства. Доказательством этого тезиса может служить банкротство советской хозяйственной модели, приведшее к тому, что в 1999–2000 годах Россия, занимая 11,47 % площади на карте мира, обладала лишь 1,63 % мирового ВНП и обеспечивала 1,37 % мирового экспорта, представленного в основном сырьевыми товарами. О негативных последствиях обособленности от мирового хозяйства свидетельствует и затяжной экономический кризис в Японии, долгое время отгороженной от остального мира высокими таможенными барьерами. В этой стране вот уже десять лет темпы роста производства балансируют около нулевой отметки, государственный долг приближается к 170 % ВНП, а дефицит бюджета достигает почти 40 % его доходной части.
В-третьих, как и на более ранних этапах, глобализация остается однонаправленным процессом: иллюзорное единение мира определяется усилиями развитых стран, в то время как активность Третьего мира проявляется лишь в том, что известный американский социолог Сейла Бенхабиб удачно назвала «обратной глобализацией» [14], – в банальной миграции населения «периферии» в страны «центра», принимающей угрожающие масштабы. Так, с 1846 по 1924 год из Великобритании, Италии, Австро-Венгрии (до 1918-го), Германии, Португалии, Испании и Швеции эмигрировали не менее 43 млн человек [15]. Ныне же Европа сама становится прибежищем иммигрантов (8–11 % населения Великобритании, Франции, Голландии, Бельгии и Австрии [16]). В США в середине 1990-х наибольшее число иммигрантов прибывало из 10 стран, среди которых не было ни одной европейской и ни одного государства с продолжительной демократической традицией. Интерес к культурным и социальным традициям стран «периферии» сегодня, как и прежде, носит в развитых странах подчеркнуто антропологический характер. Такие традиции не воспринимаются в качестве значимого источника общецивилизационного прогресса [17].
Итак, процессы, называемые глобализацией, на поверку оказываются естественным результатом освоения сначала европейцами, а затем и представителями Western offshoots все новых регионов планеты. По сути, единственной особенностью современного этапа глобализации является то, что границы «периферии», осваиваемой западным миром, простираются в наши дни на весь земной шар. Постоянно расширявшаяся в прошлом «зона интересов» западной цивилизации достигла естественного предела.
В то же время существенно изменились механизмы глобализации. Во-первых, с каждым новым столетием снижалась и продолжает снижаться роль военной силы в обеспечении позиций западных стран в периферийных регионах. Глобализация, носившая первоначально преимущественно политический характер, сейчас охватывает главным образом экономическую и финансовую сферы. Во-вторых, усилия стран Запада по поддержанию своих доминирующих позиций в мире постоянно сокращаются. Эффективность использования западными странами политического и экономического влияния на периферийные регионы сегодня намного выше, чем двести, сто или даже пятьдесят лет тому назад. Затрачивая минимальные усилия, Запад весьма уверенно контролирует ситуацию в масштабе всей планеты.
Однако установление контроля над остальным миром, достигаемое в ходе нынешнего этапа глобализации, не предполагает включения всей «периферии» в состав единой цивилизации, строящейся на западных принципах демократии и экономического либерализма. Как мы уже отмечали, собственно Western offshoots возникли там, где выходцы из Европы не просто серьезно видоизменили те или иные общества, а скорее создали их с нуля, составив абсолютное большинство населения. Ныне подобная перспектива не кажется сколько-нибудь реалистичной. Более того, любой этап глобализации предполагал наличие центра и провинций, метрополии и колоний, экономического ядра и периферии. Единый и унифицированный мир не был, не является и не может быть целью глобализационного процесса, хотя, как это ни парадоксально, именно против этой угрожающей унификации и направлены наиболее пафосные выступления противников глобализации.
Таким образом, глобализация вполне допускает неравенство и даже предполагает разделение мира на «центр» и «периферию». Однако является ли глобализация причиной неравенства? Основывается ли хозяйственное могущество «центра» на эксплуатации «периферии», или же оно обусловлено внутренними закономерностями развития экономик ведущих стран? Этот вопрос оказался своего рода центральной идеологической проблемой нашего времени, ибо тот или иной ответ на него определяет позиции ученого и политика даже более отчетливо, чем тот или иной ответ на пресловутый основной вопрос философии. Так чем же, если не глобализацией, обусловлено то неравенство, современные масштабы которого представляют собой главную угрозу стабильности существующего мирового порядка?
Глубокий анализ проблемы неравенства объективно затрудняется двумя особенностями субъективного восприятия этого феномена. Во-первых, абсолютное большинство исследователей, глубоко убежденных в несправедливости неравенства, как такового, обходят стороной вопрос о том, какое неравенство может считаться несправедливым и почему. Во-вторых, говоря о материальном неравенстве, обществоведы считают самым очевидным его проявлением бедность, и потому борьба с неравенством сплошь и рядом сводится к борьбе с бедностью.
Западная философская традиция считает неравенство чуть ли не противоестественным – идет ли речь о неравенстве моральном, политическом, экономическом или социальном. Само возникновение христианской религии стало в определенной мере реакцией на несовершенство общества, а идея равенства («человек создан Господом одним и единственным для того, чтобы показать, как приятно Ему единство среди множества» [18]) заняла в ней центральное место. Уже в эпоху Средневековья распространились представления о равенстве людей с точки зрения морали, в XVI–XVIII веках с формированием гражданского общества утвердились принципы политического равенства граждан, к концу XIX – началу ХХ столетия относятся первые радикальные шаги, направленные на преодоление экономического неравенства. В наши дни приверженцы идей мультикультурализма утверждают равную ценность различных существующих в современном мире культурных и мировоззренческих традиций.
Хотя на протяжении большей части ХХ века имущественное неравенство в пределах западного мира уверенно сокращалось (с начала 30-х до середины 70-х доля национального богатства, принадлежавшая одному проценту наиболее состоятельных семей, снизилась в США с 30 до 18 %, в Великобритании – с 60 до 29 %, во Франции – с 58 до 24 % и т. д. [19]), в последние 30 лет тенденция сменилась на противоположную во всех без исключения странах Запада. В 1989–1997 годах доходы одного процента граждан США, составляющего самую богатую часть общества, росли в среднем на 10 % ежегодно. В этот же период доходы наименее обеспеченных [20] процентов росли не более чем на 0,1 % в год 20. К 1981-му упомянутый один процент американского населения увеличил свою долю в национальном богатстве до 24 %, к 1984-му – до 30, а к середине 90-х годов – до 39 %, вернув ее к уровню начала ХХ века [21]. Исходя из представлений о ведущей роли Запада в глобализирующейся экономике, я полагаю, что именно эти тенденции нарастания неравенства в развитых странах и являются основной предпосылкой роста неравенства во всемирном масштабе.
Проблема неравномерности распределения богатства ставилась в социологической литературе крайне редко; вплоть до XIX столетия причину этой несправедливости усматривали в принуждении, основанном на силе. В XIX веке сначала Анри Сен-Симон, а затем Карл Маркс показали соответственно, что предприниматели, новый поднимающийся класс, имеют реальное право претендовать на значительную часть общественного продукта и что капиталистическое производство базируется на непривычном для предшествующих эпох принципе эквивалентного обмена. Таким образом, вот уже более ста лет признается, что имущественное неравенство основано на объективных законах общественного развития, а не порождено чьей-то злой волей.
Чем же обусловливается неравенство в ту или иную эпоху? На мой взгляд, ответ на этот вопрос достаточно прост, но выглядит весьма неожиданным.
Неравенство (и в этом сходятся все его исследователи) определяется тем, что одна социальная группа обретает в обществе особые позиции, позволяющие ей перераспределять в свою пользу непропорционально большую часть общественного богатства. Такую возможность открывает перед ней контроль над наиболее редким ресурсом того или иного общества, наиболее редким фактором производства. На ранних этапах социального прогресса важнейшим ресурсом служила военная сила, монополия на нее определяла доминирующий класс общества. Вся история Древнего мира свидетельствует, что контроль над армией обеспечивал все необходимые рычаги управления. В более поздний период, когда прямое принуждение было дополнено некоторыми элементами экономического, важнейшим ресурсом стали земля и другие условия сельскохозяйственного производства, а собственность на землю определяла принадлежность к доминирующему феодальному классу. По мере того как возникала возможность аккумулировать значительные богатства методами, отличными от эксплуатации крестьянства, роль земли как основного фактора производства снижалась – вплоть до того, что претензии ее собственников на государственную власть стали восприниматься как совершенно безосновательные. Буржуазный строй, при котором все элементы общественного богатства стали товаром, предопределил превращение капитала в решающий фактор производства, а владение им – в главную предпосылку социальной поляризации.
Чего же можно было ожидать дальше? Маркс и его последователи заявили, что новым доминирующим классом должны стать пролетарии, но этот вывод радикально противоречил всей логике предшествующего развития. Труд – то единственное, чем владели представители рабочего класса, – никогда не был редким ресурсом в отличие от военной силы, земли или капитала. А поскольку именно редкость ресурса определяла его ценность и ограничивала численность контролировавшей его социальной группы, труд не мог стать новым доминирующим фактором производства.
В то же время гипотеза Маркса была в целом правильна, так как предполагала, что новый основной фактор производства будет заключен в самих людях и в их способностях. Таковым стали знания – способность человека усваивать информацию и применять полученные навыки и умения в различных сферах своей деятельности.
Переход от индустриальной экономики к экономике знаний считается главной чертой той постиндустриальной трансформации, начало которой относится к 70-м годам ХХ века. Масштаб перемен, порожденных этим процессом, долгое время не представлялся достаточно отчетливо. В 70–80-е многие с восторгом говорили, что информационное общество станет самым свободным и демократическим, так как «информация есть наиболее демократичный источник власти» [22] и открывает возможность участия в общественном производстве без существенного накопления первоначального капитала. Однако вскоре стало ясно, что приобретение и потеря знаний, в отличие от иерархических статусов или денежных богатств, – процесс гораздо более длительный и сложный. Хотя информация и становится все более доступной, но она оказывается наименее демократичным фактором производства, ибо доступность отнюдь не то же самое, что обладание. Знания превращаются в одну из наиболее настоятельных потребностей современного общества (доля американцев, поступающих в колледж после окончания школы, выросла с 15 до 62 % только за последние 50 лет [23]), что определяется в том числе и открывающимися в результате их получения экономическими преимуществами. Так, начиная с середины 1980-х годов в США устойчивый рост доходов прослеживался только у высокообразованных групп населения; в 1998 году 96 % наиболее обеспеченных граждан имели высшее образование. Как отмечал Фрэнсис Фукуяма, «существующие в наше время в Соединенных Штатах классовые различия объясняются главным образом разницей в полученном образовании; социальное неравенство возникает в результате неравного доступа к образованию, а необразованность становится вечным спутником граждан второго сорта» [24].
Неравенство доходов, порождаемое в конечном счете неравенством интеллекта и знаний, гораздо труднее осуждать, нежели определяемое любыми иными факторами. По сравнению с прошлыми историческими эпохами углубление неравенства имеет в наши дни качественно иную природу, и едва ли возможно остановить этот процесс. Но если тенденции, прослеживающиеся в западных странах, определяют облик глобализирующегося мира, то логично предположить, что именно информационное неравенство, не имеющее к пресловутой глобализации прямого отношения, и определяет современный раскол мира на «золотой миллиард» и остальное человечество.
Информационная революция в странах Запада, с одной стороны, резко ослабила их заинтересованность в природных и трудовых ресурсах государств «периферии», а с другой – создала ресурс, практически бесплатное тиражирование которого позволяет западным корпорациям получать многомиллиардные прибыли. В последние десятилетия усиливается не «эксплуатация» «центром» «периферии», а его безразличие к ней. Это иллюстрируется тем, что в начале 90-х годов индустриально развитые государства направляли в страны того же уровня развития 76 % общего объема экспорта и импортировали из развивающихся стран товаров и услуг на сумму, не превышавшую 1,2 % своего суммарного ВНП [25]; суммарные инвестиции Соединенных Штатов, европейских стран и Японии друг в друга, а также в быстро развивающиеся индустриальные страны Азии составляли 94 % общемирового объема прямых иностранных инвестиций [26].
Ситуация в странах «периферии» становится все более катастрофической еще и потому, что выработка новых знаний, в отличие от накопления капиталов, не только не боится конкуренции и общения, но и предполагает их. Поэтому если собственники капитала объективно стремятся расширить сферу своего влияния, то носители знаний, напротив, тяготеют к концентрации и консолидации. Если потоки капиталов и сегодня остаются разнонаправленными, то потенциальные создатели знаний мигрируют исключительно из «периферии» к «центру». Процесс социальной поляризации во всемирном масштабе становится поэтому неконтролируемым и необратимым.
Таким образом, современное углубление мирового неравенства не вызывается изменением интенсивности и направленности финансовых и торговых потоков, которые обычно ассоциируются с инструментами глобализации, а сопровождается таковым. Оно представляется результатом не столько внешней экспансии западного мира, сколько его внутреннего прогресса. Впервые в истории неравенство порождается личными усилиями и успехами представителей одной части общества или одной части цивилизации, и потому в соответствии с традиционными представлениями о справедливости «новое неравенство» нельзя признать несправедливым. Возможно, что по мере осознания этого обстоятельства желание реформировать складывающийся мировой порядок будет угасать. В этом контексте мы хотим еще раз подчеркнуть, что глобализация не является причиной роста неравномерности мирового развития, – скорее она как раз не способна стать значимым фактором его преодоления.
Этим и объясняется изменение ориентиров, которые ставят перед собой современные политики и экономисты. Если в 70-е и в начале 80-х сторонники теорий «догоняющего» развития выступали с позиций необходимости сокращения экономического неравенства между «первым» и Третьим миром, то сегодня акцент ставится на искоренение бедности в странах «периферии». Между тем преодоление неравенства и борьба с бедностью – это далеко не одно и то же. Преодоление неравенства предполагает обеспечение условий для самостоятельного развития периферийных стран, сокращение масштабов бедности – увеличение размеров гуманитарной и иных видов помощи. За изменением акцента стоит важнейшая проблема: в современных условиях даже ускоренное развитие отсталых стран не способно обеспечить сокращение мирового неравенства.
Этот тезис нуждается в конкретизации. Речь идет прежде всего о том, что быстрый экономический рост в отдельных регионах, когда бы он ни инициировался, начинается, как правило, в условиях крайне низкого уровня ВНП (около 300 — 400 дол. на душу населения). Так, в Малайзии он составлял не более 300 дол. в начале 50-х годов, в разрушенной войной Корее – около 100 дол. в конце 50-х, на Тайване – 160 дол. в начале 60-х, в Китае, двинувшемся по пути преобразований в 1978 году, – 280 дол., а во Вьетнаме уровень в 220 дол. был достигнут лишь к середине 80-х [27]. Даже если исходить из того, что ВНП на душу населения в успешно развивающихся странах «периферии» достигает сегодня 3–4 тыс. дол., приходится признать, что для реального сокращения имущественного разрыва с гражданами ведущих западных стран, где этот показатель составляет 20–25 тыс. дол., новым индустриальным странам необходимо обеспечить его рост на 15–20 % в год при 2–3-процентном росте в развитых странах. Неудивительно, что итогом блестящих 80-х годов для Таиланда, Малайзии и Индонезии стало нарастание разрыва в показателе роста ВНП на душу населения по сравнению с показателем, рассчитанным для стран «большой семерки». Этот рост составлял соответственно 7, 23 и 34 % [28]. Таким образом, даже если в относительном выражении сокращение неравенства и может иметь место, разрыв в объеме потребляемых благ между гражданами «первого» и Третьего мира будет лишь увеличиваться.
Более того. Перенос акцента с проблемы неравенства на проблему бедности вызван также и тем, что 1990-е – один из наиболее успешных в ХХ веке периодов развития мировой экономики – ознаменовались дальнейшим ростом численности населения, живущего в условиях крайней бедности (менее чем на 1 дол. в день). Несмотря на то, что его доля в совокупном населении планеты снизилась в 1987–1998 годах с 28,3 до 24,0 %, абсолютная численность увеличилась с 1,18 до 1,2 млрд человек. При этом прирост численности населения, живущего за гранью бедности, составил за эти годы в Южной Азии 10,1 %, а в регионах Африки, прилегающих к Сахаре, – 33,9 % [29]. На протяжении второй половины 90-х среднегодовой объем помощи африканским странам, расположенным к югу от Сахары, составлял 18,36 млрд дол., в то время как суммарные иностранные инвестиции в экономику этих государств не превышали 2 млрд дол. в год [30]. Сегодня в США и странах Западной Европы действуют более 8 тысяч неправительственных организаций, деятельность которых целиком связана с реализацией программ содействия повышению уровня жизни в Третьем мире. При этом безвозмездные поставки обеспечивают до 18 % продовольствия и до 60 % лекарственных препаратов, потребляемых в 60 беднейших странах планеты [31]. Подобная практика становится самовоспроизводящейся, и, таким образом, период надежд на «развитие» завершился, а перспективы многих развивающихся стран связаны лишь с благотворительностью западного мира.
Международный аспект проблемы бедности до известной степени воспроизводит ситуацию, имевшую место в самих развитых странах. Возьмем пример самой богатой из них – Соединенных Штатов Америки. В 1959 году 23,2 % американцев находились за чертой бедности, а беспорядки и насилие достигали уровней, не виданных со времен Гражданской войны 1861–1865 годов [32]. Правительство вынуждено было принять беспрецедентную программу увеличения социальных расходов. Так, в период с 1960 по 1975 год суммы прямых денежных трансфертов и пособий малоимущим выросли более чем вдвое, ассигнования на социальное страхование – в 3,5 раза, средства, направляемые на выделение бесплатного питания и медицинских услуг, – в 4 раза [33]. Как следствие, в 1976-м, когда суммарный объем средств, направляемых на реализацию социальных программ, достиг 18,7 % ВНП, доля бедных американцев снизилась более чем вдвое – до 10,5 % населения [34]. Масштабы предпринятого перераспределения средств поражают воображение: только с 1992 по 1996 год доля расходов на субсидирование малоимущих увеличилась в США с 290 до 420 млрд долларов. Данные пособия довели суммарные доходы 20 % наименее обеспеченных американцев до 5,2 % национального дохода, в то время как без их учета соответствующий показатель не превышал бы 0,9 % [35]. При этом сегодня совершенно очевидно, что социальные программы не приводят к росту экономической самостоятельности и социальной активности наименее обеспеченных групп населения, а лишь консервируют сложившуюся ситуацию.
Подводя итоги, мы можем отметить, что, несмотря на очевидные экономические причины, наиболее существенной из которых оказывается развертывание технологической революции, неравенство, как и прежде, воспринимается как сугубо социальная, а чаще даже морально-этическая проблема. Однако (и это следует подчеркнуть) в начале XXI века, в отличие от предшествующих эпох, неравенство порождается принципиально новыми обстоятельствами, которые оказываются общими для всей цивилизации.
Основанием современных форм неравенства является неравное участие отдельных групп населения и отдельных стран в развертывании технологической революции. Нынешняя глобализация не порождает неравенства между «первым» и Третьим миром, а лишь распространяет на весь мир действие тех механизмов, которые вот уже несколько десятилетий обусловливают углубление неравенства в рамках самой западной цивилизации. При этом, если ведущие западные страны, как мы показали выше, имеют в своем распоряжении существенные ресурсы, позволяющие смягчить наиболее вопиющие последствия имущественной поляризации общества, в мировом масштабе соответствующие механизмы отсутствуют, и это приводит к резкому обострению проблемы.
Концепции глобализации, в рамках которых предпринимаются попытки осмыслить современный мир, в основных своих чертах сформировались во второй половине 80-х и в 90-е годы ХХ века. Характеризуя этот период, можно прибегнуть к аналогии с часто используемым историками приемом выделения так называемых «длинных столетий» (the long centuries) [36], границы которых определяются не формальным наступлением нового века, а событиями, отграничивающими его от предшествующего и последующего. При таком подходе началом «длинных 90-х годов» следует назвать вечер 9 ноября 1989-го, когда была разрушена Берлинская стена, а моментом завершения – утро 11 сентября 2001 года, когда рухнули небоскребы в Нью-Йорке. Между этими событиями заключен самый благополучный, а потому и самый наивный период истории ХХ века. Тогда казалось, что глобализация обусловлена экспансией общечеловеческих ценностей, что неравенство является проблемой нравственного прогресса цивилизации, что информационная революция приведет к распространению демократии, а экономическое развитие обретет бескризисный характер.
Сегодня «длинные 90-е» суть достояние истории. И поэтому становятся все более актуальными задача пересмотра многих социологических концепций, казавшихся фундаментальными, отказ от поверхностных объяснений реальности и попытка глубже понять, почему все более глобализирующийся мир был, есть и остается «расколотой цивилизацией».
1 Рассчитано по: Kennedy P. The Rise and Fall of Great Powers. Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. London: Fontana Press, 1988, p. 190.
2 D’Souza D. What’s So Great About America. Washington (DC): Regnery Publishing Inc., 2002, p. 39.
3 См.: Maddison A. Monitoring the World Economy 1820-1992. Paris: OECD, 1995, pp. 19-21.
4 Abernethy D. B. The Dynamics of Global Dominance. European Overseas Empires, 1415-1980. New Haven (Ct.), London: Yale University Press, 2000, p. 12.
5 Revel J-F. L'obsession anti-amПricaine. Son fonctionnement, ses causes, ses incon-sПquences. Paris: Plon, 2002, р. 80.
6 См.: Braudel F. Civilisation matПrielle, Пconomie et capitalisme, XVe – XVIIIe siПcle, t. 3, рр. 377-378.
7 См.: SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Disarmament and International Security. Oxford: Oxford University Press, 2002, pp. 24, 27, 33, 36, 64 и др.
8 См.: Lancaster C. Aid to Africa: So Much to Do, So Little Done. Chicago, London: University of Chicago Press, 1999, p. 19; Human Development Report 2001. New York: United Nations, 2001, p. 169.
9 См.: Сohen D. The Wealth of the World and the Poverty of Nations. Cambridge (Ma.): MIT Press, p. 17.
10 См.: McLeod R. H. and Garnaut R. East Asia in Crisis. From Being a Miracle to Needing One? London, New York: Routledge, 1998, p. 50.
11 См.: Thurow L. Head to Head. The Coming Economic Battle Among Japan, Europe, and America. New York: Warner Books, 1993, p. 62.
12 См.: Goldstein M. The Asian Financial Crisis: Causes, Cures and Systemic Implications. Washington (DC): Institute for International Economics, 1998, p. 27.
13 См.: Globalization, Growth and Poverty. Building an Inclusive World Economy. Washington (DC): The World Bank, 2002, рр. 4-5.
14 См.: Benhabib S. The Claims of Culture. Equality and Diversity in the Global Era. Princeton (NJ), Oxford: Princeton University Press, 2002, р. 182.
15 См.: Nugent W. Crossings. The Great Transatlantic Migrations, 1870-1914, table 8, p. 30; table 9, p. 43.
16 См.: Sassen S. Guests and Aliens. New York: New Press, 1999, table 1, p. 161.
17 См.: Wallerstein I. The End of the World as We Know It. Social Science for the Twenty-First Century. Minneapolis (Mn.), London: University of Minnesota Press, 1999, pр. 171-176.
18 St. Augustinus. De civitate Dei, XII, 21.
19 См.: Pakulski J. and Waters M. The Death of Class. London: Sage Publications, 1996, p. 78.
20 См.: Gephardt R. with Wessel M. An Even Better Place. America in the 21st Century. New York: Public Affairs, 1999, p. 33.
21 См.: Nelson J. I. Post-Industrial Capitalism. Exploring Economic Inequality in America. Thousand Oaks (Ca.), London: Sage Publications, 1995, pp. 8-9.
22 Toffler A. Powershift: Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of the 21st Century. New York: Bantam Books, 1991, p. 12.
23 См.: Bell D. Sociological Journeys: Essays 1960-1980. New Brunswick (NJ), London: Transaction Books, 1982, p. 153; Mandel M. J. The High-Risk Society. Peril and Promise in the New Economy. New York: Random House, 1996, p. 43.
24 Fukuyama F. The End of History and the Last Man. London: Penguin, 1992, p. 116.
25 См.: Krugman P. Peddling Prosperity. Economic Sense and Nonsense in the Age of Diminishing Expectations. New York, London: W. W. Norton, 1994, p. 231; George Kenwood, and Alan Lougheed. The Growth of the International Economy 1820-1990. An Introductory Text. London, New York: Routledge, 1992, p. 288; Krugman P. ‘Does Third World Growth Hurt First World Prosperity?’ in Kenichi Ohmae (ed.). The Evolving Global Economy: Making Sense of the New World Order. Boston: Harvard Business School Press, 1995, p. 117.
26 См.: Heilbroner R. and Milberg W. The Making of Economic Society. 10th ed. Upper Saddle River (NJ): Prentice Hall, 1998, p. 159.
27 См.: Mahathir bin Mohammad. The Way Forward. London: Weidenfeld & Nicolson, 1998, p. 19; Yergin D. and Stanislaw J. The Commanding Heights. New York: Simon & Schuster, 1998, p. 169; Robinson R. and Goodman D. S. G. (eds.). The New Rich in Asia. London, New York: Routledge, 1996, p. 207; Murray G. Vietnam: Dawn of a New Market. New York: St. Martin's Press, 1997, p. 2.
28 См.: Рalat R. A. (ed.) Pacific-Asia and the Future of the World System. Westport (Ct.): Avon, 1993, pp. 77-78.
29 Рассчитано по: World Development Report 2000/2001. Attacking Poverty. Washington (DC): World Bank, 2001, table 1.1, р. 23.
30 Рассчитано по: Lancaster C. Aid to Africa. So Much to Do, So Little Done. Chicago, London: Univ. of Chicago Press, 1999, table 5, p. 70.
31 См.: Gardner G. ‘Food Aid Falls Sharply’ in Brown L. R., Renner M., Flavin Ch. (eds.). Vital Signs. The Environmental Trends that are Shaping Our Future 1997-1998. London: Earthscan Publications Ltd., 1997, p. 110.
32 См.: Lind M. The Next American Nation. The New Nationalism and the Fourth American Revolution. New York: Free Press, 1995, p. 111.
33 См.: Burtless G. ‘Public Spending on the Poor: Historical Trends and Economic Limits’ in Seldon Danziger. Sandefur G., and Weinberg D. (eds.). Confronting Poverty: Prescription for Change. Cambridge (Ma.): Harvard Univ. Press, 1994, pp. 57, 63-64.
34 См.: Pierson Ch. Beyond the Welfare State? The New Political Economy of Welfare. Cambridge: Polity Press, 1995, p. 128; Jencks Ch. ‘Is the American Underclass Growing?’ in Jencks Ch., Peterson P. E. (eds.) The Urban Underclass. Washington (DC): Brookings Institution, 1991, p. 34; Madrick J. The End of Affluence. The Causes and Consequences of America’s Economic Dilemma. New York: Random House, 1995, p. 152.
35 См.: Fischer C. S., Hout M., Jankowski M. S., Lucas S., Swidler A. and Voss K. Inequality by Design. Cracking the Bell Curve Myth. Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 1996, p. 132; Luttwak E. Turbo-Capitalism. Winners and Losers in the Global Economy. London: Weidenfeld & Nicolson, 1998, pp. 86-87.
36 См., напр.: Briggs A. and Snowman D. (eds.). Fins de SiПcle: How Centuries End 1400-2000. New Haven (Ct.), London: Yale Univ. Press, 1996; Arrighi G. The Long Twentieth Century. London: Verso, 1994, и др.

XXI век: расходящиеся дороги развития
© "Россия в глобальной политике". № 1, Ноябрь - Декабрь 2002
Л.М. Григорьев — к.э.н., ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, член Научно-консультативного совета журнала "Россия в глобальной политике".
Резюме Развивающийся мир, к которому сегодня относится и Россия, не догонит мир развитой. На рубеже тысячелетий темпы роста основных групп государств выровнялись. Это означает, что разрыв между ними не преодолевается, а консервируется, сближение уровней развития практически невозможно. Шанс совершить прорыв, направив на цели развития средства, освободившиеся после окончания холодной войны, был упущен.
Насколько устойчива экономическая ситуация в мире? Отвечая на этот вопрос в середине 1990-х годов, большинство политиков и аналитиков были настроены оптимистически: развитые и развивающиеся страны демонстрировали высокие темпы роста, к тому же большая группа государств перешла от планового хозяйства к рыночному. Сегодня процессы, происходящие в мировой экономике, дают серьезные основания для тревоги. На рубеже тысячелетий темпы роста основных групп стран (развитые, развивающиеся и переходные) сблизились и стабилизировались (см. график 1). Это означает, что разрыв между ними не преодолевается, а консервируется, сближение уровней развития практически невозможно. Напротив, эти группы будут следовать по расходящимся дорогам, постепенно отдаляясь друг от друга.
График 1. Динамика реального ВВП развитых, развивающихся и переходных стран за 1990–2003 гг. (в процентах)
Источник: МВФ (сентябрь 2002 г.), МБРР.
Развитые страны — нервный рост
Что происходит в развитом мире и есть ли основания для панических предсказаний, которыми обывателя исправно пугают газеты? В целом можно констатировать, что группа развитых стран находится в “хорошей форме”. К концу 2002-го стало ясно, что США преодолели прошлогоднюю рецессию. Американский подъем 1991–2000 годов был одним из самых мощных и самым продолжительным в истории — без обычного спада посредине десятилетия. В основе его лежали огромные капиталовложения и “дивиденд от мира” (результат окончания холодной войны), который наряду с другими факторами позволил в течение трех лет сводить бюджет с профицитом. Биржевой крах “проколол” спекулятивный “шарик”, но вложенные ресурсы никуда не исчезли и будут давать растущий эффект. Промышленное производство выросло в полтора раза. Несмотря на экономические проблемы 2001-го, США ощутимо увеличили военные расходы и расходы на безопасность. (Причем эти траты являются не столько финансовыми потерями бюджета, сколько стимулом роста спроса.) Теперь же, когда кризис в основном миновал, США получат новые материальные возможности для укрепления своей роли в мире.
В принципе, весь развитой мир начинает выходить из застоя прошедших двух лет (хронические проблемы испытывает только Япония). В 2002–2003 годах впереди, видимо, останутся США, зона евро будет двигаться медленнее. Согласно прогнозу МВФ на 2002–2003 годы, реальный ВВП в развитом мире вырастет на 2,7–2,8 %. Реальные цены на импортируемые развитыми странами первичные товары из развивающихся стран ниже уровня 1990-го. Бюджеты развитого мира сбалансированы лучше, чем когда-либо. Так что 29 стран, представляющих примерно 56 % мирового ВВП по оценкам МВФ [1], могут ожидать возврата к циклическому росту.
Конечно, темпы роста ниже, чем предполагалось, но какой-либо непосредственной угрозы развитию нет. Как и всегда на выходе из кризиса, нет полной ясности, какая отрасль возьмет на себя функцию очередного локомотива роста и что станет основой подъема. Важно, однако, что постиндустриальное общество уже не зависит от ограниченного набора отраслей.
При этом в развитом мире ощущается нервозность, которой не было в 1990-е годы. Обусловлена она главным образом внешними, а не внутренними факторами. В экономике это вопрос устойчивости поставок нефти, цены на нефть и газ, а также корпоративные скандалы и затянувшиеся биржевые потрясения, которые, как правило, предшествуют кризису, а не происходят на стадии перехода к росту. Инстинктивное желание инвесторов уйти в безопасные регионы, по сути дела домой, подкрепляется ощущением конфликтности в политической сфере (Ближний Восток, Ирак, Балканы, общая угроза терроризма). Дискомфорт создают также нерешенные глобальные проблемы: загрязнение окружающей среды, изменения климата, бедность, рост наркотрафика.
Среди внутренних проблем развитого мира отметим главную — ослабление позиций среднего класса. В Европе это подогрело правые, расистские и антииммигрантские настроения, особенно ярко проявившиеся во время недавних парламентских выборов во Франции и Нидерландах. Нервозность усугубляется сложными процессами интеграции, которые заставляют европейцев интенсивно искать способы адаптации к новым условиям существования. Совокупность всех этих факторов вынуждает ведущие державы в большей степени концентрироваться на собственных проблемах, тогда как их интерес к общемировому развитию снижается. Попытки совместить жесткую бюджетную дисциплину (особенно в ЕС) с социальной поддержкой собственных “бедных и обиженных”, растущая вовлеченность европейцев в операции США и НАТО по поддержанию стабильности (Балканы, Азия и пр.) также не стимулируют притока ресурсов в развивающийся мир. После 11 сентября 2001-го все отчетливее проявляется “синдром осторожности” в отношении других стран, особенно в том, что касается долгосрочных инвестиций в зоны военного риска. В нынешней ситуации Запад, похоже, больше озабочен защитой собственного образа жизни и развивается сам по себе, продолжая отдаляться от остального мира.
Нефть — дело деликатное
Особняком стоят страны-экспортеры нефти, особенно члены ОПЕК, сочетающие ряд признаков развитых и множество признаков развивающихся стран. Их отличают относительно высокий уровень дохода на душу населения (в арабском мире) и вообще наличие собственных стабильных источников дохода. В то же время для них характерны монокультура производства и экспорта, низкий уровень развития обрабатывающей промышленности и услуг, часто архаичные политические системы, большие госрасходы, экспорт (в ряде случаев бегство) капитала и ограниченные возможности развития. Колебания доходов настолько велики, что условия роста весьма своеобразны и отличаются как от развитых, так и развивающихся стран [2]. Эти страны, как правило, почти не заимствуют у международных финансовых организаций, но обременены частными долгами.
Развитым странам на фазе выхода из кризиса нужна стабильность нефтяных цен, при этом чем они ниже, тем лучше. В 1990-е годы доходы стран ОПЕК составляли примерно 120–160 млрд долларов в год. За падением до 104 млрд в 1998-м последовал взлет до 250 млрд в 2000 году с постепенным снижением до 175 млрд в 2002-м [3].
Колебания цен и доходов приводят к серьезной неравномерности в торговых и платежных балансах не только стран-экспортеров нефти в том числе например России, но и импортеров. Они затрагивают циклические процессы в развитых странах, но одновременно могут усугубить кризисы, например, в Аргентине и Бразилии, которые испытывают трудности с платежным балансом и выплатами по долгам. Каждый взлет нефтяных цен отражается и на беднейших странах. Это лишний раз указывает на недостатки спотового рынка нефти с точки зрения развития. Очевидно также, что внутренняя стабильность (через бюджеты и внешнеторговые балансы и т. п.) в ряде больших групп важнейших стран мира зиждется на хрупком равновесии между интересами экспортеров, основных импортеров (и их компаний), а также трейдеров. В процесс глобального роста как бы встроен сложный раскачивающий механизм со случайной функцией — ценой на нефть.
Периоды высоких цен на нефть непродолжительны, роль нефти как фактора развития (раньше эту функцию выполняли каучук, медь и т. п.) не вечна. В 1991–2000 годах, когда среднеарифметическая цена барреля нефти “Брент” составляла примерно 19 долларов, экономический рост в мире достигал порядка 3 % от реального объема ВВП. В этот же период рост потребления нефти увеличивался примерно на 1 % в год и составил в общей сложности 12 %. Прогнозируя будущее, следует исходить из того, что цены на нефть более 25 долларов за баррель будут стимулировать процессы энергосбережения. Уменьшения роста добычи и потребления нефти в мире можно ожидать как на основании естественных ценовых факторов, так и в силу специальных мероприятий в странах ОЭСР, цель которых — снизить зависимость от импорта нефти. Таким образом, прогноз роста на 1,5–2 % мирового спроса на нефть, скорее всего, чересчур оптимистичен [4]. Шанс стран-экспортеров на развитие и модернизацию будет упущен, если высокие доходы уйдут не на накопление, а на потребление, вывоз капитала и тому подобные цели.
Устойчивое развитие — ускользающая цель
За сорок лет, прошедших с момента массового обретения независимости бывшими колониями, эксперименты по развитию беднейших стран принесли весьма ограниченные результаты. Каждые десять лет мировое сообщество вынуждено списывать долги и изобретать новые формы помощи. В 90-е также не удалось достичь устойчивости развития бедных и беднейших стран [5].
В Декларации Тысячелетия 2000 года содержалось обещание к 2015-му снизить вдвое число абсолютно бедных, но не были указаны средства решения этой задачи. Усилия по восстановлению объема и уровня помощи, предпринятые со стороны ООН и развивающихся стран на конференциях 2002 года, привели к неоднозначным результатам. Международная конференция по финансированию развития, проходившая под эгидой ООН с 18 по 22 марта 2002-го в Монтеррее (Мексика), завершилась обещанием США и ЕС увеличить официальную помощь развивающимся странам в предстоящее десятилетие еще на 50 млрд долларов. Это важный результат, но тем самым фактическая помощь всего лишь восстанавливается до уровня предыдущих лет. Пока недостижимой целью ООН остается предоставление развитыми странами помощи в размере 0,7 % от их ВВП.
Саммит в Йоханнесбурге (ЮАР) в августе — сентябре 2002 года можно считать успешным, особенно в том, что касается ряда намерений, связанных с экологией. Но в организационном и финансовом отношении его результаты не меняют ситуацию в мире, новой модели развития пока не просматривается [6]. Декларация конференции в Йоханнесбурге констатировала: “Постоянно возрастающий разрыв между развитым и развивающимся миром представляет главную угрозу глобальному процветанию, безопасности и стабильности” [7].
В 1990-е была упущена уникальная возможность обратить средства, сэкономленные от противостояния двух идеологических лагерей, на цели развития. Эти деньги способствовали дальнейшему прогрессу развитых рыночных демократий, как таковых. Целый ряд стран (прежде всего Африки и Азии), которые переживали периоды роста, в минувшее десятилетие понесли огромные потери накопленного человеческого и управленческого капитала в локальных вооруженных конфликтах. Вопиющим примером того, как нация своими руками разрушает предпосылки собственного развития, стала политически мотивированная ликвидация белого фермерства в Зимбабве. “Черный передел”, затеянный Робертом Мугабе, отбросил на десятилетия назад не только страну, но и весь регион (Зимбабве была главным производителем продовольствия для всех соседей). К тому же и без того ограниченные ресурсы международного сообщества отвлекаются от целей развития на постконфликтное восстановление (Босния, Руанда).
Районы “бедствий” оказывают депрессивное воздействие на соседей: неурегулированность многих конфликтов препятствует долгосрочному деловому планированию. Крупные инфраструктурные проекты практически неосуществимы в условиях угрозы терроризма, наличия территориальных споров или неопределенности с правами собственности.
В 1990-е официальная помощь развитию (ОПР) со стороны развитых стран заметно сокращалась. Наблюдается “усталость” от предыдущих попыток содействовать развитию. Они не приводили к успеху в силу коррупции на местах и неспособности ряда стран должным образом использовать помощь (самый яркий пример — масштабные выплаты Палестине, которые попросту оказались пущены на ветер, поскольку там возобновился разрушительный конфликт). Если в 1990–1998 годах (за исключением 1996-го — см. график 2) официальная помощь развитию (практически это гранты) составляла 45–60 млрд долларов, то в 2000–2001 годах она упала ниже уровня 1985-го — порядка 35 млрд долларов. (В отношении к ВВП стран-доноров ОПР сократилась с 0,35 % до 0,22 %.)
Поиск моделей участия иностранной помощи и капитала в экономическом развитии стран с нарождающимися рынками продолжается. Упор делался на снижение долгов, развитие рыночной экономики, призывы увеличить помощь. Однако любая помощь окажется бессмысленной, если не будут отлажены эффективные механизмы ее использования.
График 2. Динамика официальной помощи развитию, прямых и портфельных инвестиций в развивающиеся страны, млрд долларов в ценах 2001 г. (млрд дол., 1985–2002 гг.).
Источник: Всемирный банк.
Частный капитал и рост в 90-х
В середине минувшего десятилетия на какой-то период создалось впечатление, что увеличившийся приток частного капитала из стран ОЭСР в развивающиеся страны поможет им совершить качественный скачок. По темпам роста в 1991–1997 годах развивающиеся страны заметно опережали развитые. На этих данных основывались оптимистические оценки положительного влияния глобализации, в частности либерализации финансовой деятельности, информационной революции и т. д., на динамику развития.
На самом деле общий экономический подъем опирался на быстрый рост ограниченного числа ведущих развивающихся стран, в которые шел основной поток прямых инвестиций и которые в период до 1997-го сумели использовать их для развития и ускорения. Это латиноамериканские (Аргентина, Бразилия, Мексика, Чили), центрально- и восточноевропейские (Польша, Венгрия, Чехия) и азиатские (Корея, Малайзия, Таиланд, Сингапур) страны, а также Китай и Гонконг [8].
Некоторые компоненты этих потоков отличались неустойчивостью. Например, частные займы колебались от 90 млрд долларов до –0,7 млрд в год (см. график 3). Общий валовой приток частных ресурсов увеличился с уровня 30–45 млрд долларов в год в конце 1980-х до почти 290 млрд в 1997–1998 годах. Правда рост частных вложений в 1990-х отражал три важных дополнительных фактора по сравнению с 1980-ми годами: резкий рост инвестиций в Китай, приватизацию в Бразилии и Аргентине, появление как объекта инвестирования большой группы государств с переходной экономикой Центральной и Восточной Европы и СНГ (27 стран).
График 3. Динамика притока валового и чистого (валовой минус проценты по кредитам и прибыль по иностранным инвестициям) частного капитала в развивающиеся страны (млрд. дол., 1985–2002 гг.).
Источник: Всемирный банк, 2002 г.
Графики 2 и 3 показывают, что приток чистых ресурсов в развивающиеся страны резко сократился одновременно с официальной помощью в разгар азиатского кризиса конца 1990-х [9]. В то же время наблюдается большой параллельный “увод” сбережений из развивающихся стран, причем не столько международными компаниями, сколько в большой степени местными политическими и деловыми элитами. Наиболее подвижный портфельный и банковский капитал на время создает возможность серьезного роста финансирования, но при оттоке может стать инструментом эскалации кризисов, что и наблюдалось в прошлое десятилетие. Всем стало ясно, насколько опасна опора на портфельные инвестиции, и прямые инвестиции превратились наконец в основной инструмент переноса развития в развивающиеся страны. Следует, однако, учитывать, что частный капитал крайне чувствителен к реальным или потенциальным рискам и не может компенсировать нехватку собственных усилий правительств и бизнеса развивающихся стран.
Исследования показывают, что укрепление прав собственности, ограничение черного рынка, расширение политических свобод и борьба с коррупцией способствуют экономическому развитию. Мир бедности по-прежнему характеризуется ограниченным притоком внешних ресурсов, не слишком эффективным использованием ресурсов собственных, а также непрекращающимися конфликтами, которые подрывают успехи, достигнутые в периоды стабильности. Согласно данным ЮНКТАД, обнародованным в конце октября 2002-го, объем прямых инвестиций в мире снизился в текущем году на 27 %. В частности, инвестиции в Африку снизились с 17 млрд долларов до 6 миллиардов.
Ведущие лидеры регионов — насколько они устойчивы?
Опыт последнего десятилетия показал, что мало добиться роста на какое-то время, гораздо важнее поддерживать его в длительной перспективе. Развитые страны тем и отличаются, что способны удерживать высокий уровень развития, несмотря на войны и кризисы. В этой связи необходимо проанализировать группу ведущих стран — развивающихся, переходных и даже развитых, лидирующих в своих регионах. Как локомотивы роста, они устанавливают де-факто стандарты стабильности, их банки выступают в роли надежного “ближнего зарубежья” для соседей и т. п. Если прогресс и рост тормозятся в странах-лидерах регионов, это ведет к общему замедлению, потере момента движения в направлении реформ и социально-политической устойчивости.
Например, экономический крах и трудноразрешимые политические проблемы в Индонезии серьезно повлияли на развитие Юго-Восточной Азии, кризис затронул “тигров”, рост которых был столь впечатляющим в прошлом: Таиланд, Малайзию, Южную Корею, Сингапур. Тяжелейшие кризисы поразили Аргентину, Бразилию и Турцию — государства-лидеры роста в 1990-х годах. Драма конца 1990-х заключается в том, что жертвами кризисов и конфликтов стали страны, обладавшие солидным потенциалом роста, включая накопленный управленческий и человеческий капитал (например, балканские государства).
Для этих среднеразвитых стран — соседей России по рейтингам — характерен размер ВВП на душу населения в пределах 4–12 тысяч долларов. Создается новая угроза мировому экономическому прогрессу — потеря надежды догнать первый эшелон. При анализе 15 государств, играющих важную роль в регионах (помимо Северной Америки, Западной Европы и Японии) становится очевидно, что если нет роста даже в таких странах, на которые приходится около 33 % мирового ВВП, то вряд ли стоит говорить об общем масштабном прогрессе в мире. Среднегодовые темпы прироста ВВП в этих странах сократились в 1998–2001 годах по сравнению с 1994–1997 годами с 6,3 до 4,6 %. Но отчасти речь идет о лукавстве статистики: за вычетом России, Индии и Китая в 12 оставшихся ведущих государствах разных континентов темпы прироста ВВП снизились гораздо резче — с 4,8 до 1,85 %. С 1998 по 2001 год лишь Россия ускорила свое развитие (даже включая год дефолта). В Китае и некоторых других странах наблюдается замедление роста. Индия и Египет сохранили темпы. Сочетая концентрацию ресурсов с постепенной либерализацией коммерческой деятельности, Китай, вес которого в экономике развивающегося мира огромен, укрепляет иллюзию общего значительного прогресса.
Многие ключевые страны, прежде всего Аргентина, Турция и, возможно, Бразилия, испытали или испытывают острейший кризис. В Израиле и Мексике наблюдается спад.
Именно у среднеразвитых стран имелась возможность масштабного внешнего заимствования, теперь же они испытывают все трудности долговых потрясений. Как недавно отметил нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц, “мы до сих пор не умеем управлять кризисами” [10]. От позитивной динамики этих стран зависят среди прочего также региональная торговля, миграция рабочей силы, уверенность инвесторов. Региональные и гражданские конфликты, перемежаемые экономическими потрясениями, создают пеструю картину, отчасти напоминающую ситуацию столетней давности.
Модернизация по жестким правилам
Постепенная стабилизация в странах с переходной экономикой (28 стран Европы и Азии без Китая и Вьетнама, по критериям МВФ), особенно четырехлетний подъем в России, отодвинула их проблемы на второй план. Анализ, специально проведенный Международным валютным фондом в 2000 году, показал, что в течение XX века не произошло радикального изменения в соотношении государств на международной арене [11]. В частности, социалистическая индустриализация в бывшем СССР не повлияла на положение России относительно большинства развитых стран мира в 2000-м по сравнению с 1900 годом. Правда, увеличилось отставание от ведущих стран по размерам реального ВВП на душу населения.
Страны Восточной и Центральной Европы реинтегрируются с Западом примерно с тех же относительных стартовых позиций (40–45 % ВВП на душу населения по сравнению с Западной Европой), которые они занимали в первой половине XX века [12]. По итогам прошлого столетия развитые страны росли в целом быстрее и все больше отрывались не только от беднейших стран, но и от “второго эшелона”. Чемпионами в классе перемещений вверх по относительной шкале оказались Китай и Тайвань, заметно продвинулись вверх Япония и Корея. Все эти государства отличались на этапе ускорения концентрацией ресурсов, высокой (30 % и более) нормой накопления в ВВП, экспортной ориентацией и “реформами сверху”.
В России вопросы модернизации стали обсуждаться все более активно по мере преодоления затяжного кризиса переходного периода и ликвидации прямых последствий финансового краха 1998 года. Пожалуй, впервые в истории страна и на востоке, и на западе граничит с государствами, которые демонстрируют ощутимо более высокие темпы роста и для которых характерны устойчивое управление и осознанные экономические стратегии (вроде интеграции в ЕС). Список негативных последствий краха 1998-го возглавляют огромный внешний долг, дефицит доверия населения и предприятий к финансовым институтам, низкая норма накопления (18 % при среднемировых 23 %), низкая капитализация даже ведущих российских компаний. А главное — низкий уровень формирования среднего класса, доступ к ресурсам и рентоориентированное поведение участников процесса накопления. В этом контексте возникли дискуссии вокруг проблем догоняющего развития, вреда или пользы промышленной политики и т. п.
1990-е годы определили характер экономических и политических систем, возникших в переходных странах. Переходные государства можно разделить на несколько групп, находящихся на разных стадиях развития. Европейскими лидерами по формированию рыночных институтов и темпам экономического роста являются Словения, Польша, Чехия и Венгрия, ближе к ним — страны Балтии. Но целая группа стран в результате внешних и гражданских конфликтов, неудачной экономической политики и т. п. оказывается во все более трудном положении. По одному из критериев ООН (ВВП меньше 800 долларов на душу населения и др.), многие постсоциалистические страны попали в группу наименее развитых: Албания, Босния, Молдавия, Азербайджан, Армения, Грузия, Таджикистан и Киргизия; к этой группе примыкает даже Украина.
Россия, Казахстан и некоторые другие страны выделяются тем, что, несмотря на наличие огромных проблем, неравномерность предшествующего развития и неадекватность институционального базиса, они все же перешли к росту. Теперь перед Россией и более продвинутой группой стран стоят сходные проблемы: рост наметился, рынок есть и признан ЕС, установилась социально-политическая стабильность — осталось обзавестись эффективным рыночным хозяйством и модернизировать экономику, приблизив ее к уровню стран Западной Европы (от 5–10 тыс. долларов ВВП на душу населения до 15–20 в обозримом будущем). Вступление центрально- и восточноевропейских стран в Европейский союз даст им пространство для сбыта, жесткие правила финансового поведения (по бюджетным дефицитам и т. п.) и гранты на региональное развитие.
Фактически помощь международных финансовых организаций (МФО) постепенно становится для России скорее страховкой, нежели опорой. Упор на роль частного капитала в программах МФО и (несколько запоздалое) институциональное развитие как раз показывают, что с точки зрения развитого мира переход к рынку на востоке Европы, в сущности, завершен. Это означает, что переходные страны будут все больше рассматриваться как обычные среднеразвитые (или развивающиеся). Обедневшие государства также постепенно растворяются в обычных международных категориях. Специальный “переходный” статус все более утрачивает общее для этих стран содержание. Что же касается конкуренции на товарных рынках, то новые переходные экономики и в 1990-х не имели особых поблажек в качестве “награды” за отказ от планового хозяйства.
Нет ничего предосудительного в “догоняющей” экономике или в использовании естественных или накопленных страной преимуществ в целях ускорения своего развития. К тому же страна сама определяет способ развития исходя из характера ресурсов, интересов держателей основных активов и политической и финансовой элиты. И если страна развивается в направлении интеграции на базе иностранного капитала (венгерский вариант), то это в конечном итоге тоже выбор. Если окажется, что в России победил вариант развития на базе интегрированных бизнес-групп, то это будет наш выбор. Правда, этот вариант также не гарантирует быстрой и масштабной модернизации, поскольку любые инвестиции в нем должны в первую очередь отвечать корпоративным интересам. Заметим, что роль новых международных требований по финансовой отчетности, правил ВТО по конкуренции, в частности возможное появление экологических и трудовых стандартов, могут вести к закреплению фактического разделения труда в мире. Ведь разрушение окружающей среды и сверхэксплуатация труда — это “марксистское” прошлое промышленно развитых стран, которого они не стесняются, но не рекомендуют другим, прежде всего по этическим соображениям. Но тем самым ужесточение правил конкуренции в мире ведет к новой ситуации, в которой экономический рост и развитие, в отличие от времен “дикого” капитализма, будут осуществляться в рамках сложной (и недешевой) системы правил. Понятно, насколько это ужесточит требования к ведению бизнеса по сравнению с нынешней ситуацией.
Модернизация по новым правилам для стран переходного периода возможна, но это — нелегкое дело. Рассчитывать на иностранную помощь или капиталовложения как на основной фактор роста не приходится. Модернизация всегда была результатом огромной внутренней активности, использования внутренних ресурсов и удачных внешних обстоятельств.
Экономическое развитие мира в начале XXI века осложняется в условиях общей политической нестабильности, локальных и гражданских конфликтов, разрушающих плоды предшествующего развития. Многие ключевые страны регионов охвачены кризисами, и соответственно осложнились процессы выравнивания. Способность стран к опережающему развитию, которую в недавнем прошлом демонстрировали, например, Тайвань и Южная Корея, сегодня значительно ограничены. Сложившаяся парадигма развития не решает важнейших проблем мирового развития, но пока у нее нет альтернативы. Перед различными по уровню и типу развития группами стран стоят свои проблемы, они решают их собственными методами, идут во многом своими дорогами. Конвергенция мира в процессах глобализации была, пожалуй, переоценена в период подъема 90-х годов и информационной революции. Гармоничное устойчивое развитие пока ускользает. Миру не грозит катастрофа, но нет твердой надежды на то, что серьезные проблемы удастся решить в короткие сроки. Решение этих проблем придет с осознанием глобальной взаимозависимости и ответственности. Общие правила игры в мире установлены на ближайший период, и возможность модернизации реализуется у той страны, которая найдет нетривиальные пути использования собственных национальных ресурсов.
1. См .: World Economic Outlook, IMF, April 2002, Washington.
2. Л.М. Григорьев, А.В. Чаплыгина. Саудовская Аравия — нефть и развитие // Международная энергетическая политика, 2002 (сент.). № 7.
3. См. расчеты: Global Oil Market Analysis, A.G. Edwards, August 19, 2002, p. 15.
4. См.: В. Алекперов. Нефтяной потенциал // Нефть России. 2002. № 9. С . 12.
5. William Easterly. The Elusive Quest for Growth: Economists’ Adventures and Misadventures in the Tropics. MIT Press, 2001.
6. Highlights of commitments and implementation initiatives. UN Johannesburg Summit, September 12, 2002.
7. The Johannesburg Declaration on Sustainable Development, September 4, 2002.
8. Л. М. Григорьев.Трансформация без иностранного капитала: десять лет спустя // Вопросы экономики. 2001. № 6.
9. Отток ресурсов рассчитан условно: прибыли и проценты могли быть реинвестированы.
10. Дж. Стиглиц. Преодоление нестабильности // Ведомости. 2002. 25 сент.
11. The World Economy in the Twentieth Century: Striking Developments and Policy Lessons. Сh. 5. In: World Economic Outlook, IMF, April 2000, Washington.
12. I. Berend. From Regime Change to Sustained Growth in Central and Eastern Europe // Economic Survey of Europe, 2000, № 2/3, p. 49.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

























