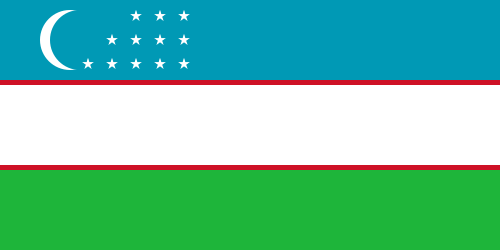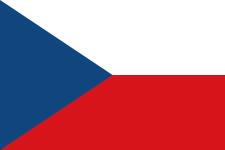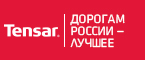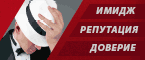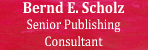Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
Главные отличия.
Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Валютные войны
Кто оплатит выход из кризиса?
Резюме: Инструменты, имеющиеся у мирового сообщества для урегулирования валютного спора между США и Китаем, весьма ограничены. При неблагоприятном сценарии конфликт выльется в общий рост протекционизма. В случае второго витка долгового кризиса он приобретет геополитическое измерение.
«Сегодня, как и в прошлом, обострение экономических и финансовых проблем приводит к нарушению социального равновесия, подрыву демократии, падению доверия к институтам, и может перерасти в войну – гражданскую или международную».
Доминик Стросс-Кан, директор-распорядитель МВФ, 8 декабря 2010 года
В 1990-е гг. Международный валютный фонд с подачи Соединенных Штатов настойчиво рекомендовал странам с переходными экономиками привязывать обменные курсы к сильным и устойчивым мировым валютам, то есть к американскому доллару. Жесткие курсы минимизировали валютные риски зарубежных инвесторов и таким образом стимулировали приток иностранных капиталов, особенно в страны Юго-Восточной Азии.
В середине десятилетия США подняли ставки для борьбы с инфляцией. Чтобы удержать фиксированные курсы, развивающиеся страны были вынуждены тоже поднять ставки. Их валюты стали дорожать, что тормозило экспорт и увеличивало внешнюю задолженность. В 1997 г. на фоне обрушения тайского бата, индонезийской рупии, филиппинского песо и малайзийского ринггита Юго-Восточная Азия оказалась во власти сильнейшего финансового кризиса.
Понесенный ущерб фактически был той ценой, которую страны региона заплатили за одностороннее приспособление к денежно-кредитной политике Вашингтона. Теперь, 15 лет спустя, угроза односторонней адаптации нависла над Соединенными Штатами. Огромный дисбаланс по внешним расчетам, особенно с Китаем, делает американцев зависимыми от курса юаня. Впервые в современной истории страна – эмитент главной мировой валюты борется за проведение независимой экономической политики. До сих пор это право принадлежало ей безоговорочно и безраздельно.
Линия фронта
После окончания острой фазы кризиса главным стал вопрос о том, кто заплатит за восстановление экономического роста. Средства платежа определены заранее – безработица и снижение уровня жизни.
По официальным данным, рецессия в США закончилась в середине 2009 года. В четвертом квартале 2009 г. и в первом квартале 2010 г. ВВП рос со скоростью 4–5% годовых. Но во втором и третьем кварталах, когда отменили фискальные стимулы, темпы упали до 2% годовых. А этого явно недостаточно для сокращения безработицы, которая за время кризиса увеличилась вдвое – с 5 до 10% рабочей силы. Из потерянных к концу 2009 г. 8,4 млн рабочих мест за последующие три квартала удалось восстановить только 900 тысяч.
В начале ноября руководство Федеральной резервной системы (ФРС) объявило о втором этапе количественного смягчения: до конца второго квартала 2011 г. планируется скупить казначейских облигаций на общую сумму в 600 млрд долларов. Глава ведомства Бен Бернанке, выступая 19 ноября во Франкфурте-на-Майне, так объяснял это решение: «При нынешней траектории экономического развития Соединенные Штаты подвергаются риску иметь на протяжении многих лет миллионы безработных… Как общество мы должны признать этот выход неприемлемым». Согласно позиции ФРС, поддержка экономического роста в США вносит вклад в общий рост мировой экономики, а также повышает устойчивость доллара, который играет ключевую роль в международной валютно-финансовой системе.
Правда, ФРС умалчивает, что дальнейшая накачка долларовой ликвидности способствует долговременному обесценению доллара. А также о том, что дополнительная эмиссия всегда ведет к инфляции, и только страна с доминирующей в мире валютой может, по меткому выражению французского экономиста Жака Рюэффа, позволить себе «дефицит без слез». ФРС привычно рассчитывает на то, что новая порция избыточной долларовой массы будет размазана по миру, и потому не вызовет всплеска цен в самих Соединенных Штатах. То есть в денежно-кредитной политике Вашингтон действует по праву сильнейшего игрока: защищает национальные интересы и не слишком беспокоится об интересах партнеров.
Но есть сфера, где эта независимость уже нарушена. Речь идет о хроническом дисбалансе внешних расчетов США по текущим операциям, в том числе о значительном превышении импорта над экспортом (Рис. 1). В 2008 г. отрицательное торговое сальдо превысило 800 млрд долларов, увеличившись с 2001 г. вдвое. За тот же период времени дефицит в торговле с Китаем вырос в 3,2 раза, а доля КНР в данном показателе поднялась с 20 до 32%. Уже в 2004–2005 гг. Соединенные Штаты всерьез озаботились проблемой недооцененного курса юаня и начали требовать от Пекина его ревальвации. Американская позиция нашла поддержку на встречах министров финансов G7. Результатом этой кампании стало то, что Народный банк Китая (НБК), то есть центробанк, официально перешел от фиксированного курса юаня к управляемому плаванию.
Рис. 1. Баланс США по торговле товарами в 2001–2010 гг., млрд долл.

Примечание: 2010 г. – данные за 10 месяцев. Источник: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division
В июле 2005 г. обменный курс, находившийся долгие годы на отметке 8,28 юаня за 1 доллар, повысился до 8,11. Следующие три года он плавно рос и в сентябре 2008 г. достиг 6,82 юаня за доллар. В общей сложности за это время юань подорожал на 20%. Дальше случился глобальный кризис. Инвесторы стали уходить из валют развивающихся стран в доллары, считавшиеся самым надежным вложением. Хотя США находились в эпицентре кризиса, доллар испытал повышательное, а не понижательное давление рынков – исключительно благодаря статусу главной мировой валюты. Соответственно, укрепление юаня к доллару прекратилось, но, в отличие от многих других валют развивающихся стран, юань не обесценивался. Полтора года курс стоял на месте, а летом 2010 г. наметилось новое, очень осторожное повышение.
По итогам 2009 г. Соединенные Штаты значительно сократили импорт – с 2,1 до 1,6 трлн долларов, что позволило на 40% уменьшить дефицит торгового баланса – с 840 до 500 млрд долларов. В торговле с Китаем успех был минимальным, в результате на него пришлось чуть менее половины всего внешнеторгового сальдо США. Данные за десять месяцев 2010 г. немного лучше, но общей картины они не меняют. Американские власти убедились, что они могут сократить дефицит по внешним расчетам, но, увы, не с Китаем. Поднять пошлины на китайские товары или ограничить их ввоз количественно не позволяют правила ВТО. Остается только заставить Пекин ревальвировать юань. Для этого Вашингтону нужна широкая международная поддержка, особенно в лице МВФ и «Большой двадцатки».
На последнем саммите G20, состоявшемся 11–12 ноября 2010 г. в Сеуле, вопросам курсообразования придавалось первостепенное значение. В принятом совместном плане действий на первом месте значатся меры, призванные «обеспечить дальнейшее восстановление и устойчивый рост [мировой экономики], а также повысить стабильность финансовых рынков, в особенности за счет движения к рыночным системам курсообразования и поощрения гибкости валютных курсов». Участники саммита заявили о стремлении «воздерживаться от конкурентных девальваций». Развитым странам с резервными валютами было рекомендовано «избегать излишней волатильности и беспорядочных колебаний обменных курсов».
Саммит ясно обнаружил две точки зрения на происходящее в мировой валютной системе – развитых и развивающихся стран. У первых (главным образом в лице Соединенных Штатов) вызвал недовольство заниженный курс юаня и то, что были девальвированы некоторые другие валюты быстро растущих экономик. Вторые обеспокоены сильными колебаниями курсов доллара и евро, а также безответственной, по их мнению, денежно-кредитной политикой Вашингтона. И тех и других курсы валют волнуют по той причине, что в них сегодня уперся вопрос о глобальной стратегии возобновления экономического роста. То есть о том, какие страны будут на выходе из кризиса руководствоваться исключительно национальными интересами, а каким придется приспосабливаться к политике более сильных игроков. Важны не курсы сами по себе, а то, кто сможет навязать свою волю партнерам и переложить на них плату за восстановление мировой экономики.
Пекин, как и следовало ожидать, полностью отвергает обвинения США в заниженном курсе юаня. Согласно официальному заявлению, с 19 июня 2010 г. НБК перешел к более гибкому режиму курсообразования. Он также начал кампанию по подготовке китайских предприятий и банков к более частым и значительным колебаниям юаня. Экспортерам рекомендуется переключаться с трудо- и ресурсоемких производств на выпуск технологически сложных изделий, а также вкладывать средства в сферу услуг. Считается, что ее развитие позволит нарастить емкость внутреннего рынка, снизить зависимость от внешних рынков и создать множество рабочих мест.
Заместитель управляющего НБК Ху Сяолянь в заявлении, сделанном 30 июля 2010 г., главными целями экономической политики страны назвала экономический рост, полную занятость, ценовую стабильность и баланс расчетов НБК. По ее словам, «реформа режима обменного курса продемонстрировала международному сообществу приверженность Пекина задаче достижения глобального экономического баланса и обеспечения более благоприятного международного климата», притом что «плавающий курс юаня характеризует Китай как …ответственного участника мирового сообщества». Словосочетание «валютные войны» в официальных материалах НБК по понятным причинам не упоминается.
Куда более свободно и напористо выражает свои мысли Сяо Ган, председатель Совета директоров Банка Китая, одного из крупнейших коммерческих банков страны, бывшего до недавнего времени государственным. Его двухстраничная статья «Валютная война без победителей», опубликованная 12 ноября 2010 г., производит впечатление внешнеполитического ультиматума. Первый абзац звучит отрывисто, как выстрел: «Перекладывание государственного долга на другие страны, блокирование китайских инвестиций и ограничение экспорта нанесут ущерб восстановлению мировой экономики».
Федеральная резервная система Соединенных Штатов прямо называется «главной силой, подрывающей доллар», а политика денежного смягчения – опасной. «При процентных ставках, близких к нулю, страна снова печатает деньги, проталкивая их на американские рынки, откуда они растекаются по всему миру. В результате доверие к доллару подрывается, инфляционные ожидания растут, а цены на сырьевые товары бьют новые рекорды. Еще хуже то, что обесценение доллара уже негативно сказалось на экономике и валютах других стран, которые в ответ вынуждены ограничивать движение капитала или проводить интервенции на валютных рынках». По словам господина Сяо, США проводят политику разорения соседа, пытаясь интернационализировать госдолг, образовавшийся вследствие национализации частных долгов в период кризиса.
Особенно показательной является фраза, брошенная как будто невзначай, хотя в этом манифесте нет ни одного случайного слова: «Распределение накопленного долга по миру путем ослабления доллара заставит другие страны принять меры по защите своих валют, и, в конечном счете, изолирует доллар от тех, кто им пользуется. Поэтому Соединенным Штатам следует воздержаться от второго этапа количественного смягчения» (курсив мой. – О.Б.). Устами Сяо Гана Пекин сообщает Вашингтону, что век доллара не бесконечен, что его судьба зависит от доброй воли миллионов рядовых участников рынка, которых никто не может заставить использовать ту или иную валюту для заключения сделок. О том, что будет с курсом доллара, если Китай начнет диверсифицировать свои официальные резервы, достигающие 2,6 трлн долларов, говорить не приходится.
За китайской стеной
Действующий в Китае режим обменного курса власти именуют регулируемым плаванием, однако МВФ расценивает его как фиксированный – исходя из реального движения котировок. Возникает вопрос: почему Китай не переходит к свободному плаванию, то есть к курсу, который бы целиком определялся спросом и предложением на валютном рынке? Попытаемся ответить.
В финансовой сфере любая страна сталкивается с «магической триадой»: фиксированный курс, автономия денежно-кредитной политики и либеральный режим движения капиталов. Из трех условий можно выбрать только два, третьим приходится жертвовать. Когда центральный банк повышает или понижает ставку рефинансирования (иначе – учетную ставку), это приводит к соответствующему повышению или снижению всех остальных процентных ставок в экономике и заодно – доходности ценных бумаг с плавающим процентом. Зарубежным инвесторам становится более или менее выгодно, чем раньше, вкладываться в местную валюту. При росте процентной ставки их спрос на валюту растет, а при падении – падает. Приток или отток капиталов в страну толкает вверх или вниз курс местной валюты. То есть при свободном движении капиталов процентная политика самым прямым образом воздействует на обменный курс.
На практике это выливается в три возможные схемы. Первая – фиксированный курс плюс независимая денежно-кредитная политика и минус свободное движение капиталов. Именно эту схему практикует сегодня Китай. Вторая – фиксированный курс плюс свободное движение капиталов и минус независимая денежно-кредитная политика. Данная комбинация наиболее уязвима, поскольку денежные власти теряют возможность проводить антициклическое регулирование экономики. В периоды кризиса они обязаны любой ценой держать валютный курс, жертвуя интересами реального сектора. Именно это произошло в 2008–2009 гг. со странами Балтии, чьи национальные валюты были привязаны к евро в рамках механизма обменных курсов – 2 (МОК-2). Не случайно Эстония с 1 января 2011 г. поспешила перейти на евро, чтобы, наконец, освободить национальную экономику от валютного пресса. Третья схема – плавающий курс плюс независимая денежно-кредитная политика и свободное движение капиталов. Ее придерживаются все промышленно развитые страны и, естественно, эмитенты резервных валют.
При всем многообразии режимов обменного курса (валютное управление, фиксированный курс, валютный коридор, управляемое плавание и свободное плавание) главные баталии разворачиваются вокруг выбора между фиксированным и плавающим курсом. Их влияние на макроэкономическую политику одним из первых описал американский экономист Милтон Фридман, который еще в начале 1950-х гг. показал несостоятельность Бреттон-Вудской системы фиксированных курсов. Выкладки Фридмана подразумевали свободное движение капиталов, однако до начала 1990-х гг. почти все страны сохраняли валютные ограничения, а технические возможности систем трансграничных расчетов оставались весьма скромными. Рост информационных технологий, переход социалистических и развивающихся стран к открытой рыночной экономике, а также повсеместная отмена валютных ограничений радикально изменили обстановку на финансовых рынках.
Первый звонок прозвучал в 1992–1993 гг., когда под ударами спекулянтов были девальвированы фунт стерлингов, итальянская лира, шведская крона и еще несколько европейских валют. Валютный коридор, в рамках которого они привязывались к ЭКЮ (официально он именовался механизмом совместного плавания), оказался ненадежным укрытием в условиях развитых и подвижных финансовых рынков. Экономисты заговорили о том, что половинчатым решениям в курсовой политике приходит конец. Это только укрепило решимость стран ЕС перейти к единой валюте, незадолго до этого провозглашенной Маастрихтским договором. После кризисов в Юго-Восточной Азии и России 1997–1998 гг. вопрос о том, быть ли курсу фиксированным или плавающим, окончательно перебрался из учебников экономической теории на торговые площадки и в правительственные кабинеты.
С этого момента в мировой структуре валютных режимов началось вымывание середины. На Рис. 2 показано, как менялось число стран, практикующих различные валютные режимы. Для корректного сравнения из статистики исключены 34 страны с населением менее 1 млн человек (29 из которых имеют фиксированные курсы) и 14 государств Западноафриканского и Центральноафриканского валютных союзов (ЗАВС, ЦАВС). По данным МВФ, из оставшихся почти 140 стран в 1996 г. де-факто фиксированный курс имели 26, а в 2010 г. – уже 45. Число стран со свободным плаванием возросло за указанное время с 53 до 66. Правда, в 2009 г. МВФ изменил методику классификации валютных режимов, что добавило очков данной категории. Количество государств, практикующих смешанные режимы (валютные коридоры и управляемое плавание), сократилось в два с лишним раза – с 55 до 25.
Рис. 2. Режимы обменных курсов стран МВФ с населением более 1 млн человек в 1996–2010 гг.
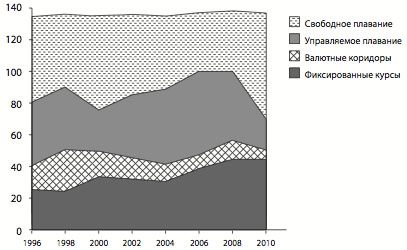
Примечание. МВФ дает сведения о реальных, а не декларируемых странами курсовых режимах. В группу стран с фиксированными курсами включены государства, практикующие также режим валютной палаты и официально отказавшиеся от национальных денежных единиц.
Источник: IMF Annual Report за соответствующие годы
Как видно, сегодня мировая практика не дает однозначного ответа в пользу свободного плавания. Да, его применяют все промышленно развитые страны и многие государства с формирующимися рынками, в том числе Мексика, Аргентина, Колумбия, Чили, Индонезия, Филиппины, Таиланд, Турция, Венгрия и Польша. Тем не менее, число стран, считающих необходимым избавить свой бизнес и население от валютных колебаний, неуклонно растет. Кроме Китая, к этой группе в 2010 г. относились, например, Гонконг, Бангладеш, Ирак, Шри-Ланка, Вьетнам, Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Катар, Бахрейн, Иордания, Кувейт, Ливия, Марокко, Намибия, Сирия, Тунис, Боливия, Венесуэла, Дания, Болгария, Латвия, Литва и Эстония. В списке мы видим не только крупный финансовый центр – Гонконг – но и богатых нефтеэкспортеров, а также членов Европейского союза.
Хотя международные институты обычно пропагандируют либеральный режим движения капиталов, его издержки не скрываются. В последнем «Глобальном докладе о финансовой стабильности», опубликованном МВФ в апреле 2010 г., говорится, что приток капиталов в страну расширяет базу для финансирования экономики, особенно в странах с недостаточными сбережениями, и содействует развитию финансовых рынков. Если же реальный сектор неспособен принять значительные объемы поступающих в страну инвестиций, это приводит к неадекватному расширению внутреннего спроса, перегреву экономики, инфляции и повышению реального обменного курса национальной валюты. Массированный приток капиталов «может также вызвать вздутие цен на фондовые активы и повышение системных рисков в финансовом секторе – в отдельных случаях даже при надлежащем надзоре и эффективной работе регуляторов». Далее эксперты МВФ честно признают, что эффективность контроля над движением капиталов оказывается тем выше, чем дольше он действует. Иначе говоря, сняв ограничения однажды, их нельзя ввести вновь, рассчитывая на прежний результат.
То есть фиксированный курс юаня вкупе с ограниченным движением капиталов необходимы Китаю для того, чтобы обеспечить управляемость национальной экономики. Легко представить, как это важно для страны с огромным населением, низким уровнем жизни и не поддающейся подсчету безработицей (по разным оценкам, она составляет от 30 до 150 млн человек). Сменив парадигму, Пекин улучшит условия для выхода из кризиса Соединенных Штатов, но оставит без тормозов собственную экономику. Возможно, через несколько лет обстоятельства изменятся, и страна проведет полную либерализацию валютной сферы. Но сейчас цена такого перехода была бы необоснованно высокой.
Мирные переговоры
Международная финансовая архитектура нуждается в коренной перестройке, с этим согласны все. Специалисты даже говорят о третьем Бреттон-Вудсе. Подразумевается, что действующая с 1971 г. система будет заменена на что-то кардинально иное. Главные направления реформы хорошо известны: изменение правил МВФ и его политики регулирования текущих балансов, совершенствование надзора за финансовыми рынками и использованием новых инструментов, учет возросшей роли развивающихся стран в мировых финансах, увязка действий МВФ и ВТО с тем, чтобы не допустить роста протекционизма.
Движение к новой системе займет несколько лет, возможно, десять и более. А решать вопрос конкурентных девальваций предстоит сейчас. Какие же для этого имеются средства?
Надо сказать, что вопрос о «правильном» обменном курсе – один из самых загадочных в современной экономике. Есть мнение, что, пока в ходу были монеты из благородных металлов, их обмен не вызывал проблем. Но это не так. Первые монеты появились в VI в. до н. э., а уже в III–II вв. до н. э. в Риме внутреннее денежное обращение было отделено от внешнего. В пределах государства ходили денарии и тяжелые бронзовые отливки полновесной монеты – aes grave. Для нужд внешней торговли чеканились монеты из серебра и легкой меди, не имевшие в самой метрополии официального статуса. Во второй половине XIX века большинство стран мира перешло с серебряного стандарта на золотой. Международная торговля велась исключительно на золото, а позже – на переводные векселя в фунтах стерлингов. Так или иначе, до краха Бреттон-Вудской системы обменные курсы базировались на золотом содержании валют.
Когда в 1971 г. это мерило исчезло, на первый план вышла концепция паритета покупательной способности (ППС), разработанная шведским экономистом Густавом Касселем. Согласно ей, валютный курс уравнивает количество товаров и услуг, которые можно приобрести за данную денежную единицу в стране-эмитенте и в другой стране после конвертирования. Увы, на практике ППС почти никогда не соблюдается. Известно, что за один доллар в Индии можно купить намного больше товаров, чем в Швейцарии. Внутренние цены сильно зависят от цен на местное сырье, топливо и рабочую силу. А поскольку в международную торговлю попадает не более трети всех производимых в мире товаров и услуг, то валютный курс не может и не должен отражать общего соотношения цен между странами. Как правило, обменные курсы развивающихся стран отклоняются вниз от ППС, а развитых – вверх (Рис. 3).
Рис. 3. Отношение номинального курса национальных валют к паритету покупательной способности в 2009 году
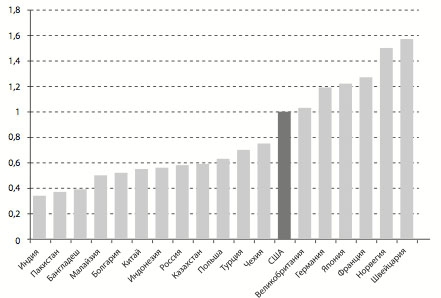
Примечание: рассчитано на основе вмененного курса международного доллара, используемого МВФ. Источник: World Economic Outlook Database, IMF
По данным МВФ, в 2009 г. текущий курс юаня составлял 55% от ППС, что находилось в одном ряду с показателями других развивающихся стран Азии. В России курс равнялся 58%, а в Польше – 63% ППС. Приведенные цифры не позволяют утверждать, что курс юаня в настоящее время занижен. Точно так же, как нельзя считать завышенными курсы норвежской кроны и швейцарского франка, хотя они в полтора раза выше ППС. Здесь уместно вспомнить девальвацию рубля в августе 1998 года. Кризис наступил в момент, когда курс поднялся до 70% ППС. По мнению многих аналитиков, для России – страны с переходной экономикой – данный уровень был завышен и не соответствовал рыночным реалиям. То, что сейчас курс рубля находится на более низкой отметке по отношению к ППС, усиливает эмпирическое обоснование данного утверждения.
Кроме ППС, существует несколько моделей равновесного курса. Их цель – рассчитать, при каком курсе экономика страны будет находиться в состоянии внутреннего и внешнего равновесия. Речь идет о нулевом или минимальном сальдо баланса по текущим расчетам, низкой инфляции, минимальной безработице и устойчивых темпах роста. Хотя данные модели позволяют выяснять, какой уровень курса лучше отвечает задачам экономического развития конкретной страны, они непригодны для международных сравнений. Тем более с их помощью невозможно измерить «справедливость» курсовых соотношений.
Трудно себе представить, как мировое сообщество могло бы заняться урегулированием валютного конфликта между США и Китаем, перейди он в острую фазу. Величина искомого курса неизвестна, а инструменты воздействия на участников поединка крайне ограничены. Да, G20 рекомендовала странам с активными балансами текущих расчетов наращивать внутренний спрос, а странам с пассивными балансами увеличивать размер сбережений и стимулировать экспорт. Начать первым, конечно, не захочет никто. Вернее, обе стороны осуществят небольшие подвижки, не противоречащие их текущим интересам. Китай, например, уже неоднократно повышал ставку рефинансирования и норму обязательного резервирования.
Решения G20 не имеют обязательной силы, и проведение их в жизнь зависит от приверженности участников общим целям. Средства принуждения возникают у МВФ, но только когда страна обращается к нему за кредитом. Изначально фонд создавался для помощи развивающимся и бедным странам на случай, если их отрицательное сальдо по внешним расчетам ведет к резкому обесценению национальной валюты. Механизмы МВФ не рассчитаны на то, чтобы заставить страну с главной мировой валютой восстановить баланс внешних расчетов или прекратить кредитную экспансию. Точно так же фонд не обладает полномочиями на случай заниженного курса валюты при большом профиците торгового баланса. То есть конфликт США и Китая выходит за пределы мандата МВФ. Тем более им не хочет и не будет заниматься ВТО, хотя некоторые склонны толковать конкурентные девальвации как необоснованные преимущества национальным экспортерам.
Еще один широко обсуждаемый выход – возвращение (частичное или полное) к золотому стандарту. С началом кризиса тема приобрела всемирную популярность, в России же с ностальгией стали вспоминать золотой червонец периода НЭПа. 8 ноября 2010 г. новостные ленты многих стран сообщили, что глава Всемирного банка Роберт Зеллик предложил привязать валюты ведущих экономик мира к золоту. Ничего подобного профессиональный экономист сказать, конечно, не мог. Дословно Зеллик заявил следующее: «Двадцатке следует дополнить ее программу восстановления экономики планом построения валютной системы, работающей на принципах взаимопомощи и отражающей экономические условия стран с формирующимися рынками. В новую систему, как представляется, нужно включить доллар, евро, иену, фунт и юань… Следует также рассмотреть возможность использования в данной системе золота как международного ориентира рыночных ожиданий в отношении инфляции, дефляции и будущей стоимости валют». В действительности возвращение к золоту невозможно, поскольку на этом пути лежит несколько непреодолимых препятствий.
Первое – золота недостаточно для того, чтобы обеспечить растущие потребности мировой экономики. Если курс валют будет жестко фиксирован к золоту, выпуск каждой новой банкноты должен будет сопровождаться новой порцией желтого металла, положенного в государственное хранилище. С 2004-го по март 2010 г. объем золота в резервах стран МВФ сократился с 898 до 871 млн унций (примерно с 28 до 27 тыс. тонн). Ежегодная мировая добыча золота держится в последние годы на уровне 2,5 тыс. тонн и не увеличивается, несмотря на рост цен. Почти половину названного объема добывают пять стран: Китай, Австралия, ЮАР, США и Россия (автор благодарит пользователя журнала old-pferd.livejournal.com за дискуссию и консультацию по вопросам добычи золота).
Отношение добычи к резервам составляет 9%, а ежегодный прирост денежной массы – не менее 6–8% (исходя из 4–5-процентного прироста ВВП и 2–3-процентной инфляции). Иначе говоря, привязав сегодня все валюты мира к имеющемуся золоту, мир очень скоро столкнется с его нехваткой для обеспечения нормального денежного оборота. И это при условии, что вся добыча пойдет в хранилища центробанков.
Вторая причина коренится в показанной выше взаимосвязи денежно-кредитной и валютной политики. При курсе, фиксированном к золоту, странам удастся сохранить свободное движение капиталов, только если они откажутся от проведения независимой денежно-кредитной политики. Другими словами, возвращение к золотому стандарту означало бы, что все страны переходят к режиму валютной палаты (currency board), при котором ЦБ фактически не может проводить антициклическую политику. Что станет при золотом стандарте с межбанковскими ставками, вообще трудно себе представить. Не исключено, что денежные рынки тихо отомрут.
Третья причина – золото не только денежный, но и обыкновенный промышленный товар. Спрос на него предъявляют ювелирная промышленность, а также электронная, электротехническая, космическая и передовое приборостроение. То есть при гипотетической привязке денег к золоту цели денежной политики будут вступать в противоречие с развитием высоких технологий. Коллизия, прямо скажем, не из лучших.
Общие выводы, которые следует сделать мировому сообществу, включая Россию, сводятся к следующим тезисам:
Трансформация мировой валютной системы в сторону многополярности, начавшаяся с введения в 1999 г. единой европейской валюты, медленно набирает силу. Участие в нынешнем валютном конфликте первой и третьей по величине ВВП стран мира придает происходящему важное геополитическое звучание.
Конфликт еще раз высвечивает проблемы, с которыми сталкиваются промышленно развитые страны ввиду усиливающейся глобализации. В последнее десятилетие они поддерживали экономический рост и уровень благосостояния во многом за счет увеличения государственного долга. Теперь этот источник близок к исчерпанию, а противоречие между экономическими центрами с разной стоимостью рабочей силы и разными системами социального обеспечения приобретает новые формы.
России следует максимально осторожно подходить к дальнейшей либерализации ее валютного режима и режима движения капиталов. Не исключено, что в ближайшее время отдельные страны начнут усиливать контроль над этой сферой, особенно если политика денежного смягчения в США усугубит волатильность курсов главных валют и мобильность спекулятивных капиталов.
Инструменты, имеющиеся у мирового сообщества для урегулирования валютного спора между Соединенными Штатами и Китаем, весьма ограничены. При благоприятном сценарии конфликт останется латентным. При неблагоприятном – выльется в общий рост протекционизма. Многое будет зависеть от того, насколько странам Запада удастся снизить уровень государственной задолженности. При втором витке долгового кризиса он приобретет геополитическое измерение.
О.В. Буторина – д. э. н., профессор, заведующая кафедрой европейской интеграции, советник ректора МГИМО (У) МИД России, член научно-консультативного совета журнала «Россия в глобальной политике».

Образ желаемой современности
Дмитрий Ефременко
Шансы России в постамериканском мире
Дмитрий Ефременко – доктор политических наук, заместитель директора Института научной информации по общественным наукам РАН.
Резюме Сохранение за Россией статуса самостоятельного глобального игрока, даже если для этого потребуется привлечь серьезные дополнительные ресурсы, окажется менее затратным и рискованным, чем вхождение в зону притяжения одного из более мощных полюсов.
Советский Союз еще был жив, хотя и дышал на ладан, когда торжествующая победу в холодной войне Америка начала гонку триумфалистских манифестов. В одних декларировалась историческая необратимость американоцентричного миропорядка; авторы других были более осторожны, как, например, Чарльз Краутхаммер, который ограничил временной горизонт глобального доминирования США тремя-четырьмя десятилетиями. Но едва миновала половина этого срока, как аналитики и обозреватели принялись соревноваться, делая заявления с обратным знаком.
Фарид Закария, автор модной книги «Постамериканский мир», видит главную проблему не в упадке Америки, а в «подъеме остальных», что стало возможным благодаря американскому экономическому, политическому, военному и культурному лидерству. Вместе с тем он откровенно говорит об ошибках и провалах, которые привели к сокращению периода абсолютного американского доминирования после окончания холодной войны. Книга Закарии была опубликована в первой половине 2008 г., еще до того, как разразился глобальный финансовый кризис. Но именно он стал точкой невозврата в процессе «постамериканизации». Благодаря кризису международные отношения обретают новое качество, адаптироваться к нему придется всем их участникам. В том числе, разумеется, и России.
Мир многополярный, постамериканский – это то, к чему Москва стремилась, начиная по крайней мере со знаменитого разворота Евгения Примакова над Атлантикой. Но теперь, когда желанный миропорядок становится реальностью, впору задать вопрос: а готова ли к нему Россия? Благодаря эрозии американской гегемонии открываются не только возможности, но и риски, связанные с силовым полицентризмом. Ведь после окончания холодной войны Россия испытывала не только горечь от приниженного положения в системе международных отношений и страх перед минимизацией ее влияния на постсоветстком пространстве, но и комфортное чувство пребывания в нише крупнейшего экспортера энергоносителей. И хотя последнее можно рассматривать как признак экономической деградации и дискриминации в системе мирохозяйственных связей, Владимир Путин с успехом использовал «тучные годы» для терапевтического лечения социальных травм, вызванных посткоммунистическими трансформациями. Он также сумел сконцентрировать ресурсы, достаточные, чтобы позволить себе в Мюнхене «откровенный разговор» с западными партнерами. Теперь же эти «преимущества дискриминации» постепенно уходят, а за реализацию новых возможностей еще только предстоит бороться, и, по всей видимости, бороться упорно.
Для России американская гегемония была тягостна, неприятна, в иные моменты – едва выносима. Но все-таки стоит признать: раз уж какой-то державе было суждено на время достичь глобальной гегемонии, то в американской версии она оказалась меньшим из зол. Гегемония, исходящая от любого европейского или азиатского государства, была бы, наверное, и вовсе непереносимой. И если представить себе другой исход холодной войны, то советская глобальная гегемония была бы, вероятно, одним из худших видов гнета, а едва ли не главной его жертвой стали бы народы самой державы-гегемона.
Об исторических уроках однополярного мира еще будут написаны целые библиотеки, но несколько выводов для международной политики наступающей эры многополярности могут быть сделаны уже теперь:
– постамериканский мир – это пока не завершенное состояние, но необратимый процесс, имеющий свои стадии;
– на следующих стадиях процесса «постамериканизации» нужно стремиться к максимальному снижению его конфликтного потенциала;
– необходимо предотвратить возникновение в будущем любой новой глобальной гегемонии, от кого бы она ни исходила;
– следует найти механизмы стабилизации многополярного мира и предотвращения холодной войны всех против всех.
Эти выводы не являются специфическими и тем более исчерпывающими для России. Они скорее позволяют увидеть, что в рамках нового миропорядка появятся возможности для согласования интересов самых разных акторов международных отношений. И в этом – шанс для России. Но далеко не единственный.
Возвышение Китая как риск
«Подъем остальных» как движущая сила «постамериканизации» означает появление множества национальных «историй успеха» и, соответственно, множества игроков, претендующих на значительное укрепление своего международного статуса. Но на нынешней стадии становления многополярного мира все просто заворожены Китаем. Глобальный экономический и финансовый кризис способствовал тому, что китайская модель все чаще рассматривается в качестве альтернативы «Вашингтонскому консенсусу», а обостряющееся соперничество между Китаем и Западом представляется как неизбежная схватка цивилизаций или идеологий.
Российский взгляд на Китай неизбежно будет отличаться от западного. Еще в позапрошлом веке русский философ Константин Леонтьев предостерегал: «Россия может погибнуть только двояким путем – или с Востока от меча пробужденных китайцев, или путем добровольного слияния с общеевропейской республиканской федерацией». «Пробуждения» Китая ждали и опасались у нас на протяжении десятилетий. Не случайно при всех зигзагах российской (советской) внутренней и внешней политики стремление к «нормализации отношений», а затем и к стратегическому партнерству оставалось внешнеполитической константой со времен Юрия Андропова. И нельзя не признать, что нынешний уровень российско-китайских отношений представляет собой ценнейшее достижение, которое, правда, не гарантирует от осложнений в будущем.
Сейчас, когда Китай «пробудился», рассуждения об угрозе могут быть более опасны, чем сама «угроза». В подъеме Китая следует видеть не угрозу России, а риск, то есть ситуацию, в которой возможен как проигрыш, так и выигрыш. Тактический выигрыш для российского политического режима уже очевиден. Прежде всего в том, что сопоставление исторического опыта двух стран дает властям дополнительные аргументы в пользу модернизации под жестким государственным контролем: путь Дэн Сяопина был правилен, путь Горбачёва – ложен; сильно (скорее всего – безнадежно) отстав от восточного соседа, Россия возвращается на правильный путь. При этом достижения Китая меняют и шкалу политических ценностей, поскольку успех и эффективность перестают однозначно отождествляться с либеральной демократией.
Потребность в устойчивом присутствии России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) – ключевой части мира XXI века – сегодня не вызывает никаких сомнений. Поворот на восток требуется «всерьез и надолго». При этом, сохраняя и наращивая преимущества добрососедства с Пекином, необходимо избежать превращения Москвы в его сателлита. Иначе говоря, фактическая слабость нынешних позиций России в АТР должна компенсироваться за счет активной политики, направленной на максимальную диверсификацию экономических и политических возможностей.
Среди причин, по которым для России предпочтителен вариант стабильного, но несколько дистанцированного партнерства с Китаем, далеко не только гигантская разность демографических потенциалов с двух сторон общей границы. Угроза китайского заселения Сибири и Дальнего Востока – это скорее «бумажный тигр», во всяком случае, в среднесрочной перспективе. Гораздо серьезнее опасность закрепления структурного дисбаланса в двусторонней торговле, быстрого скатывания к положению ресурсного придатка новой «всемирной мастерской». Однако выход из сырьевой ниши – это важнейший вопрос модернизации российской экономики, а не только торговых отношений между Москвой и Пекином.
Пожалуй, самая серьезная проблема, из-за которой России следует избегать слишком тесной привязки к китайскому локомотиву – это его скорость. Казалось бы, поддерживаемые уже не первое десятилетие двузначные (или близкие к двузначным) темпы экономического роста являются именно тем, чего нам так не хватает для успеха модернизации. Но чем дольше длится китайское экономическое чудо, тем больше нарастают экономические, социальные и региональные диспропорции, и тем более опасными могут быть последствия резкого торможения. Соответственно, для России усиливается актуальность поиска страховочных механизмов, запасных вариантов и новых возможностей.
Прежде всего, важно сохранять позицию открытости к более тесному сотрудничеству с Японией как в сферах экономики и научно-технической деятельности, так и в вопросах региональной безопасности. Однако неурегулированность территориального спора не позволяет видеть в сотрудничестве с Токио противовес китайскому фактору. Более многообещающей может стать интенсификация связей с региональными акторами второго порядка – Южной Кореей, Тайванем, Вьетнамом, Индонезией и другими странами АСЕАН. Ни одна из этих стран в одиночку не способна служить альтернативой континентальному Китаю, но в совокупности их можно рассматривать как множество потенциальных опорных точек на периферии Срединной империи.
В общеазиатских масштабах ценнейшим партнером является Индия. Отсутствие конфликтного потенциала и восходящая к истокам индийской независимости традиция дружественных двусторонних отношений составляет прочную основу стратегического взаимодействия Москвы и Дели в XXI веке. Однако есть и трудности, главным образом психологического характера. В России еще не вполне освоились с тем, что Индии уже не пристало быть ведомой, что по ряду ключевых показателей страна способна стать равновеликим партнером, а в скором будущем – более мощным полюсом постамериканского мира, чем Россия. Но в любом случае Дели как раз тот самый собеседник, с которым в числе первых следует обсуждать и растущую китайскую мощь, и любую другую серьезную проблему Евразии. При этом надо учитывать, что в Индии с ее опытом военного конфликта 1962 г. подъем Китая вызывает большую настороженность, чем в России, которая сумела урегулировать пограничные проблемы с КНР.
Российская стратегия «поворота на Восток» должна в полной мере учитывать американское влияние в АТР. США и Россия осознают ключевое значение региона для их будущего в XXI веке, равно как и отсутствие здесь сколько-нибудь серьезного конфликта интересов двух сторон. И если говорить о расстановке сил и тенденциях региональной безопасности, то надо признать, что и военное присутствие Соединенных Штатов в АТР вовсе не противоречит российским интересам. Ситуация здесь существенно отличается от обстановки на западных и южных рубежах России, где укрепление позиций США и НАТО представляет собой как минимум фактор дискомфорта. Во всяком случае, Москве едва ли имеет смысл вливаться в число энтузиастов лозунга «Окинава без американцев», который столь неудачно пытался воплотить в жизнь бывший японский премьер Юкио Хатояма.
Сказанное не означает, что России следует очертя голову формировать вместе с Америкой новые схемы региональной безопасности, в которых Пекин неизбежно усмотрел бы угрозу своим интересам. Важно видеть грань между поиском оптимального для Москвы баланса сил и созданием реальных или виртуальных антикитайских коалиций, участие в которых для России недопустимо. В то же время именно раскрытие потенциала российско-американского взаимодействия в АТР могло бы стать основанием для будущих отношений между Москвой и Вашингтоном, для сохранения и развития крайне хрупких результатов «перезагрузки».
Отношения с державой № 1 постамериканского мира
Звучит иронично и одновременно банально: державой №1 постамериканского мира остаются Соединенные Штаты Америки. Ослабление американского могущества продолжается, но не следует думать, что этот процесс бесконечен. Во-первых, неуклонный подъем основного конкурента – Китая – также не предопределен. Во-вторых, даже если вторая волна кризиса нанесет новый, еще более мощный удар, можно ожидать, что Америка, в конце концов, выкарабкается на более или менее стабильное плато, и дальнейшее (относительное) снижение ее глобальной роли приостановится. С другой стороны, проблемы США как нисходящей сверхдержавы поистине глобальны, поскольку любой вариант их решения будет иметь последствия для всего мира. Кризис показал не просто зависимость всех остальных стран от Америки как международного центра финансового могущества и главного источника дестабилизации мировой экономики, но и огромную социальную цену, которую придется рано или поздно заплатить всем за санацию этой системы.
Вполне понятно стремление России не платить за оздоровление американоцентричной глобальной экономики больше, чем требуется. Уже одно это соображение – стимул к конструктивному участию во всех международных институтах и механизмах антикризисного управления. Москва заинтересована и в том, чтобы способствовать «мягкой посадке» Вашингтона в постамериканский мир, предотвратить стратегически безнадежные, но рискованные для России попытки восстановить ускользающую глобальную гегемонию Соединенных Штатов. Не менее важно создать в обозримом будущем благоприятные предпосылки для конструктивного и стабильного партнерства с США.
По всей видимости, перезагрузка как важный внешнеполитический проект администрации Барака Обамы составляет один из компонентов комплексной переоценки глобальной роли США в контексте мирового кризиса. Всем, очевидно, было понятно, что в XXI веке совсем не Россия будет представлять для Америки основную проблему. Но чем же обернулась перезагрузка на деле?
С началом глобальных экономических потрясений многие в России с торжеством возвестили «закат Америки», тогда как в самой Америке немало обозревателей приветствовали «падение России с небес на землю». Таким образом, поначалу перезагрузка немногим отличалась от российско-американских интеракций постсоветской эпохи, характеризующихся столкновением ресентимента с высокомерием. Между тем в результате кризиса обе страны оказались в рядах проигравших, и именно это обстоятельство должно было стать реалистичной основой для диалога на основе баланса интересов. Но и здесь ситуация оказалась парадоксальной.
Например, Сергей Караганов вместе с рядом коллег из Совета по внешней и оборонной политике сформулировал весьма радикальную программу «большой сделки» – компромисса, нацеленного на нахождение баланса интересов России и Соединенных Штатов. По всей видимости, к ней с пониманием отнеслись близкие к администрации Обамы сторонники реалистического подхода, а динамика двусторонних отношений весь последний год создавала впечатление, что стороны негласно следуют основным параметрам «большой сделки». А именно: Россия конструктивно подходит к американским интересам в различных регионах Азии и проявляет сдержанность на постсоветском пространстве, а США, в свою очередь, не предпринимают попыток еще больше ослабить позиции России в странах СНГ и создать еще более дискриминирующую ее архитектуру безопасности в Европе. Но именно негласно. На официальном уровне эти параметры невозможно даже облечь в словесную форму, не говоря уже об их переводе в статус комплексных формальных договоренностей.
В результате даже после подписания Пражского договора СНВ-3 и поддержки Россией санкций против Ирана в Совете Безопасности ООН все по-прежнему выглядит как избирательное улучшение двусторонних отношений. Каждый, пусть даже незначительный, шаг по пути перезагрузки сопровождается заявлениями или действиями, призванными сгладить их эффект, продемонстрировать локальный характер, доказать, что Вашингтон по-прежнему следуют курсу на «продвижение демократии» и отвергают любые претензии на «сферы влияния», от кого бы они ни исходили. Но если перезагрузка пока нисколько не повлияла на доминантный дискурс двусторонних отношений, едва ли стоит удивляться, что при первом же серьезном внутриполитическом повороте в Америке почти весь достигнутый позитив может быть скомкан, а то и вовсе отброшен в угоду электоральным перспективам одной из влиятельных групп политического истеблишмента.
Значит ли это, что идеи перезагрузки или тем более «большой сделки» в принципе неработоспособны? В качестве селективного подхода перезагрузка едва ли может рассчитывать на успех, но если под ней понимать кропотливую и целенаправленную работу по формированию устойчивой основы российско-американских отношений в XXI веке, то у нее неплохие шансы. В этом смысле азиатский фокус поиска взаимного баланса интересов может иметь решающее значение. Однако сам этот баланс должен в конечном счете зафиксировать изменение общего соотношения сил, в котором Соединенные Штаты – все еще наиболее мощная держава постамериканского мира, а Россия – один из полюсов нового мирового порядка. Политические следствия такого баланса интересов должны быть вербализованы, проговорены на самом высоком политическом уровне, а затем и трансформированы в совокупность формальных и неформальных обязательств.
Насколько далеко могут (и должны) идти эти обязательства? Основным контекстом выстраивания российско-американского партнерства является возвышение Китая и возникающая в связи с этим новая сфера близости интересов России и Америки. Учитывая «низкий старт» двусторонних отношений, Москва заинтересована в том, чтобы в обозримой перспективе уровень ее партнерства с Вашингтоном оказался сопоставимым с нынешним уровнем российско-китайских отношений. Но если двигаться в этом направлении дальше, то плюсы все быстрее начнут меняться на минусы, и Россия окажется втянута в игру, в которой в лучшем случае останется на вторых ролях, а в худшем – превратится из игрока в фигуру, которой основные игроки при случае могут и пожертвовать.
По всей видимости, во втором десятилетии XXI века разговоры об интеграции России в НАТО или какую-либо другую форму военно-политического союза с участием США и стран Европейского союза будут только активизироваться. Пока такие разговоры далеки от конкретики, но они начались, и начались не случайно. Суть динамики процесса можно понять и по характеру обсуждения проекта Договора о европейской безопасности (ДЕБ), предложенного президентом России. Саму идею не решился отвергнуть никто, и в Москве уже третий год слышат вежливые заявления о намерении «тщательно изучить» и «всесторонне рассмотреть». Несколько реже звучат фразы о принципиальной поддержке предложенного Договора и о солидарности с его базовым постулатом о неделимости европейской безопасности. «Изучение» проекта может продолжаться неопределенно долго, если только в какой-то момент партнеры в Вашингтоне и Брюсселе не захотят обнаружить, что Договор, в сущности, предлагает единую систему безопасности не только для Европы, но для индустриально развитого Севера в целом, и исключает из этой системы Китай и другие страны быстро развивающегося Юга.
Вероятно, что кошмарный сон российской внешней политики – дальнейшее расширение НАТО на восток – так и не станет явью. В принципе, в этом состоит основное достижение мюнхенского курса Владимира Путина, хотя скорее всего экспансия альянса на постсоветском пространстве окончательно утратит актуальность в контексте общей динамики «постамериканизации». Проект ДЕБ также призван блокировать расширение НАТО, но если это произойдет, то лишь как международно-правовая фиксация fait accompli (уже свершившегося факта. – Ред.). Следовательно, это уже не тот приз, за который стоит платить любую политическую цену. Гораздо важнее сама возможность равноправного участия в определении правил игры и в вопросах европейской безопасности, и в том, что касается более широкого спектра отношений в Большой Европе.
В поисках Большой Европы
С Европой связаны фундаментальные интересы России. Но ситуация здесь почти патовая. Похоже, что чем дольше Россия и Европейский союз взаимодействуют, тем больше их взаимное отчуждение. Сам институциональный дизайн ЕС фактически блокирует сколько-нибудь существенное сближение с Москвой. И ожидать качественных прорывов в отношениях между Россией и институциями Евросоюза (если, конечно, не относить к числу прорывов велеречивые декларации о партнерстве и долгосрочные планы действий) в ординарных обстоятельствах едва ли приходится.
Хуже всего то, что участие в Европейском союзе неизбежно ограничивает свободу политического маневра отдельных его членов, включая и самых мощных, с которыми Россия стремится развивать привилегированные отношения на двусторонней основе. В этих условиях особое значение имеет способность Москвы максимально использовать возможности, связанные с перемещением центра глобальной финансовой и индустриальной мощи в АТР. Только утвердившись там в качестве активного и влиятельного игрока, Россия сможет более уверенно вести диалог с другими европейскими странами. И главное: российские территории к востоку от Урала должны быть задействованы в качестве резерва национального развития, а не пространства демографического и индустриального вакуума.
В конце концов, ничто не вечно, включая и застой в отношениях Россия–Евросоюз. И в этом смысле важно не отворачиваться от еэсовской машины, а продолжать разговор и с ее функционерами, и с европейской общественностью, той силой, от выхода которой на политическую арену Юрген Хабермас и Жак Деррида относительно недавно ожидали «второго рождения Европы». Надежды двух философов оказались преждевременными. Но европейская публичная сфера все-таки играет очень важную роль в том, что касается определения ситуации, буквально соответствуя теореме Томаса: «Если ситуация мыслится как реальная, то она реальна по своим последствиям». Интересам России могла бы соответствовать фиксация того, что Европейский союз неравнозначен Европе и что другая архитектура Большой Европы возможна.
Даже если Россия определяет свою собственную роль как участие в «подъеме остальных», то открытость к широкому диалогу с отдельными странами ЕС и с Евросоюзом в целом должна сохраняться. Особенно важна способность генерировать нестандартные идеи и ходы, задающие направления дискуссии. В этом смысле можно только приветствовать идею «Союза Европы», которую намерен продвигать Сергей Караганов. Будучи весьма проблематичной в качестве конечной цели, она очень важна процессуально, поскольку может серьезно расширить пространство маневра для России, государств – членов Европейского союза, других европейских или полуевропейских стран.
Международные отношения и цивилизационный выбор в эпоху «междуцарствия» модерна
При обсуждении перспектив России в многополярном мире нельзя обойти вниманием и аргументы более общего порядка. Зигмунт Бауман, анализируя динамику модерна в начале XXI века, обращается к термину «междуцарствие» (Interregnum), с помощью которого Антонио Грамши описывал ситуацию ожидания радикальных перемен, вызванных социальными потрясениями эпохи Великой депрессии. Грамши вкладывал в это понятие особый смысл, имея в виду приближение одновременных и глубоких изменений социального, политического и юридического порядка. Сегодня, как и во время заточения Грамши в туринской тюрьме, многие глобальные концепции, институты и механизмы демонстрируют прогрессирующую дисфункциональность. В то же время полноценной замены этим столпам современности пока не видно.
Процесс «постамериканизации» также вписывается в эту картину «междуцарствия», но не исчерпывает ее. На кону нечто большее. Несколько успокаивающий термин Фарида Закарии «подъем остальных» на деле означает, что пятисотлетний «момент однополярности» западной цивилизации близится к завершению. При этом с каждым днем множатся факты, опровергающие представления о некой единой и неповторимой европейской (западной) версии модерна.
Как известно, теория множественности модернов была выдвинута Шмуэлем Эйзенштадтом. Он подчеркивает, что структурная дифференциация неевропейских обществ совсем не обязательно воспроизводит европейскую модель. По его мнению, европейская модель стимулирует появление различных институциональных и идеологических паттернов за пределами Европы. При этом «наилучший путь понимания современного мира… состоит в рассмотрении его как повествования о непрерывном конституировании и реконституировании разнообразия культурных программ». В контексте теории Эйзенштадта метафора междуцарствия могла бы означать, что западная версия модерна в основном исчерпывает свою миссию «перенастройки» незападных культурных программ и вступает в период сосуществования и конкуренции с другими, возникшими на основе этих программ версиями модерна. Но это сосуществование означает ни больше ни меньше, как признание плюрализма ценностей, институтов и моделей политического устройства вслед за признанием плюрализма культурных программ.
Динамика системы международных отношений воспроизводит многочисленные манифестации тех же самых сдвигов. Достаточно указать на феномен БРИК и, в частности, на быстрый переход российских руководителей от гордости за почти полноправное членство в западном клубе G8 к энтузиазму соучредителя клуба, в который входят новые лидеры глобального экономического роста. Активность России в этом качестве принимается далеко не всеми, хотя среди тех, кто наиболее жестко ставит под сомнение обоснованность присутствия России в БРИК, по странному стечению обстоятельств почти не звучат голоса из Китая, Индии или Бразилии. Стоит отметить, что автор термина «мягкая сила» Джозеф Най, крайне сдержанно отзывающийся о феномене БРИК в целом, умалчивает, что эта конструкция, даже оставаясь преимущественно виртуальным объединением, уже становится новым источником «мягкой силы», начинает продуцировать и консолидировать нормативную власть. Нормативное послание БРИК выражается не только в отстаивании вестфальских принципов суверенитета и стремлении к многополярности, но в принципиальном признании плюрализма ценностей, культурных программ и моделей политического устройства. В сущности, нормативное послание БРИК есть перевод теории множественности модернов Эйзенштадта на язык глобальной политики.
Процесс становления постамериканского мира побуждает корректировать преобладающие концептуализации международных отношений. Один из вариантов корректировки состоит в том, чтобы отделить качественные характеристики международного порядка от изменения глобальной роли США. Так, Джон Айкенберри готов говорить лишь о «кризисе успеха» западного проекта модерна, но не о кризисе представлений о его единственности и неповторимости. Согласно этой логике, движущей силой единого проекта модерна выступает общий интерес ведущих международных акторов к воспроизводству либерального порядка, который, по крайней мере теоретически, приносит блага всем и каждому. При этом получается, что, согласно Айкенберри, потребности и интересы незападных держав могут быть удовлетворены благодаря еще большему распространению принципов и практик западного либерализма.
Международный порядок – вещь инерционная, и в условиях «междуцарствия» трудно ожидать его быстрого переформатирования. Скорее всего, многие устойчивые глобальные взаимозависимости в сферах безопасности, торговли, финансов и охраны окружающей среды будут трансформироваться гораздо медленнее, чем изменение экономического и политического веса ведущих глобальных игроков. Однако фундаментальной особенностью либерального международного порядка является установление иерархических отношений, которое в долгосрочном плане несовместимо с «подъемом остальных».
Неудивительно, что реакция западного экспертного сообщества на возвышение незападных держав характеризуется растерянностью и даже алармизмом, когда в этих государствах видят представляющих угрозу чужаков. В то же время раздаются призывы рассматривать усиливающиеся страны незападного мира как «нам подобных», нуждающихся в социализации и в обучении правилам. Как отмечает Тим Данн, в контексте современной международной политики обе стратегии, по сути, постулируют безальтернативность западной версии модерна, причем такой подход останется востребованным даже несмотря на его прогрессирующую неадекватность.
Означает ли это, что и Россия «обречена» адаптироваться к постамериканскому миру, упорно сохраняя верность догме о сингулярности модерна? Оправданно ли в эпоху «междуцарствия» форсировать цивилизационный выбор, или по крайней мере связывать себя жесткими внешнеполитическими обязательствами, которые свидетельствовали бы о приверженности западной версии модерна?
Вопрос не в том, что цивилизационный выбор в пользу Запада невозможен или неприемлем, а либеральные ценности на российской почве прорастают какими-то уродливыми сорняками. Одной из причин взаимного разочарования России и Запада было как раз то, что зона совпадения или близости ценностей очень велика, тогда как различия казались в конечном счете преодолимыми. Но в итоге в России сформировалось стойкое убеждение, что дискуссии о ценностях направлены на подрыв российских интересов, тогда как многие на Западе от неоправданных иллюзий периода горбачевской перестройки и ельцинских реформ перешли к уверенности в «неисправимости» России. В этих условиях единственным конструктивным решением может быть перевод политических дискуссий на язык интересов; споры о ценностях лучше оставить для научного сообщества и активистов неправительственных организаций.
Хотя двадцатилетие распада СССР уже не за горами, преждевременно говорить о том, что в России сформировалась новая политическая нация, а посткоммунистические трансформации окончательно завершены. Сам факт провозглашения линии на модернизацию свидетельствует по крайней мере о частичной неудаче всей постсоветской социально-экономической политики, основной вектор которой даже в период воссоздания «вертикали власти» оставался либеральным и вестернизаторским. Ясно, что требуется поворот, серьезная коррекция курса. И если уж решено называть этот поворот «модернизацией», то следует исходить из того, что модернизация в эпоху междуцарствия модерна должна быть сугубо прагматическим действием.
В сущности, это все та же кошка Дэн Сяопина, единственным значимым качеством которой является эффективность в ловле мышей, а не соответствие стандартам породы западного модерна. Если экономика России, ее государство и общество начнут «ловить мышей», то локализация российского модерна в созвездии современностей не заставит себя ждать, а вопрос о его совместимости с западной версией модерна может затем сколь угодно долго оставаться предметом академической дискуссии.
В конечном счете речь идет о том, чтобы во втором десятилетии XXI века Россия выработала эффективную модель решения социальных и экономических проблем, используя при этом в интересах своего внутреннего развития новые возможности, открывающиеся в контексте становления постамериканского мира. Россия слишком долго пребывала на периферии западной цивилизации, чтобы теперь, на излете ее доминирования, присоединяться к ней и делить ответственность за все ее грехи. В конце концов, у России слишком много своих собственных грехов. Главное же, Россия обнаруживает, что у нее есть выбор, что заповедь Владислава Суркова «не выпасть из Европы, держаться Запада» не означает отказа от участия в «подъеме остальных» и формировании институтов и механизмов нового миропорядка. А появление такового будет свидетельствовать о завершении эпохи междуцарствия модерна.
Незаменимый полюс и свобода выбора
Будучи крупнейшим осколком Советского Союза, Россия объективно все еще имеет немало оснований претендовать на статус одного из полюсов в многополярном мире. Однако общая динамика на протяжении двух последних десятилетий в случае России была понижательной, а для периода 1990-х – обвальной. Даже стабилизация и нефтегазовый бум в период президентства Владимира Путина пока могут рассматриваться лишь как временное торможение на крутом спуске вниз. Иными словами, Россия по инерции остается одним из полюсов мировой политики, но сохранение в этом качестве потребует от российской власти способности привлекать все больше дополнительных ресурсов.
Вполне вероятно, что вскоре мы услышим голоса, настаивающие на новом понижении позиции России во всемирной табели о рангах. В качестве аргументации будет предъявлена непозволительность затраты значительных ресурсов на сохранение высокого международного статуса, а также то, что вхождение в зону притяжения какого-то другого полюса позволит оптимизировать риски существования в турбулентном многополярном мире. Отвергать эту позицию только потому, что Россия должна быть великой, могучей и никакой иной, по меньшей мере недальновидно. При определенных обстоятельствах у нас в самом деле может не оказаться другого выбора. Но несомненно, что любая власть в России должна стремиться к предотвращению подобной ситуации.
У России имеются и специфические основания к удержанию статуса одного из полюсов многополярного мира. Многовекторность и высокая маневренность российской внешней политики в нынешних условиях выступают важными механизмами компенсации слабостей, обусловленных структурой экономики, демографической динамикой, низким качеством управления, коррупцией и технологическим отставанием. Однако помимо решения тактических задач, маневренности требуется и «сверхзадача»: не принадлежа к первой тройке основных центров силы постамериканского мира, Россия должна быть тем полюсом, полномасштабное партнерство с которым способно обеспечить несомненный и решающий перевес для любого из основных центров силы.
Но опять-таки: все эти преимущества могут проявиться и сохраняться до тех пор, пока Россия остается самостоятельным центром силы многополярного мира, имеющим свободу маневра и открытым для развития партнерских отношений с самыми разными глобальными игроками. Как только Россия окажется вовлеченной в какие-либо жесткие союзы или интеграционные механизмы с участием более мощных центров силы, преимущества будут утрачены. Получается, что Россия должна быть везде и ни с кем.
Сохранение за Россией статуса самостоятельного глобального игрока, даже если для этого потребуется привлечь серьезные дополнительные ресурсы, окажется менее затратным и рискованным, чем вхождение в зону притяжения одного из более мощных полюсов. В последнем случае затраты ресурсов и риски будут обусловлены усиливающимся внутренним напряжением, вызванным необходимостью удерживать развитие страны в русле, общее направление которого задано извне. Вполне понятна логика сторонников этого подхода, стремящихся через жесткие международные обязательства подтолкнуть запаздывающие внутренние изменения. К сожалению, более реален сценарий, при котором подгоняемые под импортный шаблон внутренние изменения приведут к новой волне имитации институциональных практик правового государства и к запуску цепной реакции вполне реальных дестабилизирующих сдвигов в сфере межнациональных и федеративных отношений.
Совокупность возможностей, открывающихся перед Россией в процессе становления постамериканского мира, должна быть использована для создания благоприятных условий внутреннего развития страны, а не для их усложнения, связанного с вовлеченностью в жесткие союзы и поспешной ориентацией на одну из нескольких актуальных версий модерна. В то же время российское общество нуждается в подлинной открытости миру, в широком диалоге с носителями самых разных культурных программ, в готовности воспринимать извне все, что может способствовать практическому решению внутренних проблем. То, что действительно имеет высокую цену в эпоху многополярности – это свобода выбора. Не только выбора стратегических партнеров, но также путей и методов модернизации и даже образа желаемой современности.

География китайской мощи
Как далеко может распространиться влияние Китая на суше и на море?
Роберт Каплан – старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности и автор книги «В тени Европы: две холодные войны и тридцатилетние скитания по Румынии и за ее пределами».
Резюме Китай очень выгодно расположен на карте мира. Благодаря этому он имеет возможность широко распространить свое влияние на суше и на море: от Центральной Азии до Южно-Китайского моря, от российского Дальнего Востока до Индийского океана.
Статья опубликована в журнале Foreign Affairs, № 3 (май – июнь) за 2010 г. © Council on Foreign Relations, Inc.
В конце своей статьи «Географическая ось истории», опубликованной в 1904 г. и получившей мировую известность, сэр Халфорд Макиндер выразил особое беспокойство в отношении Китая. Объяснив, почему Евразия является силовым геостратегическим центром мира, он высказал предположение, что китайцы, если они смогут распространить влияние далеко за пределы своей страны, «способны превратиться в желтую опасность для мировой свободы. И как раз по той причине, что они соединят с ресурсами громадного континента протяженную океанскую границу – козырь, которого была лишена Россия, хозяйничавшая в этом осевом регионе прежде».
Вынося за скобки расистские настроения, обычные для начала XX века, а также истерическую реакцию, которую всегда вызывает на Западе появление могучей внешней силы, можно сказать, что Макиндер тревожился не зря. Если такой евразийский исполин, как Россия, был и до сих пор остается главным образом сухопутной державой, чья океанская граница блокирована арктическими льдами, то Китай сочетает в себе признаки державы и сухопутной, и морской. Его береговая линия протянулась на девять тысяч миль, изобилует удобными естественными гаванями и пролегает в зоне умеренного климата. (Макиндер даже предупреждал о том, что Китай когда-нибудь завоюет Россию.) Потенциальная зона влияния Китая простирается от Центральной Азии с ее богатейшими запасами полезных ископаемых и углеводородного сырья до основных морских путей, пересекающих Тихий океан. Позже в книге «Демократические идеалы и реальность» Макиндер предсказывал, что в конечном счете Китай будет править миром наряду с Соединенными Штатами и Великобританией, «построив для четверти человечества новую цивилизацию, не вполне восточную и не вполне западную».
Выгодное географическое положение Поднебесной настолько очевидно, что о нем не всегда вспоминают, говоря о стремительном экономическом прогрессе этой страны и напористом национальном характере китайцев. И все же это не следует забывать, поскольку рано или поздно география обеспечит Китаю ключевую роль в геополитике, каким бы извилистым ни был его путь к статусу мировой державы. (В течение последних 30 лет годовой прирост китайского ВВП превышал 10 %, но в следующие три десятилетия едва ли можно ожидать таких же темпов.) Китай сочетает в себе элементы предельно модернизированной экономики западного образца с унаследованной от древнего Востока «гидравлической цивилизацией» (термин историка Карла Виттфогеля, используемый применительно к обществам, практикующим централизованный контроль над орошением почвы).
Благодаря управлению из единого центра китайский режим способен, например, вербовать миллионные трудовые армии на строительство крупнейших объектов инфраструктуры. Это и сообщает Китаю неуклонное поступательное развитие – подобных темпов попросту нельзя ожидать от демократических государств, которые привыкли неторопливо согласовывать интересы своих граждан. Китайские лидеры формально считаются коммунистами. Но в том, что касается заимствования западных технологий и практики, они – преемники примерно 25 императорских династий, правивших в стране на протяжении четырех тысяч лет и встраивавших западный опыт в жесткую и развитую культурную систему, которая обладает, помимо всего прочего, уникальным опытом навязывания вассальных отношений другим государствам. «Китайцы, – сказал мне в начале этого года один сингапурский чиновник, – умеют добиваться своего и пряником, и кнутом, систематически чередуя оба метода».
Внутреннее развитие Китая питает его внешнеполитические амбиции. Империи редко строятся по готовому проекту, их рост происходит органически. Становясь сильнее, государство культивирует новые потребности и, как это ни парадоксально, новые опасения, побуждающие его так или иначе расширяться. Так, даже под руководством самых бесцветных президентов конца XIX века – Резерфорда Хейза, Джеймса Гарфилда, Честера Артура, Бенджамина Гаррисона – экономика Соединенных Штатов устойчиво и ровно развивалась. По мере того как страна увеличивала объем торговли с внешним миром, у нее возникали разносторонние экономические и стратегические интересы в самых отдаленных уголках света. Иногда – как, например, в Южной Америке и в Тихоокеанском регионе, – этими интересами оправдывалось военное вмешательство. В это время американская администрация еще и потому могла сосредоточиться на внешней политике, что внутри страны положение было прочным, – последнее крупное сражение индейских войн датируется 1890 годом.
Сегодня КНР укрепляет сухопутные границы и направляет свою активность вовне. Внешнеполитические амбиции эта страна проводит в жизнь столь же агрессивно, как столетием раньше – США, но по совершенно иным причинам. Пекин не практикует миссионерский подход к внешней политике, не стремится утвердить в других странах собственную идеологию или систему правления. Нравственный прогресс в международной политике – цель, которую преследует Америка; китайцев эта перспектива не привлекает. Поведение Срединного царства по отношению к другим странам целиком продиктовано его потребностью в поставках энергоносителей, металлов и стратегического сырья, необходимых для поддержания постоянно растущего жизненного уровня гигантского населения, которое составляет примерно одну пятую населения земного шара.
Чтобы решить эту задачу, Китай построил выгодные для себя сырьевые отношения и с соседними, и с удаленными странами, – со всеми, кто обладает ресурсами, в которых он нуждается для подпитывания роста. Во внешней политике Китай не может не исходить из основополагающего национального интереса – экономического выживания, и поэтому мы вправе охарактеризовать эту страну как сверхреалистичную, сверхпрагматичную державу. Отсюда стремление упрочить присутствие в различных частях Африки, где находятся большие запасы нефти и полезных ископаемых, обезопасить транспортные пути в Индийском океане и Южно-Китайском море, связывающие побережье страны с арабо-персидским миром, который столь богат углеводородным сырьем. По существу лишенный выбора в своих действиях на международной арене, Пекин не особенно заботится о том, с какими режимами ему приходится иметь дело; в партнерах ему нужна стабильность, а не добропорядочность, как ее понимает Запад. А поскольку некоторые из этих режимов – скажем, Иран, Мьянма (известная также как Бирма) и Судан, – погружены во мрак отсталости и авторитаризма, неустанный поиск поставщиков сырья, который Китай ведет по всему свету, порождает конфликты между ним и Соединенными Штатами с их миссионерской ориентацией. Существуют трения и с такими странами, как Индия и Россия, в чьи сферы влияния Пекин пытается проникнуть.
Разумеется, он никак не угрожает существованию этих государств. Вероятность войны между Китаем и США незначительна; китайская армия представляет для Соединенных Штатов лишь косвенную опасность. Речь здесь идет главным образом о вызове географического свойства – несмотря на принципиальные разногласия по вопросам внешнего долга, структуры товарообмена или глобального потепления. Зона китайского влияния, формирующаяся в Евразии и Африке, постоянно растет, причем не в том поверхностном, чисто количественном смысле, какой придавали этому понятию в XIX веке, а в более глубоком, отвечающем эпохе глобализации. Преследуя простую цель – надежно удовлетворить свои экономические потребности, Китай сдвигает политическое равновесие в сторону Восточного полушария, и это не может не затрагивать самым серьезным образом интересы Соединенных Штатов. Пользуясь удобным положением на карте мира, Китай распространяет и расширяет свое влияние везде и всюду – от Центральной Азии до Южно-Китайского моря, от российского Дальнего Востока до Индийского океана. Эта страна превращается в мощную континентальную державу, а политику таких государств, согласно знаменитому изречению Наполеона, нельзя отделить от их географии.
Пограничный болевой синдром
Синьцзян и Тибет – два наиболее значимых региона в пределах китайского государства, чьи жители смогли сохранить самобытность, устояв перед преимущественным положением китайской цивилизации. В известном смысле именно самобытный характер и той и другой области делает Китай похожим на империю. Кроме того, этническая напряженность в обоих регионах осложняет отношения Пекина с прилегающими к ним государствами.
«Синьцзян» означает «новое владение»; так называется китайский Туркестан, самая западная китайская провинция, в два раза превосходящая по площади Техас и отделенная от центральных районов страны пустыней Гоби. Хотя государственность Поднебесной в той или иной форме насчитывает тысячелетия, Синьцзян официально стал ее частью лишь в конце XIX века. С тех пор история этой провинции, как заметил еще в прошлом веке английский дипломат сэр Фицрой Маклин, «была исключительно неспокойной»; Синьцзян то и дело восставал и временами добивался полной независимости от Пекина. Так продолжалось вплоть до 1949 г., когда коммунистические войска Мао Цзэдуна вторглись в Синьцзян и силой присоединили провинцию. И тем не менее сравнительно недавно, в 1990 г., и в прошлом, 2009 г., ее тюркское население – уйгуры, потомки тюркских племен, правивших в VII–VIII вв. Монголией, – восставало против пекинского режима.
Уйгуров в Китае насчитывается лишь около восьми миллионов – менее одного процента от общей численности населения, однако в Синьцзяне их 45 %, почти половина. Основной этнос Китая, народность хань, населяет плодородные низменные регионы в центре страны и на побережье Тихого океана, тогда как засушливые плоскогорья на западе и юго-западе являются историческими местами обитания уйгурского и тибетского меньшинств. Подобное распределение населения остается источником постоянной напряженности, поскольку Пекин считает, что современное китайское государство должно осуществлять в горных районах жесткий и безраздельный контроль. Стремясь прочно привязать к себе обе области – вместе с запасами нефти, природного газа, медной и железной руды, которые находятся в их недрах, – Пекин на протяжении нескольких десятилетий целенаправленно переселял туда ханьцев из центральных областей. Кроме того, он усердно заигрывал с независимыми тюркскими республиками в Центральной Азии – отчасти для того, чтобы лишить мятежных синьцзянских уйгуров всякого потенциального тыла.
Налаживая связи с правительствами центральноазиатских республик, китайское руководство преследовало и другую цель – расширить зону своего влияния. Китай глубоко проник в Евразию уже сейчас, но этого все еще недостаточно для удовлетворения его потребности в природных ресурсах. Влияние Пекина в Центральной Азии символизируют два крупных трубопровода, строительство которых близится к завершению: один пролегает через Казахстан и предназначен для снабжения Синьцзяна нефтью, добываемой в Каспийском море; по другому, проходящему через Казахстан и Узбекистан, в Синьцзян будет поступать природный газ из Туркмении. Мало того: острая нужда в природных ресурсах заставляет Пекин пускаться в довольно рискованные предприятия. В истерзанном войной Афганистане он ведет разработку месторождения меди, находящегося к югу от Кабула, и давно присматривается к запасам железа, золота, урана и драгоценных камней (одни из последних в мире нетронутых залежей). Пекин рассчитывает проложить в Афганистане и в Пакистане дороги и трубопроводы, которые свяжут многообещающий центральноазиатский регион, где он утверждает свое господство, с портовыми городами на берегу Индийского океана. Так что в стратегическом плане географическое положение Китая только улучшится, если Соединенным Штатам удастся стабилизировать ситуацию в Афганистане.
Тибет, как и Синьцзян, играет принципиальную роль для государственного самосознания китайцев, и, подобно Синьцзяну, осложняет взаимоотношения Китая с другими государствами. Скалистое Тибетское нагорье, богатое железной и медной рудой, занимает колоссальное пространство. Именно поэтому Пекин испытывает все большую тревогу в связи с возможностью автономии Тибета, не говоря уже о полной его независимости, и с таким усердием строит шоссе и железные дороги, связывающие этот регион с другими частями страны. Если бы Тибет отделился, от Китая осталось бы лишь куцее охвостье; к тому же Индия в этом случае резко усилилась бы на субконтиненте за счет присоединения северной зоны (речь идет о спорных районах в принадлежащем Китаю Кашмире, а также об индийском штате Аруначал-Прадеш, которые по площади составляют почти 150 кв. км. – Ред.).
Индия с ее более чем миллиардным населением уже сейчас рассекает тупым клином зону китайского влияния в Азии. Это особенно хорошо видно на карте «Великого Китая», помещенной в книге Збигнева Бжезинского «Большая шахматная доска» (1997). В известной степени географическое положение Китая и Индии действительно обрекает их на соперничество: страны-соседи с гигантским населением, богатейшими и древнейшими культурами давно притязают на одни и те же территории (например, индийский штат Аруначал-Прадеш). Проблема Тибета только осложняет ситуацию. Индия предоставила убежище правительству далай-ламы, с 1957 г. находящемуся в изгнании. Даниель Твайнинг, старший научный сотрудник Германского фонда Маршалла, считает, что недавние инциденты на китайско-индийской границе «могут объясняться беспокойством Китая по поводу преемника далай-ламы». Ведь вполне вероятно, что следующий далай-лама окажется родом из тибетского культурного пояса, включающего северную Индию, Непал и Бутан, а значит, более склонным к проиндийской и, соответственно, антикитайской ориентации. Китаю и Индии предстоит сыграть между собой «по-крупному» не только в этих регионах, но также в Бангладеш и Шри-Ланке. Синьцзян и Тибет, как и раньше, остаются внутри официально признанных границ Китая, но, принимая во внимание натянутые отношения между китайским правительством и жителями обеих провинций, можно ожидать, что в будущем попытки Пекина распространить свое влияние за пределы ханьского этнического большинства встретят серьезное противодействие.
Ползучее влияние
Даже на тех отрезках границы, где Китаю ничто не угрожает, сама форма страны выглядит пугающе незавершенной, как если бы в этих местах были изъяты части некогда существовавшего Великого Китая. Северная граница Китая охватывает Монголию, громадную территорию, которая выглядит словно клок, выдранный из его «спины». Плотность населения Монголии – среди самых низких в мире, и близость городской китайской цивилизации представляет для нее несомненную демографическую угрозу. Завоевав некогда Внешнюю Монголию, чтобы получить доступ к более пригодным сельскохозяйственным землям, ныне Китай готов покорить ее вновь, но уже на современный лад – поставив себе на службу запасы нефти, угля, урана, а также роскошные пустующие пастбища. Поскольку неконтролируемая индустриализация и урбанизация превратила Китай в крупнейшего мирового потребителя алюминиевой, медной, свинцовой, никелевой, цинковой, оловянной и железной руды (его доля в мировом потреблении металлов за последнее десятилетие подскочила с 10 до 25 %), китайские горнорудные компании откровенно делают ставку на разработку богатых недр соседней страны. Взаимоотношения с Монголией лишний раз показывают, как широко простираются империалистические замыслы Пекина, – особенно если вспомнить, что ранее Китай уже поставил под контроль Тибет, Макао и Гонконг.
К северу от Монголии и трех северо-восточных китайских провинций лежит российский Дальний Восток – обширнейшая, в два раза превосходящая Европу по площади депрессивная область с крайне немногочисленным и постоянно убывающим населением. Русское государство окончательно включило в себя эти территории в XIX – начале XX века, когда Китай был крайне обессилен. В настоящее время он окреп, а власть российского правительства нигде так не слаба, как в этой восточной трети России. При этом совсем рядом с семимиллионным русским населением Дальнего Востока (к 2015 году его численность может сократиться до 4,5 млн), в трех приграничных провинциях Китая, проживает около 100 млн человек. По плотности они превосходят российский Дальний Восток в 62 раза. Китайские мигранты просачиваются в Россию, наводняя Читу к северу от монгольской границы, а также другие города региона. Доступ к ресурсам остается главной целью китайской внешней политики в любом регионе мира, и малонаселенный российский Дальний Восток, располагающий огромными запасами природного газа, нефти, строевого леса, алмазов и золота, не является исключением. «Москва с подозрением взирает на хлынувшие в этот регион потоки многочисленных китайских поселенцев, следом за которыми тянутся лесозаготовительные и горнорудные компании», – писал минувшим летом Дэвид Блэр, корреспондент лондонской Daily Telegraph.
Как и в случае с Монголией, никто не опасается, что китайская армия когда-нибудь завоюет или формально аннексирует российский Дальний Восток. Страх внушает другое: все более заметное ползучее демографическое и экономическое влияние Пекина в этом регионе (частью которого Китай кратковременно владел в эпоху правления династии Цин). В период холодной войны пограничные споры Китая и Советского Союза привели к тому, что в прилегающих районах Сибири были размещены мощные войсковые части, насчитывавшие сотни тысяч человек; временами напряженность на границе выливалась в прямые столкновения. В конце 1960-х периодические трения привели к разрыву отношений между КНР и СССР. Географический фактор и сейчас вполне способен стать причиной размолвки Китая и России, поскольку нынешний их союз носит чисто тактический характер. Это может быть выгодно Соединенным Штатам. В 1970-х гг. администрация президента Никсона оказалась в выигрыше в результате столкновения между Пекином и Москвой и положила начало новым отношениям с Китаем. В будущем, когда последний станет по-настоящему великой державой, Соединенные Штаты, по-видимому, могли бы заключить стратегический союз с Россией, чтобы уравновесить влияние Срединного царства.
Южные перспективы
Влияние Китая распространяется также на юго-восток. Здесь, в сравнительно слабых государствах Юго-Восточной Азии, строительство будущего Великого Китая встречает наименьшее сопротивление. Существует не так уж много серьезных географических преград, отделяющих Китай от Вьетнама, Лаоса, Таиланда и Мьянмы. Естественным центром сферы влияния, которая охватывает бассейн реки Меконг и связывает все страны Индокитая сетью наземных и водных транспортных путей, должен стать город Куньмин, находящийся в китайской провинции Юньнань.
Самая большая страна материковой части Юго-Восточной Азии – Мьянма. Если Пакистан, постоянно находящийся под угрозой распада, можно назвать азиатскими Балканами, то Мьянма скорее напоминает Бельгию начала XX века, так как над ней постоянно нависает угроза быть захваченной могущественными соседями. Подобно Монголии, российскому Дальнему Востоку и другим территориям, прилегающим к сухопутным границам Китая, Мьянма – слабое государство, весьма богатое природными ресурсами, в которых крайне нуждается Китай. Китай и Индия борются за право заняться модернизацией глубоководного порта Ситуэ на мьянманском побережье Индийского океана, причем обе страны питают надежду проложить в будущем газопровод к месторождениям на шельфе Бенгальского залива.
Если говорить о регионе в целом, то Пекин применяет здесь, в несколько обновленном виде, известный стратегический принцип «разделяй и властвуй». В прошлом он вел сепаратные переговоры с каждой страной – членом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), но никогда не вступал в контакты с этим блоком как единым целым. Даже недавно вступившее в силу соглашение о зоне свободной торговли, которое он заключил со странами АСЕАН, показывает, как искусно Китай развивает выгодные для себя связи с южными соседями. Он использует эту организацию в качестве рынка сбыта дорогостоящих китайских товаров, покупая в странах АСЕАН дешевую сельскохозяйственную продукцию. Отсюда неизменное активное сальдо торгового баланса с китайской стороны, тогда как страны АСЕАН постепенно превращаются в свалку для промышленных товаров, произведенных дешевой рабочей силой в городах Китая.
Все это происходит на фоне утраты Таиландом прежнего значения регионального лидера и естественного противовеса Китаю. Еще в недавнем прошлом весьма сильное государство, Таиланд в последнее время испытывает серьезные внутриполитические затруднения. Тайская правящая фамилия с болезненным королем во главе уже не может, как прежде, выполнять стабилизирующую функцию, а тайская армия поражена фракционными раздорами. (Китай активно развивает двустороннее военное сотрудничество и с Таиландом, и с другими странами Юго-Восточной Азии, используя то обстоятельство, что США уделяют не слишком много внимания военно-стратегическому положению этого региона, так как им приходится тратить силы главным образом на операции в Афганистане и Ираке.)
Две страны к югу от Таиланда – Малайзия и Сингапур – вовлечены в ответственный процесс перехода к демократической форме правления, между тем как их прежние лидеры, Махатхир Мохамад и Ли Куан Ю, – сильные личности, перестроившие свои государства, – сходят со сцены. В экономическом плане Малайзия все больше втягивается в сферу влияния Китая, несмотря на то, что живущие в ней этнические китайцы чувствуют постоянную угрозу со стороны мусульманского большинства. Что же касается Сингапура, населенного в основном этническими китайцами, то его правительство боится оказаться в вассальной зависимости от Поднебесной; в последние годы оно завязало тесные отношения с Тайванем и проводит с ним совместные военные учения. Ли Куан Ю открыто призвал Соединенные Штаты, как и прежде, участвовать в жизни региона, оказывая ему военную и дипломатическую поддержку. Положение Индонезии также противоречиво: с одной стороны, она нуждается в присутствии американского флота, чтобы чувствовать себя защищенной от возможной китайской угрозы, с другой – опасается, что в других странах исламского мира ее видимое союзничество с США может вызывать раздражение.
Поскольку американское влияние в Юго-Восточной Азии миновало зенит и идет на убыль, а влияние Китая постоянно растет, государства региона все чаще объединяют усилия, чтобы противостоять стратегии «разделяй и властвуй», которую стремится реализовать Пекин. Так, например, Индонезия, Малайзия и Сингапур заключили союз для борьбы с морским пиратством. Чем больше эти государства будут уверены в собственных силах, тем меньшую опасность для них будет представлять дальнейшее укрепление Китая.
Ситуация в армии
Центральная Азия, Монголия, российский Дальний Восток и Юго-Восточная Азия – естественные зоны китайского влияния. Однако политические границы этих зон в будущем едва ли изменятся. Принципиально иной выглядит ситуация на Корейском полуострове: в этом месте карта Китая предстает в особенно урезанном виде, и здесь политические границы еще вполне могут сместиться.
Наглухо отгородившийся от мира северокорейский режим неустойчив в самой своей основе, и его крушение грозит затронуть весь регион. Как бы «свисая» с Маньчжурии, Корейский полуостров занимает положение, которое позволяет полностью контролировать морские торговые пути, ведущие в северо-восточный Китай. Разумеется, никто всерьез не думает, что Китай аннексирует какую-либо часть полуострова, но нет сомнений в том, что его по-прежнему раздражает, когда другие страны слишком явно осуществляют свой суверенитет в этом регионе, особенно на севере. И хотя Пекин поддерживает сталинистский режим Северной Кореи, он явно вынашивает в отношении Корейского полуострова определенные планы на будущее – по завершении царствования Ким Чен Ира. Похоже, сразу после этого китайцы намерены отправить обратно тысячи перебежчиков из КНДР, нашедших пристанище в Китае, и создать с их помощью благоприятную политическую основу для постепенного экономического овладения регионом в бассейне реки Тумыньцзян (Туманная). Там соседствуют три страны – Китай, Северная Корея и Россия, и существуют благоприятные условия для развития морской торговли с Японией, а через нее – с Тихоокеанским регионом в целом.
Это одна из причин, по которой Пекин хотел бы создать на месте теперешней Северной Кореи государство пусть и авторитарного типа, но гораздо более модернизированное. Именно такое государство могло бы стать буфером между Китаем и динамичной южнокорейской демократией, опирающейся на средний класс. Впрочем, возможное объединение Корейского полуострова также может оказаться выгодным для КНР. После воссоединения Корея скорее всего будет националистическим образованием, в известной степени враждебным и по отношению к Китаю, и к Японии – странам, в прошлом пытавшимся ее оккупировать. Но корейская неприязнь к Японии значительно сильнее, нежели к Китаю. (Япония оккупировала полуостров с 1910 по 1945 г., и Сеул и Токио продолжают вести спор о статусе островков Токдо/Такешима.) Экономические отношения нового государства с Китаем наверняка окажутся более прочными, чем с Японией: объединенная страна будет в большей или меньшей степени находиться под контролем Сеула, а Китай уже сейчас самый крупный торговый партнер Южной Кореи. Важно, наконец, и то, что объединенная Корея, отчасти тяготеющая к Пекину и, напротив, не приемлющая Японию, не будет видеть смысла в том, чтобы и дальше сохранять на своей территории американские войска. Иными словами, нетрудно представить себе будущее Кореи в составе Великого Китая и то время, когда военное присутствие США в Северо-Восточной Азии начнет сокращаться.
Как показывает пример Корейского полуострова, на сухопутных границах китайцы вправе ожидать скорее благоприятное, чем опасное для себя развитие событий. Еще Макиндер полагал, что Китай сможет со временем стать великой сухопутной и морской державой, которая как минимум затмит Россию в Евразии. Политолог Джон Миршеймер писал в своей книге «Трагедия великодержавной политики», что «самыми опасными государствами в системе международных отношений являются континентальные державы с большими армиями». И по мере того как Китай приближается к статусу континентальной державы, возникают все основания опасаться его влияния. Однако КНР лишь отчасти отвечает определению Миршеймера: ее вооруженные силы, насчитывающие 1,6 млн человек, – крупнейшие в мире, но в ближайшие годы Пекину не под силу создать современные экспедиционные войска. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проявила себя во время землетрясения в Сычуани в 2008 г., недавних этнических беспорядков в Тибете и Синьцзяне, пекинской олимпиады 2008 г., проведение которой требовало особых мер безопасности. Однако, как заметил Абрахам Денмарк, сотрудник Центра разработки новой стратегии национальной безопасности США, это доказывает лишь способность НОАК перебрасывать войска из одной части материкового Китая в другую. Но вовсе не говорит о том, что она в состоянии перемещать тяжелое вооружение и ресурсы, необходимые для развертывания войсковых частей в ходе масштабных военных операций. Впрочем, даже если такая возможность появится, это, по-видимому, мало что изменит: маловероятно, что подразделения НОАК будут пересекать границы Китая по каким-либо иным причинам, нежели серьезный политический просчет (если, например, дело дойдет до новой войны с Индией) или необходимость заполнить внезапно возникшие пустоты на карте (если рухнет северокорейский режим). Но Китай и без того вполне способен заполнить возможные области силового вакуума вблизи любого участка своих протяженных границ с помощью такого оружия, как демографическое и экономическое давление: у него попросту нет нужды опираться при этом на экспедиционные войска.
Беспрецедентная мощь Китая на суше отчасти объясняется успехами китайских дипломатов, которые в последние годы приложили немало стараний, чтобы урегулировать многочисленные пограничные споры с республиками Центральной Азии, Россией и другими соседями (Индия в этом ряду является бросающимся в глаза исключением). Значение этой перемены трудно переоценить. Отныне границы Маньчжурии не испытывают колоссального военного давления извне, а ведь в годы холодной войны из-за этой постоянной угрозы Мао Цзэдун был вынужден расходовать львиную долю оборонного бюджета на сухопутные войска и пренебрегать военно-морскими силами. Великая Китайская стена лучше всего свидетельствует о том, что, начиная с глубокой древности и по наши дни, Китай неизменно тревожила угроза внешней агрессии на суше. Теперь он может вздохнуть свободно.
Обретение возможности стать морской державой
Благодаря сложившейся ситуации на суше Китай может в спокойной обстановке заняться укреплением своего флота. В то время как для прибрежных городов-государств или островных стран стремление наращивать военно-морскую мощь представляется чем-то самоочевидным, для держав, которые подобно Китаю на протяжении всей своей истории были замкнуты в пределах материка, это выглядит роскошью. В данном случае, однако, подобное состояние легко достижимо, поскольку береговая линия, которой природа наделила Поднебесную, не уступает по своим качествам ее внутренним областям. Китай занимает господствующее положение на тихоокеанском побережье Восточной Азии в зоне умеренного и тропического климата, а южная граница страны находится в непосредственной близости к Индийскому океану, и в будущем ее можно связать с побережьем сетью дорог и трубопроводов. В XXI веке Пекин будет проецировать вовне «жесткую силу» прежде всего с помощью своего военно-морского флота.
Нельзя не отметить, что на море Китай сталкивается с гораздо более враждебным окружением, чем на суше. Проблемной зоной для китайского флота является так называемая «первая островная гряда»: Корейский полуостров, Курильские острова, Япония (включая острова Рюкю), Тайвань, Филиппины, Индонезия и Австралия. Любое звено в этой цепи, за исключением Австралии, в будущем может стать горячей точкой. Китай уже сейчас вовлечен в споры о принадлежности различных участков дна Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, богатых энергоносителями: с Японией предметом дискуссии являются острова Дяоюйтай/Сэнкаку, с Филиппинами и Вьетнамом – острова Спратли. Подобные распри помогают Пекину подогревать националистические настроения внутри страны, но китайским военно-морским планировщикам от этого не легче: положение дел на театре потенциального противоборства представляется им крайне безрадостным.
Первая островная гряда, по мнению сотрудников Колледжа ВМФ США Джеймса Холмса и Тоши Йошихары, представляет собой нечто вроде «Великой Китайской стены, развернутой против Китая». Это эффективно организованный оборонительный рубеж, выстроенный союзниками Соединенных Штатов наподобие сторожевых вышек, позволяющих наблюдать за Китаем и, если понадобится, воспрепятствовать его проникновению в воды Тихого океана. Реакция Пекина на своеобразную блокаду временами была агрессивной. Морская мощь обычно не проявляется столь жестко, как сухопутная: как таковые корабли не могут занимать большие пространства и предназначены для проведения операций, которые, вообще говоря, сами по себе более важны, чем морские сражения, а именно для обороны торговых путей.
Казалось бы, можно было ожидать, что Китай станет не менее снисходительной державой, чем великие морские нации прошлого – Венеция, Великобритания и Соединенные Штаты, – и будет, как они, заботиться в первую очередь о сохранении мира на морях, что предполагает среди прочего и свободу торговли. Однако он не столь уверен в себе. По-прежнему сознавая свою неполную защищенность на море, Пекин задействует по отношению к Мировому океану чисто территориальный подход. Сами по себе понятия «первая островная гряда» и «вторая островная гряда» (последняя включает остров Гуам, принадлежащий США, и Северные Марианские острова) подразумевают, что в глазах китайцев эти архипелаги представляют собой не что иное, как отроги материкового Китая. Глядя на прилегающие к их стране моря сквозь призму мышления в терминах «игры с нулевой суммой», китайские адмиралы выступают наследниками агрессивной философии американского военно-морского стратега начала XX века, Альфреда Тайера Мэхэна, который отстаивал концепции «контроля над морями» и «решающего сражения». Однако в настоящее время они не располагают достаточно мощным флотом для решения своих задач, и это расхождение между обширными притязаниями и реальными возможностями привело в последние несколько лет к ряду нелепых инцидентов.
В октябре 2006 г. китайская подводная лодка вела слежение за американским авианосцем Kitty Hawk, после чего всплыла на поверхность вблизи от него, на расстоянии торпедного выстрела. В ноябре 2007 г. китайцы не разрешили Kitty Hawk и его ударной группе, искавшей укрытия от надвигавшегося шторма, войти в гонконгскую гавань Виктория. (В 2010 г. Kitty Hawk все же нанес визит в Гонконг.) В марте 2009 г. группа кораблей НОАК помешала работе американского судна дальнего гидроакустического наблюдения Impeccable, когда оно открыто проводило операции за пределами 12-мильной территориальной зоны КНР в Южно-Китайском море. Китайцы преградили путь американскому кораблю и совершали угрожающие маневры, как если бы намеревались его таранить. Все это говорит не столько о серьезной силе, сколько о недостаточной развитости китайского флота, которую пока не удалось преодолеть.
О твердом желании Китая обеспечить свои позиции на море свидетельствуют и крупные приобретения последних лет. Пекин стремится использовать не реализованные до сих пор асимметричные возможности, чтобы перекрыть американскому флоту доступ в Южно-Китайское море и в китайские прибрежные воды. Китай модернизировал свои эсминцы и намерен обзавестись одним-двумя авианосцами, но действует точечно и не склонен скупать военные суда без особого разбора. Он предпочел сосредоточить усилия на строительстве дизельных, атомных и ракетных подводных лодок нового типа. Как считают Сет Кропси, бывший помощник заместителя министра военно-морских сил США, и Рональд О'Рурк, сотрудник Исследовательской службы Конгресса США, Китай способен в течение 15 лет создать флот подводных лодок, который превзойдет американский аналог, насчитывающий в настоящее время 75 боеготовных подводных лодок. Более того, китайские военно-морские силы, по словам Кропси, намереваются ввести в действие систему наведения противокорабельных баллистических ракет, используя в ней загоризонтные радиолокаторы, космические спутники, донные гидролокационные сети и оборудование для компьютерных войн. В сочетании с формирующимся подводным флотом такая система в будущем должна помешать беспрепятственному доступу военно-морских сил США в наиболее значимые области Тихого океана.
Пытаясь установить контроль над прибрежной зоной в Тайваньском проливе и Восточно-Китайском море, Пекин также совершенствует группу морских тральщиков, покупает у России истребители четвертого поколения и развернул вдоль побережья около полутора тысяч российских ракет класса «земля-воздух». Даже вводя в действие систему подземных оптико-волоконных кабелей далеко на западе страны, вне пределов досягаемости морских ракет потенциального противника, китайцы исходят из агрессивной стратегии, предполагающей поражение символов американской мощи – авианосцев.
Разумеется, в обозримом будущем Китай не собирается атаковать американские авианосцы, и он по-прежнему крайне далек от того, чтобы бросить Соединенным Штатам прямой военный вызов. Однако налицо стремление нарастить на своих берегах необходимый потенциал устрашения, чтобы американцы не смели вводить свои корабли, когда и где им того захочется, в пространство между первой островной грядой и китайским побережьем. Поскольку способность влиять на поведение противника составляет самую суть любой державы, эта стратегия лишний раз доказывает, что планы строительства Великого Китая реализуются не только на суше, но и на море.
На очереди – Тайвань
Для создания Великого Китая особенно важно будущее Тайваня. Тайваньская проблема часто обсуждается в терминах нравственности: Пекин настаивает на необходимости восстановить целостность национального наследия и объединить Китай ради блага всех этнических китайцев; Вашингтон печется о сохранении образцовой демократии, какой является Тайвань. Однако подлинную проблему следует искать в другом. Как говорил американский генерал Дуглас Макартур, Тайвань – это «непотопляемый авианосец», занимающий позицию ровно посередине береговой линии Китая. Именно отсюда, по мнению военно-морских планировщиков Холмса и Йошихары, такая держава как США может «проецировать силу» в сторону китайского побережья и прилегающих к нему районов. Если Тайвань вернется в лоно материкового Китая, то китайский флот не только внезапно окажется в стратегически выгодной позиции по отношению к первой островной гряде, но и будет в состоянии свободно, в беспрецедентных масштабах, проецировать свою мощь за пределы этой гряды. Очень часто, говоря о будущем мировом порядке, употребляют слово «многополярный», – но только слияние Тайваня с материковым Китаем ознаменовало бы возникновение в Восточной Азии действительно многополярной военной ситуации.
Согласно результатам исследования, проведенного в 2009 г. RAND Corporation, к 2020 г. Соединенные Штаты не смогут, как раньше, защитить Тайвань в случае нападения Китая. Китайцы, говорится в отчете, к этому времени будут в состоянии нанести США поражение в возможной войне в Тайваньском проливе, даже если американцы будут иметь в своем распоряжении истребители пятого поколения F-22, две авианосных ударных группы и сохранят доступ к авиабазе Кадена на японском острове Окинава. В отчете делается акцент на боях в воздухе. Здесь же указывается, что китайцы по-прежнему будут стоять перед необходимостью высаживать на острове многотысячный пехотный десант, а их транспортные суда останутся уязвимыми для американских подлодок. Освещая ситуацию с разных сторон, отчет, однако, не может скрыть тревожной тенденции. Китай отделяют от Тайваня всего-навсего сто миль, тогда как Соединенным Штатам придется доставлять свои войска с другого конца планеты, причем действовать в условиях более ограниченного доступа к иностранным базам, чем в период холодной войны. Стратегия создания препятствий на пути перемещения американских военных кораблей в определенных морских зонах не просто преследует цель держать их подальше от китайских берегов, но и в особенности направлена на то, чтобы упрочить доминирующее положение Китая в акватории Тайваня.
Пекин делает все, чтобы взять Тайвань в тесное кольцо не только в военном, но и в экономическом и социальном плане. Примерно 30 % тайваньского экспорта приходятся на Китай. Еженедельно между Тайванем и материковым Китаем совершается 270 коммерческих авиарейсов. В последние пять лет две трети тайваньских компаний осуществили инвестиции в китайскую экономику. Ежегодно остров посещают около полумиллиона туристов с материка, а 750 тысяч тайваньцев проживают в Китае, проводя там каждый год по шесть месяцев. Углубляющаяся интеграция выглядит весьма привлекательно, но вот чем этот процесс разрешится, пока сказать трудно. Так или иначе, его исход будет иметь ключевое значение для политики великих держав в этом регионе. Если Соединенные Штаты попросту отдадут Тайвань Пекину, то Япония, Южная Корея, Филиппины, Австралия и другие американские союзники в Тихоокеанском регионе, а также Индия и даже некоторые африканские государства начнут сомневаться в прочности обязательств, которые берет на себя Вашингтон. Это может побудить некоторые страны к сближению со Срединным царством, и тогда формирующийся Великий Китай охватит едва ли не все Восточное полушарие.
В этом заключается одна из причин, по которым Вашингтон и Тайбэй должны искать асимметричные ответы на военную угрозу со стороны Пекина. Им следует стремиться не к тому, чтобы нанести Пекину поражение в возможной войне в Тайваньском проливе, а к тому, чтобы тот ясно осознал: подобная война обойдется для него недопустимо дорого. Если эта цель будет достигнута, американцам удастся сохранять функциональную независимость Тайваня до тех пор, пока Китай не станет более либеральным обществом, – тем самым они смогут сохранить и доверие союзников. В этом смысле действия администрации Обамы, заявившей в начале 2010 г. о намерении продать Тайваню вооружений на общую сумму 6,4 млрд долларов, имеют принципиальное значение для политики США в отношении Китая и, шире, всей Евразии. Кстати, нельзя сказать, что трансформация Китая изнутри – несбыточная мечта: миллионы туристов, прибывающих на Тайвань с материка, видят тамошние оживленные политические ток-шоу и крамольные заголовки в книжных магазинах, и это наверняка оказывает на них влияние. Тем не менее, хотя это звучит несколько парадоксально, демократический Китай может оказаться еще более динамичной великой державой в экономическом и, как следствие, в военном плане, чем Китай репрессивный.
Концентрируя военно-морские силы на тайваньском направлении, Пекин не забывает укреплять присутствие своего флота и в Южно-Китайском море, которое служит для него воротами в Индийский океан и обеспечивает доступ к мировым путям транспортировки энергоносителей. На этом направлении основные проблемы создают пираты, радикальные исламисты и крепнущий морской флот Индии, в том числе и вблизи труднодоступных морских зон, через которые вынуждены проходить китайские нефтяные танкеры и торговые суда. В геостратегическом плане Южно-Китайское море, как говорят многие, может стать «вторым Персидским заливом». Еще в первой половине XX века Николас Спайкмен, специалист по геополитике, заметил, что на протяжении всей истории государства желавшие утвердить свой контроль над прилегающими морями втягивались в «периферическую наземную и морскую экспансию». Греция стремилась подчинить Эгейское море, Соединенные Штаты – Карибское, и вот теперь Китай – Южно-Китайское. Спайкмен называл Карибское море «Средиземным морем Америки», чтобы подчеркнуть его значение для Соединенных Штатов. Южно-Китайское море в ближайшие десятилетия может стать «Средиземным морем Азии» и подлинным средоточием политической географии.
Высоколиквидные угрозы
Впрочем, попытки Китая проецировать силу в «Средиземное море Азии» противоречивы по самой своей сути. С одной стороны, Китай вроде бы полон решимости максимально осложнить доступ американских судов в прибрежные моря. С другой, он по-прежнему не способен защитить свои морские коммуникации, что, вообще говоря, делает любое нападение на американский военный корабль бессмысленным, поскольку в этом случае флот США может попросту отрезать Китай от поставок энергоносителей, перекрыв для китайских судов выход в Тихий и в Индийский океаны. Зачем же планировать что-то, если в действительности не собираешься осуществить намеченное? Как считает советник по вопросам обороны Жаклин Ньюмайер, Пекин хочет добиться «столь благоприятного соотношения сил», что «на деле ему и не придется прибегать к оружию для защиты своих интересов». Недаром он устраивает выставки новых видов оружия, строит портовые сооружения и оборудует станции подслушивания в Тихом и Индийском океане, предоставляет военную помощь приморским государствам, находящимся между китайской территорией и Индийским океаном. Все эти ходы делаются открыто и являются сознательной демонстрацией силы. Китайцы не столько ввязываются в непосредственную схватку с Соединенными Штатами, сколько стремятся повлиять на поведение американцев таким образом, чтобы избежать возможной конфронтации.
Вместе с тем активность Китая на море обнаруживает и более грозные аспекты. В самом центре Южно-Китайского моря, на южной оконечности острова Хайнань, китайцы строят мощную морскую базу с подземными доками, позволяющими разместить до 20 атомных и дизельных подводных лодок. Они как бы реализуют на практике доктрину Монро, утверждая свое господство над близлежащими международными водами. В настоящее время и в обозримом будущем у Китая едва ли появится намерение затеять войну с Америкой, но позже мотивации могут измениться. Лучше заранее оценить возможные варианты.
Ситуация на границах Евразии выглядит сейчас гораздо более сложной, чем в первые годы после Второй мировой войны. По мере того как американская гегемония пойдет на убыль, мощь военно-морских сил США будет уменьшаться или оставаться прежней, а экономическое и военное могущество Китая – крепнуть, расклад сил в Азии начнет все заметнее приобретать многополярный характер. Соединенные Штаты поставляют Тайваню 114 противовоздушных ракет Patriot и десятки ультрасовременных систем военной связи. Китай строит подземные доки для подлодок на острове Хайнань и запасается противокорабельными ракетными установками. Продолжают модернизацию своего флота Япония и Южная Корея. Мощные военно-морские силы создает Индия. Каждое из государств стремится сдвинуть равновесие сил в свою сторону.
Именно поэтому отказ государственного секретаря США Хиллари Клинтон от политики равновесия сил, будто бы являющейся реликтом прошлого, представляется либо актом лицемерия, либо заблуждением. В Азии продолжается гонка вооружений, и Соединенные Штаты неизбежно столкнутся с суровой реальностью, как только существенно сократят свои войска в Афганистане и Ираке. Притом что ни одно из азиатских государств не имеет побудительных причин для войны, с течением времени и по мере накапливания сухопутных и морских вооружений в регионе (даже если говорить только о Китае и Индии) риск неверной оценки соотношения сил будет возрастать. Из-за напряженности на суше грозит усилиться и напряженность на море: зоны силового вакуума, в которые сейчас проникает Китай, станут через некоторое время яблоком раздора в его отношениях с соседними странами – как минимум с Индией и Россией. Некогда пустые пространства заполнятся множеством людей, дорог, трубопроводов, кораблей и ракетных установок. Политолог из Йельского университета Пол Брэкен в 1999 г. предупреждал, что Азия становится обособленным географическим регионом и что на нее надвигается кризис «жизненного пространства». С тех пор этот процесс только усугублялся.
Так как же Соединенным Штатам сохранять стабильность в Азии, защищать в этой части света своих союзников и препятствовать возникновению Великого Китая, избегая в то же время открытого конфликта с Пекином? Перевес, который они имеют на море, рискует оказаться недостаточным. Как сказал мне в начале этого года один высокопоставленный индийский чиновник, основные союзники США в Азии (Индия, Япония, Сингапур и Южная Корея) хотят, чтобы американский флот и авиация координировали свои действия с вооруженными силами этих стран. Именно так Соединенные Штаты и в будущем останутся неизымаемой частью азиатского военного ландшафта на суше и на море, а не превратятся в абстрактную угрозу, таящуюся где-то в отдалении. Между пререканиями с американским правительством по поводу прав на размещение военных баз, которые недавно затеяла Япония, и желанием полностью удалить войска США из региона лежит дистанция огромного размера.
Один из планов, циркулирующих в Пентагоне, предполагает, что Соединенные Штаты способны «противостоять китайской стратегической мощи... без прямой военной конфронтации», опираясь на военный флот, насчитывающий 250 кораблей (а не 280, как было раньше), и на урезанный на 15 % оборонный бюджет. Этот план, составленный полковником ВМФ в отставке Пэтом Гарретом, весьма интересен, поскольку включает в евразийское уравнение такую стратегическую величину, как Океания. В самом деле, Гуам, Каролинские, Маршалловы, Северные Марианские и Соломоновы острова являются либо американскими территориями, либо республиками, имеющими военные соглашения с США, либо независимыми государствами, которые, вероятно, будут готовы заключить подобные соглашения. Значение Океании будет расти, поскольку она находится, с одной стороны, сравнительно близко к Восточной Азии, а с другой – вне той зоны, из которой Китай хотел бы вытеснить американский флот. От Гуама всего четыре часа лета до Северной Кореи и два дня плавания до Тайваня. Держать базы в Океании для Соединенных Штатов удобнее, чем, как это было и остается, сохранять воинские части в Японии, Южной Корее и на Филиппинах.
Авиабаза Андерсен на Гуаме уже сейчас играет роль господствующей высоты, с которой Соединенные Штаты могут проецировать «жесткую силу» в любом направлении. Это самая мощная стратегическая авиабаза США в мире, обеспечивающая скоростную заправку самолетов; здесь хранится сто тысяч авиаснарядов и 66 млн галлонов авиационного топлива. Взлетные полосы базы заполнены длинными рядами транспортных самолетов C-17 Globemaster и истребителями F/A-18 Hornet. Кроме того, на Гуаме размещена эскадра американских подводных лодок; здешняя военно-морская база в настоящее время расширяется. Гуам и соседние Северные Марианские острова находятся на почти равном расстоянии от Японии и Малаккского пролива. А юго-западная оконечность Океании, выглядывающая из-под Индонезийского архипелага, – группки принадлежащих Австралии островов Ашмор и Картье и близлежащий западный берег самой Австралии (от Дарвина до Перта), – держит под прицелом Индийский океан. Таким образом, согласно плану Гаррета, флот и авиация США способны использовать географические преимущества Океании, чтобы поддерживать «региональную боеготовность» (regional presense in being), локализуемую «непосредственно за горизонтом» Великого Китая (в его неофициальных границах) и той акватории, где проходят основные евразийские морские пути. (Понятие «региональная боеготовность» – отголосок известного выражения «флот в боевой готовности», fleet in being, сто лет назад его предложил английский военно-морской историк сэр Джулиан Корбетт. Подразумевались стоящие в различных портах корабли, способные при необходимости быстро объединяться в мощную армаду. Словосочетание «непосредственно за горизонтом» отражает и равновесие сил на море, которое США будут поддерживать самостоятельно, и американское участие в концерте азиатских держав).
Укрепляя присутствие американского флота и авиации в Океании, США могли бы реализовать компромиссный подход: не сопротивляться возникновению Великого Китая любой ценой и одновременно не соглашаться пассивно с возможным переходом первой островной гряды под контроль китайского флота. Такой подход заставил бы Китай заплатить высокую цену в случае любой военной авантюры против Тайваня. Кроме всего прочего, это позволило бы Соединенным Штатам постепенно сворачивать свое непосредственное присутствие в акватории первой островной гряды (так называемое наследие военных баз), но вместе с тем сохранять возможность воздушного и морского патрулирования в этом регионе.
План Гаррета предусматривает также резкое усиление активности американского военно-морского флота в Индийском океане. Впрочем, Гаррет не предлагает расширять существующие здесь военные базы; он рассчитывает опираться на уже имеющийся костяк таких баз на Андаманских островах, Коморах, Мальдивах, Маврикии, Реюньоне и Сейшелах (некоторые из них прямо или косвенно управляются Францией и Индией), а также на военные соглашения с Брунеем, Малайзией и Сингапуром. Это обеспечило бы свободу мореплавания и беспрепятственное движение потоков энергоносителей во всей Евразии. Кроме того, такой план, не настаивая более на важности существующих американских баз в Японии и Южной Корее и в то же время разнообразя сферу присутствия США в Океании, положил бы конец основным базам, представляющим собой удобную цель для поражения.
Железная хватка, которой Соединенные Штаты до сих пор держали первую островную гряду, в любом случае начинает ослабевать под давлением новых обстоятельств. Местное население стало менее терпимо к присутствию иностранных баз на своей территории. А укрепление Китая делает его одновременно и отталкивающим, и привлекательным. Подобное смешанное чувство способно осложнить двусторонние отношения Вашингтона с тихоокеанскими союзниками. Все дело лишь в том, когда это произойдет. Теперешний кризис в американо-японских отношениях – возникший из-за того, что неопытное правительство Хатоямы хочет переписать соглашения о двустороннем сотрудничестве в свою пользу и вдобавок говорит о желании углублять связи с Китаем, – мог случиться и несколькими годами раньше. (Премьер-министр Хатояма ушел в отставку в июне 2010 г. из-за кризиса, связанного с неспособностью кабинета выполнить обещание о выводе американской базы с Окинавы. – Ред.) Все еще сохраняющаяся ситуация абсолютного превосходства Соединенных Штатов в Тихом океане есть не что иное, как анахронизм, унаследованный от Второй мировой войны, отголосок того краха, который пережили в результате глобального конфликта Китай, Япония и Филиппины. Не может бесконечно сохраняться и американское присутствие на Корейском полуострове – побочный продукт другой войны, закончившейся более полувека назад.
Центральная Азия, Индийский океан, Юго-Восточная Азия, западная часть Тихого океана – таковы обширные регионы, которые рискуют оказаться под политическим, экономическим и военным контролем возникающего у нас на глазах Великого Китая. Однако вдоль границ этого громадного царства будет курсировать американский флот, дислоцированный, как можно ожидать, по большей части в Океании и тесно сотрудничающий с военно-морскими силами Индии, Японии и других демократических государств. А со временем, когда возрастет доверие Китая к внешнему миру, а его военная доктрина уже не будет опираться на сугубо территориальный подход, китайский флот и сам сможет влиться в этот широкий региональный альянс морских держав.
Пока же стоит отметить, что с исключительно военной точки зрения, как указал в 1999 г. политолог Роберт Росс, отношения между Соединенными Штатами и Китаем останутся более стабильными, чем были в свое время отношения между США и Советским Союзом. Причина этого – географические особенности Восточной Азии. В период холодной войны одного только американского подводного флота было недостаточно, чтобы устрашать Советский Союз, – для этого требовалось держать многочисленные сухопутные войска в Европе. Но размещения подобных сил вдоль пределов Евразии никогда не понадобится: как бы сильно ни сокращалось присутствие сухопутных войск у границ Великого Китая, американский флот и в будущем останется сильнее китайского.
Так или иначе, в ближайшие годы сам факт укрепления экономической и военной мощи Китая усугубит напряженность в американо-китайских отношениях. Перефразируя Миршеймера, можно сказать, что Соединенные Штаты, гегемон Западного полушария, приложат все возможные усилия, чтобы помешать Китаю сделаться гегемоном большей части полушария Восточного. И не исключено, что это станет самой потрясающей драмой нашей эпохи.

Тихоокеанские комбинации
Споры вокруг интеграции в Азии
А.В. Иванов – старший научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО (У) МИД РФ.
Резюме Москве следует внимательно следить за интеграционными идеями, которые в последнее время обсуждаются в АТР. Необходимо понять, с какими азиатскими структурами России было бы полезно в первую очередь иметь дело, чтобы максимально эффективно вписаться в экономику региона.
Мировой финансовый кризис серьезно потрепал Европу и США, однако многие государства Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) пережили его, не понеся ощутимых экономических потерь. Более того, по некоторым прогнозам, ряд стран этой части планеты, к примеру, Китай, выйдут из кризиса окрепшими. Это подтверждает представление о регионе как о будущем локомотиве мирового развития и повышает его ценность в качестве потенциального партнера России, сотрудничество с которым поможет не только поднять Сибирь и Дальний Восток, но и оживить всю российскую экономику. В духе объявленного руководством курса на модернизацию и избавление от сырьевой зависимости крайне важно использовать возможности для развития и инноваций, которые открывает впечатляющий рост Азии. Этому было посвящено представительное совещание по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и сотрудничеству со странами АТР, которое прошло в Хабаровске под председательством Дмитрия Медведева в начале июля 2010 года. На нем президент России поставил задачу вывести экономическое взаимодействие «на новый уровень», уделяя особое внимание соглашениям о свободной торговле.
Глава государства заявил о том, что у России «достаточно прочные позиции» в различных объединениях АТР, однако «от нас ждут более активных действий». В этом контексте Москве следует внимательно следить за интеграционными идеями, которые в последнее время обсуждаются в АТР. С какими азиатскими структурами России было бы полезно иметь дело, чтобы максимально эффективно вписаться в экономику региона?
Плюсы и минусы АТЭС
В АТР действуют несколько региональных образований разного формата и различной нацеленности. С некоторыми из них Россия уже сотрудничает.
Прежде всего это организация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), создание которой стало в значительной степени ответом на углубление европейской экономической интеграции. Впрочем, в отличие от Европейского союза форум не предусматривает органов надгосударственного управления и признает незыблемость государственного суверенитета, и именно это сделало его привлекательным для обсуждения региональных и даже глобальных проблем. У АТЭС нет специального административного аппарата, полномочий правопринуждения при разрешении конфликтов, стремления жестко планировать перспективы собственной эволюции, сложилась практика сотрудничества на основе консенсуса и невмешательства во внутренние дела членов организации. С другой стороны, те же факторы стали причиной чрезвычайно низкой практической эффективности форума, закрепившей за АТЭС ярлык «говорильни». Стоит отметить, что формально участниками этой структуры являются не страны, а «экономики». Это позволяет обойти болезненную проблему статуса Тайваня.
Превращение Азиатско-Тихоокеанского региона в зону свободной торговли и инвестиций остается под большим вопросом, поскольку внутри АТЭС нет единства по поводу темпов ее формирования. В частности, США вместе с Австралией и рядом других стран выступают за ускорение этого процесса и открытие рынков Восточной Азии. В то же время Япония и Республика Корея хотели бы, напротив, такую тенденцию притормозить, поскольку они не спешат пускать конкурентов на свои рынки, например, рынок сельскохозяйственной продукции. Аналогичную позицию занимают и входящие в АТЭС страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), больше заинтересованные не в либерализации торговли, а в развитии научно-технического сотрудничества, которое помогло бы им сократить технологический и экономический разрыв с развитыми странами.
Пробуксовка процесса либерализации торговой и инвестиционной деятельности, как и то обстоятельство, что АТЭС стала все больше напоминать формальную организацию, ежегодно принимающую декларации, которые не приносят конкретных результатов в экономической области, привели к снижению интереса членов к совместной работе. Осознание возникших проблем заставило участников сингапурского саммита организации в ноябре 2009 г. поднять вопрос о необходимости реформ.
В частности, председатель КНР Ху Цзиньтао призвал, во-первых, продолжить создание благоприятных условий для либерализации торговли и инвестиций. Во-вторых, на практике помочь развивающимся странам – членам форума в их развитии, расширить и активизировать передачу технологий и повысить уровень экономического и технического сотрудничества. В-третьих, путем реформ и инноваций сделать более динамичным механизм функционирования АТЭС.
Следующие два саммита пройдут в Японии и Соединенных Штатах. Ожидается, что на них могут быть приняты какие-то важные решения, касающиеся реформирования АТЭС, причем не исключено, что они будут иметь более обязывающий характер. В связи с этим пока достаточно сложно предположить, как может измениться стратегия развития этой организации и что вообще она будет представлять собой к 2012 г., когда председательство перейдет к России и саммит АТЭС пройдет во Владивостоке.
С момента вступления в 1998 г. Москва постепенно наращивала активность в работе форумов этой организации. Так, на саммите в Сантьяго в 2004 г. Россия совместно с США добилась одобрения инициативы о контроле над перемещением в регионе АТЭС переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). По настоянию России в итоговых документах была тогда отмечена необходимость того, чтобы контртеррористическая активность АТЭС опиралась на соответствующие международно-правовые документы, в частности, резолюцию СБ ООН 1566. Также подчеркивалась важность активизации взаимодействия форума с профильными международными организациями и институтами. Кроме того, Москва выступила одним из инициаторов создания в рамках АТЭС механизма сотрудничества в области повышения готовности государств региона к чрезвычайным ситуациям.
Впрочем, Россия выступала и с экономическими предложениями. На том же саммите в Сантьяго по ее инициативе в рамках АТЭС был создан Диалог по цветным металлам, где за Россией совместно с Чили был закреплен статус сопредседателя. Москва неоднократно предлагала свою помощь в формировании новой энергетической конфигурации в АТР и прежде всего в Восточной Азии путем создания системы нефте- и газопроводов, поставок судами сжиженного природного газа из восточных регионов России, где имеются значительные запасы углеводородов. На саммите-2008 в Лиме президент Дмитрий Медведев заявил о намерении России «содействовать созданию такой системы энергообеспечения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая позволит потребителям энергоресурсов диверсифицировать географию импорта, обеспечить надежные и бесперебойные поставки».
Однако до последнего времени Москва оставалась для стран АТЭС гораздо менее привлекательным торгово-экономическим партнером, чем они для нее (доля России во внешнеторговом обороте стран организации составляет примерно 1 %, в то время как в российском внешнеторговом балансе на них проходится более 15 %). Причина проста: Россия пока может предложить региону главным образом сырье, в то время как саму ее интересует в первую очередь высокотехнологичная продукция. Что касается российских производителей сложной технологической и наукоемкой продукции, то они пока там слабо представлены. Хорошим шансом прорекламировать возможности России как партнера АТЭС станет проведение саммита во Владивостоке в 2012 г.
Поиск новых форм
Однако следует иметь в виду, что в АТР уже успешно действуют вполне реальные экономические союзы, например АСЕАН. Российские эксперты отмечают, что наиболее эффективно сотрудничество России и АСЕАН осуществляется в области безопасности, а одной из основных задач Российской Федерации в АТР является формирование региональной системы коллективной безопасности с участием максимального числа государств, включая США, Японию, Китай, Россию, Индию, Республику Корея, КНДР и АСЕАН.
Основой экономического сотрудничества между Россией и АСЕАН стало Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области экономики и развития, подписанное в декабре 2005 г. Особое место занимает военно-техническая сфера, ведь на долю АСЕАН приходится до 15 % стоимости мировых поставок вооружений и военной техники. В странах организации разработаны долгосрочные программы модернизации вооруженных сил, многие из них являются активными импортерами российских вооружений. Россия интересна для АСЕАН и как партнер, с точки зрения диверсификации поставок энергоресурсов, несмотря на то что ряд стран АСЕАН, таких как Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Бруней, сами являются крупными производителями нефти и газа. По мнению российских экспертов, участники АСЕАН интересуются и российскими научными разработками в сфере биотехнологии, телекоммуникаций, новых материалов, перспективами использования космической техники. Кроме того, Москва настойчиво пытается заинтересовать страны организации взаимодействием в области ядерной энергетики. Однако многие проекты сотрудничества пока остаются на бумаге, а по объему торговли с соответствующими странами, и тем более по объему инвестиций в этот регион Россия занимает последние места в списке.
Тон в сотрудничестве с АСЕАН сейчас задает Китай. С января 2010 г. начала действовать зона свободной торговли «АСЕАН+Китай», в которой основной валютой является юань. Это облегчило Пекину доступ на рынки стран АСЕАН и способно компенсировать спад в американо-китайской торговле. Кроме того, открывается перспектива превращения юаня в резервную валюту данного региона.
Укрепление позиций КНР в АТР беспокоит США, Японию, Австралию. Еще одна причина озабоченности – сохранение в регионе противоречий между столь разными по размеру, населению, весу экономик, культуре, политическому устройству государствами. Поэтому местные элиты ищут пути преодоления всех этих противоречий и проблем путем создания в регионе некоего единого формирования. Наиболее заметными стали две инициативы: формирование к 2020 г. Азиатско-Тихоокеанского сообщества (АТС), с этой идеей выступил в июне 2008 г. премьер-министр Австралии Кевин Радд; а также создание Восточноазиатского сообщества (ВАС), предложенное в 2009 г. премьер-министром Японии Юкио Хатоямой.
Инициативы не остались незамеченными в России. В частности, 5 ноября 2008 г. в Токио на встрече с представителями политических, научных и общественных кругов Японии («Политика России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и российско-японские отношения») министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил появление плана Радда тем обстоятельством, что АТР «по-прежнему стоит перед необходимостью построения оптимальной системы безопасности». Он признал, что это нелегкая задача, поскольку «в Азии нет договорно-правовой основы для обеспечения безопасности наподобие Хельсинкского Заключительного акта, Венских документов по мерам доверия». А 4 декабря 2009 г. на конференции в Сиднее, посвященной теме «Азиатско-Тихоокеанский регион: сообщество XXI века», об инициативах Радда и Хатоямы упомянул в своем выступлении «Многомерная архитектура для полицентричного Азиатско-Тихоокеанского региона» первый заместитель министра иностранных дел России Алексей Бородавкин. Кратко изложив суть обоих предложений, он отметил, что им пока не хватает концептуальной четкости, что не позволяет странам региона выработать однозначное отношение. И вообще вариант создания в АТР единой интеграционной структуры по типу Евросоюза, к чему, собственно, и призывают Радд и Хатояма, представляется проблематичным.
Замечания о том, что реализация идей о создании региональных сообществ в АТР столкнется с большими трудностями, несомненно, справедливы, что скорее всего осознают и сами их авторы. Кстати, оба уже оставили свои должности. Кевин Радд ушел в отставку в июне 2010 г. из-за внутрипартийных разногласий. Юкио Хатояма также покинул пост премьер-министра Японии в начале июня, взяв на себя ответственность за невозможность выполнить свое предвыборное обещание о выводе с территории Окинавы американской военной базы «Футэмма». Жесткая позиция США по этому вопросу стала косвенным ответом на попытки нового японского руководства добиться «более равноправной» модели отношений между Токио и Вашингтоном. Правда, сменивший Хатояму на посту премьера Наото Кан уже заявил, что работа по конкретизации и реализации инициативы ВАС будет продолжена.
Сообщество по-японски
Главную цель создания ВАС Хатояма видел в том, чтобы помочь Японии сохранить политическую и экономическую независимость и защитить интересы страны, зажатой между Соединенными Штатами, которые пытаются удержать свое доминирующее положение в мире, и Китаем, стремящимся занять их место. Причину, по которой идею Токио по созданию ВАС могут поддержать государства региона, экс-премьер видит в желании целого ряда малых и средних стран Азии, с одной стороны, обеспечить продолжение военного присутствия США для сохранения стабильности в регионе, с другой – ограничить политические и экономические издержки американского влияния. Кроме того, налицо желание этих государств уменьшить военную опасность со стороны КНР, но в то же время они заинтересованы в том, чтобы растущая китайская экономика развивалась должным образом. Эти факторы, считает Хатояма, благоприятствуют региональной интеграции.
Признавая сложности с реализацией идеи ВАС, экс-премьер Японии предложил начать с региональной валютной интеграции. Тем самым, по его мнению, был бы естественным образом продолжен стремительный экономический рост, некогда начатый Японией, за которой последовали Южная Корея, Тайвань и Гонконг, а затем страны АСЕАН и Китай. Хатояма также призвал приложить максимум усилий к созданию региональных структур безопасности, которые станут в дальнейшем основой и валютной интеграции. Он выразил уверенность, что Япония, которая раньше не решалась играть активную роль в АТР из-за исторических обстоятельств, вызванных ошибками прошлого, сумеет преодолеть проблемы непонимания с соседями и станет «мостом» между странами Азии.
15 ноября 2009 г. в Сингапуре на саммите АТЭС Хатояма попытался объяснить, почему именно Япония должна стать инициатором создания Восточноазиатского сообщества. По его мнению, Япония – уникальная страна в Азии, она первой осуществила модернизацию, обладает превосходными технологиями, зрелой экономикой, опытом командной работы, имеет долгую историю парламентской демократии. О зрелости последней свидетельствует среди прочего тот факт, что на выборах 29 августа 2009 г. народ проголосовал за смену правительства, нарушив десятилетия монополии одной партии. Но особое значение Японии заключается и в том, что с «вызовами постэкономического роста», такими как снижение рождаемости, старение населения, ускорение урбанизации и депопуляции сельских районов, она столкнулась задолго до того, как это ощутили на себе другие страны Азии. После многих проб и ошибок страна приобрела знания и опыт реагирования на подобные вызовы. Поэтому другие государства Восточной Азии, которых рано или поздно коснутся эти проблемы, могут воспользоваться японским опытом, что поможет Азии стать сильнее.
Целями сотрудничества в рамках ВАС Хатояма назвал совместное процветание на основе соглашений о партнерстве и о свободной торговле; создание «Зеленой Азии» (мероприятия по защите окружающей среды); спасение человеческих жизней от стихийных бедствий и инфекционных болезней; создание «Моря братства» (совместная борьба с пиратами в морях региона, через которые проходят торговые пути). Сотрудничество может распространяться и на области ядерного разоружения и нераспространения, культурных обменов, социальных гарантий, проблем урбанизации, а в будущем – на политическую сферу.
Страны Юго-Восточной Азии в целом благосклонно относятся к идее ВАС. Ее с интересом восприняли в Сеуле и даже в Пекине. Китайские эксперты не сомневаются, что интерес Японии к участию в создании ВАС в качестве члена-основателя объясняется ее стремлением добиться более независимых отношений с Вашингтоном и упрочить свои национальные интересы и влияние в Восточной Азии, но эти «эгоистические» мотивы находят понимание у КНР. Более независимая (от США) Япония и новая региональная организация, подобная ВАС, согласуются с дипломатической стратегией Пекина – стремлением к многополярному миру. Успешное строительство широкого сообщества в Восточной Азии способствовало бы долговременному миру и стабильности в регионе, а это важный фактор развития экономики КНР. Более тесная региональная интеграция помогла бы Китаю диверсифицировать экспорт и уменьшить зависимость от рынков США и Европы. А обладая такой экономической мощью, как сегодня, он не встретил бы на своем пути никаких препятствий, чтобы играть лидирующую роль в ВАС.
Тем не менее разногласия по историческим вопросам, территориальные споры, недоверие между странами региона заставили некоторых китайских и японских аналитиков скептически отнестись к идее ВАС, за которой даже закрепилось выражение «миссия невыполнима». В КНР, например, полагают, что без более честной позиции Токио по прошлым военным преступлениям, в которых его обвиняют, налаживание доверия в регионе вообще невозможно. Несмотря на это, многие специалисты в Китае верят, что объединение реально, если оно будет создано с помощью экономической интеграции на основе существующих механизмов, а другие противоречия преодолимы со временем.
Отправной точкой для образования ВАС называют достигнутую во время саммита Японии, Китая и Республики Корея в Пекине (октябрь 2009 г.) договоренность о более глубокой кооперации между тремя странами как ключевыми торговыми партнерами. Китайские эксперты отмечают, что Хатояма не конкретизировал, сколько стран должно входить в ВАС, а Пекин может выступить за содружество из 13 государств – например, АСЕАН+3, которое уже работает. Правда, препятствие для образования ВАС Китай видит в Соединенных Штатах, которые не одобрят региональное объединение, контролируемое четырьмя восточноазиатскими державами, и с большим трудом примирятся с полной независимостью Токио. Несмотря на заявления Хатоямы о том, что США и союз с ними Японии останутся стержнем обеспечения мира и стабильности в АТР, в Пекине предпочли бы видеть ВАС без Америки.
Что касается самой Японии, то в ее экспертном сообществе нет однозначной точки зрения относительно целесообразности создания ВАС. Сомнения по этому поводу отразились, в частности, в дискуссии, проведенной на страницах февральского за 2010 г. номера журнала МИД Японии «Гайко фораму» («Дипломатический форум»), озаглавленной «Куда направляется политический режим Хатоямы?». Принявший в ней участие директор Института Восточноазиатских исследований Университета Кэйё (Токио) Рёсэй Кокубун отмечает, что для Китая, преследующего цель стать глобальной силой, рамки региональной организации, подобной ВАС, будут тесны. Но, по его мнению, они вряд ли устроят и Японию. «Когда я услышал о концепции Восточноазиатского сообщества, я подумал: неужели Япония собирается стать региональной державой?» – не может сдержать удивления Кокубун. Он напоминает, что Япония была ранее мировой державой, она нацеливалась на «Большую двойку», под которой, видимо, следует понимать некий союз с США, на пару с которыми Япония могла бы править миром, но потерпела неудачу. Получается, отмечает далее Кокубун, что концепция «Восточноазиатского сообщества» отражает психологию превращения в региональную державу. «Я сомневаюсь, что отказ от идентичности мировой державы и следование региональным ценностям – это хорошо», – заключает он. Однако это лишь частное мнение. Официальный Токио включил ВАС в число приоритетных задач японской внешней политики, вошедших в «Голубую книгу японской дипломатии», которая вышла весной 2010 года.
Тормозом реализации идеи ВАС может стать обострение отношений между КНР и Соединенными Штатами, вышедшее наружу зимой этого года. Непосредственной причиной послужило одобрение Белым домом сделки по продаже Тайваню крупной партии американского оружия. В ответ Пекин сделал несколько жестких заявлений и демонстративных жестов, однако до прямой конфронтации дело не дошло.
Напротив, Китай поддержал санкции против Ирана в Совете Безопасности ООН (правда, гарантировав все свои экономические интересы), а накануне встречи «Большой двадцатки» в Канаде даже пообещал более гибко подойти к вопросу о курсе юаня (это комментаторы считают не более чем риторикой). По мнению экспертов, в частности, директора Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО (У) МИД России Александра Лукина, Пекин пока воздержится от эскалации напряженности: «Сегодня Китай в отличие от СССР периода холодной войны явно недостаточно силен с военной и экономической точки зрения, чтобы начать глобальное соревнование с Соединенными Штатами».
Эта оценка скорее всего верна. Но в Токио предпочитают перестраховаться: участники состоявшегося в феврале этого года заседания Совета по вопросам обороны и безопасности согласились, что Японии следует внимательно следить за тенденциями развития КНР, особенно за военным строительством, а также установить новую форму сотрудничества в области безопасности с Южной Кореей.
Уже сейчас все явственнее начинают проявляться факторы, как стимулирующие формирование ВАС, так и тормозящие этот процесс. К первым относится потребность Японии, КНР, Южной Кореи и стран АСЕАН в объединении экономических ресурсов для поддержания высоких темпов роста и повышения конкурентоспособности экономики региона перед лицом экономик США и интегрирующейся Европы. Ко вторым – объективное столкновение интересов Соединенных Штатов и Китая. Вашингтон и союзный ему Токио по-прежнему воспринимают Пекин в качестве политического конкурента и источника угрозы.
Сообщество по-австралийски
Нет пока ясности и с тем, как будет реализовываться инициатива создания к 2020 г. Азиатско-Тихоокеанского сообщества (АТС), с которой выступил в июне 2008 г. премьер-министр Австралии Кевин Радд. Предполагаемое объединение должно включить в себя США, КНР, Японию, Индию и другие страны региона на базе АТЭС, Регионального форума АСЕАН, а также АСЕАН плюс восточноазиатская «тройка» (Китай, Япония, Южная Корея) в формате 10+3, саммита Восточной Азии и т.д. Целями служат развитие потенциала трансграничной борьбы с нетрадиционными угрозами безопасности, укрепление механизмов открытой, недискриминационной торговой системы, создание гарантий для обеспечения долгосрочной энергетической, ресурсной и продовольственной безопасности.
По оценке китайских экспертов, идея АТС была холодно встречена в Сингапуре, Таиланде и других странах АСЕАН, поскольку она предусматривает сохранение стратегического доминирования Соединенных Штатов как ключевого фактора поддержания региональной безопасности. К тому же скорее всего шансы России на членство в АТС будут меньше, чем на участие в ВАС. Напомним, что в 2005 г. премьер-министр Австралии Джон Говард выступил против приглашения России участвовать в Восточноазиатском саммите, одним из инициаторов которого тогда был премьер-министр Малайзии Махатхир Мохаммад. По мнению ученого секретаря Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Вячеслава Амирова, позиция Говарда объяснялась чисто экономическими мотивами: Австралия видит в России конкурента в области поставок в страны АТР сырьевых и энергетических ресурсов, прежде всего сжиженного газа. В 2005 г. сопротивление Австралии удалось преодолеть благодаря поддержке Малайзии. Но сейчас инициатором АТС является Австралия, и идея будет продвигаться дальше при новом премьере Джулии Гиллард, и скорее всего ее мнение о том, кого и на каких условиях приглашать в эту организацию, будет достаточно весомым, чтобы заблокировать принятие нежелательных конкурентов.
Появление инициатив Кевина Радда и Юкио Хатоямы, а также первая реакция на них стран региона свидетельствует о том, что вопрос о строительстве нового регионального порядка в АТР, стимулирующего развитие сотрудничества и создающего условия для предотвращения конфликтов, назрел. Рассматриваемые идеи, хотя и предлагают некий набор объединяющих целей, не дают действенных рецептов преодоления главного препятствия на пути создания в Восточной Азии или, шире, в АТР единой интеграционной структуры по типу Евросоюза – несходство, а в некоторых случаях и противоборство национальных интересов стран региона. Именно поэтому обе идеи не могут заручиться широкой поддержкой.
На инициативу Радда косо смотрят в ряде стран АСЕАН, которые опасаются, что она лишь укрепит гегемонию США. А Вашингтон, в свою очередь, с подозрением относится к идее ВАС как к попытке ослабить американское влияние в регионе. Этим подозрением и было вызвано заявление Барака Обамы в ходе визита в Токио в конце 2009 г. о том, что Соединенные Штаты намерены и дальше сохранить свою важную роль в АТР. Вашингтон не успокоили заверения Хатоямы о стремлении Японии при поддержке других стран строить ВАС с учетом ведущей роли США в обеспечении региональной безопасности.
Это означает, что разработка концепции нового сообщества АТР будет продолжаться. И России имеет смысл принять в ней активное участие, возможно, выдвинув собственные идеи, которые должны быть лишены недостатков, обнаружившихся в инициативах по созданию АТС и ВАС.

Помогая другим, защищать себя
Будущее американской помощи другим странам – в обеспечении безопасности
Роберт Гейтс был министром обороны при президенте Джордже Буше и Бараке Обаме с 2006 по 2011 год, а также директором Центральной разведки при президенте Джордже Буше-старшем с 1991 по 1993 год.
Резюме В предстоящие годы наиболее серьезные угрозы Соединенным Штатам, скорее всего, будут исходить из государств, не способных обеспечить эффективное управление или контроль над собственной территорией. Американскому правительству следует оказывать помощь партнерам, чтобы они были способны сами защитить себя либо – при необходимости – сражаться рука об руку с войсками США.
Статья опубликована в журнале Foreign Affairs, № 3 (май–июнь) за 2010 г. © Council on Foreign Relations, Inc.
В грядущие десятилетия самые страшные угрозы безопасности США – террористические акты с применением химического или ядерного оружия – скорее всего, будут исходить от плохо управляемых государств, не способных обезопасить собственную территорию. Целенаправленная работа с раздробленными либо ослабленными странами – это во многих отношениях главная проблема безопасности в наше время.
А перед Министерством обороны и правительством возникает не менее сложная институциональная задача. Маловероятно, что в ближайшее время Соединенные Штаты начнут еще одну операцию, сопоставимую по масштабу с миссией в Афганистане или Ираке. Иными словами, они вряд ли прибегнут к насильственной смене режима в какой-либо стране и займутся там национальным строительством под огнем террористов. Однако, согласно выводам, сделанным в недавно опубликованном «Четырехлетнем обзоре оборонной стратегии» Пентагона, все еще сохраняется вероятность сценария, при котором от США потребуется применение хорошо знакомых им тактики и набора возможностей, хотя и в меньшем масштабе. В этом случае эффективность и убедительность мер, принимаемых Вашингтоном, будут напрямую зависеть от успешности действий, стабильности и устойчивости его местных партнеров.
На сегодняшний день стратегическая обстановка требует, чтобы американское правительство более тщательно занималось, что называется, «выстраиванием способности партнера», то есть помогало бы соответствующим странам обороняться и, если понадобится, вести боевые действия вместе с Соединенными Штатами, получая от них необходимое снаряжение, военную подготовку либо другую помощь в сфере безопасности. Это то, чем США так или иначе занимались почти три четверти века еще до вступления во Вторую мировую войну. Как раз к тому периоду относятся слова Уинстона Черчилля: «Дайте нам инструменты, и мы закончим работу» (речь идет о поставках вооружений по ленд-лизу. – Ред.). По программе ленд-лиза Соединенные Штаты отправили в Великобританию в годы войны военные грузы на сумму 31 млрд долларов (в ценах 1940-х гг.). Помощь Советскому Союзу оценивается в 11 млрд долларов, включая сотни тысяч грузовиков, тысячи танков, самолетов и артиллерийских орудий. Наращивание военной мощи и обороны основных союзников и местных партнеров было главным элементом стратегии США в период холодной войны – сначала в Западной Европе, затем в Греции, Южной Корее и в других регионах. Одним из основных положений «доктрины Никсона» (Стратегии национальной безопасности) была военно-экономическая помощь партнерам и союзникам в противостоянии повстанцам, финансируемым Советским Союзом. При этом Соединенные Штаты старались избегать прямой военной интервенции, памятуя о дорогостоящих и малоэффективных кампаниях в Корее и Вьетнаме.
Долг советника
С тех пор архитектура глобальной безопасности радикально изменилась. Сегодня обстановка стала менее предсказуемой, более сложной и во многих отношениях более опасной. И это несмотря на отсутствие враждебно настроенной сверхдержавы-соперницы. Вооруженные силы США, сохраняя высокий боевой дух и демонстрируя впечатляющую эффективность, вынуждены с напряжением сил вести две войны одновременно и отвечать на многочисленные вызовы с разных широт земного шара. Более того, в исламском мире продолжается борьба за легитимность, лояльность населения и власть между умеренными силами, выступающими за модернизацию общества, и экстремистскими организациями вроде «Аль-Каиды», движения «Талибан» и подобных им группировок. В этих условиях важнейшим элементом стратегии американской национальной безопасности является укрепление безопасности и государственных структур других стран.
Однако в большинстве своем инструменты государственной власти, военные и гражданские, были разработаны в другую эпоху и под другие угрозы. Вооруженные силы США должны были наносить сокрушительные удары по сухопутным войскам, ВМС и ВВС других стран, а не консультировать, обучать и оснащать их. Точно так же инструменты гражданской власти предназначались для управления межгосударственными связями, а не для государственного строительства в других странах.
Недавняя история отношений Соединенных Штатов с Афганистаном и Пакистаном являет собой пример тех вызовов, на которые приходится сегодня отвечать. В течение десятилетия, предшествовавшего 11 сентября 2001 г., США, по сути, бросили Афганистан на произвол судьбы. Одновременно Вашингтон свернул общие с Пакистаном программы по военному обмену и обучению – как бы из благих намерений, которые на поверку оказались близорукими и стратегически необоснованными. Сразу после террористических атак 11 сентября правительство Соединенных Штатов столкнулось с рядом препятствий в области переброски вооружений по воздуху – от выплаты компенсации пакистанцам за их поддержку (предоставление американским военным самолетам права пролета над своей территорией) до создания регулярной афганской армии. Система военной помощи, предназначенная для более предсказуемых условий холодной войны, оказалась неприспособленной для выполнения поставленной задачи. Правительству Соединенных Штатов пришлось на скорую руку буквально из ничего изыскивать ресурсы и утверждать программы, в которых ощущалась острая необходимость. Но, даже наладив потоки финансирования и их администрирование, военный аппарат США не уделял должного внимания обучению афганских, а затем иракских сил безопасности, поскольку выполнение этих функций не способствовало продвижению честолюбивых молодых офицеров по карьерной лестнице. Вместо этого военные во многом полагались на контрактников и резервистов, которые, по их мнению, могли выполнить поставленные задачи.
И только в последнее время институту советников для афганской и иракской кампаний было уделено должное внимание в смысле ресурсов, персонала и талантливых руководителей.
Аппарат советников и наставников местных сил безопасности перемещается ныне с институциональной периферии военного ведомства, где он считался «провинцией» спецназа, на передний край. В настоящее время это главная миссия Вооруженных сил в целом. В американской армии созданы специализированные бригады по предоставлению советников и оказанию содействия, которые теперь являются главными подразделениями в Ираке. Корректируется сама система назначений и продвижения по службе, учитывая важность вышеупомянутой миссии. Военно-воздушные силы США получили в распоряжение флот легких реактивных истребителей и транспортной авиации, оптимизированной для обучения зарубежных партнеров и оказания им помощи. Совсем недавно открылась школа по приобретению американскими летчиками квалификации советников для ВВС других стран. А Военно-морские силы США работают в африканских странах с целью повышения там эффективности борьбы с контрабандой, пиратством и иными угрозами безопасности мореплавания.
Одна из институциональных задач, стоящих перед нами в Пентагоне, заключается в равномерном распределении помощи партнерам и союзникам Соединенных Штатов между разными подразделениями Вооруженных сил. Исключение составляют ВВС, где большинство функций – от продажи военной техники иностранным государствам до организации совместных учений – относятся к компетенции одного гражданского исполнительного директора (должность эквивалентна должности трехзвездного генерала), чтобы они в большей степени отвечали стратегическим целям национальной безопасности. Подобный комплексный и более целостный подход имеет больше смысла для Пентагона и для правительства в целом.
Соединенные Штаты продвигаются семимильными шагами в деле наращивания боевых возможностей своих партнеров, обучая и оснащая их войска, а также инструктируя их в полевых условиях. Однако до сих пор недостаточно внимания уделялось институциональному укреплению оборонных структур в этих странах (например, созданию министерств обороны), а также человеческому капиталу (включая навыки руководства и поддержания боевого духа), которые необходимы для сохранения безопасности в долгосрочной перспективе.
В настоящее время США признают, что сферы безопасности в странах высокого риска – это на самом деле система систем, связующая воедино оборонную отрасль, полицию, систему правосудия и другие механизмы государственного управления и надзора. Строительство государственного управления, как таковое, и усиление мер безопасности в странах-партнерах – это общая ответственность многих агентств и департаментов аппарата американской национальной безопасности, которая требует создания гибких и оперативных инструментов, стимулирующих сотрудничество.
Операции против экстремистских группировок на Филиппинах, а в последние годы и в Йемене показали, что хорошо скоординированные усилия в сфере обучения и оказания помощи могут обеспечить реальный успех. Но, несмотря на достижения, механизмы взаимодействия между американскими ведомствами по-прежнему представляют собой некий набор наспех состряпанных договоренностей, выполнение которых сдерживается устаревшей и сложной системой различных руководящих органов, постоянной нехваткой ресурсов и громоздкими бюрократическими процедурами. Акт о национальной безопасности, в соответствии с которым и была выстроена нынешняя система межведомственных связей, был принят в 1947 г. Последний значительный законодательный акт о распределении Вашингтоном помощи другим странам был подписан президентом Джоном Кеннеди, а Закон о контроле над экспортом вооружений одобрен в 1976 г. Тем временем другие страны, у которых руки не связаны подобного рода нагромождениями, гораздо быстрее финансируют разные проекты, продают вооружения и выстраивают взаимоотношения.
Мост через Потомак
В 2005 г. Министерство обороны США получило полномочия оперативно реагировать на непредвиденные угрозы, используя любую возможность для обучения и снаряжения сил безопасности тех стран, которые не способны позаботиться о себе сами. Еще одно важное новшество заключалось в том, что использование этих новых инструментов должно быть санкционировано так называемым «двойным ключом», то есть требуется совпадение позиций государственного секретаря и министра обороны. В последние годы госсекретарь и шеф Пентагона использовали свои полномочия при оказании помощи ливанской армии, силам особого назначения Пакистана, а также ВМС и силам безопасности на море Индонезии, Малайзии и Филиппин. Так Соединенные Штаты отреагировали на самые безотлагательные нужды в сфере международной безопасности.
Эти новые полномочия и программы, а также роль Министерства обороны в расширении содействия другим странам вызвали дебаты в Вашингтоне. Я никогда не упускаю шанса призвать к выделению более значительных средств на программы в области дипломатии и развития, а также к оказанию более эффективной помощи гражданскому населению в зарубежных странах. Однажды я публично предупредил об опасности «ползучей милитаризации» внешней политики США, способной стать реальной угрозой, если не будет устранен дисбаланс в системе национальной безопасности. Как кадровый офицер ЦРУ, на глазах которого непрерывно возрастала роль военных в разведке, я прекрасно понимаю, что Министерство обороны – в силу одних лишь масштабов – представляет собой не просто огромного верзилу на шее американского правительства, а и постоянно растущий организм.
Тем не менее пора уже преодолеть идеологические и бюрократические споры, еще недавно затруднявшие оказание содействия странам-партнерам и принятие конкретных решений. В прошлом году я направил государственному секретарю Хиллари Клинтон предложение, которое считаю принципиально важным для дальнейшего прогресса на данном направлении. Речь идет о создании совместных фондов в целях расширения возможностей других стран в сфере безопасности, стабилизации положения и предотвращения конфликтов. Эти фонды должны пополняться как Госдепартаментом, так и Министерством обороны, и ни один проект не сможет быть осуществлен, минуя оба этих ведомства. Ряд других стран (в частности, Великобритания, пример которой меня, собственно говоря, и вдохновил) обнаружили, что объединение ресурсов разных ведомств – действенный способ поддержки стран со слабыми или неэффективными государственными структурами.
Данный подход привлекает меня тем, что, в отличие от нынешней системы, доставшейся нам в наследство от времен холодной войны и зачастую препятствующей подлинно государственному мышлению в решении сложных вопросов, он создает стимулы для сотрудничества между различными государственными структурами.
Но какой бы метод реформирования и модернизации правительственного аппарата мы ни избрали для выстраивания возможностей стран-партнеров, необходимо придерживаться нескольких принципов.
Во-первых, важно сделать систему маневренной и гибкой. Обычный цикл одобрения программ и согласования их бюджетов предполагает составление в первый год общей сметы. На следующий год бюджет рассматривается Конгрессом и утверждается, и только на третьем году программа начинает работать. Это уместно и допустимо в отношении предсказуемых и бессрочных расходов. Однако история последних лет учит нас, что подобный подход неприемлем, когда речь идет о непредвиденных угрозах или, наоборот, возможностях, часто возникающих в странах со слабым и недееспособным государственным аппаратом.
Во-вторых, должны быть созданы эффективные механизмы надзора, позволяющие Конгрессу выполнять свои конституциональные обязанности и следить за тем, чтобы фонды расходовались правильно. Инструменты совершенствования сотрудничества между разными ветвями исполнительной власти могли бы также способствовать укреплению взаимодействия между разными комитетами Конгресса независимо от их юрисдикции. Тем самым будет реально усилен контроль со стороны Конгресса над расходованием средств на нужды национальной безопасности.
В-третьих, оказание содействия в сфере безопасности должно осуществляться регулярно и в течение длительного срока, становясь в результате предсказуемым и планируемым правительством США и, что еще важнее, его зарубежными партнерами. Чтобы убедить другие страны и их лидеров в преимуществах партнерства с Соединенными Штатами, зачастую ценой высокого политического риска и личной безопасности, Вашингтон должен доказать, что он может быть надежным и стабильным партнером в долгосрочной перспективе. В то же время, прямо скажем, США не собираются прекращать помощь и разрывать тесные узы сотрудничества всякий раз, когда какая-то страна делает что-то не так или с чем Вашингтон не согласен.
В-четвертых, любое решение правительства в этой области должно укреплять ведущую роль Госдепартамента в выработке и осуществлении внешнеполитического курса, включая предоставление другим странам помощи – прежде всего той, которая способствует росту их потенциала в сфере безопасности. Надлежащие процедуры согласования послужат гарантией того, что потребности других государств в области обороны не будут подрывать важнейшие внешнеполитические приоритеты Соединенных Штатов.
Наконец, в-пятых, во всем следует руководствоваться принципами умеренности и трезвого расчета. Когда все уже оговорено и закреплено в документах, возникают определенные ограничения в том, насколько США способны влиять на непохожие на них самих страны и культуры. И даже самый просвещенный и модернизированный межведомственный аппарат остается, по сути, бюрократическим, склонным печься лишь о собственных узких интересах, подобно той системе, на смену которой он пришел.
Помощь другим странам в деле обеспечения их внутренней безопасности будет главным, долгосрочным мерилом мирового лидерства и существенным аспектом обеспечения безопасности США. Более качественное выполнение этой жизненно необходимой миссии американским правительством должно стать важным государственным приоритетом.

Отложенный нейтралитет?
Центральная Азия в международной политике
Алексей Богатуров – доктор исторических наук, профессор, заместитель директора Института проблем международной безопасности РАН, главный редактор журнала «Международные процессы».
Резюме Новизна международной среды в Центральной Азии состоит в освобождении малых и средних стран от пассивной роли объектов воздействия со стороны крупных держав. За два десятилетия после распада СССР государства Центрально-Азиатского региона прошли путь к формированию рациональной внешней политики.
Современная Центральная Азия – преемница, но не эквивалент советской Средней Азии. В политико-географическом смысле к этому региону можно отнести не только бывшие среднеазиатские союзные республики (Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан), но и Казахстан. Более того, понятие «Центральная Азия» подразумевает причисление к нему частей Северного Афганистана и Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китайской Народной Республики. В работах, посвященных анализу энергетических аспектов положения вокруг Каспия, в соответствующий дискурс включены также пограничные с Казахстаном территории России – от Астраханской области на западе до Алтайского края на востоке.
МЕЖДУНАРОДНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СРЕДА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Энергоресурсы – благословение Центральной Азии и ее бремя. После распада СССР ни Россия, ни западные страны не смогли установить контроль над природными ресурсами центральноазиатских государств, хотя имели возможность влиять на их энергетическую политику. Обладание природными богатствами, доходы в виде экспортных поступлений, способность играть на конкуренции между российскими и западными компаниями обеспечивают энергоэкспортирующим малым и средним странам серьезный внешнеполитический ресурс.
Лишенные такого ресурса государства приобретают региональное значение в силу своих пространственно-географических характеристик, позволяющих влиять на безопасность сопредельных территорий, через которые проходят либо будут проходить трубопроводы. Пространственное измерение Центральной Азии стало восприниматься как зона прохождения энергонесущих артерий, способных перекачивать углеводородные потоки и в западном (в сторону Европейского союза и Атлантики), и в южном (к побережью Индийского океана), и в восточном (к Китаю, Японии и Тихому океану) направлениях.
Наряду с трубопроводной дипломатией геополитическим фактором может послужить железнодорожная сеть этой части мира. После распада СССР старая советская сеть железнодорожных путей перестала замыкаться на европейскую и сибирскую части России. Усилиями Казахстана достроен участок, соединивший эту республику с СУАР Китая (г. Урумчи). Теперь грузопотоки, если это окажется рентабельным, потянутся из Центральной Азии на восток не только через территорию России, по старому транссибирскому пути, но и через Китай.
Туркмения в 1990-х гг. тоже построила участок железнодорожной ветки, соединивший туркменскую сеть с иранской (г. Мешхед). Открылся прямой путь транспортировки на юг. После длительной изоляции от южных и восточных соседей регион «разомкнулся», получив впервые в истории техническую возможность прямого сообщения не только в северном и западном направлениях, но и в южном и восточном. Этот сдвиг не повлек за собой переориентацию связей центральноазиатских стран. Но открытие дорог на восток и юг способствовало созданию психологических предпосылок для проведения политики сотрудничества «по всем азимутам».
В Центральной Азии сосредоточено нелегальное производство наркотиков (прежде всего в Фергане), здесь же пролегает крупнейший транзитный путь, по которому после распада Советского Союза и свержения просоветского правительства в Афганистане стали доставляться наркотики афганского производства. Этот поток, частично оседая в России, следует далее через российскую территорию в страны Евросоюза.
Наркоторговля – источник огромных нелегальных доходов всех, кто к ней причастен, но распределяются они неравномерно. Рядовые контрабандисты-курьеры часто остаются нищими на протяжении всей жизни, так как их заработки поглощаются многочисленными родственниками. Однако этот люмпенский слой участников оборота наркотиков стал наиболее массовым и приобрел социально-политическое значение отчасти благодаря медленному расширению прав граждан в условиях «управляемой демократизации сверху».
«Пролетарии наркобизнеса» объективно не могут не сочувствовать наркодельцам, видя в совместной с ними нелегальной деятельности единственный источник своего существования. Одновременно этот слой наиболее взрывоопасен. С одной стороны, попытки государства искоренить наркобизнес рассматриваются им как посягательство на жизненные основы. Лидерам наркобизнеса нетрудно направить стихийное возмущение населения наркотранзитных и наркопроизводящих районов Центральной Азии против местных правительств и спровоцировать подобие не то нарко-, не то «цветных» революций.
С другой стороны, более образованная часть бедных слоев справедливо видит инструмент борьбы с наркоторговлей в экономических и социальных реформах, которые позволили бы отвлечь население «наркоопасных» регионов от преступного бизнеса. Отсутствие таких реформ тоже порождает недовольство населения.
Обе тенденции, налагаясь на личные, политико-партийные, клановые, региональные и иные легальные, но зачастую «невидимые» для аналитика конфликты, создают сложную структуру общественно-политических взаимодействий. Трудности внутреннего развития проявляются на уровне внешней политики стран региона. Колебания во взаимоотношениях Узбекистана и Таджикистана, обоюдонастороженные отношения между Таджикистаном и Афганистаном, хроническое противостояние властей и криминала в Ферганском оазисе, «пульсирующая» нестабильность в Киргизии – все это трудно проанализировать в отрыве от конфликтогенной роли наркотиков.
Контроль над наркотранзитом – источник борьбы между правительствами центральноазиатских стран и криминальными группировками, а также между самими группировками. Наркофактор, попытки местных криминальных структур поставить у власти «своих» людей составляют элемент местного политического, социально-экономического и идеологического колорита.
Наконец, важнейшее значение имеет неразрывность политических проблем Центральной Азии с вопросами безопасности Афганистана, Ирана и Пакистана. В Центральной Азии, неразделенность не воплощена в международно-политических документах или заявлениях руководителей. И своими корнями она уходит не в культуры и ценности, а в географические реалии. В силу особенностей рельефа (труднопроходимые горы, пустыни), распределения водных ресурсов и соответственно этнического расселения контуры политических границ – в отличие от Европы – не совпадают с очертаниями политико-географических интересов безопасности разных стран.
В Ферганском оазисе, зоне таджико-афганской границы или в поясе проживания пуштунских племен на рубежах Афганистана и Пакистана невозможно разграничить интересы безопасности сопредельных государств. Практически исключена выработка юридически четких договоренностей, поскольку таковые де-факто не могут учесть всю сложность реальных отношений между этническими группами и государствами в местах соприкосновения их интересов.
ПОЛИТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФОН
По-видимому, такой вариант «нераздельности безопасности» имеет объективную опору в традиционном сознании жителей этой части мира, для более южных народов которой (киргизы, таджики, туркмены, узбеки) характерно оазисное сознание. В его основе – идентификация по принципу самопричисления не столько к «своей» этнической группе, сколько к территории проживания. Люди селились преимущественно у воды. Ее дефицит в окружении пустынь и гор ограничивал возможности менять место жительства. Обитатели оазисов невольно вырабатывали в себе терпимость к чуждой этничности. Владетель мог не принадлежать к «твоей» этнической группе, но если он не лишал тебя доступа к воде, его можно было терпеть, даже если по крови он был «чужим».
До включения в состав Советского Союза с проведенным в его рамках этнотерриториальным размежеванием население Центральной Азии не знало «национального государства» в европейском понимании. Преобладало территориально-политическое образование по принципу надэтничности. С позиций европейской науки Бухарский и Кабульский эмираты, Хивинское и Кокандское ханства рассматривались как пестрые оазисные империи, «объединяющими идеями» которых были общее водно-земельное достояние и идеология религиозной солидарности. В таком идейно-политическом комплексе этническая рознь лишалась возможности развиться в доктрины этнического либо расового превосходства, как это происходило на волне «национальных самоопределений» в Европе и в Японии конца XIX столетия и первой половины XX века.
Такой фон вряд ли упростил ситуацию. Водораздел между понятиями «мы – они» и «свой – чужой» в центральноазиатском контексте был более размытым, чем в культурах, из недр которых вырастали концепции Макса Вебера. Условность понятий транслировалась в условность реалий. Четкость представления о «своем» и «чужом» материализовывалась в Европе в твердость предубеждения уважать чужие границы – на уровне правовой и этической норм.
Взаимотерпимость этносов в Центральной Азии, условность смысловой переборки между «своим» и «чужим» оборачивались невосприимчивостью к таким европейским по происхождению принципам международного общения, как уважение чужих государственных границ, невмешательство во внутренние дела других государств. Чужими или нечужими для Таджикистана являются афганские дела, если в Афганистане живет больше таджиков, чем в Таджикистане? Какое из двух государств «среднестатистический» таджик должен считать «своим» по Веберу? Сходные проблемы самоидентификации возникают для узбеков и таджиков Северного Таджикистана (г. Худжанд), для узбекских городов Самарканд и Бухара, для узбеков, таджиков и киргизов Ферганской долины.
Вооруженные формирования, выступающие против правительства Узбекистана, до сих пор перемещаются по горным перевалам и тропам с узбекской территории на таджикскую и киргизскую и обратно, не вступая в конфликты с местным населением. Этими же тропами пользуются для провода караванов, груженых наркотиками. Следуют они самостоятельно или под охраной бандформирований? Наркобизнес, контрабанда оружия и антиправительственные движения имеют общие интересы, и параметры их сотрудничества быстро меняются.
Конфликт в узбекской части Ферганской долины (г. Андижан) весной 2005 г. был частью антиправительственного брожения, которое происходило в то время в Киргизии и тоже уходило корнями в ее ферганские районы. Аналогичным образом «просачивание» конфликтности из Афганистана (из его таджикских и узбекских частей) в Таджикистан и Узбекистан – устойчивая черта региональной ситуации. «Тюльпановой» или «маковой» была революция 2005 г. в Бишкеке? Некоторые полагают, что на ее эмблеме было бы уместно поместить оба цветка.
ФАКТОР ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ
Важнейший вопрос – реформа политических систем стран Центральной Азии. Наличие прочных структур традиционного саморегулирования местных обществ – региональных, племенных, родовых, клановых – и иных традиционно-общинных связей налагает отпечаток на условия, в которых формируется политика. Семь десятилетий модернизации среднеазиатских обществ в составе СССР и еще два десятилетия реформ в качестве независимых государств трансформировали социальный ландшафт региона. Советский строй, а после 1991 г. модели авторитарно-плюралистического устройства (по Роберту Скалапино) внешне изменили политический облик этих стран и заложили основы развития большинства из них по пути нелиберальной демократии (по Фариду Закариа).
Однако традиционные структуры саморегулирования не были ликвидированы и не саморазложились. Приняв удар большевистской модернизации в 1920–1940 гг., они выжили благодаря десятилетию «оттепели» в 1953–1963 гг., а затем адаптировались к условиям «позднего СССР» в 1970–1980 гг. Традиционные структуры нашли место в политической системе советского общества. Они изыскали способ сотрудничать с партийно-бюрократическим аппаратом, помогая ему в мобилизации масс на трудовые кампании, а иногда и образовывая личные унии.
При этом внешне система государственного управления в Казахстане и республиках Средней Азии выглядела советской, а реальное управление шло по двум ветвям: формальной – партийно-советской и неформальной – регионально-клановой. Центральный аппарат КПСС адекватно оценивал ситуацию и стремился не столько изменить ее через искоренение традиции, сколько научиться использовать традиционные факторы для регулирования положения на местах.
Во второй половине ХХ века в этой части СССР раньше, чем на остальной территории страны, сложилась «сдвоенная» общественно-политическая система. Внутри местных обществ уживались два отчасти автономных уклада. Первый – советский (современный). Второй – родо-племенной, этногрупповой, региональный (традиционный). Обычаи, нормативные прецеденты, своды поведенческих запретов и правил, религиозные регламенты составляли второй уклад. Привычка получать современное высшее образование, заниматься экономической, общественной и политической деятельностью, навыки проведения выборов – первый.
Бытовое поведение характеризовалось перемещением человека из первого уклада во второй и обратно. Светское сочеталось с религиозным – исламским, доисламским и не исламским (христианским, иудейским, языческим). Современный рыночный бизнес – с обычаем помогать в трудоустройстве неквалифицированных родственников и земляков. Привычки к существованию по канонам западного потребления – со вкусом к традиционному образу жизни. На уровне политической практики это выливалось после 1991 г. в обыкновение участвовать в выборах и политической борьбе и при этом голосовать в соответствии с советами «старших» в их традиционном понимании – начальники, вожди кланов и групп, старейшины, муллы, старшие родственники мужского пола либо в их отсутствие – просто мужчины.
Механизм поддержания социального порядка был сложным, но надежным. Во всяком случае, повсюду, кроме Таджикистана в начале 1990-х гг., подобная структура общества уберегла страны от войн и распада. Да и гражданская война в Таджикистане была вызвана чрезмерностью политических преобразований под натиском незавершенной «исламской демократической революции», которая разрушила старый механизм регулирования отношений между конкурирующими региональными группами в бывшей Таджикской ССР.
Провал эксперимента с «исламской демократией» настолько напугал соседние с Таджикистаном бывшие советские республики, что их руководители были вынуждены принять меры для борьбы с исламской и светской оппозицией, в том числе с применением силы. После этого реформы в Центральной Азии, если они вообще проводились, были направлены в консервативное русло. Гражданская война скомпрометировала концепт одномоментной демократизации по западным образцам. Последующее десятилетие было использовано для стабилизации и дозированной модернизации. На смену советской машине пришли системы правления, для которых характерно соединение официальных институтов партийно-президентской структуры с неформальным традиционным регулированием.
Наложение западных форм демократического правления на местный традиционализм вызвало к жизни центральноазиатские версии нелиберальной демократии. В политических системах Центральной Азии соотношение «нормы» и «патологии» не больше и не меньше, чем в общественно-государственном устройстве Индии, Южной Кореи или Японии на ранних стадиях развития демократических моделей, присущих каждой из названных трех стран.
Либерализация политических систем стран Центральной Азии возможна не раньше, чем произойдут изменения в культуре. Имеются в виду прежде всего сдвиги в базовых представлениях о достаточности либо избыточности, привлекательности «свободы» или «несвободы», индивидуальной конкуренции либо общинно-корпоративной солидарности, ответственности каждого за себя (и равенстве) или покровительстве (и подчиненности).
Это не означает, что Центральная Азия может позволить себе приостановить реформы. Приближеение естественной смены поколений лидеров вынуждает думать о необходимости продолжить модернизацию. Однако форсированная демократизация может подвергнуть эти страны такой же опасности, как и попытки остаться в парадигме поверхностного реформирования, стабилизирующий ресурс которой в значительной мере уже исчерпан.
СТАНОВЛЕНИЕ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ СООТНОШЕНИЙ В РЕГИОНЕ
Так же, как центральная и восточная части евразийского материка, Центральная Азия формировалась под влиянием взаимодействия оседлых и кочевых этносов. Оседлые культуры быстро порождали государства. Малопригодный для организованной эксплуатации в традиционных формах кочевой уклад исходно выступал альтернативой государственности. Однако кочевники нашли вариант адаптации к государству через симбиоз с ним. Внутри Бухарского эмирата, например, потомки кочевников составили «специализированный клан» – слой (по сути, племя) профессиональных воинов.
Часть завоевателей становилась системообразующим элементом новых правящих элит, другая – смешивалась, не всегда сливаясь с населением завоеванных территорий, формируя вместе с ним социальный «низ». При этом в ряде случаев могла веками сохраняться «этническая специализация» разных групп населения: завоеванные группы тяготели к привычной хозяйственной деятельности (земледелие, ремесленничество, строительство крепостей и каналов, торговля), пришлые же предпочитали быть воинами, управленцами низовых уровней, а позднее – тоже торговцами. Взаимная диффузия этнических специализаций, конечно, происходила. Но этнически окрашенные архетипы экономического поведения (по Максу Веберу и Александру Ахиезеру) хорошо различимы в странах Центральной Азии и сегодня, характеризуя деятельность «исторически коренных» и «исторически пришлых» (русские, украинцы, армяне, евреи-ашкенази, греки) групп населения. Конечно, такое обозначение условно: за 200 лет после переселения русских и украинцев в Центральную Азию они там укоренились и ныне представляют собой во всех смыслах, кроме исторического, группы коренного населения.
Русский элемент стал играть преобладающую роль в управленческих структурах присоединенных территорий. После революций 1917 г. в России и последующего вхождения Бухары и Хивы в состав СССР структура политико-административной элиты региона стала более разнообразной. Русский и украинский элементы были весомо дополнены как другими некоренными этносами (еврейский, армянский), так и местными группами населения, которые получили гораздо более широкий доступ к власти, чем прежде.
«Советская элита» в Центральной Азии вобрала в себя множество этносов. В этом смысле механизм ее формирования соответствовал привычной для региона взаимной этнической терпимости и традициям оазисно-имперской идеологии. Первыми лицами в республиках советской Средней Азии и Казахстане, как правило, являлись прямые назначенцы Москвы из местных уроженцев либо приезжих из других частей СССР.
Включение Центральной Азии в Советский Союз вызвало изменения в регионе. Крупнейшими нововведениями стали перевод Казахстана в режим оседлости и проведение в южной части региона водно-земельной реформы. В результате превращения казахов и киргизов в оседлых жителей, часть казахских и киргизских родов бежали на территорию Китая – в Синьцзян-Уйгурский автономный район. Важнейшим политическим последствием водно-земельной реформы явилось истребление сельской части русской диаспоры в Центральной Азии. Казачество, успевшее было укорениться в Семиречье (юго-восточная часть Казахской ССР. – Ред.), перед лицом советских нововведений встало на сторону Белого движения. В ходе Гражданской войны казаки и их семьи были уничтожены, репрессированы или же вслед за казахами и киргизами бежали в СУАР.
В годы Второй мировой войны в Среднюю Азию и Казахстан было эвакуировано от трех до пяти млн человек из европейской части СССР. Это были в основном образованные люди, при помощи которых удалось решить ряд крупных социальных проблем и задач культурного строительства. Была ликвидирована безграмотность, а также были заложены основы современной системы здравоохранения. К тем же годам относятся развитие в Центральной Азии современного театрального и музыкального искусства, литературы, создание системы университетского образования.
Отмеченная тенденция связана и с высылкой в годы войны из Поволжья, Крыма и Северного Кавказа репрессированных народов: немцев, крымских татар, балкарцев, карачаевцев, греков, чеченцев, ингушей и др. Впоследствии в регион шли целые потоки политических иммигрантов из Греции. По завершении восстановительных работ после землетрясения в Ташкенте в 1966 г. многие рабочие разноэтничных строительных бригад пожелали остаться жить в этом регионе.
ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ СТРАН РЕГИОНА
Новизна международной среды в Центральной Азии состоит в освобождении малых и средних стран от пассивной роли объектов воздействия со стороны крупных держав. За два десятилетия после распада СССР государства региона прошли путь к формированию рациональной внешней политики. Большинство из них сформулировали более или менее убедительные внешнеполитические концепции, даже если не всем им был придан официальный статус, будь то различающиеся между собой версии постоянного нейтралитета Туркмении и Киргизии, варианты доктрин регионального лидерства Казахстана и Узбекистана либо концепция национальной безопасности Таджикистана.
Выделяются три типа внешнеполитического поведения малых и средних стран в отношении превосходящих их держав. Первый тип – агентский: «я – твой младший брат, моя земля – твой бастион, форт и крепость». Этот тип заменил собой прежнее вассальное, подданническое поведение. Второй – защитный: «ты – мой недруг, и я готовлюсь к борьбе с тобой, нападаешь ты или можешь хотеть напасть». Третий – условно партнерский: «мы ничем друг другу не обязаны и пробуем сотрудничать не только друг с другом, но и со всеми странами, несмотря на разность потенциалов».
При первом типе страны стремятся плотнее «прильнуть» к какому-то мощному государству, выторговывая себе за это определенные привилегии. При втором они могут обострять отношения с заведомо более сильной страной, желая привлечь к себе внимание мирового сообщества, нарочито концентрируясь на угрозах, реально либо предположительно исходящих от крупной державы. При третьем типе поведения малые и средние страны стараются осторожно дистанцироваться от всех мощных государств, одновременно пытаясь сохранить с ними хорошие отношения и отвоевать себе хотя бы небольшое автономное пространство.
К первому типу тяготеют страны, именуемые сателлитами. Ко второму – несостоявшиеся или неуверенные в себе государства (от Венесуэлы и Северной Кореи до Грузии). К третьему стремятся нейтральные и неприсоединившиеся государства, которые демонстрируют многообразные формы внешней политики – от «ядерного неприсоединения» Индии до сдержанного и гибкого «антиядерного нейтрализма» Вьетнама, Индонезии и Малайзии.
Центральноазиатские государства, как представляется, тяготеют к третьему типу поведения. Он тесно увязывается с их возможностями и спецификой международных условий существования. Главное из них – рыхлая внешнеполитическая среда, где в течение 20 лет Китай, Россия и США не могли да и не имели желания жестко привязать местные страны к своей военно-политической стратегии. Государства Центральной Азии избегают перегибов. Дистанцируясь от России и ассоциирования себя с «частями бывшего СССР», страны региона все же не поддались соблазну провозгласить себя «частью Запада». Увлечение сначала Турцией, а потом Китаем не спровоцировало их ни на «следование Китаю», ни на развитие по пути превращения в элементы «пантуранского пространства».
Ограничив влияние Москвы, страны региона не допустили деградацию отношений с ней, сохранив возможность при необходимости прибегать к ее ресурсам. Взамен они позволяют России пользоваться своим потенциалом – пространственно-геополитическим и отчасти энергосырьевым. Местный национализм, окрасившийся колоритом ислама и здешних доисламских культур, в целом не отлился ни в религиозный экстремизм, ни в светскую ксенофобию и шовинизм. Позитивную роль в этом смысле сыграли мощное советское просветительское и культурно-атеистическое наследие, присущая СССР традиция надэтничной социально-групповой солидарности в сочетании с оазисной культурой терпимости к говорящим на другом языке.
Отчасти сходным образом страны Центральной Азии добиваются уменьшения зависимости от России как покупателя и транспортировщика их энергоносителей. Но это не препятствует их желанию оставаться под «зонтиком» Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который продолжает быть скорее политическим, нежели военным институтом.
В целом обстановка ориентирует малые и средние государства на проведение политики, которую характеризуют прагматизм, гибкость, лавирование, уход от обременительных внешних обязательств, стремление привлечь помощь более богатых держав. Ради этой помощи они торгуются по поводу встречных уступок – с Индией, Китаем, Россией, США или богатыми исламскими странами.
В этом не следует усматривать коварство со стороны центральноазиатских соседей России – данный термин уместнее адресовать тем государствам, лидеры которых, хитроумно переиграв Бориса Ельцина в 1991 г., разрушили советскую страну. В ту пору центральноазиатские республики стремились к увеличению пространства свободы рук в отношениях с Москвой, а не к полному отделению от России.
Важнее другое. Прагматизм в политике стран Центральной Азии соседствует с исторической памятью, в которой негативные ассоциации уравновешиваются комплексом представлений о позитивном наследии отношений с Россией. Взлет культурного и образовательного уровней, создание систем охраны здоровья, формирование основы, на которой возможно возведение современной политической системы – это плоды пребывания центральноазиатских союзных республик в составе СССР.
Советская система действовала в Центральной Азии так же деспотично, как и на всем остальном пространстве страны. Но при всех пороках она хорошо подготовила данный регион для избирательного восприятия новаций 1990-х гг., когда бывшие союзные республики стали независимыми государствами. Эта система позволила местной власти сдержать рост низовых протестов, направить исламизацию в умеренное русло и справиться с натиском транснациональных криминально-контрабандистских структур, которые действовали в союзе со здешними и зарубежными экстремистами. Сценарии раздела Таджикистана, распада Киргизии и образования криминального «Ферганского халифата» не реализовались, а попытка «исламской революции» не привела в Центральной Азии к тем удручающим результатам, которые проявились в Афганистане.
КОНЦЕПЦИЯ "ОТЛОЖЕННОГО НЕЙТРАЛИТЕТА"
Географически и отчасти политически центр региона кажется из России расположенным между Астаной и Ташкентом. Но с позиций энергосырьевой дипломатии в ее зарубежных версиях центральную позицию в региональных делах занимают Каспий, вернее, его восточное побережье, а также газовые месторождения Туркмении.
Однако и такое восприятие региона является «объектным» скорее по отношению к малым и средним странам. Американские же и евросоюзовские политики и ученые оценивают ситуацию в этой части мира через призму того, какую выгоду либо опасность она им может сулить. Немалая часть российских и китайских государственных деятелей и экспертов фактически остались на такой же позиции. В качестве субъектов международной политики малые и средние государства мало кого интересовали.
Исследователи в лучшем случае стремились оценить, насколько они могут воспрепятствовать или поспособствовать реализации целей крупных держав. При этом каждая из них старалась составить представление о том, при помощи каких рычагов можно расширить влияние на региональную ситуацию. Всесильным инструментом представлялась американским аналитикам демократизация, в том числе путем революций – сначала «исламско-демократической», а потом «майдано-площадной». Российские и китайские ученые выступали за консервативные версии реформ, которые необходимы для преобразования экономических систем центральноазиатских стран и их политического устройства.
Малые и средние страны вынуждены лавировать. Однако вектор маневрирования не исчерпывал смысл их внешних политик. Местные государства тяготеют к нейтральному статусу. В 1990-х гг. о нем официально попытались заявить Киргизия и Туркмения. Правда, о классическом нейтралитете Швейцарии и Швеции в здешнем контексте говорить не приходится. В регионе сохраняются источники угроз – со стороны Афганистана, экстремистов в Ферганской долине и потенциальной нестабильности в исламских регионах Китая. Опыт Таджикистана, Узбекистана и самой Киргизии свидетельствует в пользу иллюзорности классического нейтрализма в этой части мира.
Вот почему в осмыслении перспектив нейтрализма страны Центральной Азии могут рассчитывать скорее на вариант «умеренно вооруженного нейтралитета» по образцу государств АСЕАН. При определенных обстоятельствах такой вариант мог бы устроить все страны региона, включая Казахстан и Туркмению. Но в силу военно-политических реалий он непригоден для немедленной реализации. Страны региона включены в многосторонние отношения с Россией через ОДКБ, а также с Россией и Китаем через Шанхайскую организацию сотрудничества. Правда, гибкость обязательств по этим договорам и неразработанность практики их применения позволяют входящим в них странам оставаться самостоятельными в сфере внешнеполитического поведения. Оба договора являются больше механизмами координации и профилактики угроз, чем боевыми организациями, способными к быстрой мобилизации ресурсов стран-членов.
В то же время наличие этих структур дает малым и средним государствам необходимые им гарантии внутренней и международной безопасности. Причем они сохраняют возможность по собственному усмотрению дозировать практическое участие в сотрудничестве с Россией и Китаем, не отказываясь от балансирования и ориентации на нейтралитет в принципе.
Для внешней политики центральноазиатских стран характерно соединение линии на партнерство с Москвой и Пекином со стремлением независимо от них развивать сотрудничество с США и ЕС. При этом страны Центральной Азии не стремятся участвовать в военном сотрудничестве вне пределов минимально необходимой безопасности. Подобный тип внешнеполитического поведения можно назвать потенциальным или отложенным нейтралитетом. Этот принцип фактически стал системообразующим элементом международных отношений в Центральной Азии.

Государственный капитализм достиг совершеннолетия
© "Россия в глобальной политике". № 3, Май - Июнь 2009
Иан Бреммер – президент Eurasia Group, соавтор книги The Fat Tail: The Power of Political Knowledge for Strategic Investing («Непредвиденные риски: сила политических знаний для стратегического инвестирования»). Статья опубликована в журнале Foreign Affairs, № 3 за 2009 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
Резюме По всему миру свободный рынок оттесняется государственным капитализмом – системой, в которой государство является ведущим экономическим игроком. Как Соединенным Штатам следует на это реагировать?
Волна актов государственного вмешательства, прокатившаяся недавно по Соединенным Штатам, Европе и большинству развитых стран мира, преследовала цель смягчить тяжесть нынешней глобальной рецессии и оздоровить больные экономики. Преобладающая часть правительств развитых стран не имеют намерения осуществлять управление экономикой бесконечно долго. И все же в развивающихся странах за подобным вмешательством кроется несколько иная тенденция: там сильное влияние государства на экономику свидетельствует о стратегическом отказе от доктрины свободного рынка.
Правительства, а не частные акционеры уже владеют крупнейшими мировыми нефтяными компаниями и контролируют 75 % общемировых запасов энергоносителей. В странах с наиболее бурно развивающейся экономикой компании, находящиеся в собственности государства или связанные с ним, оказывают все большее влияние на рынок в основных секторах экономики. На так называемые фонды национального благосостояния (этим недавно появившимся термином обозначают инвестиционные портфели, находящиеся в собственности государства) приходится одна восьмая общемировых инвестиций, и данный показатель возрастает. Такие тенденции ведут к перестройке международной политики и глобальной экономики, так как все больше рычагов экономической власти и влияния передаются центральной государственной власти. Эти тенденции способны усилить такой внушительный и сложный феномен, как государственный капитализм.
Менее 20 лет тому назад ситуация представлялась совершенно иначе. После того как Советский Союз рухнул под тяжестью своих многочисленных противоречий, новое кремлевское руководство вскоре взяло на вооружение западную экономическую модель. Молодые правительства бывших советских республик и государств-сателлитов стали следовать западным политическим ценностям и вступать в западные союзы. Тем временем в Китайской Народной Республике либеральные рыночные реформы, начатые на десяток лет раньше, способствовали обновлению Коммунистической партии Китая (КПК). Страны с формирующейся рыночной экономикой, такие, к примеру, как Бразилия, Индия, Индонезия, Турция и Южно-Африканская Республика решили ослабить государственное регулирование своих «спящих» экономик и укрепить свободное предпринимательство. По всей Западной Европе прокатились волны приватизации, покончившие с государственным управлением многими компаниями и секторами экономики. Резко возросли объемы торговли. Глобализация сетей потребительского спроса и предложения, потоков капитала и прямых иностранных инвестиций, технологий и инноваций еще больше усилили эти тенденции.
Сейчас свободный рынок отодвинулся на второй план. На смену пришел государственный капитализм – система, при которой государство выступает в качестве ведущего экономического агента и использует рынки главным образом в политических целях. В результате развития этой тенденции разгорелась новая фаза глобальной конкуренции, в которую оказались вовлечены не противоборствующие политические идеологии, а соперничающие экономические модели. При этом присутствие политической составляющей в процессе принятия экономических решений полностью изменило состав выигравших и проигравших.
Во времена холодной войны решения, принимаемые в рамках командных экономик Советского Союза и Китая, практически не оказывали влияния на западные рынки. Нынешние поднимающиеся рынки еще не сформировались. Но сегодня экономические решения государственных чиновников в Абу-Даби и Анкаре, Бразилиа и Дели, Мехико, Москве и Пекине (о стратегических инвестициях, государственной собственности, регулировании) заставляют реагировать мировые рынки. Проблемы, создаваемые этой мощной разновидностью капитализма, управляемого государством, обострились из-за мирового финансового кризиса и глобальной рецессии. Теперь сторонники свободной торговли и открытых рынков вынуждены доказывать преимущества данной системы все более скептически настроенному международному сообществу.
Это не просто следствие спада мощи и влияния США в сравнении с мощью и влиянием поднимающихся экономик. Если бы правительства последних отдали предпочтение либеральному капитализму, то сокращение присутствия Соединенных Штатов на мировом рынке компенсировалось бы ростом эффективности и производительности в мировом масштабе. Однако подъем государственного капитализма привел к широкому распространению неэффективности на мировых рынках и привнес элементы популизма в принятие экономических решений.
ГЛАВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ СИЛЫ
При государственном капитализме на авансцену выходят четыре важнейших экономических агента: национальные нефтяные корпорации, государственные предприятия, частные «национальные чемпионы» и фонды национального благосостояния (ФНБ).
«Большая нефть» у большинства американцев ассоциируется прежде всего с транснациональными корпорациями, такими, в частности, как BP, Chevron, ExxonMobil, Shell, Total. Однако 13 крупнейших нефтяных компаний мира (по оценке их запасов) находятся в собственности государств и управляются государствами. К ним относятся Saudi Aramco (Саудовская Аравия), National Iranian Oil Company (Иран), Petroleos de Venezuela (Венесуэла), «Газпром» и «Роснефть» (Россия), China National Petroleum Corporation (Китай), Petronas (Малайзия) и Petrobras (Бразилия).
Перечисленные государственные компании контролируют более 75 % запасов и добычи нефти в мире. Некоторые правительства, осознав, какие мощные рычаги воздействия дает доминирование государства в осуществлении контроля над энергоресурсами, распространили свое влияние и на другие, так называемые стратегические активы. На долю частных транснациональных компаний ныне приходится всего 10 % мировой добычи нефти, и они владеют лишь 3 % ее запасов. В большинстве стран частным компаниям необходимо как-то выстраивать отношения с правительствами, владеющими и управляющими их конкурентами – компаниями, которые превосходят их по размерам и лучше финансируются.
В таких совершенно различных отраслях, как нефтехимия, производство электроэнергии, горнодобывающая, сталелитейная промышленность и черная металлургия, управление портами и судоходство, производство вооружений, автомобилестроение, тяжелое машиностроение, телекоммуникации и авиация, все большее число правительств уже не довольствуются простым регулированием рынка. Они делают ставку на использование рынка в целях укрепления политических позиций в собственных странах.
Государственные предприятия выступают здесь в качестве серьезного подспорья отчасти благодаря тому, что способствуют объединению целых отраслей промышленности. Endiama в Анголе (алмазы), AzerEnerji в Азербайджане (производство электроэнергии), Kazatomprom в Казахстане (уран) и Office Cherifien des Phosphates в Марокко – все эти госкомпании являются крупнейшими игроками в соответствующих отраслях своих стран. Некоторые государственные предприятия достигли особенно больших размеров: среди них выделяются монополии постоянной телефонной связи и экспорта вооружений в России, а также монополия по производству алюминия, дуополия по передаче электроэнергии, крупные телекоммуникационные компании и авиалинии в Китае и национальные железные дороги в Индии – компания, которая является одним из крупнейших работодателей в мире в гражданской сфере, где занято более 1,4 млн человек.
Данное явление осложнилось вследствие недавно возникшей тенденции. В некоторых развивающихся странах крупные компании, которые остаются в частном владении, зависят от покровительства государства, которое выражается в форме кредитов, контрактов и субсидий. Эти частные, но пользующиеся поддержкой правительства компании – «национальные чемпионы» получают льготы от правительства. Оно видит в них средство для ведения конкурентной борьбы с чисто коммерческими иностранными соперниками, позволяя подобным компаниям играть доминирующую роль во внутренней экономике и на экспортных рынках. Они также используют свое влияние на правительства для поглощения более мелких конкурентов внутри страны, что укрепляет их мощь как столпов государственного капитализма.
В России любой крупный бизнес, чтобы преуспеть, должен иметь хорошие отношения с государством. «Национальные чемпионы» контролируются небольшой группой олигархов, которые лично пользуются расположением Кремля. Компании «Норильский никель» (горнодобывающая промышленность), Новолипецкий металлургический комбинат и НМК Холдинг (металлургия), группа «Евраз», «Северсталь» и «Металлоинвест» (сталелитейная промышленность) подпадают под эту категорию.
Такая же картина наблюдается и в Китае – за тем исключением, что основа собственности здесь более широкая и не столь явно выраженная: империя AVIC (самолетостроение), Huawei (телекоммуникации) и Lenovo (компьютеры) стали гигантами, фаворитами государства, которыми управляет узкий круг бизнесменов с нужными связями. Разновидности «национальных чемпионов», т. е. компаний, которые находятся в частной собственности, но пользуются поддержкой государства, появились и в других странах, в том числе в тех, где экономику можно считать относительно рыночной: Cevital (агроиндустрия) в Алжире, Vale (горнодобывающая отрасль) в Бразилии, Tata (автомобили, сталь и химическая продукция) в Индии, Tnuva (мясные и молочные продукты) в Израиле, Solidere (строительство) в Ливане и San Miguel Corporation (продовольствие и напитки) на Филиппинах.
Задача финансирования этих компаний частично возложена на ФНБ, благодаря чему размер и роль последних значительно возросли. Для правительств очевидна невозможность финансирования своих «национальных чемпионов» путем дополнительной эмиссии денег: инфляция в конечном счете понизит стоимость их активов. А выделение средств напрямую из госбюджетов при ухудшении экономических условий могло бы привести к дефициту в будущем.
Таким образом, фонды национального благосостояния стали играть более важную роль. Они превратились в хранилища избыточной иностранной валюты, полученной от экспорта товаров либо промышленной продукции. Но ФНБ – это не просто банковские счета. Они представляют собой государственные инвестиционные фонды со смешанными портфелями, состоящими из иностранных валют, государственных облигаций, недвижимости, ценных металлов, а также прямых долей в уставном капитале многих отечественных и иностранных фирм (иногда они являются и их основными собственниками). Как все инвестиционные фонды, ФНБ стремятся к получению максимальной выгоды. Но для государственных капиталистов эта выгода может быть не только экономической, но и политической.
Хотя ФНБ и вышли на передний план только в последние годы, но они не представляют собой что-то новое. Кувейтский совет по инвестициям, четвертый по величине ФНБ в мире, был создан еще в 1953 году. Сам термин «фонд национального благосостояния» впервые применен в 2005-м, что стало отражением растущей значимости этих фондов. С тех пор в игру вступили еще несколько стран: Вьетнам, Катар, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты и Южная Корея. Самые крупные ФНБ находятся в эмирате Абу-Даби (ОАЭ), Саудовской Аравии и Китае. Россия их догоняет. Среди десяти крупнейших ФНБ только один принадлежит демократическому государству – Норвегии.
ТЕСНЫЕ СВЯЗИ
Одна из существенных черт государственного капитализма – наличие тесных связей между теми, кто правит страной, и теми, кто управляет ее предприятиями. Бывший российский премьер-министр Виктор Зубков стал председателем совета директоров «Газпрома», российской монополии природного газа. Бывший председатель Совета директоров «Газпрома» Дмитрий Медведев стал президентом России. Такое динамичное изменение ролей между клиентами и патронами способствовало внесению политических мотивов и вовлечению политиков и чиновников в процесс принятия экономических решений, невиданному со времен холодной войны. И эта взаимосвязь создает несколько угроз для функционирования мировых рынков.
Во-первых, коммерческие решения зачастую отдаются на откуп политическим чиновникам, которые имеют мало опыта в эффективном управлении коммерческими операциями. Часто их решения делают рынки менее конкурентоспособными и потому менее продуктивными. Но поскольку эти предприятия пользуются поддержкой влиятельных политических покровителей и обладают конкурентными преимуществами, которым сопутствуют государственные субсидии, они представляют большую и возрастающую угрозу для своих соперников в частном секторе.
Во-вторых, мотивы принятия решений по инвестициям могут быть скорее не экономического, а политического характера. Например, руководство Коммунистической партии Китая понимает, что содействие экономическому процветанию – существенный фактор сохранения политической власти. Руководители компартии отправляют национальные нефтяные корпорации Китая за границу для обеспечения долгосрочных поставок нефти и газа, которые нужны КНР, чтобы поддерживать тенденцию на экономического роста. Благодаря государственному финансированию эти национальные нефтяные корпорации имеют больше средств, чем их конкуренты из частного сектора, и платят поставщикам по ценам выше рыночных, с тем чтобы не упустить подписание долгосрочных соглашений. Если национальным нефтяным корпорациям нужна дополнительная помощь, руководство Китая готово гарантировать займы на развитие стране-поставщику.
Такое поведение нарушает функционирование рынков энергоносителей, увеличивая цену, которую всем приходится платить за нефть и газ. В результате частные энергетические транснациональные компании лишаются дополнительного дохода, который может понадобиться им в целях вложения в дорогостоящие долгосрочные проекты, такие, например, как изыскания и добыча ресурсов на морских глубинах. При этом замедляется разработка новых запасов углеводородов, поскольку лишь у немногих госкорпораций имеются оборудование и технический опыт, необходимые для такого рода работ. В конечном счете госкапитализм, привнося политический элемент и зачастую коррупцию на высоком уровне в функционирование рынков, увеличивает стоимость производства и уменьшает его эффективность.
Если бизнес и политика тесно взаимосвязаны, то тогда внутренняя нестабильность, несущая угрозу правящим элитам (а более конкретно – национальным интересам в их понимании и внешнеполитическим целям, которые они преследуют), начинает играть существенную роль в бизнесе. Более глубокое понимание политических мотивов подобного поведения стало определять стратегию иностранных акторов. Многие частные компании, занимающиеся бизнесом в формирующихся рыночных экономиках, осознали, как важно не жалеть времени на установление тесных контактов как с руководителями государств, которые заключают крупные контракты, так и с чиновниками, которые отвечают за соблюдение правовых и административных рамок выполнения этих контрактов. Транснациональным корпорациям такая трата времени и денег в период глобальной рецессии может показаться непозволительной роскошью, но чтобы защитить свои инвестиции и позиции на рынках, им приходится на это идти.
НА СЦЕНЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВО
Государственный капитализм начал формироваться в период нефтяного кризиса 1973 года, когда члены Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) договорились сократить добычу нефти в ответ на поддержку Соединенными Штатами Израиля в войне Судного дня. Почти мгновенно самый важный товар в мире стал геополитическим оружием, придав правительствам стран – производителей нефти беспрецедентный международный вес. В качестве политического средства сокращение добычи нефти членами ОПЕК действовало как эмбарго против конкретных стран – особенно против США и Нидерландов. В экономическом плане нефтяной кризис выразился в том, что он полностью изменил прежнее направление движения капитала, когда страны – потребители нефти покупали дешевую нефть во все больших объемах и в свою очередь продавали товары странам – производителям нефти по завышенным ценам. С точки зрения членов ОПЕК, кризис положил конец десятилетиям их политической и экономической несостоятельности и колониальной эпохе, как таковой.
Нефтяной кризис показал производителям нефти, что путем совместных действий они могут и контролировать уровни добычи, и присваивать гораздо большую долю доходов, получаемых основными западными нефтяными компаниями. Этот процесс проходил легче в тех случаях, когда национальные правительства могли использовать отечественные компании для добычи и очистки своей нефти. Со временем национальные нефтяные компании перешли под более строгий правительственный контроль (например, Saudi Aramco не была полностью национализирована до 1980-го) и в конечном счете вытеснили частные западные компании. Нефтяной кризис привел к образованию современной национальной нефтяной корпорации, и с тех пор эта модель получила широкое распространение, в том числе в отрасли природного газа.
Вторая волна госкапитализма пришлась на 1980-е годы. Она была вызвана подъемом развивающихся стран, где у власти стояли правительства, придерживавшиеся ценностей и традиций, ориентированных на государство. В то же время крах правительств, которые считали, что стимулирование роста наилучшим образом обеспечивается плановой экономикой, вызвал глобальное повышение спроса на возможности предпринимательства и либерализацию торговли. Эта тенденция в свою очередь дала толчок бурному росту индустриализации в нескольких развивающихся странах в 1990-х. Бразилия, Индия, Китай, Мексика, Россия и Турция, наряду со странами Юго-Восточной Азии и многими другими, с разной скоростью проходили путь от статуса развивающихся стран к развитым.
Хотя многие из формирующихся рыночных экономик прежде не входили в коммунистический блок, на протяжении своей истории они испытали сильное воздействие государства на экономику. В ряде стран несколько крупных предприятий, находившихся, как правило, в семейной собственности, являлись фактическими монополистами в стратегических отраслях. Индия при Неру после Второй мировой войны, Турция после Ататюрка, Мексика в период правления Революционно-институционной партии (PRI) и Бразилия при сменявших друг друга военных и националистических правительствах никогда полностью не разделяли точку зрения, согласно которой при капитализме только свободные рынки могут обеспечить устойчивое процветание. Политические убеждения привели эти режимы к идее, что определенные отрасли экономики должны оставаться под управлением государства, не в последнюю очередь с тем, чтобы избежать эксплуатации со стороны западных капиталистов.
Когда в указанных странах начался процесс либерализации, они лишь частично стали следовать принципам свободного рынка. Политические деятели и законодатели, которые инициировали частичные реформы, формировались как личности в образовательных и государственных учреждениях, созданных для пропаганды национальных ценностей в том виде, как их определяло государство. В большинстве этих стран экономический прогресс достигался в условиях значительно меньшей прозрачности и менее строгого соблюдения законов, чем в признанных рыночных демократиях. Вследствие этого вряд ли стоит удивляться, что вера нового поколения в ценности свободного рынка оказалась недостаточно твердой.
Учитывая относительную незрелость институтов управления государств с формирующимся рынком, таковыми можно считать страны, в которых для функционирования рынка политика значит, по меньшей мере, то же самое, что и основополагающие экономические принципы. Правительства богатых держав в прошлом уделяли мало внимания этим странам, поскольку последние почти не влияли на мировые рынки.
Третья волна госкапитализма была отмечена ростом фондов национального благосостояния, которые в 2005-м бросили вызов доминированию Запада в мировом движении капитала. Эти хранилища капиталов были порождены значительным увеличением объема экспорта из формирующихся рыночных экономик. Большинство ФНБ по-прежнему управляются государственными чиновниками, которые относятся к сведениям об их резервах, инвестициях и управлении государственными активами почти как к государственной тайне. По этой причине неясно, в какой степени на решения ФНБ по инвестированию и приобретению активов влияют политические соображения.
Международный валютный фонд сейчас возглавляет кампанию за более высокие стандарты прозрачности и последовательного поведения для ФНБ, но такие попытки будут не более успешными, чем любые малообязывающие инициативы. Те фонды, которые отличаются особой закрытостью, так и останутся непрозрачными, а политические лидеры будут и впредь управлять ими для извлечения как политической, так и финансовой выгоды. В качестве оправдания управляющие фондами указывают на откровенно политические призывы изъять капиталовложения из Дарфура или Ирана, с которыми выступают западные аналоги ФНС, такие, в частности, как Государственный пенсионный фонд Норвегии и Система пенсионного обеспечения государственных служащих штата Калифорния.
Сейчас мир столкнулся с четвертой волной государственного капитализма, приход которой был ускорен недавним глобальным замедлением темпов экономического роста. На сей раз вмешательство в экономику осуществляют правительства не только формирующихся рыночных экономик, но и самых богатых стран мира. В Соединенных Штатах в экономику вмешиваются законодатели, несмотря на исторически сложившиеся в обществе недоверие к государству и веру в частное предпринимательство. Примеру США последовали Австралия, Япония и другие тяжеловесы свободного рынка. В Европе с ее историей этатизма и социал-демократии национализация и финансовая помощь бизнесу в политическом плане кажутся более приемлемыми.
Однако ведущие индустриальные державы взяли на вооружение госкапитализм не без оговорок. В Соединенных Штатах и Европе «невидимая рука» рынка остается символом веры. Правительства по обе стороны Атлантики знают: для того чтобы сохранить поддержку народа, они должны сдержать свои обещания и вернуть в частные руки банки и крупные предприятия, как только произойдет их оздоровление. Но до тех пор пока меры экономического стимулирования занимают главное место в политических соображениях Вашингтона, европейских стран, Индии, Китая и России, центральную роль в мировой финансовой системе будут играть те, на ком лежит ответственность за принятие политических решений.
Чтобы стимулировать экономику, министерства финансов и казначейства будут спасать частные банки и компании, впрыскивать наличные средства и печатать деньги просто потому, что никто больше не может это делать. Центральные банки, немногие из которых действительно независимы, уже больше не являются кредиторами, к которым обращаются в последнюю или даже в первую очередь; они – единственные кредиторы. Такой ход событий привел к неожиданному и важному смещению центра тяжести в глобальной финансовой системе.
До недавнего времени Нью-Йорк являлся финансовой столицей мира. Сейчас его уже нельзя назвать финансовой столицей даже Соединенных Штатов. Эта миссия возложена на Вашингтон, где члены Конгресса и представители исполнительной власти принимают решения, имеющие долгосрочные последствия для рынка в масштабах, невиданных с 1930-х годов. Подобное смещение экономической ответственности происходит по всему миру: от Шанхая к Пекину, от Дубая к Абу-Даби, от Сиднея к Канберре, от Сан-Паулу к Бразилиа и даже от Мумбаи к Дели в относительно децентрализованной Индии. В Лондоне, Москве и Париже, где финансовая и политическая жизнь сосуществуют, такое же смещение происходит в сторону правительства.
СТАВКИ ВЫСОКИ
Экономики, взявшие на вооружение государственный капитализм, по всей вероятности, выйдут из глобальной рецессии, контролируя экономическую активность, достигающую беспрецедентно высокого уровня, несмотря на то, что в 2008–2009 их финансы годах также подверглись мощным ударам. Китай и Россия в равной степени поддерживают государственные предприятия и частных «национальных чемпионов». В обеих странах снижение затрат достигается путем консолидации основных отраслей промышленности.
Вследствие падения цен на нефть с 147 долларов за баррель в июле 2008-го до менее 40 долларов в феврале 2009-го Россия рискует столкнуться со своим первым бюджетным дефицитом за десять лет. Китай, основной импортер и потребитель нефти, получил некоторое облегчение от падения нефтяных цен. Но глобальное снижение экономической активности сделало правительства обеих стран уязвимыми перед лицом роста безработицы и связанной с этим социальной нестабильностью. Реакция обоих правительств состояла в основном в ужесточении государственного контроля над экономикой.
Несмотря на глобальную рецессию, фонды национального благосостояния, которые уже являются крупными игроками в мировой экономике, сохранят свою роль в ближайшем будущем. Хотя их общая чистая стоимость упала с 4 трлн долларов в 2007 году, когда, по оценкам, она достигла пика, до менее 3 трлн долларов к концу 2008-го, последняя цифра приближается к общей сумме резервов в иностранной валюте всех центральных банков мира и превышает общую сумму всех активов хедж-фондов мира, вместе взятых. На ФНБ приходится около 12 % общемировых инвестиций, что вдвое выше показателя пятилетней давности. Эта тенденция наверняка сохранится, и, согласно некоторым авторитетным прогнозам, вероятная стоимость активов ФНБ к 2015 году составит 15 трлн долларов.
Подводя итоги, можно констатировать, что, несмотря на мировой финансовый кризис, национальные нефтяные компании всё еще контролируют три четверти основных стратегических ресурсов планеты; государственные предприятия и частные «национальные чемпионы» пока обладают существенными конкурентными преимуществами по сравнению с их соперниками в частном секторе, а ФНБ пользуются изобилием наличных средств. Эти компании и организации действительно слишком крупные, чтобы рухнуть.
Усиление государственного вмешательства в экономику означает, что излишние расходы бюрократического аппарата, неэффективность и коррупция, скорее всего, будут тормозить экономический рост. Эти негативные тенденции сильнее всего ощущаются в автократическом государстве, где политическим лидерам легче принимать коммерческие решения, так как подобные действия не подлежат контролю со стороны свободной прессы, политически независимых регулирующих органов, судов или законодателей.
Тем не менее продолжающаяся мировая рецессия повсеместно подорвала доверие к модели свободного рынка. Какова бы ни была подлинная причина нынешнего кризиса, правительства Китая, России и других государств имеют веские причины обвинять капитализм американского образца в спаде экономической активности. Поступая таким образом, они избегают ответственности за рост безработицы и снижение производительности труда в своих странах и могут отстаивать свою приверженность госкапитализму, пришедшему туда задолго до наступления нынешнего кризиса.
В ответ разработчики политического курса США должны постараться доказать ценность свободных рынков, хотя сейчас сделать это нелегко. Если Вашингтон займет протекционистскую позицию и будет жестко контролировать экономическую деятельность на протяжении долгого времени, правительства и граждане во всем мире ответят тем же. Ставки высоки, поскольку масштабное привнесение популизма в международную торговлю и инвестирование будет мешать усилиям по оживлению мировой торговли и сократит экономический рост в будущем.
Протекционизм порождает протекционизм, а субсидии ведут к новым субсидиям. Дохийский раунд переговоров по мировой торговле в 2008 году провалился отчасти потому, что Соединенные Штаты и Европейский союз настаивали на сохранении высоких сельскохозяйственных тарифов, а Индия и Китай выступали в защиту своих фермеров и ряда недавно созданных отраслей, которые не могут конкурировать самостоятельно. Из-за тупика в Дохийском раунде уже потеряны сотни миллиардов долларов, легко осваиваемых в случае роста мировой торговли.
На торговле также сказываются и другие инициативы протекционистского характера. Китай восстановил налоговые льготы для некоторых экспортеров. Россия ограничила иностранные инвестиции в 42 «стратегических секторах» и ввела новые пошлины на импортируемые автомобили, свинину и мясо птицы. Индонезия установила импортные тарифы и лицензионные ограничения более чем на 500 видов зарубежной продукции. Индия на 20 % увеличила пошлины на импорт соевого масла. Аргентина и Бразилия открыто рассматривают вопрос о введении новых тарифов на импорт текстильных товаров и вина. Южная Корея отказывается отменить торговые барьеры в отношении импорта американских автомобилей. Франция объявила о создании государственного фонда для защиты отечественных компаний от их поглощения иностранными компаниями.
Уже сейчас со стороны ряда стран в разных регионах мира ощущается давление с требованием поднять тарифы до максимальных уровней, разрешенных Уругвайским раундом Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ). На смену всеобъемлющим глобальным соглашениям и механизмам разрешения споров приходит пестрый набор из примерно 200 двусторонних и региональных соглашений. (Еще 200 или около того находятся в стадии разработки.) Такая раздробленность препятствует конкурентоспособности в мировой экономике, ставит в невыгодные условия потребителей и ослабляет многостороннюю систему – все это в то время, когда мировая экономика нуждается в новых стимулах.
ЧТО НАС ЖДЕТ ВПЕРЕДИ
Все больше американцев приходят к убеждению, что глобализация уводит их рабочие места в другие страны, снижает зарплату и вынуждает их покупать некачественные иностранные товары. К 2012 году в Соединенных Штатах, наверное, появится по меньшей мере один кандидат на пост президента, который будет выступать с неоизоляционистской программой под лозунгом «Покупай американское!». Законодателям, чтобы не попасть в эту протекционистскую ловушку, полезно освежить в памяти урок, преподанный Законом о тарифах Смута–Холи (1930), по которому таможенные тарифы на 20 тыс. видов импортируемых товаров были подняты до рекордного уровня; этот закон вызвал ответные меры и, таким образом, усугубил и продлил Великую депрессию.
Мировой финансовый кризис породил иллюзию всеобщего единения, основанную на ложных представлениях о том, что все тонут в одной лодке. Год назад в политических кругах заговорили о «расстыковке» (decoupling). Имелся в виду процесс, при котором формирующиеся рыночные экономики обрели бы достаточно широкую базу для экономического роста, позволяющую им преодолеть зависимость от спроса в США и Европе. Но прогнозы, связанные с «расстыковкой», оказались преждевременными. Экономические проблемы, возникшие в основном в Соединенных Штатах, тяжело отразились и на десятках развивающихся стран, нанеся удар по спросу на их экспортную продукцию.
Но если посмотреть глубже, то процесс «расстыковки» все же происходит, а выражается он в расширении внутренних рынков Бразилии, Индии, Китая и России, в инвестициях, которые правительства этих стран осуществляют за границей, в регионализации потоков капитала и в вероятности того, что в более долгосрочной перспективе Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и некоторые правительства Южной Америки введут жизнеспособные региональные валюты и станут более независимы в экономическом плане.
США больше не могут рассчитывать на то, что их долг будут скупать стратегические партнеры, как это делали Западная Германия и Япония в 1980-х годах. Сейчас Соединенные Штаты должны ориентироваться на стратегических соперников, в особенности на Китай, который не верит, что США могут неопределенно долго сохранять свою роль глобального экономического якоря спасения. Накопление долларовых запасов помогло Пекину удержать на низком уровне курс китайской валюты, увеличить объем экспорта и выйти на рекордный уровень положительного сальдо торгового баланса.
Отныне основная задача КНР заключается в построении внутреннего рынка, который позволит создать новую модель экономического роста, менее зависимого от экспорта в Соединенные Штаты и Европу и в большей степени – от спроса внутри страны. Когда и если Пекин преуспеет в этом, понятие «расстыковка» приобретет больший смысл и у Китая будет меньше стимулов скупать американские долги. По мере того как стран, желающих приобретать краткосрочные облигации казначейства США, будет становиться все меньше, придется поднимать учетные ставки, чтобы сделать облигации привлекательными для покупателей, а американскую задолженность – более долгосрочной. В результате экономическое оздоровление Соединенных Штатов, когда оно начнется, пойдет медленнее, а процесс ослабления позиций доллара как мировой резервной валюты ускорится.
Американское правительство, возможно, придет к выводу, что его способность устанавливать правила в мировой экономике и добиваться их исполнения ослабевает. Во всяком случае, оно не будет столь уверенно рассчитывать на продолжение лидерства США в «Группе двадцати» (крупнейшие экономики мира). А поскольку этот форум включает в себя таких гигантов с собственными формирующимися рынками, как Индия и Китай, которые не были введены в состав «Группы семи» (высокоразвитые индустриальные государства), то естественные различия между их экономическими интересами и интересами развитых государств затруднят процесс достижения консенсуса по самым сложным экономическим вопросам. Эта проблема усугубляется тем, что при разработке комплекса мер по стимулированию экономики политики как в развитых, так и в развивающихся странах склонны ориентироваться не на необходимость исправить макроэкономические дисбалансы, а на предпочтения избирателей в своих странах.
В долгосрочной перспективе возможности госкапитализма, скорее всего, окажутся ограниченными, в особенности если две ведущие страны, взявшие его на вооружение, не смогут обеспечить работающую модель устойчивого экономического роста. В Китае в конечном счете чиновникам будет не под силу справиться с надвигающимися серьезными социальными и экологическими проблемами. Они наконец поймут, что свободный рынок с большей вероятностью поможет им накормить и обеспечить жильем население страны, которое составляет 1,4 млрд человек, и создавать необходимые ежегодно 10–12 млн новых рабочих мест. В России разработчики политического курса в условиях сокращения численности населения и состояния экономики, сильно зависимой от экспорта нефти и газа, возможно, придут к выводу, что экономическое процветание в будущем потребует возобновления рыночных реформ.
Соединенные Штаты должны подтвердить свою приверженность расширению торговли как с Евросоюзом (самый крупный и наиболее сплоченный блок свободного рынка), так и с набирающими экономическую силу странами, в том числе Бразилией, Индией, Турцией, ЮАР, членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и с формирующимися рыночными экономиками Юго-Восточной Азии, – не в последнюю очередь для того, чтобы предотвратить сползание всех этих стран к госкапитализму, что грозит усугубить неэффективность мирового рынка и ограничить коммерческие возможности США.
В то же время те, кто принимает политические решения в Вашингтоне, должны стремиться к получению новых коммерческих возможностей в государствах госкапитализма. Следует также помочь американским компаниям, работающим в Китае, России, странах Персидского залива и в других регионах, принять на вооружение стратегии страхования от рисков, возникающих в результате закрытия доступа на рынки там, где предпочтение отдается отечественным компаниям. Американским транснациональным корпорациям необходимо изучить в качестве модели эффективного страхования от рисков (хеджирование) японскую стратегию диверсификации «Китай плюс один», которая предусматривает инвестирование, помимо КНР, также и в других странах. Не рассчитывая на то, что один только китайский рынок даст львиную долю будущих прибылей, американским компаниям нужно расширять число объектов для инвестиций, включая страны с формирующимися рынками в Азии и в других регионах.
Сейчас для США настало время привлекать новые иностранные инвестиции, в том числе от ФНБ. Некоторые предложения об инвестировании уже требуют тщательного анализа, с тем чтобы избежать причинения ущерба национальной безопасности. Объективный анализ, не продиктованный политическими намерениями «отпугнуть» иностранных инвесторов, будет их только стимулировать. Необходимость защищать свои инвестиции повысит заинтересованность иностранных правительств и компаний в стабильности финансовой системы Соединенных Штатов. Страх перед взаимно гарантированным финансовым уничтожением заставит страны госкапитализма понять, что экономическое благополучие США отвечает их интересам.
Останется ли капитализм свободного рынка жизнеспособной долгосрочной альтернативой, во многом зависит от последующих действий разработчиков политического курса Соединенных Штатов. Успех здесь зависит не только от правильных шагов в области экономической политики, но и от того, насколько привлекательным будет оставаться образ США в целом. Следует сохранить огромное военное преимущество Соединенных Штатов (по расходам в этой сфере США в 10 раз превосходят Китай и все остальные государства мира, вместе взятые). Важно также удержать преимущество в «мягкой силе» (здесь администрация Обамы добилась многого, улучшив международный имидж Америки).
Государственный капитализм не исчезнет в ближайшее время. Возведение барьеров, перекрывающих доступ на американские рынки, не изменит ситуацию. А вот извлечение выгоды из коммерческих отношений со странами госкапитализма отвечало бы американским интересам на ближайшую перспективу. Ради долгосрочных интересов Соединенных Штатов и мировой экономики в целом защита свободного рынка должна оставаться обязательной составляющей политического курса. Чтобы гарантировать существование свободного рынка как самой мощной и прочной альтернативы госкапитализму, нет иного пути, кроме как собственным примером поощрять свободную торговлю, иностранные инвестиции, прозрачность и открытость рынков.

Сбалансированная стратегия
© "Россия в глобальной политике". № 2, Март - Апрель 2009
Роберт Гейтс – министр обороны США. Статья опубликована в журнале Foreign Affairs, № 1 (январь – февраль) за 2009 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
Резюме Пентагону следует приложить усилия для модернизации обычных вооруженных сил.
Определяющим принципом новой Стратегии национальной обороны, разработанной Пентагоном, является сбалансированность. Соединенные Штаты не могут рассчитывать на то, что им удастся устранить риски государственной безопасности за счет увеличения военного бюджета – сделать все необходимое и закупить все, что требуется. Министерство обороны должно правильно расставлять приоритеты и рассматривать неизбежные компромиссы и альтернативные затраты.
Цель нашей стратегии – найти точку равновесия в трех основополагающих областях. Нужно определить золотую середину между стремлением к доминированию в текущих конфликтах и подготовкой к другим непредвиденным обстоятельствам, а также между такими возможностями нашего ведомства, как подавление восстаний и военная помощь другим странам, и поддержание ныне существующего превосходства в традиционных и стратегических вооружениях и технологиях над вооруженными силами других стран. Наконец, нужно установить баланс между сохранением тех культурных особенностей, благодаря которым Вооруженные силы США добиваются успеха, и избавлением от тех, которые мешают нам выполнять необходимую работу.
НЕТРАДИЦИОННОЕ МЫШЛЕНИЕ
Способность Соединенных Штатов защититься от будущих угроз будет зависеть от успешного разрешения текущих конфликтов. Если говорить прямо, то неудача или кажущаяся неудача в Ираке либо Афганистане нанесет катастрофический удар по авторитету и престижу США в глазах как их друзей и союзников, так и потенциальных противников. Число боевых частей и соединений американской армии в Ираке будет со временем уменьшаться – это неизбежная общая тенденция, совершенно не связанная с тем, кто победил на президентских выборах в Соединенных Штатах. Однако США еще на протяжении нескольких лет будут проводить в Ираке контртеррористические операции и сохранят там военных советников.
В Афганистане, как объявил в сентябре прошлого года президент Джордж Буш, численность американских войск будет увеличиваться – вполне вероятно в течение всего следующего года. Учитывая характер местности этой страны, нищету населения и трагическую историю, в долгосрочной перспективе Афганистан во многом представляет собой еще более сложный вызов, чем Ирак. Несмотря на усилия международного сообщества, еще какое-то время от Соединенных Штатов потребуется военная и экономическая помощь.
Было бы безответственно не думать о будущем и не готовиться к нему, и подавляющее большинство людей в Пентагоне, наши службы и оборонное ведомство в целом заняты именно этим. Но мы не должны быть настолько поглощены подготовкой к будущим обычным и стратегическим вооруженным столкновениям, чтобы не делать все возможное для победоносного завершения тех конфликтов, в которых США участвуют сегодня.
Поддержка традиционных программ модернизации заложена в бюджет Министерства обороны, ею углубленно занимаются его бюрократический аппарат, оборонная промышленность и Конгресс. Однако меня беспокоит отсутствие соответствующей институциональной поддержки, в том числе и со стороны Пентагона, программ модернизации вооружений, необходимых для успешного ведения сегодняшних и будущих войн.
То, что обычно называется войной с террором, есть в нашей неприглядной действительности не что иное, как затяжная, охватившая весь мир, не отвечающая привычным нормам кампания, – борьба между беспощадным экстремизмом и умеренными силами. Регулярные войска будут и в дальнейшем играть определенную роль в длительной борьбе с террористами и прочими экстремистами. Но в долгосрочной перспективе Соединенные Штаты не смогут добиться победы путем уничтожения террористов или взятия их в плен. То, что военные называют «кинетическими операциями», должно по возможности сопровождаться мерами, направленным на улучшение управления и осуществление экономических программ развития. Также необходимы усилия по снижению уровня недовольства среди обездоленных, из числа которых террористы вербуют новых бойцов. Чтобы дискредитировать и обезоружить экстремистские движения и выхолостить их идеологию, потребуется терпеливое накопление негромких успехов на протяжении длительного времени.
Маловероятно, что Соединенные Штаты захотят в ближайшем будущем повторить опыт Ирака либо Афганистана где-либо еще, то есть осуществить насильственную смену режима, чтобы затем перейти к национальному строительству «под огнем». Но это не значит, что Америка не может столкнуться с подобными вызовами. Там, где это возможно, США следует использовать стратегию косвенных подходов, чтобы посредством поддержки дружественных правительств и их вооруженных сил предотвращать перерастание «нагноившихся» проблем в кризисы, которые потребуют дорогостоящего и сомнительного по эффективности военного вмешательства. В этом деле возможности союзников и партнеров могут быть не менее важны, чем наши собственные. На мой взгляд, помощь, которую мы способны им оказать, не менее, а вероятно, и более важна, чем прямое вооруженное вмешательство.
Недавнее прошлое убедительно продемонстрировало последствия беспечного отношения к опасностям, которые таятся в мятежах и недее-способных государствах. Террористические сети находят пристанище в слабых государствах и черпают силу в царящем социальном хаосе. Ядерная держава вполне могла погрязнуть в хаосе и преступности. Наибольшая угроза для внутренней безопасности США – например, угроза отравления питьевой воды или сокрушительного террористического акта в каком-либо американском городе – исходит не от агрессивных стран, а от недееспособных государств.
Возможности, необходимые для того, чтобы справиться с подобными угрозами, не следует считать причудливым или временным отступлением от нормы. Соединенные Штаты не могут позволить себе роскошь самоустраниться от решения подобных задач лишь потому, что эти сценарии не вписываются в традиционные представления американцев о войне и способах ее ведения.
Кроме того, даже при самых больших войнах востребованы возможности ведения «малых войн». С тех пор как в 40-х годах XIX века генерал Уинфилд Скотт ввел свою армию в Мексику, почти любое крупное размещение американских войск где бы то ни было приводило к более длительному военному присутствию для поддержания стабильности. В самый разгар противостояния либо после крупного конфликта американским военным приходится обеспечивать безопасность, оказывать помощь и поддержку местному населению, начинать восстановительные работы, а также оказывать содействие местным правительствам и государственным службам.
Военные и гражданские компоненты американского оборонного ведомства срабатывают неравномерно и становятся всё более разбалансированными. Проблема не в отсутствии воли, а в наличии возможностей. Во многих отношениях государственный потенциал в сфере безопасности по-прежнему является отражением решений, принятых в 90-х годах прошлого столетия, когда при попустительстве всех ветвей власти, расположенных на разных концах Пенсильвания-авеню, главные инструменты американского влияния за рубежом были сокращены или оставлены засыхать на бюрократической лозе. Государственный департамент заморозил прием новых сотрудников. Численность постоянного представительства в Агентстве по международному развитию сократилась с 15 тыс. работников во времена войны во Вьетнаме до менее чем 3 тыс. на сегодняшний день. Существовало также Агентство информации США, среди директоров которого когда-то были такие личности, как Эдвард Марроу. Оно оказалось раздробленным и погребенным в Госдепартаменте.
После событий 11 сентября 2001 года – во многом благодаря усилиям государственного секретаря Колина Пауэлла и затем госсекретаря Кондолизы Райс – Государственный департамент реабилитировался. Работники дипломатических служб снова принимаются на работу, и расходы на международную политику примерно удвоились с тех пор, как президент Буш занял кресло в Белом доме. Но даже при лучшем финансировании Госдепартамента и Агентства США по международному развитию будущие военачальники не смогут избавиться от необходимости поддерживать безопасность и стабильность. Чтобы одержать настоящую победу, как ее определил Клаузевиц, и выполнить политические задачи, Соединенным Штатам нужны военные, которые не только способны, образно говоря, вышибить ногой дверь, но и расчистить завалы и даже заново отстроить дом.
На фоне этих реалий военные в последние годы добились впечатляющего прогресса. Спецоперации щедро финансируются и проводятся гораздо лучше подготовленным персоналом. ВВС разработали новую консультационную программу и достигли успехов в области беспилотных надземных операций. ВМС создали новую экспедиционную боевую единицу и восстановили прибрежные подразделения. В новых инструкциях по подавлению восстаний и ведению боевых действий, а также в новой стратегии береговых операций учтены уроки недавних лет, которые тоже отражены в военной доктрине. Программы «обучи и оснасти» позволяют быстрее укреплять безопасность в дружественных государствах. Также разрабатываются различные инициативы, которые позволят лучше координировать усилия военных и гражданских ведомств, а также брать на вооружение знания и опыт частного сектора, включая неправительственные организации и академии.
ТРАДИЦИОННЫЕ УГРОЗЫ В ПЕРСПЕКТИВЕ
В то время как американские военные оттачивают и вводят в оборот новые и нетрадиционные навыки, Соединенным Штатам все еще приходится отвечать на вызовы, касающиеся их безопасности, которые бросают им вооруженные силы других стран. Видеоматериалы о вторжении российских танков на территорию Грузии в августе прошлого года напомнили о том, что национальные государства и их армии все еще имеют немалое значение. И Россия, и Китай увеличили военные расходы и осуществляют программы модернизации вооружений, в том числе средств противовоздушной обороны и истребителей, которые по некоторым параметрам могут конкурировать с американскими аналогами. Кроме того, потенциальную опасность по-прежнему представляют страны-изгои, террористические группы, а также арсеналы ядерного, химического и биологического оружия. Северная Корея уже создала несколько атомных бомб, а Иран также стремится присоединиться к клубу ядерных держав.
Этих потенциальных противников – от террористических ячеек и стран-изгоев до формирующихся новых держав – объединяет понимание того, что вступать в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами с применением обычных вооружений и военных тактик неразумно. Вместе с тем США не могут считать свое превосходство в военной сфере само собой разумеющимся и должны вкладывать средства в разработку новых программ, принципов ведения боевых действий и в обучение персонала, чтобы и в дальнейшем гарантировать свое доминирование.
Важно также оценивать ситуацию в перспективе. Как бы сильно после окончания холодной войны ни подвергся сокращению американский военный флот с точки зрения тоннажа, он по-прежнему превосходит 13 следующих по численности флотов в совокупности, 11 из которых – это флоты дружественных Соединенным Штатам стран. Возможно, российские танки и артиллерия без труда сокрушили крошечную грузинскую армию. Но прежде чем США начнут перевооружение с целью развязывания новой холодной войны, им необходимо осознать, что Россией движет желание изгнать духов прошлого, забыть о собственном унижении и доминировать в своем «ближнем зарубежье». Вместе с тем она не способна вести идеологическую кампанию, направленную на достижение мирового господства. Как человек, готовивший оценки советской военной мощи для нескольких президентов, я могу сказать, что, хотя Россия значительно усовершенствовала обычные вооружения по сравнению с состоянием полного упадка, в котором они находились в конце 90-х годов, все же они остаются бледной тенью советского потенциала. А неблагоприятные демографические тенденции, скорее всего, будут сдерживать дальнейшее развитие обычных вооружений в России.
С учетом всего вышесказанного в Стратегии национальной обороны Соединенных Штатов 2008 года делается следующий вывод. Принимая во внимание нынешние тенденции, превосходство США в обычных вооружениях нельзя считать безусловным в среднесрочной перспективе, но оно сохранится. Соединенным Штатам действительно было бы нежелательно вести масштабную наземную кампанию с применением обычных вооружений в какой-либо точке земного шара. Но какова вероятность того, что где-то это понадобится? Американские ВВС и ВМС обладают достаточной, пока еще неиспользованной ударной мощью, чтобы сдержать или наказать любого агрессора, если это потребуется, будь то на Корейском полуострове, в зоне Персидского залива либо по ту сторону Тайваньского пролива. Так что, хотя нынешняя стратегия сознательно допускает в этой области дополнительные риски, они вполне разумные и управляемые.
Армии других государств не пожелают вступать в ближний бой с американскими истребителями, кораблями или танками. Однако они разрабатывают способы разрушительного воздействия с целью ограничения военной мощи США, сужения выбора действий американского командования и недопущения свободы передвижения американских военных. Что касается Китая, то инвестиции Пекина в кибервойны, противоспутниковые средства, зенитные и противокорабельные комплексы, подводные лодки и баллистические ракеты могут угрожать первичным средствам американской военной мощи и способности оказывать помощь союзникам в Тихоокеанском бассейне. Речь идет о военных базах, военно-воздушных и военно-морских силах, а также системах их поддержки. Это делает особенно актуальной способность Соединенных Штатов наносить удары из космоса и использовать противоракетную оборону, а также требует смещения акцентов на системы дальнего радиуса действия, такие, например, как бомбардировщик следующего поколения.
Хотя период конфронтации между сверхдержавами, постоянно державшими друг друга на прицеле, уже позади, атомную бомбу и средства ее доставки приобрели другие государства. Поэтому США необходимо иметь надежное стратегическое сдерживающее средство. Двигаясь к этой цели, Министерство обороны и ВВС предприняли конкретные шаги для восстановления четкости, слаженности и строгой подотчетности управления ядерными средствами. Конгрессу предстоит утвердить финансирование программы надежной замены боеголовок – ради повышения безопасности и более надежного сдерживания. Думая о различных угрозах, мы склонны разграничивать угрозы «высокого уровня» и «низкого уровня», традиционные и нетрадиционные, регулярные армейские части и партизан, вооруженных автоматами Калашникова. В действительности же, как отметил политолог Колин Грей, различия между способами ведения боевых действий становятся все более размытыми и не укладываются в рамки однозначных определений. Можно ожидать появления новых инструментов и способов уничтожения противника – от сложных до простых, которые будут одновременно использоваться для ведения боевых действий смешанных и более сложных форм.
Достаточно топорная, но убийственно действенная наступательная операция российских войск в Грузии с применением обычных вооружений была усилена технологически сложной кибератакой и хорошо скоординированной пропагандистской кампанией. Соединенные Штаты столкнулись с различными сочетаниями орудий убийства во время вторжения в Ирак, когда Саддам Хусейн отправил на поле боя множество ополченцев-федаинов в сопровождении танков Т-72 Республиканской гвардии.
Вместе с тем ополченцы, повстанческие группы, другие негосударственные боевые подразделения, а также армии развивающихся стран становятся всё более высокотехнологичными и обзаводятся всё более смертоносным и сложным оружием. Это наглядно продемонстрировало движение «Хезболла», нанесшее ощутимый урон израильской армии в 2006 году и одержавшее победу в пропагандистской войне. Восстановленный ракетный арсенал «Хезболлы» в настоящее время превосходит по мощи арсеналы многих государств. Кроме того, интенсивная торговля оружием, которую ведут Китай и Россия, означает, что образцы передовых наступательных и оборонительных вооружений попадают в руки все большего числа стран и групп. Как отметил специалист по обороне Фрэнк Хоффман, эти гибридные сценарии военных действий сочетают «смертоносность вооруженных конфликтов между государствами с фанатичным и неослабевающим рвением экстремистов, ведущих нетрадиционные боевые действия». А другой военный специалист, Майкл Эванс, описывает «войны … в которых “Майкрософт” сосуществует с мачете, а технология “Стелс” соседствует с камикадзе».
Вполне естественно, что перед лицом такого разнообразия потенциальных противников и разновидностей конфликтов Соединенным Штатам нужно наилучшим образом сбалансировать имеющиеся у них возможности: разного рода полевые части и соединения, различные виды вооружений и надлежащую боевую подготовку войск.
Когда речь заходит о закупках, то на протяжении последних пяти десятилетий основная тенденция заключалась в количественном сокращении вооружений, поскольку технологические достижения делают каждую новую систему более действенной. В последние годы эти комплексы становились всё более дорогостоящими, требуя больше времени на их создание и меньше персонала для их обслуживания. Учитывая, что ресурсы небезграничны, динамика обмена количества на возможности, наверно, почти уже исчерпала себя и приносит все меньше дивидендов. Конкретный корабль или самолет, как бы хорошо он ни был оснащен, может находиться в определенный момент только в одном месте.
Между тем в течение нескольких десятилетий преобладало мнение, что вооружения и подразделения, призванные отражать угрозы высокого уровня, вполне годятся и для борьбы с угрозами нижнего уровня. В какой-то степени это действительно так: стратегические бомбардировщики, способные стереть с лица земли целые города, успешно применялись для поддержки кавалерии с воздуха. Танки М-1, изначально предназначенные для перекрытия «коридора Фульда» в случае нападения Советского Союза на Западную Европу, обратили в бегство иракских мятежников в Фаллудже и Наджафе. Корабли стоимостью свыше миллиарда долларов используются для борьбы с пиратами и доставки гуманитарной помощи. А американская армия частично берет на вооружение системы ведения боевых действий в будущем по мере того, как они переносятся с кульманов разработчиков в производственные цеха, чтобы стать доступными для войск, ведущих операции в Афганистане и Ираке. Тем не менее, учитывая в каких ситуациях может реально оказаться армия США и трудности с передачей на вооружение нашим войскам в Ираке бронированных автомобилей «Хамви», транспортных средств с противоминной защитой и программ наблюдения и разведки поля боя, настало время подумать, не понадобится ли нашей армии также и специальное, относительно несложное с технической точки зрения оборудование, хорошо приспособленное для подавления восстаний и стабилизации обстановки в отдельно взятой стране. Настало время хорошенько поразмыслить над тем, как узаконить закупки такого оборудования для нужд нашей армии и его быструю поставку в действующие войска. Почему приходится выходить за рамки традиционных бюрократических процедур, чтобы разработать технологии противодействия самодельным взрывным устройствам, выпустить бронемашины с противоминной защитой и быстро расширить средства наблюдения и разведки поля боя? Чтобы защитить действующие американские войска и успешно вести непрекращающиеся боевые действия?
Программы модернизации обычных вооружений, разрабатываемые Министерством обороны, нацелены на 99-процентное решение существующих проблем в течение нескольких лет, в то время как спецподразделениям по подавлению мятежей и стабилизации обстановки нужны ответы, нацеленные на 75-процентное решение имеющихся проблем, но в течение нескольких месяцев. Главный вызов заключается в том, чтобы совместить эти две разнонаправленные парадигмы в умах американских военных и военной организации.
Министерству обороны необходимо подумать, не имеет ли смысл передать на вооружение партнеров США в больших количествах более дешевые и менее технологичные самолеты в тех ситуациях, где Соединенные Штаты имеют тотальное превосходство в воздухе. Это уже реально происходит в Ираке, где разведывательно-тактическая группа ODIN устанавливает технологически совершенные датчики на турбовинтовые самолеты, чтобы охватывать наблюдением и разведкой гораздо более обширные территории. Главное состоит в том, чтобы вписать эту инновационную гибкость в подходах и мышлении в достаточно косные процедуры приобретения новых вооружений. Нужно позаботиться о том, чтобы закупки осуществлялись исходя из стратегической целесообразности и оценки существующих рисков, а не наоборот.
ПОДДЕРЖКА УЧРЕЖДЕНИЯ
Способность вести боевые действия и быстро адаптироваться к самым разным конфликтам, иногда происходящим одновременно, отражена в длительной истории и лучших традициях американского оружия. В годы Войны за независимость постоянные формирования, подготовленные бароном Фридрихом фон Штойбеном, сражались с английскими солдатами на Севере, в то время как партизаны под предводительством Фрэнсиса Мэриона вели с ними изнурительные бои на Юге. В 20-х и 30-х годах прошлого века Корпус морской пехоты осуществил то, что сегодня называют операциями по стабилизации обстановки в Карибском бассейне, подготовил Руководство по малым войнам и в то же время разработал приемы высадки морского десанта, осуществление которых в следующем десятилетии способствовало освобождению Европы и стран Тихоокеанского региона. Давайте также вспомним генерала Джона Першинга по кличке Черный Джек: перед тем как принять командование американскими чрезвычайными силами в Европе в период Первой мировой войны, он руководил разведывательным отрядом индейцев из племени сиу, взял высоту Сан-Хуан вместе с солдатами Буффало, завоевал уважение мусульман, проживавших на юге Филиппин, и преследовал мексиканского революционера Панчо Вилья.
В Ираке воинский контингент, который, по сути, представлял собой уменьшенную копию американской армии времен холодной войны, постепенно стал действенным инструментом подавления восстаний и бунтов. Однако за эту перестройку пришлось заплатить неприемлемо высокую гуманитарную и финансово-политическую цену. Отвага и изобретательность наших войск на поле боя объяснялись институциональными изъянами Пентагона, которые им приходилось преодолевать. Необходимо произвести изменения в центральном штабе, чтобы в будущем нашим полковникам, капитанам и сержантам не приходилось призывать на помощь героизм или находчивость. Одна из застарелых проблем, над которой бьются военные, заключается в том, сможет ли система поощрения и продвижения по службе, предназначенная для командования американских войск, учитывать важность консультирования, обучения и оснащения иностранных войск. До сих пор наши лучшие и наиболее способные офицеры не считали, что эта работа может способствовать их карьерному росту. Другой момент: смогут ли формирования и соединения, организованные, обученные и оснащенные для того, чтобы уничтожать противника, достаточно быстро и эффективно перестроиться на разубеждение либо привлечение неприятельских солдат? Что еще важнее, смогут ли они научить местные силы безопасности привлекать на свою сторону повстанцев или уничтожать их?
На посту министра обороны я все время приводил аргументы в пользу институционализации навыков подавления бунтов и способности проводить операции по стабилизации ситуации. Я это делал не потому, что не считаю важным поддерживать нынешнее превосходство США в ведении войн обычными средствами, а скорее потому, что программы модернизации обычных и стратегических вооружений уже пользуются значительной поддержкой в Конгрессе, оборонном ведомстве и других инстанциях. В бюджете на 2009 год заложено более 180 миллионов долларов на закупки вооружений, исследования и разработки преимущественно обычных вооружений.
Однако на протяжении многих десятилетий никто в Пентагоне или других инстанциях (за исключением представителей спецподразделений и нескольких инакомыслящих полковников) не оказывал решительной поддержки программе овладения необходимыми навыками ведения несимметричных либо нерегулярных боев, а также удовлетворения постоянно меняющихся потребностей тех частей и соединений, которые участвуют в таких боевых действиях.
Подумайте о том, в какие страны направлялись американские войска в течение последних 40 с лишним лет: Вьетнам, Ливан, Гренада, Панама, Сомали, Гаити, Босния, Косово, Афганистан, Ирак, страны Африканского Рога и др. Фактически первая война в зоне Персидского залива, как единственная более или менее традиционная от начала и до конца военная операция, стоит особняком в этом перечне конфликтов, в которых участвовали два поколения наших военных. Как предсказал генерал Чарлз Крулак, тогдашний командующий Корпусом морской пехоты, вместо возлюбленного «Сына Бури в пустыне» западным военным теперь противостоит нежеланный «Пасынок Чечни».
Я не сомневаюсь, что программы модернизации традиционных вооружений по-прежнему заслуживают решительной поддержки в Конгрессе и военном истеблишменте. Я просто хочу позаботиться о том, чтобы американская армия имела необходимые возможности и навыки участия в сложных конфликтах, в которых она уже участвует и, по всей видимости, будет участвовать в обозримом будущем, и чтобы этим программам тоже оказывалась решительная институциональная поддержка в течение длительного времени. Мне также хочется видеть мобильное оборонное ведомство, способное принимать быстрые решения для поддержки тех, кто находится на поле боя.
Наконец, необходимые военные возможности нельзя отделить от культурных навыков и системы поощрения в американских учреждениях: необходимо посылать правильные сигналы посредством финансирования соответствующих программ, продвижения по службе офицеров, отличившихся на данном поприще, внесения соответствующих изменений в учебные программы наших военных академий и подходы к обучению персонала. Тридцать шесть лет тому назад мой старый коллега по работе в ЦРУ Роберт Комер, руководивший кампанией по усмирению бунтов во Вьетнаме, опубликовал классическое исследование организационного поведения под названием «Бюрократия делает свое дело». Изучив функционирование государственной службы безопасности США во время конфликта во Вьетнаме (как военных, так и гражданских лиц), он выявил ряд тенденций, мешавших учреждениям адаптироваться долгое время после того, как были выявлены проблемы и предложены пути их решения. Речь шла о нежелании менять предпочтительные способы функционирования, о попытке вести военные действия при сохранении структуры управления и принятия решений, характерной для мирного времени, о твердом убеждении, что нынешние проблемы – это просто отклонение от нормы или временные трудности, которые будут в скором времени преодолены, и о склонности не замечать тех проблем, которые не вписываются в устоявшиеся организационные структуры и предпочтения.
Я упомянул это исследование не для того, чтобы снова ворошить старые проблемы, и не потому, что я не замечаю того колоссального прогресса, которого добилось наше военное ведомство за последние годы. Мне просто хотелось бы напомнить, что эти тенденции всегда имеют место в любой крупной иерархической организации и что все должны последовательно стремиться к их преодолению. Я многому научился за 42 года службы в органах государственной безопасности. Два самых важных урока – понимание ограничений и чувство смирения. США – это самое сильное и великое государство в мире, но оно тоже не всесильно. Мощь и глобальная сфера влияния наших военных стала незаменимым гарантом мира на земле, и они будут играть эту роль и впредь. Однако американские военные не могут реагировать на любой акт агрессии, совершаемый в мире, на любое грубое применение силы, на любой кризис.
Нам следует скромно оценивать возможности военного вмешательства и возможности новейших технологий. Достижения в создании высокоточного оружия, в информационных и спутниковых технологиях дают нашим военным колоссальные преимущества и возможности. Движение «Талибан» было рассеяно в течение трех месяцев, а режим Саддама был свергнут за три недели. Можно нажать на кнопку в Неваде – и через несколько секунд в Мосуле взорвется грузовик. Бомба, сброшенная с воздуха, может разрушить отдельный дом, а соседние дома останутся при этом целыми и невредимыми.
Но никому никогда не следует пренебрегать психологическими, культурными, политическими и гуманитарными аспектами военных действий. Война неизбежно становится трагедией, она сеет панику и неопределенность и не может быть действенным способом решения проблем. Очень важно скептически относиться к системному анализу, компьютерным моделям, игровым теориям или доктринам, которые учат обратному. Нам следует с недоверием относиться к идеалистическим, триумфалистским либо этноцентричным представлениям о будущем военном противостоянии, которые не учитывают уродливую действительность и противоестественность войны. Некоторые идеалисты воображают, что можно запугать и шокировать неприятеля, тем самым вынудив его к сдаче и избежав утомительного преследования войск противника от дома к дому, от квартала к кварталу, от одной высоты к другой. Как сказал генерал Уильям Шерман, «любая попытка сделать войну легкой и безопасной закончится унижением и катастрофой». В течение прошлого столетия американцы неоднократно пытались игнорировать события, происходившие в далеких странах, в надежде, что они никоим образом не затронут интересы Соединенных Штатов. И в самом деле, как могло повлиять на американцев убийство австрийского эрцгерцога в никому неведомой Боснии и Герцеговине, или аннексия небольшого клочка земли под названием «Судеты», или поражение французов в местечке Дьебьенфу, или возвращение безвестного духовника в Тегеран, или превращение сына саудовского нефтяного магната в радикала?
Как правильно заметил историк Доналд Кейган в своей книге «Об истоках войны и сохранении мира» (On the Origins of War and the Preservation of Peace), те государства, которые желают сохранить мир, должны прежде всего проявить готовность взвалить на себя тяжелое бремя ответственности ради достижения данной цели. Этот принцип лучше всего «работает в мировой политике». Я верю, что Стратегия национальной обороны Соединенных Штатов обеспечивает сбалансированный подход к выполнению этих обязанностей и будет способствовать свободе, процветанию и безопасности Соединенных Штатов в грядущие годы.

Три выхода для Европы
© "Россия в глобальной политике". № 1, Январь - Февраль 2009
Ги Верхофстадт – премьер-министр Бельгии в 1999–2008 годах. Данная статья написана для фонда Бертельсманна; впервые опубликована фондом в ноябре 2008-го (оригинал на сайте http://www.bertelsmann-stiftung.de).
Резюме Мы в каком-то смысле возвращаемся к региональным империям и вступаем в новый век, когда вопросы, стоящие перед мировым сообществом, будет решать несколько мировых центров.
У 2008 года есть все шансы войти в историю в качестве переломного или поворотного момента. Такими же были: 1989-й, когда пала Берлинская стена и рухнул «железный занавес»; 1944–1945 годы – окончание Второй мировой войны, создание Организации Объединенных Наций, подписание Бреттон-Вудских соглашений, начало фанатичной гонки двух новых сверхдержав за превосходство; 1919, 1814–1815 и 1648 годы, когда соответственно был заключен Версальский мирный договор, состоялся Венский конгресс и подписан Вестфальский мир. Все это вехи, ознаменовавшие завершение одной эпохи и возвестившие о наступлении новой эры в истории человечества.
Летом 2008-го почти одновременно произошли три примечательных и имеющих далеко идущие последствия события, которые, на мой взгляд, можно считать предвестниками (а возможно, и следствиями) нового мирового порядка. В августе Россия вторглась в Южную Осетию. Для всех это стало неожиданностью, и не только потому, что Москва продемонстрировала доминирующую роль на Северном Кавказе. Прежде всего это явилось свидетельством того, что после двух десятилетий слабости и распада Москва вновь оказалась готова и способна навязывать соседям свою волю военными средствами, а также вести агрессивную энергетическую политику.
В том же месяце в Китае открылись летние Олимпийские игры, а спустя всего несколько недель первый китайский космонавт успешно вышел в открытый космос. Эти два события проиллюстрировали впечатляющее возвращение этой огромной страны в ряды великих держав, хотя до поры до времени речь идет лишь об экономическом усилении. Я умышленно употребил фразу «до поры до времени», поскольку было бы наивно полагать, что КНР как сверхдержава ограничится лишь экономическим взлетом. Вслед за экономическим возрождением неизбежно последует прорыв в военно-политической сфере.
Затем в конце лета и в начале сентября мировой финансовый кризис набрал полный ход. Хотя уголья тлели в США уже несколько месяцев, настоящий пожар разгорелся лишь после того, как многочисленные финансовые учреждения были вынуждены признать, что выдали массу чрезвычайно рискованных кредитов без надлежащего обеспечения. Как следствие, банки пали жертвой взаимных подозрений и перестали ссужать друг другу деньги. Подобное межбанковское кредитование жизненно необходимо, поскольку позволяет финансовым учреждениям сглаживать пиковые нагрузки по долговым выплатам и обеспечивать себя достаточной ликвидностью в периоды спада экономической активности. В то же время убытки по текущим операциям неизбежно привели к распродаже активов, что, в свою очередь, стало причиной раскручивания негативной спирали новых убытков и новых продаж.
В результате кризис на американском ипотечном рынке постепенно перерос в мировой кризис ликвидности и платежеспособности на финансовых рынках, что со временем привело к краху фондовых рынков и резкому падению биржевых индексов. Пострадали все учреждения (страховые и перестраховывающие компании, пенсионные и хеджевые фонды), а впоследствии это привело к резким колебаниям валютного курса, от которого больше всего страдают развивающиеся страны.
Как бы к этому ни относиться, глубокий экономический кризис в виде рецессии мировой экономики представляется неизбежным. Первые его признаки уже налицо. Экономический рост, по сути дела, остановился. Сталелитейные компании временно сворачивают деятельность. Портфели заказов, недавно сформированные на несколько лет вперед, сжимаются до нескольких месяцев. Растет безработица.
ВОЗВРАТ К МНОГОПОЛЯРНОМУ МИРУ
Однако последствия этого кризиса выйдут за пределы экономики. Экономический упадок на Западе, и в частности в Соединенных Штатах, вне всякого сомнения, отразится на политическом превосходстве Запада. Этому доминированию не придет конец в одночасье: во всяком случае мощь США слишком велика и многогранна. В ближайшем будущем абсолютное могущество Америки останется колоссальным, но ее относительная мощь резко ослабеет, что будет означать важный сдвиг в балансе сил на мировой арене. В то время как вес других государств и блоков (Китай, Индия, Россия, Бразилия и т. д.) возрастает, Соединенные Штаты совершенно очевидно достигли пика своего влияния.
Короче говоря, мир, с которым столкнется новый американский президент Барак Обама, кардинально отличается от того, который Джордж Буш-младший унаследовал от Билла Клинтона восемь лет тому назад. И избрание Обамы лишь ускорит эту эволюцию. Не то чтобы нужно было опасаться какого-то изоляционизма, а лидерство Америки станет несколько иным. В годы президентства Буша США занимали позицию доминирующей сверхдержавы, чему способствовали война с террором, а также конфликты в Ираке и Афганистане. Теперь же под давлением обстоятельств Вашингтону придется сосредоточиться на устранении дисбаланса у себя дома (экономический кризис, здравоохранение, изменение климата) и проводить менее активную внешнюю политику.
С избранием Барака Обамы пробудилась надежда на то, что Соединенные Штаты опять превратятся из надменной сверхдержавы в страну с большими возможностями для всех и вновь будут подавать всему миру пример открытого общества, где не имеют значения происхождение, раса или национальная принадлежность. Бесчеловечное стремление к абсолютному господству должно уступить место нравственному лидерству.
Это будет свидетельствовать о более радикальном сдвиге в международных отношениях, чем мы сегодня можем себе представить, и станет предвестником бесповоротного конца недолговечного однополярного мира, в котором мы жили после распада советской империи. В этом мировом порядке доминировала одна-единственная держава – Соединенные Штаты, и в его основе лежало глобальное распространение двух систем – политической демократии и свободной рыночной экономики.
На самом деле уже теракты 11 сентября 2001 года ясно дали понять, что однополярный мир не является неизбежностью, а история будет идти своим чередом вопреки теориям Фрэнсиса Фукуямы. Наверно, было самонадеянно предполагать, что распад советской империи ознаменует начало тысячелетнего господства/гегемонии Запада либо Америки. В действительности похоже, что 2008-й станет началом нового многополярного мира, «нового века империй».
Подобные кардинальные изменения в мировой политике – не новость. Мы можем стать очевидцами пятого крупного сдвига в геополитическом пространстве за последние 100 лет. Когда в 1914 году разразилась Первая мировая война, Европа и внушительных размеров часть остального мира все еще жили в эпоху империализма: большая часть Европы, почти вся Африка и значительная часть Азии находились во власти шести европейских империй.
Не прошло и четырех лет, как исчезли четыре из них: Германская, Австро-Венгерская, Российская и Османская. Лишь Британская и Французская империи продержались немного дольше – благодаря своим колониям в Африке и Азии. Однако век европейского империализма подошел к концу. Главным победителем (по крайней мере, в краткосрочной перспективе) стало национальное государство. В некоторых европейских странах оно уходило корнями в давние политические традиции, но именно распад колониальной системы позволил ему начать стремительно набирать обороты в Европе начала 20-х годов прошлого века.
К сожалению, крушение целых империй и колоссальный вакуум власти, образовавшийся в Европе, расчистили путь не только для национального государства, но также и для наиболее агрессивных разновидностей этнического национализма – национал-социализма в Германии, фашизма в Италии, а также национал-большевизма и коммунизма в России. Все это ввергло европейский континент в страшную пучину Второй мировой войны. Во многих отношениях национальное государство пережило Вторую мировую войну, несмотря на поражение фашизма и нацизма. Однако дивиденды из этого извлекли реальные победители: новые сверхдержавы – Соединенные Штаты и Советский Союз.
В промежутке между 1945 и 1989-м они были сильнее любого другого из предшествовавших им государств, но для Европы такое изменение ознаменовало начало эпохи «устранения» из мировой политики. На протяжении 44 лет Европу разделял «железный занавес», который, по словам Уинстона Черчилля из его знаменитой фултонской речи, простирался от «Щецина на Балтике до Триеста на Адриатике». Это была эпоха, в которую США и СССР с их холодной войной, постоянно угрожавшей всему человечеству, создали биполярный мир не только в Европе, но и по всему земному шару. Для других стран подобный мировой порядок был еще хуже, чем для Европы. То, что в Европе осталось холодной войной вследствие гонки ядерных вооружений, в других частях планеты – от Кореи и Вьетнама на Дальнем Востоке до Южной Азии и Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки – породило многочисленные «горячие войны».
Я далек от того, чтобы тосковать по мнимой стабильности биполярного мира. Мы заплатили за нее дорогостоящей гонкой вооружений и неослабевающей угрозой ядерной войны, которую усугубляла сознательная политика сверхдержав по поддержанию состояния гарантированного взаимного уничтожения.
Мы заплатили за это и длительной эпохой, когда ничего не могли или не желали сделать для наших европейских «союзников», находившихся по ту сторону «железного занавеса». Даже во время венгерского восстания (1956) и подавления Пражской весны (1968) мы молчаливо наблюдали за происходящим, отказываясь протянуть руку помощи. Цена, которую мы заплатили за стабильность периода холодной войны, в действительности была несоразмерно высокой. Таким образом, решительное содействие странам Восточной Европы, желавшим присоединиться к ЕС в 1990-х, можно истолковать как компенсацию за трусливое бездействие во время холодной войны. Мы сделали то, что должны были бы сделать гораздо раньше.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИМПЕРИЙ
К сожалению, на смену биполярному миру времен холодной войны не пришла Европа, восстановившая свои позиции на политической карте мира. Европейский союз так и не выработал целостную внешнюю политику или политику в области безопасности. Япония погрузилась в дефляционную пучину, и экономический рост в этой стране фактически прекратился. А такие государства, как Китай и Индия, сделали первые шаги в направлении свободной рыночной экономики. Другими словами, ничто и никто не мог оспорить монополистическое могущество Соединенных Штатов, не говоря уже о том, чтобы бросить им вызов.
Наверно, самым впечатляющим аспектом американского превосходства была военная мощь. За прошедшее десятилетие военные расходы США составляли почти половину военных расходов всех остальных государств, вместе взятых. Американский оборонный бюджет более чем в два раза превышает соответствующие траты всех стран – членов Евросоюза. Если говорить о проведении наземных операций, то разница еще более впечатляющая. Эксперты в целом согласны с тем, что военный потенциал всех стран – членов ЕС едва ли достигает 10 % от потенциала Соединенных Штатов.
За 12 лет с 1989 по 2001 год (то есть до террористических атак на Нью-Йорк и Вашингтон, означавших одновременно высшую точку и фундаментальный поворот в отношениях между Европейским союзом и США) ни один государственный деятель не оспаривал американского лидерства. Мы, конечно же, сплотили ряды с нашим главным союзником и отправили войска в Афганистан, чтобы подрубить под корень международный терроризм. Однако далеко не все из нас поддержали войну в Ираке. Это стало первым наглядным признаком растущего понимания того, что Европа стремится самостоятельно отвечать за решение международных политических вопросов.
События последних нескольких месяцев, и в частности финансовый кризис, в большей степени, чем это зарождающееся осмысление Евросоюзом своей роли (тем более не разделяемое всеми политическими лидерами ЕС), служат предвестниками эпохи многополярного мира. Совершенно очевидно, что однополярное мироустройство доказало свою неэффективность и нежелательность. Новый биполярный мир, созданный по лекалу холодной войны, также не выдерживает критики. Столь же неуместным представляется возвращение к опоре на национальное государство, если учесть следующее: несколько последних десятилетий продемонстрировали, что ни одно государство не может считаться достаточно крупным и богатым, чтобы в одиночку противостоять глобальным вызовам. Даже связанное с другими странами на региональном уровне, национальное государство слишком мало.
Так что, нравится нам это или нет, мы в каком-то смысле возвращаемся к региональным империям и вступаем в новый век, когда вопросы, стоящие перед мировым сообществом будет решать дюжина реальных либо потенциальных политических и экономических мировых центров, более или менее равномерно распределенных по всему земному шару.
Я понимаю, что термин «империя» вызывает не самые хорошие ассоциации, особенно в национальных государствах, созданных как раз на обломках европейских империй. Не будем ввязываться в словесные игры. Под термином «империя» я понимаю вовсе не Пруссию времен Гогенцоллернов, не «двухголовую» монархию Габсбургов и не царскую Россию, а политико-экономическое образование, состоящее, возможно, из многих государств и народов, объединенное общими структурами и современными институтами, зачастую подпитываемое разнообразными традициями и ценностями и уходящее корнями в старые и новые цивилизации. В этом новом мировом порядке важная роль отводится многообразию империй и цивилизаций, а не доминированию какой-то одной цивилизации. Значение имеют политическая стабильность и экономический рост, который они могут обеспечить на региональном уровне, а не стремление той или иной державы властвовать над всем миром.
В двух словах: это не ностальгия по былому величию европейских империй. Речь идет о рождении политических организаций нового толка, созданных открытыми и свободными обществами, конкурирующими друг с другом на глобальном уровне, возводящими не стены, а скорее мосты. При этом каждая держава сохраняет свои региональные корни и обычаи.
Иными словами, сегодня национальное государство слишком мало для того, чтобы влиять на события, происходящие в мире. С другой стороны, ООН чересчур громоздка и медлительна, чтобы быть действенной организацией в быстро меняющихся условиях. Во всех отношениях новые образования могут возвести мост через существующие водоразделы, поскольку способны мобилизовать региональные возможности на субконтинентальном уровне и, следовательно, как об этом говорится в Уставе ООН, сыграть центральную роль в решении региональных и даже мировых проблем.
НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА
Мы живем в переломный момент не только с точки зрения мирового баланса сил, но и в идеологическом плане. Если 1989 год ознаменовался решительной победой свободной рыночной экономики и капитализма, то 2008-й, похоже, вынудит нас признать, что у необузданного капитализма есть определенные ограничения.
Само по себе это наблюдение не претендует на оригинальность и новизну. Об этом совершенно недвусмысленно предупреждал еще Адам Смит в своей книге «Исследования о природе и причинах богатства народов» (1776). Следовательно, вопрос не в том, согласны ли мы с поставленным диагнозом, а в том, как мы на него реагируем. В чем искать спасение? Какой интеллектуальный ответ мы можем дать на разразившийся кризис?
Ответы на нынешний кризис таят в себе риски. Первоначальная реакция и меры противодействия не сулят ничего хорошего. В любом случае они в высшей степени предсказуемы. Как и в предыдущих финансовых кризисах, сотрясавших мир в период между двумя войнами, главными ответами были (экономический) национализм и коллективизация либо их сочетание. Независимо от того, принадлежат страны к более широкой наднациональной федерации или нет, они осуществляют массовые интервенции ради спасения собственного национального достояния. Более того, без всяких угрызений совести они эксплуатируют сложившуюся ситуацию для спасения некоторых из потерянных «драгоценностей короны». Другими словами, престиж нации берет верх над соображениями международного сотрудничества.
Иллюстрацией моутт служить все более громкое звучание в последние недели неонационалистических фанфар и разговоры о победителях и побежденных – во всем мире, как будто Европейского союза никогда не существовало. Нидерланды праздновали победу после скупки акций компаний Dutch Fortis и ABN-Amro. В Париже царило ликование по поводу «победы» в борьбе за компанию Dexia. И многие главы европейских правительств без обиняков заявили, что гарантируют только сбережения своих граждан.
Форма этих интервенций более или менее сходна в каждой стране, а именно: массированные денежные вливания государственных средств, а в некоторых случаях даже полномасштабная национализация для восстановления банков и страховых компаний, утрачивающих платежеспособность. Единственными общеизвестными исключениями из этого правила стали компании Lehman Brothers в США и Fortis в Бельгии, которые были просто закрыты либо проданы (Скандал вокруг продажи банка Fortis вызвал отставку правительства Бельгии. – Ред.). Государство также вмешивается с целью разрешения другой острой проблемы – возобновления межбанковского кредитования. Предоставляя государственные гарантии подобным кредитам, правительства стремятся устранить растущее недоверие между финансовыми учреждениями и тем самым поддержать их ликвидность на требуемом уровне.
Все эти интервенции, вне всякого сомнения, оправданны, если речь идет о спасении финансовой системы от полного краха в краткосрочной перспективе. Однако опасность заключается в том, что такая мера вскоре может привести к худшим последствиям, чем зло, с которым она призвана сражаться. Как и предоставление любых государственных гарантий, массированное вливание государственных средств в банки, терпящие бедствие, или в любую другую отрасль экономики требует крайней осмотрительности. Подобно тому как обезболивающие средства типа морфина либо метадона следует принимать в малых дозах и довольно непродолжительное время, так и государственные вливания или гарантии надо использовать весьма ограниченно и избирательно. В противном случае они становятся наркотиком, привыкание к которому душит на корню и уничтожает всякий стимул к эффективному управлению внутри таких финансовых учреждений.
Для чего банку тщательно исследовать запрос на предоставление кредита другому банку, если государство берет на себя все риски? Для чего страховой компании стремиться к разумному и расчетливому управлению портфелем, если при первых признаках неблагополучия правительство покроет любые необеспеченные задолженности? А как насчет искажения конкурентной среды? Государство практически не делает различий между неплатежеспособными, плохо управляемыми учреждениями и платежеспособными, хорошо организованными корпорациями.
В конечном итоге государство даже начинает финансировать банки с высокой степенью капитализации, у которых изначально вообще не было никаких проблем и которые стали испытывать неудобства лишь потому, что банки-конкуренты на родине и/или за рубежом стали получателями государственной помощи. В данном случае уместными могут быть также краткосрочные экономические интервенции, однако ими вскоре начинают злоупотреблять, чем только усугубляют положение.
Эти опасения вполне обоснованны и в отношении недавно созданных «суверенных фондов», или фондов национального благосостояния. Какими бы благородными ни были стоящие перед ними цели (а именно защитить стратегические интересы Европы перед лицом возможной волны поглощений европейских компаний зарубежными фондами национального благосостояния), в действительности все обычно оказывается не столь благородно, особенно когда дело доходит до распоряжения фондами национального благосостояния. В любом случае аргумент в пользу создания подобных учреждений представляется сплошным лицемерием. Когда американские либо европейские компании вкладывают средства за рубежом и поглощают российское, китайское или индийское предприятие, эти действия приветствуются как пример глобализации либо интернационализации рынков. Когда же происходит обратное, это зачастую объявляется угрозой нашей независимости. Фактически мы видим повторение той реакции, которая несколько десятилетий тому назад сопровождала экспансию японских компаний на западные рынки. Тогда тоже звучали предупреждения о «желтой угрозе» и японский бизнес наталкивался на сопротивление.
Более того, нам придется задать себе вопрос: чьи финансовые активы остались преимущественно либо совершенно не затронутыми нынешним кризисом на фондовых рынках и, следовательно, кто способен мобилизовать огромные финансовые ресурсы для осуществления крупномасштабных поглощений, которых мы больше всего опасаемся? В течение нескольких недель паники Китай, Россия и Индия имели возможность скупить весь западный финансовый сектор. Однако если не считать разговоров о денежных вливаниях со стороны российских инвесторов в банковскую систему Исландии, то никаких признаков подобных действий со стороны Москвы замечено не было.
Российские олигархи и арабские королевские дома потеряли за последние несколько месяцев больше, чем наши так называемые институциональные инвесторы. И снова аргументы, которыми оправдывается создание фондов национального благосостояния, оказываются порой совершенно несостоятельными. Истинная причина заключается в том, что официальные лица, озабоченные интервенцией зарубежного капитала, видят в финансовом кризисе идеальный предлог для осуществления протекционистской политики якобы в целях защиты национальной промышленности, хотя раньше им было трудно оправдать подобный курс.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ОТВЕТ
Существует реальная опасность того, что все эти национальные интервенции (государственные гарантии, финансовые вливания, фонды национального благосостояния) поставят под угрозу финансовое будущее. В конце концов это будет просто означать дополнительное долговое бремя, которое ляжет на плечи грядущих поколений. Невольно возникает вопрос: как страны с большим государственным долгом и отсутствием значительных пенсионных резервов будут справляться с социальным обеспечением своего стареющего населения? И разве подобные действия не являются неприемлемым «закладыванием нашего будущего» даже для тех государств, которые не обременены непосильными долгами?
Возьмем, к примеру, Ирландию: у этой страны весьма скромный государственный долг, но она выдает гарантии на все банковские депозиты на сумму 400 млрд евро. Даже если отрешиться от проблем, которые эти меры создают другим странам (финансовые средства которых начали стремительно перетекать в ирландские банки), сумма гарантий в два раза превышает нынешний ВВП Ирландии, в шесть раз – годовые доходы ирландского бюджета и почти в восемь раз – нынешний государственный долг страны.
А как быть с законом Европейского союза о честной конкуренции? А что делать с европейским Пактом стабильности и роста? Едва ли нужно говорить о том, что исключительная ситуация требует принятия исключительных мер, но может ли любая из стран – членов ЕС самопроизвольно, в одностороннем порядке рыть яму своим союзникам? Короче, куда смотрела Европа в разгар спада? Почему молчала Еврокомиссия? Если национальная замкнутость, коллективизация либо национализация так нежелательны, что следует предпринять?
Когда по той или иной причине на рынке ипотечного кредитования США разразился кризис, это негативно сказалось на экономике всего мира, поскольку сотни банков, страховых компаний и пенсионных фондов прямо либо косвенно заинтересованы в американском рынке. Сам по себе этот кризис является следствием усиливающейся секьюритизации (замена нерыночных займов и/или потоков наличности на ценные бумаги, свободно обращающиеся на рынках капиталов. – Ред.), что привело, например, к заключению таких соглашений о ссудах между банками и заемщиками, которые в былые времена считались бы чрезвычайно рискованными и неприемлемыми. В такой ситуации недосмотр либо отсутствие должного контроля в одной стране могут иметь негативные последствия для всего мира.
Однако было бы совершенно неправильно винить во всем глобализацию и замыкаться в национальных границах. Глобализация давно достигла такого размаха, когда сдерживать ее не представляется возможным. Напротив, правильный вывод состоит в том, что, хотя экономика уже стала глобальной, надзор за ней во многом остается, по сути, фрагментарным и национальным. Политическое управление глобальной экономикой практически отсутствует.
Введение единой европейской валюты служит убедительным доказательством того, что ответ на мировой финансовый кризис следует искать не столько в чрезвычайных экономических мерах, сколько в структурных реформах, таких, к примеру, как разработка нового, обязательного международного финансового договора. Если бы не было евро, то 10 и более европейских валют сейчас испытывали бы на себе колоссальное давление, какое испытывают бразильский реал, исландская и датская крона. И в том, что такого давления не ощущается, исключительно заслуга евро. Из этого успеха следует сделать выводы и утвердить всеобъемлющую, трансграничную политику и механизмы надзора во многих областях финансово-экономической деятельности. Как минимум, в зоне действия каждой валюты необходимо ввести единую систему благоразумного финансового надзора в качестве дополнения к руководящим денежно-кредитным учреждениям.
Между зонами действия разных валют должны заключаться обязывающие соглашения в рамках нового международного договора, чтобы мировая экономика имела единую систему глобального управления или, по крайней мере, единую глобальную сеть надзирателей, с помощью которой осуществлялся бы контроль за соблюдением всеми финансовыми контрагентами единых правил игры. Однако эти международные правила должны быть новыми во многих отношениях. Национальная раздробленность регулирующих механизмов – это, конечно же, не единственная причина возникновения нынешней ситуации: те механизмы международного регулирования, которые уже существуют, во многом оказались недееспособными.
Например, Базельские международные нормативные акты привели к недооценке рисков, многие из которых были классифицированы как «внебалансовые», тогда как действующие в настоящее время международные правила бухгалтерского учета (IFRS) не подходят, поскольку они слишком процикличные и не способны сдерживать нисходящую спираль падающих цен и вынужденных продаж. Необходимо также установить эффективный контроль над всеми видами новых финансовых продуктов. Это будет своего рода гарантией их безопасности.
Чтобы получить представление о том, как новая система может действовать, лучше всего начать с европейской политики. Помимо независимого Европейского центрального банка (ЕЦБ), еврозона безотлагательно нуждается в трех реформах (либо новых учреждениях), таких, как:
единый европейский финансовый регулятор, входящий во всемирную сеть регуляторов, придерживающихся единых правил и норм;
учреждение (возможно, подразделение ЕЦБ), в задачу которого будет входить одобрение запросов на межбанковское кредитование. Во всяком случае, это было бы более разумным решением проблемы восстановления доверия между банками и гарантирования рыночной ликвидности, чем выдача массированных государственных гарантий или создание «фонда европейских интервенций», равнозначного европеизации/коллективизации расходов на национализацию европейских экономик;
наконец, правительство еврозоны, несущее ответственность за проведение политики социально-экономического сближения, или конвергенции, – именно сближения, а не согласования. В рамках этой политики необходимо разработать обязательные параметры развития разных экономик и стран – членов Евросоюза либо еврозоны, благодаря которым можно будет совместными усилиями построить более целостную и конкурентоспособную европейскую экономику. Важный шаг в данном направлении был предпринят на саммите еврозоны, который состоялся в октябре прошлого года.
Последняя рекомендация – признать тот факт, что финансовый кризис неизбежно вызовет замедление экономического развития в течение нескольких последующих лет. Это может стать предвестником значительного роста экономики таких стран, как Китай, Бразилия и Индия. В 2007 году по объему ВВП Китай уже был четвертой экономикой мира, тогда как Бразилия, Россия и Индия занимали соответственно 10, 11 и 12 места. Ожидается, что к 2050-му КНР будет экономикой номер один, превосходя США в два раза по объему ВВП, Индия выйдет на третье место, Бразилия – на четвертое, а Россия – на шестое. Это вынудит западные страны осуществить кардинальные изменения в сфере экономики. Но им не следует злоупотреблять механизмами рыночного регулирования, хотя финансовые рынки, безусловно, должны управляться достаточно жестко. Как ни парадоксально, усиление регулирования в финансовой сфере нужно сочетать с растущей либерализацией общей экономической политики.
В этой связи вызывает тревогу тот факт, что важность сбалансированного бюджета сегодня подвергается сомнению с такой же легкостью, с какой отстаивается потребность в национализации. Однако полагать, что рецессию можно победить за счет наращивания дефицита бюджета, – это отнюдь не меньшая иллюзия. Опасения бережливых людей и потребителей будут преодолены лишь тогда, когда мы начнем осуществлять реальные и жесткие меры борьбы с причинами финансового кризиса, вместо того чтобы искусственно накачивать покупательную способность семей. В сложившихся обстоятельствах они будут скорее копить, чем тратить. Более того, страны с большим государственным долгом и/или отсутствием пенсионных резервов вообще не могут позволить себе превышение расходов над доходами.
* * *
Ни у кого сейчас не может быть сомнений в том, что наш мир переживает поворотный момент. Финансовый кризис действует как своего рода «ускоритель частиц», форсируя наше движение к новому, многополярному обществу. Это особенно наглядно проявляется в экономике, однако в политической и военной сферах формирующиеся великие державы также начинают давать о себе знать. Россия и Китай в первую очередь, а также и Индия не упускают возможности продемонстрировать миру, что они являются силой, с которой необходимо считаться. Вопрос же состоит в том, сможет ли и пожелает ли Европа играть заметную роль в этом новом, многополярном мироустройстве.
Европа по-прежнему страдает от трусости. В то время как финансовый кризис привел в действие целую цепочку государственных интервенций, предпринятых отдельными странами-членами, реакция Евросоюза (за исключением евросаммита) в основном ограничилась несколькими благими пожеланиями. Однако не совсем понятно, что ждет Европу в будущем. Если она хочет играть сколько-нибудь заметную роль в многополярном мире и пережить «новый век империй», единственная альтернатива для нее – предпринять более решительные и смелые шаги в направлении дальнейшей интеграции. Если рассматривать нынешний финансовый кризис в этом разрезе, то это не катастрофа, а скорее золотая возможность позаботиться о своем будущем. Нашему политическому руководству нужно преодолеть трусость и страх и сделать решительный шаг вперед.

Танцы с драконом
© "Россия в глобальной политике". № 1, Январь - Февраль 2009
О.В. Буторина – д. э. н., профессор, советник ректора, заведующая кафедрой европейской интеграции МГИМО (У) МИД России. Член научно-консультативного совета журнала «Россия в глобальной политике».
Резюме России следует максимально воспользоваться возможностями, которые открываются в ходе острой фазы кризиса, для того, чтобы перевести в новое содержательное качество ее международное сотрудничество в финансовой сфере. Ситуацию следует использовать как отправную точку для решительного прорыва в финансовой интеграции стран СНГ.
Нынешний финансово-экономический кризис сравнивают с Великой депрессией 1930-х годов, хотя, будем верить, он не перерастет в гуманитарную катастрофу. Сегодня в странах, охваченных кризисом, уровень жизни населения неизмеримо выше, чем 80 лет назад; им не угрожают тотальная безработица и нищета. Мировой ВВП не упадет на четверть, «марши голодных» не двинутся на Вашингтон и другие столицы, а бесчеловечные танцевальные марафоны останутся историческими кадрами из фильма Сидни Поллака «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?».
Общее у двух кризисов то, что их эпицентром стали Соединенные Штаты, а катаклизмы в финансовой сфере быстро перекинулись на реальную экономику и в большинство регионов мира. Главная же общая черта – это начавшаяся ломка рыночных механизмов. В 30-х годах прошлого столетия ее обусловила первая волна глобализации. На рубеже XIX и XX веков кардинально изменился характер производства, произошел скачок в развитии транспорта и связи, появились и окрепли транснациональные корпорации. В результате отдельные национальные и колониальные экономики были заключены в общую систему мирохозяйственных связей. Крах на Нью-Йоркской фондовой бирже 24 октября 1929 года отчетливо показал, что без активного участия государства рыночные силы не справляются с мировой экономикой.
Причина нынешней перестройки рыночных отношений – завершившееся формирование глобальной экономики. В последние 10–20 лет мы были свидетелями сразу нескольких процессов, изменивших облик мира. Бурное развитие информационных технологий, распад биполярной политической системы и распространение капитализма на все регионы мира, либерализация движения капиталов и стремительный рост финансовых рынков – все это перевело мировую экономику в новое качество. Уровень взаимной зависимости отдельных стран, регионов, рынков и процессов резко повысился. Асимметрия торговых и финансовых потоков приобрела глобальный масштаб.
Сейчас, как и во времена Великой депрессии, государству надлежит заново определить свои отношения с рынком – образно говоря, сначала укротить дракона, а затем снова затанцевать с ним вместе в такт мировой конъюнктуре. Задача осложняется тем, что каждой стране, региону и группе стран предстоит разучить и исполнить особенный танец.
РОК-Н-РОЛЛ, СТЕП, БРЕЙК
События, приведшие к нынешнему кризису, удивительно напоминают ситуацию 20-х годов прошлого столетия. Тогда в течение пяти лет (1925–1929) стоимость акций на Нью-Йоркской фондовой бирже выросла почти в три раза. Миллионы американцев играли на бирже. В первые годы XXI века стремительно дорожали не только фондовые активы, но и недвижимость. При этом исторически низкие процентные ставки усилили конкуренцию среди банков. Чтобы привлечь клиентов, банки понизили требования к заемщикам. Их реальными доходами банки почти не интересовались, рассчитывая, что взятые в залог дома поднимутся в цене, а кредиты будут легко возмещены из их новой стоимости. Другими словами, банки и их клиенты играли в большую финансовую пирамиду. Как и в 1929-м, настал момент, когда она рухнула.
Данный кризис справедливо назвать не кризисом перепроизводства, а кризисом перепотребления. Чрезмерное, не связанное с экономическими реалиями потребление стало для США и ряда стран Западной Европы последним средством, с помощью которого рынки пытались отсрочить надвигавшуюся на них системную трансформацию. В массовое перепотребление было вовлечено всё: население, компании, банки, государство. На протяжении последних лет средний государственный долг Соединенных Штатов и 27 стран Европейского союза составлял около 60 % ВВП. В 2006 году уровень задолженности домашних хозяйств в США и Великобритании приблизился к 150 % их располагаемого дохода. В Германии и многих странах ЕС он достигал 80–100 %. Понятно, что ни одна семья не может полтора года не есть, не покупать лекарств и не платить за электричество. Сейчас американские семьи направляют на выплату долга в среднем 18 % чистого дохода. То есть задолженность в 150 % может быть выплачена за восемь – десять лет. О необходимости затягивать пояса столь длительное время рядовые граждане общества потребления до недавнего времени всерьез не задумывались.
Многие поверили, что глобальная экономика способна производить виртуальные деньги, на которые можно приобретать реальные товары и услуги. В течение последних лет фондовые индексы росли как на дрожжах. Дорожавшие ценные бумаги охотно принимались в обеспечение кредитов. То есть одни обязательства – акции и облигации становились основанием для возникновения других обязательств – банковских займов. Эмиссия виртуальных денег частными структурами (компаниями и банками) превратилась в отдельную отрасль хозяйственной деятельности, весьма прибыльную и практически неподотчетную. Ключевую роль в данном процессе сыграли новые финансовые инструменты, макроэкономические последствия использования которых не были понятны ни государству, ни конечным потребителям, ни – полностью – даже их создателям.
Однако повсеместный и продолжительный рост цен на недвижимость, золото, фондовые активы и биржевые товары фактически являлся искаженной формой общемировой инфляции. Разбухавший дефицит текущего баланса Соединенных Штатов и постоянное снижение с 2002-го курса доллара по отношению к большинству валют мира заставляло инвесторов вкладывать средства в любые альтернативные активы. При статистически низкой инфляции в развитых странах (до 2–3 % годовых) инфляционное давление выплеснулось в сферы, недоступные монетарным властям, – на товарные и фондовые площадки. В итоге закамуфлированные инфляция и эмиссия составили классическую кризисную пару.
Еще одной причиной нарушения рыночных механизмов стали информационные потоки, вернее, их изменившаяся роль в процессе создания материальных ценностей. В последние 10–15 лет информация превратилась в такой же фактор производства, как труд, земля и капитал. Но если трудовые, земельные и денежные отношения регулируются обширным, веками создававшимся правом, то отношения по поводу информации находятся в пубертатной стадии дикого капитализма. Газеты и журналы, равно как аналитические, рекламные и рейтинговые агентства, прямо воздействуют на спрос, предложение и цену рыночных продуктов – от простых товаров и услуг до сложнейших финансовых инструментов. Однако никто из них не несет ответственность, хоть сколько-нибудь соизмеримую с создаваемыми отклонениями денежных потоков.
Сейчас у многих складывается впечатление, что эпоха монетаризма, связанная с именами Рейгана и Тэтчер, уходит в прошлое, а ей на смену идет модифицированная версия кейнсианства. Действительно, выступления первых лиц ведущих стран мира, равно как и декларации международных экономических организаций, насквозь пропитаны кейнсианской риторикой. Национализация долгов, массированная помощь банковскому сектору, усиление контрольных функций государства – все это инструменты из кейнсианского набора. Вместе с тем пока нельзя утверждать, что во главу новой модели будут поставлены именно кейнсианские цели – достижение полной занятости и стимулирование внутреннего спроса.
Новая экономическая политика (независимо от названия, которое ей дадут в будущем) должна решить две основные задачи – восстановить нормальное функционирование рыночного механизма и вернуть государству утраченное им место в хозяйственной системе. На первый взгляд эта миссия кажется внутренне противоречивой: неоклассической и кейнсианской одновременно. Но она исходит из здравого смысла и сложившихся реалий.
То, что рыночные механизмы разбалансированы, видно невооруженным глазом. Резкие перепады цен на фондовые активы, недвижимость, топливо и продовольствие свидетельствуют о том, что рынок перестал быть тем главным мерилом, с помощью которого определяют общественно обоснованную стоимость того либо иного продукта. Раз так, то и аллокативная функция рынка (отвечающая за рациональное размещение ресурсов) дает сбои: капитал идет не в реальную экономику, а в спекулятивные операции. Это мешает реализации еще одного предназначения рынка – содействовать технологическому процессу и росту производительности труда.
Нарушение адекватного взаимодействия спроса и предложения особенно заметно на денежном рынке, или рынке межбанковских кредитов. Когда в сентябре 2008 года американские банки из-за внутренних неплатежей сократили объем текущих кредитов европейским банкам-партнерам, в Европе разразился настоящий кризис ликвидности. Долларов остро не хватало для проведения ежедневных торговых и конверсионных сделок. В этой ситуации каждый коммерческий банк решил придержать наличные и перестал выдавать ссуды другим банкам-партнерам даже под высокий процент. Чтобы спасти рынок от коллапса, а платежеспособные банки – от разорения, национальные правительства и Европейский центральный банк (ЕЦБ) пошли на беспрецедентные спасательные меры.
Банковская паника была предотвращена, но вновь запустить денежный рынок не удается до сих пор. Крупные коммерческие банки, имеющие достаточный запас наличных, кредитуют только узкий круг привилегированных партнеров. Подавляющему большинству других европейских банков остается брать в долг у национальных центральных банков, что делает такие операции менее удобными и более дорогими. С денежного рынка исчез самый ходовой прежде товар – необеспеченные суточные ссуды. Базовые рыночные ставки (LIBOR, EURIBOR, EONIA), которые для операторов служат точкой отсчета стоимости кредитов, по сути, превратились в теорию. Их репрезентативность упала из-за резкого сокращения объема фактических сделок.
Деформация рыночных механизмов таит в себе еще одну опасность. Если рыночные сигналы перестают ежеминутно передаваться от одних операторов к другим и таким образом формировать общую конъюнктуру, то государственная денежно-кредитная политика перестает работать. Например, чтобы вывести экономику из рецессии, центральные банки обычно понижают ставку рефинансирования. Подразумевается, что финансовые посредники – коммерческие банки – тоже понизят ставки, по которым они кредитуют друг друга и своих клиентов. Но в ситуации, когда рынок межбанковских кредитов стоит (как это происходит сейчас в Европе), бизнес и население могут не получить дешевые кредиты. Так, в октябре и ноябре ЕЦБ понизил ставку рефинансирования в общей сложности на 1,0 %. Однако к декабрю стоимость кредитов населению и предприятиям практически не изменились.
Особенность текущего кризиса состоит в том, что он начался в условиях низкой инфляции и низких процентных ставок. В четвертом квартале-2008 темпы инфляции основательно замедлились, в том числе благодаря снижению мировых цен на нефть и на продовольствие. Однако инвестиционный спрос, увы, с места не сдвинулся. Согласно прогнозам, в 2009-м развитые страны в лучшем случае покажут нулевой рост, а в худшем испытают одно- или двухпроцентный спад. Это означает, что западный мир рискует попасть в ловушку дефляции (депрессии при низкой инфляции) наподобие той, из которой уже более десятилетия не может выбраться японская экономика.
Зло дефляции состоит не только в том, что она ограничивает внутренние инвестиции и способствует уходу капиталов за рубеж. Денежные власти лишаются главного рычага, при помощи которого можно ускорить экономический рост, – возможности понижать процентные ставки. Причем опасность дефляции в первую очередь касается зоны евро. Европейский бизнес привык к эволюционной и умеренной политике денежных властей, ставки ЕЦБ меняются редко и в узкой амплитуде. Американские предприниматели, напротив, давно приспособились к агрессивной и порывистой процентной политике Федеральной резервной системы, поэтому США сумеют выбраться из дефляции. Евросоюз же рискует в ней увязнуть. Согласно январскому прогнозу Европейской комиссии, в 2009 году инфляция в зоне евро составит 1 %, что, по определению ЕЦБ, вдвое ниже нормального уровня. В Великобритании индекс потребительских цен упадет и вовсе до 0,1 %.
САЛЬСА, ЧАРДАШ, ГОПАК
В 2009-м страны с формирующимися рынками дадут 100 % прироста мирового ВВП, который в целом не превысит 1 %. Согласно прогнозам, их экономики вырастут на 1–3 %, тогда как ВВП развитых стран сократится на 1,5–2 %. На протяжении 2004–2008 годов средние темпы прироста ВВП в развивающихся странах составляли ежегодно от 6 до 8 %, что в три с лишним раза превышало показатели развитых стран – соответственно 2–3 % .
Несмотря на сохранение положительной динамики, молодые рыночные экономики переносят кризис весьма болезненно. В течение последних нескольких месяцев Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение экстренных кредитов Белоруссии, Венгрии, Исландии, Киргизии, Латвии, Сербии, Украине на общую сумму 40 миллиардов долларов. Тревожные выводы сделали миссии фонда, побывавшие во Вьетнаме, Казахстане и Узбекистане. Кризис ставит перед странами с формирующимися рынками почти невыполнимую задачу: модернизировать рыночные механизмы и укрепить позиции государства в экономике, притом что их экономическая система априори деформирована, а международные практики и стандарты игнорируют факт этой деформации. Если западным государствам предстоит усмирить одного дракона – рынки, то развивающимся странам приходится иметь дело сразу с двумя «чудовищами» – вышедшими из-под контроля рынками и встроенными дефектами переходной экономики.
Одна их часть связана с догоняющим типом развития – относительно низким уровнем жизни населения и высокими темпами роста ВВП. Как следствие, почти все макроэкономические показатели имеют более широкую амплитуду, чем в странах с развитой рыночной экономикой. Другими словами, перепады рыночной конъюнктуры в Венгрии и Мексике оказываются гораздо более выраженными, чем в Германии и США. Такая «качка» является естественным следствием быстрого хозяйственного роста и недостаточной устойчивости экономической системы в целом. В итоге любые неблагоприятные изменения на мировых рынках (внешние шоки) переносятся развивающимися рынками хуже, чем развитыми.
Так, взлет мировых цен на энергоносители и продовольствие привел к росту инфляции в азиатских странах с формирующимися рынками с 4 % (2007) до 8 % (2008). Для сравнения: в зоне евро среднегодовой индекс потребительских цен поднялся с 2,1 до 3,3 %. Причина такой разницы – высокая энергоемкость ВВП, а также значительная доля продуктов питания в структуре расходов домохозяйств в развивающихся странах. В целом же инфляция – больная тема для данных государств. Ее невольно порождают высокие темпы роста экономики, а также быстрый рост зарплат, характерный и обязательный (с социальной точки зрения) для догоняющего развития. Кроме того, инфляцию может разгонять бюджетный дефицит, возникающий вследствие обширных государственных расходов на модернизацию производства, технологическое развитие и социальные программы. При высоком уровне инфляции невозможны низкие ставки банковских кредитов, которые в свою очередь порождают инфляционные ожидания. Так образуется замкнутый круг, выйти из которого довольно трудно.
Согласно прогнозу журнала The Economist, в 2009-м инфляция составит в России, а также в Аргентине, Боливии, Вьетнаме, Казахстане, Турции, Узбекистане, Украине от 10 до 15 %. В Венесуэле она может подняться с нынешних 30 до 40 %. В Мексике, Болгарии, Бразилии, Индии, Индонезии, Латвии, Литве и Эстонии цены вырастут на 6–7 %.
Вторая часть проблем проистекает из того, что глобализация влияет на развивающиеся страны иначе, чем на развитые. Однако мировые правила игры определяются интересами и практикой именно развитых стран. Здесь полезно вспомнить, что на Западе формирование национальных рыночных систем проходило в условиях более или менее открытой торговли, но закрытых финансовых рынков. А государства, вступившие на путь капитализма в 1990-х годах, такого периода безопасности не имели. Они (кроме, пожалуй, Китая) провели моментальную либерализацию внешнеэкономических связей и оказались де-юре в равных, а де-факто в подчиненных отношениях с главными финансовыми центрами и валютами мира.
Неудивительно, что многие важнейшие экономические взаимосвязи приобрели совсем иной вид, чем у их западных партнеров. Возьмем, к примеру, валютный курс. В течение последнего десятилетия большинство стран с формирующимися рынками испытывали активный приток иностранных капиталов, особенно краткосрочных. Это и понятно: высокие темпы роста трансформировались в высокую доходность фондовых активов, что привлекало инвесторов из медленно развивавшихся западных стран. Поскольку финансовые рынки молодых экономик невелики, повышенный внешний спрос на их ценные бумаги интенсивно толкал их валюты вверх.
По данным Банка международных расчетов, с 2000 года до середины 2008-го российский рубль в реальном выражении (то есть с поправкой на инфляцию) подорожал к большинству валют мира на 90 %, чешская крона – на 70 %, венгерский форинт – на 60 %. За это же время валюты Бразилии, Индии и Польши набрали примерно по 40 %. Однако с осени прошлого года, когда на рынках образовалась нехватка ликвидности, инвесторы бросились переводить средства из «экзотических» валют в доллары. Повышение уровня инфляции и общее ухудшение экономической обстановки в странах с формирующимися рынками только ускорили выведение коротких денег. Как следствие, за несколько последних месяцев 2008 года бразильский риал подешевел на 26 %, мексиканский песо, индонезийская рупия, южнокорейская вона и польский злотый потеряли по 15–20 %, а чешская крона и венгерский форинт – по 12 %.
Привязанные к евро денежные единицы трех прибалтийских государств пока держатся в заданном коридоре. Однако их запас прочности, как и резервы центральных банков, тают на глазах. Особенно сложная ситуация в Латвии: в истекшем году инфляция там составила 15 %, а прогноз на 2009-й показывает спад ВВП почти на 7 %. Если полученные страной кредиты от МВФ и Евросоюза не спасут лат от девальвации, то под прессом окажутся валюты Литвы и Эстонии.
Еще одна особенность переходных экономик состоит в том, что власти вынуждены одновременно бороться за стабильность цен и за стабильность курса. Развитые страны данные задачи никогда не совмещают, поскольку они противоречат друг другу. Так, Европейский центральный банк всегда подчеркивает, что его единственной и главной целью является стабильность цен, а курсом евро он не занимается. В странах с формирующимися рынками все иначе. Там население может легко уходить из национальных валют в доллары или евро, поэтому без стабильного валютного курса невозможно нормальное развитие экономики. При падающем курсе происходит быстрое расстройство национальной денежной системы, более стабильные иностранные валюты начинают вытеснять национальные деньги из обращения, что еще больше разгоняет инфляцию, сокращает инвестиции и обесценивает местные деньги. На сегодня мировое экспертное сообщество этим вопросом всерьез не занимается, и международные организации не дают соответствующих рекомендаций развивающимся странам. Каждая из них решает проблему на собственный страх и риск, как правило, в режиме ручного управления.
Огромная разница между развитыми и развивающимися странами заметна в области денежно-кредитной политики. Описанная выше схема (Центральный банк дает деньги коммерческим банкам, а те выдают ссуды предприятиям и населению) в переходных экономиках существует только теоретически. Да, Центробанк устанавливает ставку рефинансирования, от которой должны «плясать» ставки на межбанковском рынке и конечные клиентские ставки. Но только коммерческие банки не берут ссуд у Центрального банка, отчего задуманная цепочка не возникает. Причина проста: процентные ставки в развивающихся странах всегда выше (из-за инфляции и быстрого роста), чем в развитых. В условиях глобализации местным коммерческим банкам незачем брать у Центробанка кредит, например, под 10 % годовых, если в зарубежном банке можно взять вдвое дешевле. То есть ножницы ставок в развитых и развивающихся странах, по сути, парализуют механизм рефинансирования в последних. В итоге государство лишается важнейшего инструмента управления экономикой.
Таким образом, развивающиеся страны, часто обвиняемые в чрезмерном государственном регулировании, на самом деле имеют гораздо меньшую свободу макроэкономической политики, чем ведущие страны Запада. Пользуясь сокращенным набором инструментов, они сталкиваются с задачами, которые никогда не возникали перед их более сильными партнерами и которые не имеют адекватных решений в современной экономической практике.
УПРАЖНЕНИЯ У БАЛЕТНОГО СТАНКА
Многие считают, что данный кризис будет стимулировать неординарные, смелые решения и приведет к радикальному пересмотру действующих правил. По словам главного исполнительного директора Deutsche Bank Йозефа Аккермана, «в историю 2009-й войдет как год, когда произошло полное переформирование мировой финансовой системы». Директор Европейского департамента МВФ Марек Белька добавляет, что «кризис может подтолкнуть к глубоким реформам, которые были бы невозможны в нормальные времена».
Кризис показал, что ни национальные, ни международные органы не смогли корректно оценить риски, возникшие в последнее время на финансовых рынках. Кризис не был предсказан, соответственно не были приняты своевременные меры для того, чтобы ограничить его глубину и масштаб. В методах мониторинга финансовых рынков выявилось несколько существенных упущений. Сейчас системы банковского надзора имеют национальный характер, тогда как финансовые рынки окончательно стали глобальными. Доля иностранных средств в общем объеме привлекаемых банками ресурсов постоянно увеличивается, а размах их международных операций растет.
Инвесторы теперь могут легко выбирать, в какие ценные бумаги вкладывать средства – в национальные или зарубежные. То же касается предоставления и получения банковских займов. Как следствие, процентные ставки по государственным облигациям и фондовые индексы разных стран становятся всё более взаимозависимыми. Если раньше замедление экономического роста в США приводило к аналогичному торможению в Европе не сразу, а спустя несколько месяцев, то на этот раз никакого временнЧго лага не наблюдалось. Высокая степень зависимости развивающихся стран от экспорта в Соединенные Штаты и другие страны Запада, а также от мировых цен на сырье и от международного движения капиталов не позволила им уберечься от кризисных явлений.
Теперь усилия мирового сообщества направлены на то, чтобы выработать международные правила, которые позволили бы предотвратить повторение подобного кризиса в будущем. С этой целью 15 ноября 2008 года в Вашингтоне собрались лидеры двадцати крупнейших стран мира. Итоговая декларация начиналась словами о готовности «совместно работать над восстановлением мирового роста и провести необходимые реформы мировой финансовой системы». В этом документе говорилось о необходимости кардинально улучшить международное регулирование финансовых рынков, повысить их прозрачность, улучшить международное регулирование трансграничных потоков капиталов, а также реформировать международные финансовые институты, в том числе при участии стран с формирующимися рынками.
Накануне данной встречи МВФ и Форум финансовой стабильности (ФФС), созданный после региональных кризисов 1997–1998 годов, опубликовали совместное заявление о разграничении сфер ответственности. Было подтверждено, что главное предназначение МВФ – осуществлять наблюдение за международной финансовой системой в целом, а задача ФФС – разрабатывать международные стандарты финансового надзора и регулирования. Вместе оба института будут выстраивать механизмы раннего предупреждения. При этом МВФ займется оценкой макроэкономических и системных рисков, а ФФС – оценкой рисков функционирования финансовых систем.
Кризис продемонстрировал явную нехватку знаний о важных экономических процессах и взаимодействиях. Например, в последние годы были разработаны весьма сложные методы тестирования банковских систем с использованием самого современного эконометрического инструментария. Соответствующие стресс-тесты проводились (2005–2007) в большинстве стран Европейского союза. Все они показали высокую устойчивость банковских систем, что сразу же опроверг начавшийся мировой кризис. Оказалось, что данные тесты не учитывали психологических факторов, а также не принимали в расчет системного поведения финансовых институтов. Более того, теперь уже очевидно, что в преддверии кризиса рыночные операторы повсюду действовали проциклично. В стадии бума банки и инвестиционные компании ориентировались исключительно на получение максимальной прибыли и не делали ничего, чтобы ограничить свои будущие потери. Иначе говоря, они только усугубляли ситуацию.
Тот факт, что острая нехватка ликвидности на финансовых рынках случилась после многих лет усиленного накачивания денежной массы, говорит о слабой изученности механизмов денежного обращения в условиях глобализации. Так, первые лица ЕЦБ признают, что и процессы инфляции при низких ставках и особенно процессы дефляции осмыслены явно недостаточно. В еще большей степени это относится к специфике экономических процессов в странах с формирующимися рынками. Есть все основания полагать, что кризис даст мощный толчок к развитию экономической науки и усилению международного сотрудничества в этой области.
Еще одно направление действий – развитие регионального финансового сотрудничества. В Евросоюзе уже широко признана необходимость усилить взаимодействие надзорных органов разных стран и выработать общие принципы контроля финансовых рынков. Денежные власти ряда стран, особенно небольших и открытых, упорно высказываются в пользу создания единых для ЕС органов надзора. В условиях кризиса стало понятно, что Европейскому союзу нужно совершенствовать законодательство, регулирующее трансграничную деятельность банков. Например, в Финляндии, где две из трех основных банковских сетей принадлежат шведам, с конца прошлого года стали возникать опасения, что принимаемые в штаб-квартирах антикризисные программы будут в первую очередь нацелены на сохранение материнского бизнеса. Между тем дочерние банки являются для Финляндии системообразующими и их закрытие нанесло бы удар по всей экономике страны.
Кризис серьезно осложнил положение небольших и открытых экономик стран Евросоюза, не входящих в зону евро. В Швеции и Дании специалисты заговорили о том, что в составе валютного союза их финансовые рынки и денежные единицы не испытывали бы столь негативного воздействия внешних сил. Сложное положение, в котором оказались экономики прибалтийских государств из-за проблем в банковском секторе, только укрепили их стремление как можно скорее добиться приема в зону евро.
Необходимость усилить региональную интеграцию широко обсуждается в Азии. С 1990 по 2007 год доля внутрирегиональной торговли во всей внешней торговле тринадцати стран Восточной Азии (АСЕАН + 3 – Китай, Южная Корея, Япония) увеличилась с 43 до 54 %. Страны АСЕАН создали зоны свободной торговли с Австралией, Индией, Китаем, Новой Зеландией, Южной Кореей и Японией. В ответ на финансовый кризис-1997 в регионе была сформирована сеть кредитных линий, которая позволяет бороться со спекулятивными атаками на валюты участвующих стран. В конце ноября 2008-го в Бангкоке состоялась международная конференция «Будущее экономической интеграции в Азии». Выступавший на ней управляющий Банком Таиланда Тариса Ватанагасе отметил, что «экономическая интеграция в Азии существенным образом помогает ряду экономик нашего региона противостоять этому огромному внешнему дестабилизирующему воздействию». Теперь на повестке дня стоят вопросы либерализации рынка финансовых услуг, гармонизации стандартов финансовой деятельности, в том числе отчетности. Главной же целью является создание в регионе глубокого, ликвидного и устойчивого финансового рынка.
РОССИЙСКИЙ ДИВЕРТИСМЕНТ
России следует с целью перевода ее международного сотрудничества в финансовой сфере в новое содержательное качество максимально воспользоваться возможностями, которые открываются в ходе острой фазы кризиса (предположительно до второй половины 2009 года).
Первое. В рамках запланированного на апрель саммита G20 целесообразно вместе с несколькими партнерами из Содружества Независимых Государств (СНГ) и/или Шанхайской организация сотрудничества (ШОС) поставить вопрос о формировании международного центра изучения макроэкономических процессов и политики в странах с формирующимися рынками. Функционирование такого центра под эгидой одного из ведущих международных финансовых институтов позволит: 1) привлечь внимание международного экономического сообщества к проблемам переходных экономик; 2) поднять уровень знаний о закономерностях и характере экономических процессов на переходной стадии; 3) разработать лучшие методики проведения денежной, валютной и в целом экономической политики в данной группе стран; 4) учитывать особенности формирующихся рынков при выработке международных стандартов финансового контроля. В общем и целом мера будет способствовать движению к многополярности в рамках глобального экономического диалога и встреч G20.
Второе. В отношениях с Европейским союзом целесообразно внести вопросы антикризисного регулирования и кризисного предупреждения в повестку дня ближайшего саммита Россия – ЕС в середине 2009 года. Данная тема является политически нейтральной и имеет важное, никем не оспариваемое практическое содержание. Тот факт, что ряд стран Евросоюза, в том числе бывших социалистических, оказались сейчас в весьма сложном экономическом положении, будет способствовать развитию конструктивного диалога между Россией и Европейским союзом в данном направлении. Следует принять во внимание и то, что с июля место страны – председателя ЕС займет Швеция, имеющая одну из лучших в мире экономических школ с сильными позициями в вопросах денежного обращения, финансов и валютных курсов.
Третье. Ситуацию кризиса необходимо использовать как отправную точку для решительного прорыва в сфере финансовой интеграции в рамках СНГ. До сих пор эта область сотрудничества не дала осязаемых результатов, хотя кризис-1998 в России быстро распространился по другим странам Содружества, которые ныне испытывают серьезные экономические трудности. Между тем в регионе имеются все возможности для активного использования опыта АСЕАН и Евросоюза в таких сферах, как стабилизация курсов национальных валют, интеграция национальных фондовых рынков, гармонизация финансовых стандартов, развитие и объединение трансграничных платежных систем.
Вопросы о противодействии кризису и развитии международного сотрудничества в данной области необходимо поставить в качестве центральных на ближайших заседаниях руководящих органов СНГ. Результатом этих обсуждений должно стать принятие четких программ действий, отвечающих лучшим международным практикам. Для этого России (самостоятельно или вместе с другими инициативными партнерами, например Казахстаном) следует предварительно согласовать вопросы технической поддержки будущих проектов международными группами экспертов в частности из Европейского центрального банка, который осуществляет такую деятельность в ряде третьих стран.

Иллюзия геополитики
Несокрушимая сила либерального порядка
Джон Айкенберри – профессор политики и международных отношений в Принстонском университете и приглашенный профессор в Баллиольском колледже Оксфордского университета.
Резюме Хотя Москве и Пекину не нравится, что США находятся на вершине нынешней геополитической системы, они соглашаются с основополагающей логикой структуры международных отношений, выстроенной Соединенными Штатами
Статья опубликована в журнале Foreign Affairs, № 3, 2014 год.
Уолтер Рассел Мид рисует тревожную картину геополитических трудностей, с которыми столкнулись Соединенные Штаты. По его мнению все более устрашающая коалиция нелиберальных держав — Китай, Иран и Россия — твердо намерена пересмотреть мироустройство, сложившееся после окончания холодной войны, и лидерство в нем Соединенных Штатов. Мид утверждает, что эти государства намерены создать в Евразии свои сферы влияния, подорвать доминирование США и нынешний мировой порядок. Поэтому Соединенным Штатам необходимо умерить оптимизм и пересмотреть убеждение, сформировавшееся после окончания холодной войны, будто усиливающиеся незападные государства можно убедить присоединиться к Западу и играть по его правилам. С точки зрения Мида пришла пора как-то противодействовать угрозам, исходящим от этих все более опасных геополитических противников.
Однако алармизм Мида основан на грубом искажении реального расклада сил в современном мире, неверном прочтении логики и характера существующей международной системы, которая стабильнее и прочнее, чем он изображает. Он переоценивает способность «оси короедов» подточить существующий миропорядок. Он неверно читает намерения Китая и России, которые никак не тянут на роль полноценных ревизионистских держав. В худшем случае их можно охарактеризовать как спойлеров, с таким же подозрением относящихся друг к другу, как и к окружающему миру. Они действительно ищут возможности для противодействия Соединенным Штатам: сегодня как и вчера они сопротивляются американскому доминированию, особенно в своих регионах.
Но даже эпизодические региональные конфликты больше провоцируются слабостью, нежели силой этих лидеров и режимов. У них нет привлекательного бренда. А когда дело доходит до жизненных интересов, то оказывается, что Россия, и особенно Китай, глубоко интегрированы в глобальную экономику и руководствуются ее принципами.
Мид также неверно характеризует суть американской внешней политики. Он утверждает, будто со времени окончания холодной войны США игнорировали геополитику, в том числе территориальные вопросы и сферы влияния, и вместо этого с чрезмерным оптимизмом сосредоточились на построении мирового порядка. Но это ложная дихотомия. Соединенные Штаты не фокусируются на проблемах глобального устройства, таких как гонка вооружений и торговля, поскольку исходят из того, что геополитический конфликт канул в лету; они предпринимают эти усилия именно потому, что хотят управлять конкуренцией великих держав. Построение порядка не обусловлено концом геополитики; оно как раз призвано дать ответ на большие вопросы геополитики.
На самом деле конструирование мирового порядка во главе с США началось не после холодной войны; эти усилия помогли победить в ней. На протяжении почти 70 лет после Второй мировой войны Вашингтон предпринимал последовательные усилия для создания всеобъемлющей системы многосторонних организаций, союзов, торговых соглашений и политических партнерств, втягивая другие страны в свою орбиту. Этот проект помог укрепить нормы и правила, подорвавшие легитимность сфер влияния в стиле XIX века, претензий на региональное доминирование и территориальные захваты. И он дал Соединенным Штатам возможности, партнерства и принципы для противодействия современным державам-спойлерам и ревизионистам в их подлинном обличье. Альянсы, партнерства, многосторонние организации, демократия – это инструменты лидерства США, позволяющие им побеждать в борьбе за геополитику и мировой порядок XXI века.
Благородный гигант
В 1904 г. английский географ Хэлфорд Макиндер написал, что держава, которая возьмет под контроль центральную часть Евразии, будет командовать «Мировым островом», а значит и всем миром. («Кто контролирует Восточную Европу, тот командует Хартлендом; Кто контролирует Хартленд, тот командует Мировым островом (то есть Евразией и Африкой); Кто контролирует Мировой остров, тот командует миром. – Ред.)
С точки зрения Мида Евразия вернулась в глобальную политику как большой геополитический приз. Он доказывает, что на просторах этого гигантского континента Китай, Иран и Россия стремятся установить свои сферы влияния и бросить вызов интересам США, медленно, но неумолимо пытаясь прибрать к рукам господствующие высоты в Евразии и оттуда угрожать Соединенным Штатам и остальному миру.
При таком взгляде из виду упускается более глубокая реальность. В вопросах геополитики (не говоря уже о демографии, политике и идеологии) Соединенные Штаты имеют неоспоримое преимущество перед Китаем, Ираном и Россией. Хотя США, вне всякого сомнения, прошли верхнюю точку своей мощи и гегемонии, на которой они находились в эпоху однополярного мира, их сила остается непревзойденной. Их богатство и технологические преимущества находятся далеко за пределами досягаемости Китая и России, не говоря уже об Иране. Их восстанавливающаяся экономика, подкрепленная теперь огромными, недавно обнаруженными запасами природного газа, позволяет им сохранять глобальное военное присутствие и брать на себя конкретные и выполнимые обязательства в сфере обеспечения безопасности.
Вашингтон обладает уникальной способностью привлекать друзей и оказывать влияние на другие страны. Согласно исследованию политолога Бретта Эшли Лидса, Соединенные Штаты поддерживают военное сотрудничество с более чем 60 странами, тогда как у России восемь формальных союзников, а у Китая всего один (Северная Корея). Как сказал мне один британский дипломат несколько лет назад, «Китай, похоже, не создает альянсов». А Соединенные Штаты их создают, и эти альянсы приносят двойную отдачу: они не только закладывают глобальную платформу для проецирования американской мощи, но и позволяют распределять бремя обеспечения безопасности. Военные возможности США и их союзников перевешивают все, что Китай или Россия смогут создать в грядущие десятилетия.
Что касается ядерного вооружения, которым располагают Америка, Китай и Россия (а Иран стремится к обладанию им), то здесь Соединенные Штаты дважды оказываются в выигрыше. Во-первых, благодаря логике гарантированного взаимного уничтожения, они резко снижают вероятность войны. В прошлом подобные катаклизмы создавали возможности для великих держав, включая США в период Второй мировой войны, насаждать свой международный порядок. Атомный век лишил Пекин и Москву такой возможности. Во-вторых, ядерное оружие укрепляет безопасность Китая и России, давая им гарантии, что Соединенные Штаты никогда не вторгнутся на их территорию. Это в принципе хорошо, поскольку снижает вероятность того, что из-за неуверенности они предпримут отчаянные шаги, чреватые войной и подрывом либерального порядка.
География усиливает другие преимущества Соединенных Штатов. Будучи единственной великой державой, не окруженной другими великими державами, эта страна кажется менее грозной и опасной для других государств, и смогла без кровопролитных войн резко усилиться в течение последнего столетия. После окончания холодной войны, когда США были единственной сверхдержавой, другие мировые гранды, отделенные просторами океанов, не пытались уравновешивать или сдерживать Соединенные Штаты. Фактически географическое положение США заставляло другие страны больше беспокоиться о том, чтобы Вашингтон не потеряло к ним интерес, нежели об американском доминировании. Союзники в Европе, Азии и на Ближнем Востоке стремились убедить Соединенные Штаты в том, что им нужно играть более заметную роль в их регионах. Результатом стало то, что историк Геир Лундестад назвал «империя по приглашению».
Географические преимущества Соединенных Штатов в полной мере проявляются в Азии. Большинство стран считают Китай более серьезной угрозой, чем США, хотя бы в силу его территориальной близости. За исключением Соединенных Штатов, все крупные державы мира живут в тесном геополитическом окружении и любые сдвиги в военной силе провоцируют соседей на ответные шаги. Китай сегодня открывает для себя эту закономерность, поскольку соседние страны реагируют на его усиление, модернизируя армии и укрепляя союзы. Россия также давно знакома с этой истиной. Она наглядно проявляется на примере Украины, которая наращивает военные расходы и стремится к более тесным связям с ЕС.
Географическая изолированность также дала Соединенным Штатам повод отстаивать универсальные принципы, позволяющие получать доступ к разным регионам мира. Страна давно уже проводит политику открытых дверей, поддерживает принцип самоопределения и противостоит колониализму – не столько из идеалистических соображений, сколько исходя из практических реалий и необходимости сохранять Европу, Азию и Ближний Восток открытыми для торговли и дипломатии. В конце 1930-х гг. главный вопрос, стоявший перед США, заключался в том, какое геополитическое пространство понадобится стране, чтобы быть великой державой в мире империй, региональных блоков и сфер влияния. Вторая мировая война дала ответ: процветание и безопасность зависят от доступа ко всем регионам. И в последующие десятилетия США исповедовали пост-имперские принципы. Исключением стала вьетнамская авантюра, нанесшая серьезный ущерб репутации Америки.
Именно в эти послевоенные годы геополитика слилась воедино с построением мирового порядка. Либеральное мироустройство было ответом таких государственных деятелей как Дин Ачесон, Джордж Кеннан и Джордж Маршалл на вызов советского экспансионизма. Созданная ими система усилила и обогатила Соединенные Штаты и их союзников и нанесла урон их нелиберальным противникам. Эта система также стабилизировала мировую экономику и создала механизмы для решения международных проблем. Окончание холодной войны не изменило логику этого проекта.
К счастью, либеральные принципы, продвигаемые Вашингтоном, пользуются почти всеобщей поддержкой, потому что хорошо сочетаются с модернизирующими силами экономического роста и социального развития. По словам историка Чарльза Майера, Соединенные Штаты «поймали» волну модернизации в ХХ веке. Но некоторые считают, что в последние годы американский проект не вполне соответствует силам современности. По мнению этих мыслителей, финансовый кризис 2008 г. стал поворотным моментом всемирной истории, когда Соединенные Штаты утратили роль авангарда экономического прогресса.
Но даже если это так, вряд ли можно сказать, что Китай и Россия заменили США в роли знаменосцев глобальной экономики. Даже Мид не оспаривает тот очевидный факт, что ни Китай, ни Иран, ни Россия пока не предложили миру новую модель современности (modernity). Если эти державы в самом деле угрожают Вашингтону и остальному либеральному капиталистическому миру, им нужно найти и оседлать следующую высокую волну модернизации. Вряд ли они на это способны.
Подъем демократии
Теория Мида о соперничестве за Евразию между США, с одной стороны, и Китаем, Ираном и Россией, с другой, совершенно не учитывает более глубокую трансформацию, происходящую сегодня в мире: постоянное укреплениее либеральной капиталистической демократии. Конечно, многие либеральные демократии в настоящий момент борются с медленными темпами экономического роста, социальным расслоением и политической нестабильностью. Но распространение демократии, начавшееся в конце 1970-х гг. и ускорившееся после окончания холодной войны, резко усилило позиции Соединенных Штатов и сузило геополитическое пространство Китая и России.
Не стоит забывать, какой редкостью была когда-то либеральная демократия. До ХХ века она была распространена только на Западе и в некоторых странах Латинской Америки. Однако после Второй мировой войны демократия начала выходить за пределы этого ареала по мере того, как страны, получавшие независимость, переходили к самоуправлению. В 1950-е, 1960-е и начале 1970-х гг. военные перевороты и новые диктаторы притормозили демократические преобразования в мире. Но в конце 1970-х Южную Европу, Латинскую Америку и Восточную Азию накрыла «третья волна» демократизации, по меткому выражению Сэмюэля Хантинготона. После завершения холодной войны целая когорта бывших коммунистических государств Восточной Европы перешла в демократический лагерь. К концу 1990-х гг. 60% всех стран мира стали демократиями.
Хотя отступления иногда случались, более важной тенденцией является появление группы демократических средних держав, включая Австралию, Бразилию, Индию, Индонезию, Мексику, Южную Корею и Турцию. Эти развивающиеся демократии действуют как заинтересованные участники системы международных отношений: добиваясь многостороннего сотрудничества, требуя более широких прав и обязанностей и оказывая влияние мирными способами.
Эти страны придают либеральному геополитическому порядку новый геополитический вес. Как заметил политолог Лэрри Даймонд, если Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, ЮАР и Турция возродят экономику и укрепят демократию, то «Большая двадцатка», в которую также входят Соединенные Штаты и европейские страны, «станет сильным клубом демократий, из которого выпадают только три страны: Россия, Китай и Саудовская Аравия». Появление среднего класса демократических государств превращает Китай и Россию в аутсайдеров, а не в законных претендентов на мировое лидерство, как опасается Мид.
На самом деле расцвет демократии стал большой проблемой для обеих стран. В Восточной Европе бывшие советские государства и сателлиты стали демократиями и влились в западный мир. Какими бы тревожными ни были действия российского президента Владимира Путина в Крыму, они отражают геополитическую уязвимость Москвы, а не ее силу. За последние два десятилетия Запад приблизился к границам России. В 1999 г. Чешская Республика, Венгрия и Польша вступили в НАТО. В 1999 г. за ними последовали семь других бывших членов советского блока, а в 2009 г. – Албания и Хорватия. Тем временем шесть бывших советских республик встали на путь вступления в НАТО, присоединившись к программе «Партнерство ради мира». Мид трубит о достижениях Путина в Грузии, Армении и Крыму, но хотя Путин одерживает победы в локальных сражениях, он терпит поражение в глобальной войне. Россия не на подъеме; напротив, она переживает одно из самых больших геополитических отступлений и сжатий, постигавших какую-либо крупную державу в современную эпоху.
Демократия со всех сторон наступает и на Китай. В середине 1980-х гг. Индия и Япония были единственными демократиями в Азии, но с тех пор Индонезия, Монголия, Филиппины, Южная Корея, Тайвань и Таиланд присоединились к клубу демократических стран. Мьянма (или Бирма) на фоне потепления отношений с Соединенными Штатами предприняла осторожные шаги в сторону многопартийного государственного устройства, и Пекин это заметил. Сегодня Китай со всех сторон окружен демократическими странами.
Эти политические преобразования вынуждают Китай и Россию обороняться. Подумайте о недавних событиях на Украине. Экономические и политические течения на большей территории страны неумолимо поворачивают на Запад, и эта тенденция страшит Путина. Единственное, что ему остается, силой заставить Украину сопротивляться Евросоюзу и оставаться в орбите Москвы. Хотя Россия может сохранить Крым под своим контролем, остальная часть страны ускользает из ее железных объятий. Как заметил европейский дипломат Роберт Купер, Путин может попытаться отсрочить момент, когда Украина «присоединится к ЕС, но он не в силах остановить этот процесс». На самом деле, Путин может не осуществить даже эту программу-минимум, поскольку его провокационные действия способны лишь подтолкнуть Украину в направлении Европы.
Пекин сталкивается с аналогичными трудностями в отношениях с Тайванем. Китайские лидеры искренне считают Тайвань частью своей страны, но жители острова не разделяют подобной точки зрения. Переход этого государства к демократии сделал притязания его жителей на собственную государственность более глубокими, продуманными и законными. Опрос 2011 г. показал, что если бы жители Тайваня были уверены, что Китай не нападет на их страну, то 80% населения поддержали бы провозглашение независимости. Подобно России, Китай хочет добиться геополитического контроля над своим ближайшим окружением. Но проникновение демократии в разные регионы Азии превратило старомодное доминирование в единственный способ достижения этой цели. Однако подобный подход может дорого обойтись Пекину и по большому счету контрпродуктивен.
В то время как усиление демократических стран все больше затрудняет жизнь Китаю и России, для Соединенных Штатов мир становится безопаснее. Эти две державы могут считаться соперниками США, но соперничество происходит на очень неравном игровом поле: у Соединенных Штатов намного больше друзей, и притом наиболее дееспособных друзей. На долю Вашингтона и его союзников приходится 75% всех военных расходов. Демократизация изолирует Китай и Россию с геополитической точки зрения.
Иран не находится в окружении демократических стран, но ему угрожает настойчивое движение за демократию внутри страны. Что еще важнее, Иран – самый слабый член «оси» Мида, экономика и военные возможности которого просто несопоставимы с экономикой и армией США и других крупных государств. Тегеран также стал объектом самых жестких экономических санкций из всех когда-либо применявшихся мировым сообществом, и эти санкции поддерживают, в том числе, Китай и Россия. Дипломатия администрации Обамы в отношении Ирана может принести или не принести плоды, но не совсем понятно, что Мид сделал бы иначе ради того, чтобы не допустить получение Ираном ядерного оружия. Президент Барак Обама предлагает Тегерану путь, встав на который он может превратиться из враждебно настроенной в отношении Америки региональной державы в более конструктивного члена мирового сообщества с неядерным статусом. А это означает переломный момент в геополитической игре, который Мид не видит и не оценивает по достоинству.
Возврат к ревизионизму
Мид не только недооценивает силу Соединенных Штатов и созданного ими порядка, но и переоценивает степень стремления Пекина и Москвы противодействовать этому порядку и его создателю. Что касается Ирана, то, если не считать его ядерных амбиций, он больше занят бессмысленными протестами, нежели деятельным сопротивлением, поэтому никак не тянет на роль ревизионистской державы. Вне всякого сомнения, Китай и Россия жаждут большего влияния в своих регионах. Пекин, агрессивно заявляя о своих правах в Южно-Китайском море и на близлежащие спорные острова, встал на путь наращивания вооружений. Путин хочет восстановить доминирование России в «ближнем зарубежье». Обе державы негодуют по поводу лидерства США и сопротивляются ему, когда могут.
Вместе с тем Китай и Россия не соответствуют роли подлинных ревизионистов. Как сказал бывший министр иностранных дел Израиля Шломо Бен-Ами, внешняя политика Путина «больше отражает негодование по поводу геополитической маргинализации России, нежели является боевым кличем усиливающейся империи». КНР, конечно же, можно с полным правом назвать восходящей державой, и это чревато опасным соперничеством с американскими союзниками в Азии. Но Китай в настоящее время не пытается разрушить эти альянсы или уничтожать более широкую систему региональной безопасности в лице Ассоциации стран Юго-Восточной Азии и Восточноазиатского саммита. И даже если у Китая со временем появятся такие амбиции, региональные партнерства США в сфере безопасности только укрепляются, а не ослабевают. Китай и Россия в худшем случае могут быть «спойлерами». Но они не заинтересованы в том, чтобы кардинально менять существующие правила международного сообщества или структуру и конфигурацию международных организаций. У них нет для этого возможностей, идей, видения и союзников.
На самом деле, хотя Москве и Пекину не нравится, что США находятся на вершине нынешней геополитической системы, они соглашаются с основополагающей логикой структуры международных отношений, выстроенной Соединенными Штатами. И на то есть причины. Открытость предоставляет им доступ к торговле, инвестициям и технологиям, создаваемым другими обществами. Действующие правила дают инструмент для защиты суверенитета и интересов. Несмотря на полемику по поводу новой идеи об «обязанности защищать» (которая используется весьма выборочно), нынешний мировой порядок свято оберегает старые нормы государственного суверенитета и невмешательства. Вестфальские принципы остаются краеугольным камнем международной политики. Китай и Россия привязывают к ним свои национальные интересы (несмотря на тревожащий ирредентизм Путина).
Поэтому не следует удивляться тому, что Китай и Россия глубоко интегрировались в существующий международный порядок. Они – постоянные члены Совета Безопасности ООН, наделенные правом вето, и активные члены Всемирной торговой организации, Международного валютного фонда и Всемирного банка, а также «Большой двадцатки». Это геополитические инсайдеры, сидящие за всеми высокими столами глобального управления.
Несмотря на быстрое усиление, Китай не имеет амбициозных целей в мировой политике; его больше интересуют внутриполитические проблемы и сохранение партийного правления. Некоторые китайские интеллектуалы и политические деятели, такие как Янь Сюэтун и Чжу Чэнху, составили перечень желательных ревизионистских целей. Они считают западную систему угрозой и ждут того дня, когда Китай сможет ее реорганизовать. Но политическая элита страны не особенно прислушивается к этим голосам. На самом деле китайские лидеры дистанцировались от ранее звучавших требований всеобъемлющих перемен. В 2007 г. на заседании ЦК Китайской Компартии предложения о создании «нового мирового экономического порядка» были заменены призывами к более умеренным реформам с акцентом на справедливость и правосудие. Китайский ученый Ван Цзисы назвал этот ход «тонким, но важным», свидетельствующим о повороте Китая в сторону мирового реформаторства. Пекин стремится играть более заметную роль в Международном валютном фонде и Всемирном банке, он хочет чтобы его голос был лучше слышен на таких форумах, как саммиты «Большой двадцатки», и чтобы китайская валюта имела хождение во всем мире. Но это не планы страны, стремящийся перестроить мировую экономическую систему.
Китай и Россия также члены ядерного клуба, имеющие хорошую репутацию. Центральным соглашением эпохи окончания холодной войны стал договор между США и СССР (а затем Россией) об ограничении и сокращении ядерных вооружений. Хотя с тех пор отношения между Соединенными Штатами и Россией испортились, эти договоренности остаются в силе. В 2010 г. Москва и Вашингтон подписали новый договор СНВ, по которому они пошли на сокращение числа баллистических ракет дальнего радиуса действия и установленных на них ядерных боеголовок.
До 1990-х гг. Китай был ядерным аутсайдером. Обладая небольшим ядерным арсеналом, Пекин считал себя голосом безъядерного развивающегося мира и критиковал соглашения о контроле над вооружениями и запрете ядерных испытаний. Но с тех пор произошел весьма примечательный сдвиг в позиции Китая по этому вопросу, и Пекин присоединился к целому ряду ядерных соглашений, включая Договор о нераспространении ядерных вооружений и Договор о всеобъемлющем запрете на ядерные испытания. Китай поддержал доктрину о неприменении первым ядерного оружия, ограничил ядерный потенциал и вывел свои ядерные вооружения из состояния повышенной боеготовности. Китай также сыграл деятельную роль в Саммите по ядерной безопасности, созванном по предложению Обамы в 2009 г., и присоединился к «процессу пяти ядерных держав», с целью обезопасить ядерные вооружения.
По широкому спектру вопросов Китай и Россия действуют скорее как устоявшиеся державы, нежели как ревизионистские государства. Они часто предпочитают уклоняться от многостороннего обсуждения предпринимаемых ими шагов, но то же самое иногда делают США и другие сильные демократии (Пекин ратифицировал Конвенцию ООН по морскому праву, тогда как Вашингтон этого не сделал). И Китай, и Россия используют международные правила и организации для продвижения своих интересов. Их борьба с Соединенными Штатами сводится к тому, чтобы иметь голос в ныне существующей системе и манипулировать ею для удовлетворения своих потребностей. Они желают усилить позиции в рамках имеющегося порядка, но не собираются его менять.
Деваться некуда
В конце концов, даже если Москва и Пекин попытаются оспорить базовые условия нынешнего мирового порядка, это окажется авантюрой, которая дорого им обойдется. В таком случае эти державы ополчатся не просто против США; им придется посягнуть на самый глубоко укоренившийся и хорошо организованный глобальный порядок, который мир когда-либо знал, и в котором доминируют либеральные, капиталистические и демократические страны. Он поддерживается целой сетью альянсов, организаций, геополитических соглашений, государств-сателлитов и демократических партнерств. Этот порядок доказал свою динамичность и универсальность, в него легко интегрируются усиливающиеся государства, начиная с Японии и Германии после Второй мировой войны. К тому же, в его рамках продемонстрированы возможности совместного руководства мировым хозяйством – это, прежде всего, такие форумы как «Большая восьмерка» и «Большая двадцатка». Этот порядок позволяет растущим незападным странам торговать, расти и получать дивиденды от модернизации. В его рамках действует удивительное разнообразие политических и экономических моделей: социальная демократия (Западная Европа), неолиберальная модель (Великобритания и США) и государственный капитализм (Восточная Азия). Процветание почти каждой страны и стабильность ее правительства зависят от поддержания этого порядка.
В век либерального порядка ревизионистские потуги – пустая затея. Китай и Россия это понимают, и у них нет какого-то грандиозного плана по созданию альтернативной структуры. Международные отношения в их понимании нужны для ведения торговли и обеспечения ресурсов, защиты суверенитета и, по возможности, регионального доминирования. Они не проявляют заинтересованности в формировании собственных правил и даже не желают брать на себя полноту ответственности за нынешний миропорядок и не предлагают альтернативных планов глобального экономического или политического прогресса. Это важный недостаток, потому что мировые порядки возникают и рушатся не просто в зависимости от силы и мощи ведущего государства; их успех также держится на общем восприятии их легитимности, и многое зависит от того, способна ли данная система решать проблемы как слабых, так и сильных стран. В борьбе за мировой порядок Китай и Россия (не говоря уже об Иране) просто оказываются вне игры.
В этих обстоятельствах Соединенным Штатам не следует отказываться от усилий по укреплению либерального порядка. Вашингтон должен приветствовать тот мир, в котором он сегодня живет. И нужно продолжать генеральную стратегическую линию на глубокое взаимодействие со всем миром, которую Америка проводит уже не одно десятилетие. Это политика, при которой США связывают себя со всеми регионами мира с помощью торговли, альянсов, многосторонних организаций и дипломатии. Она позволяет Соединенным Штатам утверждать лидерство не просто силой, но также за счет последовательных действий и усилий, направленных на решение глобальных проблем и разработку общих для всех правил. США создали мир, отвечающий американским интересам, и это дружественный мир, потому что, как однажды сказал президент Джон Кеннеди, это мир, в котором «слабые чувствуют себя в безопасности, а сильные справедливы и великодушны».

Не разбрасывать камни в стеклянном доме
© "Россия в глобальной политике". № 3, Май - Июнь 2008
А.Г. Арбатов – член-корреспондент РАН, директор Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, член редакционного совета журнала «Россия в глобальной политике».
Резюме Москва вполне обоснованно взяла направление на изменение «правил игры» в отношениях с Западом, сложившихся в 90-х годах прошлого века. Но дело в том, что сказать «нет» совершенно недостаточно. Необходимо сформулировать конструктивную и конкретную альтернативу по основным вопросам.
Журнал «Россия в глобальной политике» уже не первый год держит планку на уровне высоких мировых стандартов как по системности и актуальности подбора тем, так и по профессионализму и стилю публикаций. Именно поэтому многие его статьи будят мысль и вызывают желание высказать собственное мнение по затронутым вопросам. К таким материалам относится, в частности, опубликованная в выпуске за март – апрель 2008 года статья Тимофея Бордачёва и Фёдора Лукьянова «Время разбрасывать камни».
Ее главный тезис приведен как эпиграф ко всему разделу: «…переход от модели холодной войны к какому-то новому статус-кво, характер которого еще не прояснился, продолжается. В таких условиях Российскому государству было бы рискованно начать полномасштабно “собирать камни”, пытаясь выстроить новую систему взаимоотношений с внешними партнерами. Велика опасность попасть под удар со стороны тех, кто эти камни пока разбрасывает» (сc. 76–77).
Свою идею авторы обосновывают тем, что мир стал неуправляем, на смену старому мировому порядку пришел не новый миропорядок, а хаос. Стремление США установить гегемонию в глобальном масштабе и попытки НАТО создать систему безопасности в евро-атлантической зоне и за ее пределами терпят крах. Глобальные финансово-экономическая и энергетическая системы выходят из-под контроля, а ООН, ОБСЕ и другие международные организации прошлого не адаптировались к новым реалиям, и их жизнь «подходит к концу». Разваливается договорно-правовая система ограничения вооружений и разоружения.
Из этого Бордачёв и Лукьянов делают вывод: тот, кто будет играть по старым правилам или пытаться их заново сформировать, непременно проиграет. Россия правильно делает, доказывают авторы, что с середины текущего десятилетия перешла к «активному и жесткому продвижению собственных фундаментальных интересов» (с. 79) и больше не остерегается идти вразрез с международными структурами, нормами и договорами. Это выражается в суровой критике ОБСЕ, несговорчивости в МВФ, падении интереса к ВТО и новому соглашению с Европейским союзом, решимости наложить вето в Совете Безопаснсти ООН по вопросу о независимости Косово, приостановке членства в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и вероятном выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) (сс. 84–85). Этот курс авторы статьи предлагают продолжать и впредь.
Ну что же, такая позиция в стиле «мачо» – предельно приземленная, отрицающая всякий идеализм и сурово прагматическая – не может не импонировать большинству в нынешней российской политической элите и общественном мнении. Особенно притягательно выглядит эта «крутизна» на фоне воспоминаний о благоглупостях конца 80-х и политических метаниях и унижениях 90-х годов прошлого века. И все же попытаемся разобраться в существе некоторых базисных предпосылок и выводов.
О ПОПУЛЯРНОМ ТЕЗИСЕ НЕУПРАВЛЯЕМОСТИ XXI ВЕКА
Начнем с того, что управляемость XX века в сравнении с новым столетием сильно преувеличивается. Даже если оставить за скобками две мировые войны и взять только период после 1945-го и до окончания холодной войны, то нынешние представления кое-кого о прошлом – это больше ностальгия, чем объективный исторический анализ. Психологически такое легко объяснить: биполярность ассоциируется со стабильностью, тем более что одним из полюсов был предшественник нынешней России – советская военная сверхдержава и глобальная империя.
Однако на деле после 1945 года управляемость и предсказуемость были скорее иллюзией, чем реальностью. Почти сорок лет мир жил в постоянном страхе перед всеобщей термоядерной войной в результате внезапной агрессии противника, неуправляемой эскалации кризиса либо технического сбоя. Как минимум, четырежды великие державы невольно подходили к грани ядерной войны (1957, 1961, 1962, 1973), причем однажды эту черту почти переступили – во время Карибского кризиса в октябре 1962-го. Тогда человечество было спасено не только и не столько благодаря осторожности Кремля и Белого дома, сколько по счастливому случаю.
Не было никакого «совместного управления» миром сверхдержавами – просто существовали негласно признанные «сферы влияния» в Европе и на Дальнем Востоке, а в остальных частях света ужас перед ядерной катастрофой заставлял обе стороны избегать прямого столкновения в их геополитическом соперничестве. Тем не менее за этот период произошли десятки крупных региональных и локальных конфликтов, унесших жизни более двадцати миллионов человек. Зачастую они разражались неожиданно, протекали неконтролируемо и завершались непредсказуемо, в том числе поражением великих держав: война в Корее, две войны в Индокитае, четыре войны на Ближнем Востоке, войны в Алжире, на полуострове Индостан, на Африканском Роге, в Анголе, Родезии, Афганистане, не говоря уже о бесчисленных внутренних переворотах и кровавых гражданских катаклизмах…
Разделение на «своих» и «чужих» периодически приносило сверхдержавам неприятные сюрпризы. Так, Китай сначала был «великим восточным другом», а потом стал главным военно-политическим и идеологическим врагом СССР, насеровский Египет выступал в качестве основного ближневосточного клиента Москвы, а садатовский Каир переметнулся к Соединенным Штатам.
Франция вышла из военной организации НАТО и подрубила под корень тыловую инфраструктуру альянса. Главный оплот американского влияния в Персидском заливе Иран, которому Соединенные Штаты продали горы оружия и заложили обширную ядерную программу, стал их заклятым врагом. Напавший на него Ирак сначала был американским помощником, а потом, после захвата Кувейта, стал основным противником США. Перечень примеров можно было бы продолжать, но и так ясно, что управляемость в период холодной войны – это скорее миф, чем реальность.
Спору нет, мир, вступивший в эру многоплановой глобализации и реальной многополярности, стал гораздо более сложным для понимания, а значит, и для согласованного управления ведущими державами. Ясно и то, что эйфория и надежды на всеобщую гармонию после окончания холодной войны были наивны. Но при всех разногласиях и соперничестве между великими державами сейчас нет антагонистических противоречий, не существует угрозы большой войны, никто никого не стремится «закопать». Как бы ни были ведущие государства подчас недовольны друг другом, ни одно из них (исключая маргинальных политических безумцев, которые есть везде) не желало бы крушения и распада США, России, Евросоюза, Китая, Индии, Японии, Бразилии, ЮАР, Украины, Казахстана… Все они хорошо осознают, что непредсказуемые последствия образовавшейся таким образом «черной дыры» причиняют вред, намного больший, чем выигрыш от устранения соперника.
Фундаментальная общность интересов многополярного мира, экономическая и социальная взаимозависимость диктуют гораздо бЧльшую «корпоративную солидарность», сдержанность и избирательность в выборе инструментов достижения интересов, чем страх перед ядерной катастрофой в прошлом веке. Между ведущими державами и их союзниками нет конфликтов, сравнимых по масштабам и жертвам с локальными войнами ушедшего столетия. Исключением являются гражданские войны в Югославии и Таджикистане, спонтанное насилие в несостоявшихся государствах Африки и террористическая война под американской оккупацией Ирака, но это не прямые и не опосредованные конфликты великих держав.
Иными словами, при всей сложности нынешних международных проблем (включая финансовый кризис, дефицит энергосырья и потепление климата) для их решения сейчас имеются более благоприятные предпосылки, а мир стал гораздо менее опасным, чем в годы холодной войны. Оговорку следует сделать в отношении угроз распространения и ракетно-ядерного оружия, и международного терроризма, которые создают вероятность применения ядерного оружия третьими странами либо террористами. Однако противодействие этой угрозе, как и решение других проблем, зависит от субъективной политики лидеров ведущих держав, и именно в ней заключаются главные трудности.
ПОЛИТИКА США В ПОСЛЕДНИЕ ПОЛТОРА ДЕСЯТИЛЕТИЯ
После завершения эпохи биполярности и холодной войны у Вашингтона был уникальный исторический шанс утвердить в международной политике верховенство правовых норм, ведущую роль легитимных международных институтов (прежде всего ООН и ОБСЕ), избирательность и законность применения силы исключительно для самообороны или в целях обеспечения мира и безопасности (по статьям 51 и 42 Устава ООН). Очевидно, что этот шанс возглавить процесс созидания нового многостороннего миропорядка, основанного на балансе интересов, Соединенные Штаты бездарно провалили.
Неожиданно ощутив себя «единственной сверхдержавой» и пребывая во власти эйфории, самолюбования и самонадеянности, политическая элита США все более подменяла международное право правом силы, легитимные решения Совета Безопасности ООН – директивами американского Совета национальной безопасности, а прерогативы ОБСЕ – действиями НАТО. Наиболее яркое выражение такая политика получила в военной операции против Югославии в 1999 году. После смены американской администрации в 2001-м и чудовищного шока от террористических актов 11 сентября того же года эта линия была возведена в абсолют. Вслед за справедливой, законной и успешной операцией в Афганистане Соединенные Штаты вторглись в Ирак (под надуманным предлогом и без санкции СБ ООН), намереваясь в дальнейшем «переформатировать» весь Большой Ближний Восток под свои экономические и военно-политические интересы.
В итоге США увязли в беспросветной оккупационной войне в Ираке (которая чревата еще более тяжелым поражением, чем во Вьетнаме), подорвали миротворческую миссию в Афганистане, раскололи антитеррористическую коалицию. Политика Вашингтона спровоцировала небывалый подъем антиамериканских настроений по всему миру, вызвала новую волну активности международного терроризма, подстегнула распространение ядерного и ракетного оружия.
Необоснованное расширение НАТО на восток возрождает противостояние Запада и России, для которого у обеих сторон нет ни мотивов, ни ресурсов и которое идет вразрез с их экономическими и политическими интересами. За пятнадцать лет, сосредоточившись на проблеме геополитической экспансии, альянс не смог и не захотел фундаментально реформироваться (как, впрочем, и Российская армия без реального гражданского руководства). Самый мощный военный союз в мире, поддерживая в Европе неизвестно зачем 1,8-миллионную армию, не может найти несколько дополнительных вертолетов и батальонов для успешного ведения миротворческой операции в Афганистане.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ДОГОВОРЫ
Трудности НАТО, как порождения холодной войны, в ее поисках новой роли в современном мире вполне объяснимы, хотя и не вызывают сочувствия. Проблемы Евросоюза есть следствие его поспешного и непродуманного расширения, но со временем их, видимо, удастся решить. Другое дело Организация Объединенных Наций. Бордачёв и Лукьянов пишут: «Созданная в обстановке жесткой биполярной конфронтации… ООН не может быть адаптирована к требованиям ни имперского, ни многополярного мира» (с. 77).
С этим никак нельзя согласиться. ООН была создана в 1945 году, когда еще была жива антигитлеровская коалиция, и предусматривала как раз формализованный исполнительный «концерт наций» из держав-победительниц как постоянных членов Совета Безопасности (то есть многополярность) плюс нормотворческий международный парламент в лице Генеральной Ассамблеи. Именно раскол антигитлеровской коалиции, приход биполярности и холодной войны парализовали ООН на сорок лет и превратили ее в форум пропагандистской полемики.
После окончания холодной войны наступил короткий золотой век Организации Объединенных Наций, которая стала впервые выполнять свои целевые функции как легитимная структура обеспечения международной безопасности. В частности, из 49 миротворческих операций ООН 36 были проведены после 1988-го. И хотя – в зависимости от локальных условий – не все из них были одинаково успешны, они обошлись гораздо дешевле и принесли более весомые результаты, чем односторонние акции по принуждению к миру со стороны США и НАТО.
Не многополярность и новые сложные проблемы, а односторонняя силовая политика США в текущем десятилетии нанесла удар по эффективности этой организации. Конечно, мир неузнаваемо изменился с 1945 года, и ООН настоятельно требуются глубокие и хорошо продуманные реформы. Но, вопреки мнению авторов рассматриваемой статьи, дело отнюдь не в генетической неадекватности организации, а в обострении разногласий между постоянными членами СБ ООН и в решимости Соединенных Штатов действовать вне международно-правового поля, когда коллеги по Совбезу с ними не согласны.
За это Вашингтон уже горько поплатился в Ираке. Наверное, администрация Буша сейчас дорого бы дала, чтобы повернуть время вспять и прислушаться к доводам России, Франции, Германии и Китая в 2003-м против необоснованной военной операции. И Западу еще предстоит расплатиться за то, как решалась проблема Косово. Глубоко увязнув в Ираке, США не решаются на одностороннее применение силы против Ирана. Но, собственноручно подорвав авторитет Совета Безопасности ООН, они дали повод и Тегерану безнаказанно игнорировать вот уже четыре резолюции Совбеза по иранской ядерной программе.
Международная система договоров по разоружению тоже не стала анахронизмом после окончания холодной войны. Без твердой опоры на системы и процессы ядерного разоружения нежизнеспособен и режим нераспространения ядерного оружия, что наглядно подтвердили события последнего двадцатилетия.
Правда, есть миф, что окончание холодной войны подстегнуло распространение ядерного оружия. Но и это не так. За четыре десятилетия холодной войны ядерное оружие обрели семь стран («Большая пятерка» плюс Израиль и ЮАР), а после ее окончания – три государства (Индия, Пакистан и – с оговорками – КНДР). Самые значительные прорывы в разоружении имели место в 1987–1999 годах: ДРСМД, ДОВСЕ, Конвенция о запрещении химического оружия, Протокол о контроле над конвенцией по бактериологическому и токсинному оружию, Договор СНВ-1, параллельные сокращения тактического ядерного оружия США и России, Договор СНВ-2, рамочные соглашения по СНВ-3 и по противоракетной обороне театра военных действий (ПРО ТВД), Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), адаптированный ДОВСЕ .
Нет сомнения, что вовсе не случайно это был самый продуктивный период и в нераспространении ядерного оружия. К Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) присоединились 40 новых государств, включая две ядерные державы (Франция, КНР), он был бессрочно продлен; вступил в силу Дополнительный протокол для укрепления гарантий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ); семь стран отказались от ядерного оружия и военных ядерных программ или были лишены их насильно (ЮАР, Украина, Казахстан, Белоруссия, Бразилия, Аргентина, Ирак).
Однако в текущем десятилетии безответственный курс США повлек за собой демонтаж системы разоружения, начиная с Договора по ПРО и кончая большинством вышеупомянутых соглашений. Вашингтон стремился максимально развязать себе руки для развития военных программ, опираясь на свое огромное военно-техническое превосходство. А в действительности он дал свободу рук странам, стремящимся к обладанию ядерным оружием и ракетными технологиями, и подорвал сотрудничество великих держав.
Ныне система и режимы ДНЯО трещат по швам. КНДР вышла из этого договора и провела ядерное испытание, Иран упорно движется к этому порогу по пути ядерных технологий двойного назначения, еще десяток стран заявили о намерении последовать данному примеру, ширится «черный рынок» контрабанды ядерных материалов и технологий, обладая которыми террористы могут получить доступ к атомному взрывному устройству.
Со своей стороны Россия недавно ввела мораторий на ДОВСЕ и заявила о вероятном выходе из ДРСМД. После истечения срока действия Договора СНВ-1 в 2009-м потеряет смысл и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП) от 2002 года. Этот договор, срок действия которого истекает в 2012 году, предусматривает сокращение ядерных боезарядов США и РФ до уровней 1 700–2 200 единиц, но не имеет своей системы контроля и опирается на нормы СНВ-1.
От соглашения по ядерному разоружению останутся лишь договоры о частичном запрещении ядерных испытаний от 1963 и 1976 годов и несколько символических документов. В таком случае и на ДНЯО, скорее всего, можно будет поставить крест со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Все это не может не внушать острую тревогу. Но при чем тут «многополярность, формирующаяся в условиях распада институтов», о которой пишут Бордачёв и Лукьянов (с. 85)? Налицо преднамеренный и безответственный слом таких институтов и норм – в значительной мере со стороны нынешнего руководства Соединенных Штатов при поддержке некоторых их союзников, а с недавнего времени, увы, и с участием России.
Экономика и климат – предметы особого разговора, а вот нынешняя ситуация в сфере международной безопасности неуправляема ровно настолько, насколько ведущие державы не умеют ею управлять, не желая понимать ее механизмов и обратных связей. Она именно настолько неконтролируема, насколько ведущие страны ставят свои узкокорыстные, зачастую конъюнктурные интересы и амбициозные прожекты выше согласованных приоритетов и совместных действий по укреплению общей безопасности.
КАКАЯ ПОЛИТИКА НУЖНА РОССИИ?
Вряд ли кто-то станет возражать против российской политики «наращивания своей относительной силы» и «активного и жесткого продвижения собственных фундаментальных интересов» (сс. 75, 79). Весь вопрос в том, как трактовать эти фундаментальные интересы. Одна версия, выдвигаемая, в частности, некоторыми экс-либеральными телеобозревателями, сводится к принципу «хватай все, что плохо лежит, а там видно будет». Другая трактовка предполагает определение внешнеполитических приоритетов и своих реальных возможностей, предвидение последствий собственных действий на несколько ходов вперед, утверждение важных международных принципов, которые в конечном итоге лучше и надежнее обеспечат национальные интересы.
Например, какую выгоду получила бы Москва от выхода из Договора по РСМД? Развернуть несколько дивизионов ракет «Искандер» повышенной дальности? Но при этом США будут иметь мощный аргумент в пользу дальнейшего расширения инфраструктуры ПРО в Европе, получат легальную возможность вернуть ракеты «Першинг-2» либо более современные системы с коротким подлетным временем на континент, причем не в ФРГ, а в страны Балтии.
Формальное признание Россией независимости Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья ничего не изменит в их материальном положении сверх начатого Москвой расширения экономических и гуманитарных контактов. Но это сыграет на руку сторонникам расширения НАТО на Украину, Грузию, Молдавию, а затем подтолкнет их к военному решению вопросов отделившихся территорий. Тем более что кроме России (и, возможно, Армении) ни одно из государств – участников СНГ не присоединится к такому признанию. От него отмежуются Китай, Индия, многие другие партнеры России на мировой арене, которые сейчас осуждают позицию ряда стран НАТО в отношении Косово. В дальнейшем вооруженный сепаратизм может вновь поднять голову в самой России и получить прямую поддержку извне, особенно с нарастанием демографических проблем.
Москва вполне обоснованно взяла направление на изменение «правил игры» в отношениях с Западом, сложившихся в 90-х годах прошлого века. Парадигма отношений того периода, когда Москва вольно или невольно шла в фарватере американского курса, когда с ее интересами не считались и ее мнением пренебрегали, абсолютно неприемлема сегодня. Ныне Россия стала значительно сильнее в экономическом и политическом отношении, а позиции США, Евросоюза, Японии ощутимо ослабли, причем в основном по их собственной вине. Проблема российской внешней политики не в том, что она стала более активна и самостоятельна, а в другом. Именно в этой связи тезис о продолжении «разбрасывания камней» вызывает серьезные возражения.
Дело в том, что сказать «нет» совершенно недостаточно. Необходимо сформулировать конструктивную и конкретную альтернативу по главным вопросам. Например, вполне обоснованно выступая против расширения НАТО на Грузию и Украину, России следовало бы четко изложить свое долгосрочное видение отношений как с Североатлантическим альянсом, так с соседними республиками. Ведь столь мощные военные организации и силы, как имеющиеся у России и НАТО, не могут просто мирно соседствовать, не обращая друг на друга внимания и занимаясь только своими делами. Они либо будут всё теснее сотрудничать и интегрироваться, либо станут подозревать другую сторону во враждебных намерениях и готовиться к военному конфликту.
Примером тому служит начавшаяся недавно на Западе кампания, направленная на возрождение «военной угрозы» с востока (указывая на полеты российских стратегических бомбардировщиков, дальние походы и стрельбы корабельных соединений). О том же свидетельствует новомодная концепция российской военной доктрины об «угрозе авиационно-космического нападения» и о развитии потенциала ее отражения, что подразумевает не что иное, как большую войну с НАТО.
России надо решить для себя, рассчитывает ли она на военную конфронтацию или на углубление военного сотрудничества с альянсом, создание крупного общего корпуса быстрого реагирования для совместных миротворческих операций в Европе и за ее пределами, борьбы с терроризмом, пиратством, контрабандой ядерных материалов и ракетных технологий. Все это подразумевает военный союз нового типа и глубокую реформу как НАТО, так и российской военной организации. Ждать инициативы со стороны Запада в нынешних условиях не приходится. Именно Россия, возрождаясь как великая держава, могла бы выдвинуть долгосрочный проект. В таком контексте ее возражения против расширения альянса выглядели бы вполне убедительно, а преодолеть саботаж новых членов НАТО было бы гораздо легче.
Делу немало помогли бы и предложения, направленные на решение проблем соседних республик, гарантии их суверенитета и территориальной целостности, планы экономического и гуманитарного сотрудничества при условии закрепления их военно-политического нейтралитета. И наоборот, разговоры об отделении Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, Крыма и Донбасса сплачивают общественность и элиты соответствующих стран на антироссийской основе, побуждают обратиться к НАТО как единственному гаранту их территориальной целостности.
Другой пример – план США по строительству систем ПРО в Центральной Европе. Москва правильно сказала «нет», поскольку ракетная угроза Ирана пока не материализовалась, а новая база ПРО получит маргинальную возможность перехвата нескольких российских межконтинентальных баллистических ракет. Россия предложила сотрудничество в этой сфере на основе совместного использования радиолокационных станций (РЛС) в Азербайджане и Центра обмена данными о ракетных пусках в Москве. Однако, признав тем самым наличие ракетной угрозы с юга, Россия не может выдвигать радар и центр в качестве альтернативы системе ПРО, для которой нужны дополнительные РЛС и ракеты-перехватчики. Требуется или разветвленная российская система ПРО, или совместная с Соединенными Штатами и НАТО противоракетная оборона, которая тоже подразумевает военный союз нового типа.
В последнее время в российской политике наметилось по обеим темам позитивное продвижение. После саммита альянса в Бухаресте в апреле 2008-го Дмитрий Медведев и Владимир Путин весьма прозрачно высказались в том отношении, что вместо поспешного расширения на восток Североатлантическому блоку следует сосредоточиться на развитии хороших отношений и сотрудничества с Россией – и тогда многие конфликтные ныне вопросы будут выглядеть иначе. По поводу противоракетной обороны Путин сказал, что видит будущее решение в создании совместной системы ПРО России, США и Европы.
Однако для того чтобы эти идеи воспринимались не как полемические декларации, а всерьез, необходимо их продуманное военно-политическое и военно-техническое наполнение. Тут имеется непочатый край работы. Ни государственные ведомства, ни экспертное сообщество России не торопятся с предложениями. Многие просто не воспринимают заявлений руководства всерьез. Другие не желают брать на себя какую-то ответственность и обременять себя дополнительной работой. Третьи намеренно саботируют любые подобные инициативы, рассчитывая на упрочение своих позиций внутри страны в условиях роста конфронтации с Западом, невзирая на огромный ущерб, который, если придерживаться такой линии, может быть причинен национальным интересам и безопасности России.
Курс «бросания камней» авторы статьи советуют продолжать, пока не закончится «переход от эпохи холодной войны к какому-то новому статус-кво» (с. 76). Однако это ожидание может никогда не завершиться. Многополярная международная система, по сравнению с однополярной или биполярной, по своей природе переменчива и динамична; она никогда не придет к какому-то постоянному статус-кво. Конечно, в отличие от европейского «концерта наций» XIX века, нынешняя международная система неизмеримо более сложна и глобальна. Но и при ней в самом выигрышном положении оказывается та держава либо коалиция, которая построит наиболее оптимальные отношения с другими «центрами силы». Это дает большие преимущества для влияния на международную политику в своих интересах.
Выстраивание конструктивных взаимосвязей с другими государствами и союзами предполагает достижение договоренностей по важнейшим вопросам, повышение эффективности прежних многосторонних институтов и создание новых структур. Великая держава должна не разрушать, а активно формировать новую систему международных отношений, пока эту систему не создали другие без должного учета ее интересов. Нельзя поддаваться соблазну «доломать» ослабленные международные институты и договоры, по-быстрому урвать все что можно, следуя плохому примеру США. Ведь как раз такая политика привела Соединенные Штаты к провалу, подорвала их лидерство в мире, несмотря на огромное американское превосходство по экономическому и военному потенциалам, на подавляющее влияние США в международных союзах и организациях.
Запуская новый этап своих экономических и демократических реформ, Россия способна одновременно оказать большое позитивное влияние на формирование новой системы международных отношений. Разумеется, это возможно при том непременном условии, что Москва будет ясно представлять себе, чего хочет. Если она, как и подобает великой державе, станет придерживаться твердых принципов и вести себя последовательно и предсказуемо. Если она сможет адекватно представлять себе окружающий мир и точно соизмерять свои желания и возможности.

Валютный театр: драма без зрителей
© "Россия в глобальной политике". № 2, Март - Апрель 2008
О.В. Буторина – д. э. н., профессор, советник ректора, заведующая кафедрой европейской интеграции МГИМО (У) МИД России, член научно-консультативного совета журнала «Россия в глобальной политике».
Резюме Начавшаяся перестройка международной валютной системы, следствиями которой стали возмущения на финансовом рынке США и снижение курса доллара, безусловно, затронет все страны мира. Любое государство, интегрированное в мировую экономику, будет вынуждено откликаться на разворачивающиеся события.
Международные валютные системы не меняются
без предупреждения; правилом является их эволюция,
а не революция. Резервные валюты начинают свой путь сильными
и дефицитными, а завершают его слабыми и избыточными.
Роберт Манделл. 1993 г.
После того как Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о новом снижении учетной ставки, 27 февраля 2008 года курс американской валюты опустился до рекордной отметки – 1,5 доллара за евро. В последующие дни сползание доллара продолжилось. Всего же за пять лет (с начала 2002-го) доллар потерял по отношению к евро 50 % стоимости. Кризис на ипотечном рынке Соединенных Штатов, разразившийся летом 2007 года, только усугубил тенденцию.
Обесценение главной валюты мира оказывает сильнейшее воздействие на глобальную экономику. На американский доллар приходится почти половина заключаемых в мире внешнеторговых контрактов, 86 % (из общего итога 200 %) мировых валютных рынков, 65 % официальных валютных резервов, 44 % находящихся в обращении международных долговых обязательств и 75 % активов стран – членов ОПЕК. Ценность долларовых сбережений неуклонно снижается. То же происходит с экспортной выручкой после ее конвертирования в национальные валюты. Под угрозой находятся трансграничные инвестиционные проекты.
Нынешнее падение доллара – одно из самых драматичных за всю историю плавающих валютных курсов. По данным Банка международных расчетов в Базеле, эффективный курс американской валюты по отношению к корзине из 34 валют снизился за пять лет на 32 %. Но бывало и хуже: с 1972-го по середину 1978 года – тоже за пять лет эффективный курс доллара упал на 45 %. За следующие пять лет – к 1985-му – он отвоевал утраченное, подорожав в полтора раза. Но устоять валюта США не смогла: к концу 1990 года эффективный курс доллара был на 55 % ниже, чем в 1985-м и в 1971-м.
По логике, ситуация на валютных рынках должна быть предметом пристального внимания стран «Большой семерки», их центральных банков, Международного валютного фонда (МВФ) и других международных финансовых институтов. Однако это не так. Или не совсем так.
НЕМАЯ СЦЕНА
На следующий день после того как евро перешагнул психологический рубеж в 1,5 доллара, председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише выступал в Нидерландском институте передовых исследований. В его речи не было ни одного упоминания о долларе или об обменном курсе евро. Трише лишь сказал, что совет управляющих ЕЦБ переживает в настоящее время период «затворничества». На пресс-конференции, прошедшей 6 марта, глава ЕЦБ крайне неохотно отвечал на вопросы о курсах евро и доллара. Он повторил формулировку, внесенную в текст коммюнике по итогам встречи министров финансов стран «Большой семерки» в Токио (февраль 2008-го), согласно которой «чрезмерные колебания обменных курсов нежелательны с точки зрения задач экономического роста», а «обменные курсы должны соответствовать фундаментальным экономическим показателям». Глава ЕЦБ неоднократно подчеркивал, что нынешний финансовый кризис приобретает глобальный характер и что для борьбы с ним необходима международная солидарность.
27 февраля 2008 года председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке представил Конгрессу полугодовой доклад о денежно-кредитной политике Соединенных Штатов. В многостраничном тексте обменным курсам отводилось лишь два абзаца.
В одном бесстрастно констатировалось снижение курса доллара по отношению к евро, фунту стерлингов, китайскому юаню и еще некоторым валютам. В другом говорилось о том, что обесценение национальной валюты повышает риск инфляции.
Бернанке с удовлетворением отметил, что снижение курса доллара во второй половине 2007-го стимулировало реальный экспорт товаров и услуг из США. Это впервые с 2001 года позволило Соединенным Штатам сократить дефицит по текущим операциям. Глава ФРС подчеркнул, что, несмотря на замедление экономического роста в остальном мире, американский экспорт должен «продолжать расширяться уверенными темпами, содействуя росту внутренней экономической активности и занятости».
Вашингтон, таким образом, не видит никакой другой проблемы в ослаблении доллара, кроме возможного роста инфляции. Однако предпринятое недавно очередное снижение процентных ставок говорит о том, что ФРС озабочена не столько поддержанием стабильных цен, сколько сохранением темпов хозяйственного роста. Этим ФРС заметно отличается от своего европейского визави.
4 марта член совета управляющих ФРС Фредерик Мишкин, выступая на конференции Национальной ассоциации бизнеса, тоже лишь вскользь коснулся курсовых соотношений. Свой доклад он начал с короткого и емкого заявления: «Экономика США сталкивается с существенными вызовами». По итогам IV квартала ВВП вырос (в пересчете на годовые темпы) всего на 0,6 %. Результаты I квартала, как ожидается, будут не лучше. Главными препятствиями для развития экономики были названы: низкая конъюнктура на рынке недвижимости, сокращение производства и потребления в других секторах экономики, ухудшение ситуации на рынке труда, а также затруднение доступа к заемным средствам для бизнеса и населения вследствие потрясений на финансовых рынках.
Никак не комментирует падение доллара и Международный валютный фонд. На его электронной странице внимательный читатель найдет буквально считанные упоминания об обменных курсах. Самым откровенным из них стало заявление нового директора-распорядителя фонда Доминика Стросс-Кана, сделанное 1 ноября 2007 года. Говоря о назревшей реформе МВФ, он отметил, что в контексте событий на ипотечном рынке США особого внимания требуют вопросы глобальных дисбалансов и их влияния на основные валюты.
Дружное молчание главных участников происходящего имеет рациональное объяснение: глобализация обязывает. Произошедшая в 1990-е всеобщая либерализация финансовых потоков привела к тому, что теперь любое неаккуратно брошенное слово может спровоцировать лавинообразное движение гигантских денежных масс. Новой дестабилизации финансовых рынков никто не хочет, ее хватает и без рукотворных сил.
РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА
За завесой корпоративной этики скрыта куда более серьезная проблема. Удешевление американской валюты – результат не только и не столько кризиса на финансовом рынке Соединенных Штатов. Его причины скапливались годами и теперь привели к структурным несоответствиям в механизме функционирования международной валютной системы.
Нынешняя система плавающих курсов действует с 1976 года. Переход к ней от золотодевизного стандарта, заложенного Бреттон-Вудскими соглашениями (1944), произошел в жесткой форме. В августе 1971-го американское правительство отказалось выполнить обязательства по конвертированию доллара в золото по фиксированной цене. До этого Соединенные Штаты не раз злоупотребляли (особенно из-за войны во Вьетнаме) статусом эмитента главной международной валюты. Многолетняя чрезмерная эмиссия долларов привела к отклонению их рыночной стоимости вниз от зафиксированного соотношения. К 1970 году возникли параллельные рынки золота, а ведущие страны Западной Европы готовили согласованный сброс долларов, который им, однако, не удалось осуществить.
Положение на международных валютных рынках в начале XXI века имеет много общего с ситуацией конца 60-х годов прошлого столетия. Избыток долларов в мировой финансовой системе очевиден. Пользуясь статусом эмитента главной мировой валюты, США долгое время увеличивали денежную массу, чтобы стимулировать рост своей экономики и покрывать дефицит государственного бюджета. Лишние доллары не вызывали соответственного инфляционного давления внутри страны, так как значительная их часть уходила за границу. Банки, предприятия и граждане других стран охотно приобретали американские ценные бумаги и наличные денежные знаки, поскольку те служили лучшим, чем национальные валюты, средством сбережения и вложения.
В начале 1990-х у этого процесса открылось второе дыхание. Крушение СССР и распад советского блока, сопровождавшиеся стремительной либерализацией валютных режимов бывших социалистических стран, резко расширили спрос на американские деньги. Росту спроса на доллары содействовала и политика МВФ, который с подачи Вашингтона активно рекомендовал развивающимся государствам Азии и Латинской Америки жестко фиксировать курсы национальных валют по отношению к доллару. Последнее делало необходимым накопление официальных резервов в долларах.
В 1990-х годах дефицит США по текущим операциям начал угрожающе расти. Со 100 млрд долларов в 1996-м он увеличился до 800 млрд в 2006 году. Этот факт в сочетании с войной в Ираке постоянно усиливал недоверие инвесторов к американской валюте. Не случайно в течение нескольких лет наблюдались устойчивый рост мировых цен на золото, повсеместное удорожание недвижимости, подъем котировок на многие биржевые товары, включая скачок цен на зерно и на продовольствие в целом. Хотя фондовый рынок Соединенных Штатов самый развитой, емкий и ликвидный в мире, с конца 1990-х инвесторы стали усиленно искать замену долларовым активам.
Отличительной особенностью прошлого десятилетия стал быстрый рост мировых валютных резервов. В настоящее время валютные резервы всех стран мира составляют 6,5 трлн долларов (в конце 2001 года – 2 трлн). Причем у развивающихся стран и стран с переходной экономикой их втрое больше, чем у промышленно развитых государств. Крупнейшими держателями являются Китай и Япония. В конце 2007-го валютные резервы Китая перевалили за 1,5 трлн долларов, а Японии – вплотную приблизились к одному триллиону. Международные резервы Банка России в марте 2008 года составили более 480 млрд долларов.
Тому, что развивающиеся страны и государства с переходной экономикой стремительно аккумулировали резервы, способствовал постоянный профицит их баланса по текущим операциям (как правило, вследствие массированного притока иностранных инвестиций). Он же явился зеркальным отражением нараставшего дефицита США. Нынешняя ситуация парадоксальна: крупнейшими резервами обладают государства, валютам которых угрожает не обесценение, а удорожание. Пытаясь удержать национальные денежные единицы от ревальвации, развивающиеся страны фактически проводили валютные интервенции в поддержку доллара, скупая его на внутренних и международных рынках. Это еще раз свидетельствует о качественном изменении позиций доллара в международной валютной системе.
Накопление данных резервов имело и институциональные последствия. Многие страны пересмотрели свое отношение к МВФ: в их глазах роль этой организации как международного кредитора последней инстанции значительно ослабла. Возможности МВФ диктовать развивающимся государствам правила их экономической политики тоже сократились. А регулированием курсов основных мировых валют фонд никогда не занимался.
БУДЕТ ЛИ КУЛЬМИНАЦИЯ?
Рубикон в новейшем развитии международной валютной системы был пройден, как видно теперь, в 1997–2000 годах. Валютно-финансовый кризис в Юго-Восточной Азии и в России в период с 1997 по 1998-й привел, с одной стороны, к повышению курса доллара, а с другой – положил начало процессу валютной эмансипации стран с нарождающимися рынками. Введение в 1999 году евро окончательно подвело черту под эпохой единовластия доллара. Начался болезненный переход к многополюсной валютной системе. Как она будет выглядеть, сказать пока трудно. Транзит идет медленно. Но остановить его уже нельзя.
Судя по всему, Вашингтон ни морально, ни технически не готов к надвигающемуся изменению роли доллара в мировой экономике. Игнорирование Федеральной резервной системой вопросов обменного курса означает, что в Соединенных Штатах мало кто задумывается о переходе к новой, диверсифицированной системе международных валютных отношений, которая при опоре на доллар подразумевала бы активные роли других валют.
Монопольное положение доллара в международной валютной системе начало размываться. Признаки диверсификации наблюдаются как в государственной политике (режимы валютных курсов и золотовалютные резервы), так и в поведении мировых валютных рынков.
С 90-х годов прошлого столетия отношение центральных банков к формированию валютных резервов стало меняться. Если раньше они покупали только самые надежные государственные ценные бумаги, то теперь их внимание привлекают и некоторые другие активы. В 2005-м на ценные бумаги казначейства приходилось 73 % средств, вложенных иностранными центробанками в ценные бумаги США. В 1989 году эта доля была заметно выше – 95 %. Другими словами, центральные банки, пусть пока в ограниченной степени, перенимают практики инвестиционных фондов, для которых надежность и прибыльность портфеля – взаимодополняющие факторы.
В текущем десятилетии на этот процесс наслоились еще два тренда: дальнейшая диверсификация резервов по видам активов и появление нового института вкладчиков. Теперь центробанки перестают быть монопольными распорядителями инвалютных государственных резервов. В ряде стран созданы фонды национального благосостояния (ФНБ), которые на начало 2007-го аккумулировали 1,7 трлн долларов. В странах, богатых сырьевыми ресурсами, такие фонды создаются, чтобы снизить зависимость государственных финансов от колебаний мировых цен (как правило, на нефть) и сформировать резерв для будущих поколений на случай исчерпания месторождений. Так поступают государства Персидского залива, Норвегия, Россия. В России фонд будущих поколений будет ориентирован исключительно на зарубежные корпоративные ценные бумаги.
ФНБ проводят более активную политику и располагают бЧльшим полем для маневра, нежели центральные банки. Это же касается и валютного состава средств. Так, в России средства резервного фонда будут инвестированы в доллары и в евро (по 45 %) и в фунты стерлингов (10 %). Данные фонды могут существенно влиять на конъюнктуру мировых финансовых рынков, в том числе на спрос на те или иные валюты. В дальнейшем их роль только усилится. Одно-временно фонды будут активно работать над прибыльностью вложений, что в условиях дешевеющего доллара сократит спрос на него.
Не случайно в конце 2007 – начале 2008 года интерес Международного валютного фонда к ФНБ заметно повысился. МВФ настойчиво рекомендовал соответствующим странам поддерживать диалог для разработки наилучших методов управления активами, которые отвечали бы целям глобальной финансовой стабильности. Содержание этого посыла не нуждается в комментариях.
В конце 1990-х (после кризисов 1997–1998 годов) изменилась «мода» на режимы валютных курсов. Валютные коридоры не оправдали себя: замкнутые в них валюты стали легкой добычей спекулянтов. Поэтому сейчас большинство государств (не считая «карликовых») практикуют жесткую фиксацию курсов либо плавание. Напомним, что от режима валютного курса зависят объем и структура валютных резервов той или иной страны. Резервы, естественно, должны накапливаться в той валюте, к которой привязана местная денежная единица.
Привлекательность плавающих курсов объясняется повсеместной борьбой правительств с инфляцией, которая происходит на фоне деформировавшихся монетаристских закономерностей. До 1990-х правительствам, чтобы сдержать рост цен, было достаточно добросовестно контролировать объем денежной массы. Сейчас в большинстве стран не прослеживается сколько-нибудь надежной зависимости между динамикой денежной массы и инфляцией. Во многих случаях инфляция остается низкой при быстром росте денег в обращении и наоборот. Поэтому все больше государств переходят к непосредственному таргетированию инфляции (когда устанавливается целевой показатель роста цен на год либо на несколько лет). Но плавающие курсы предполагают меньшую зависимость денежных властей от объема накопленных резервов. Потребность в крупных интервенциях в иностранной валюте (которой раньше почти всегда был доллар США) уменьшается.
Постепенно набирает силу тенденция к диверсификации мировых валютных рынков за счет валют, которые в XX веке не играли заметной роли в мировой торговле. С 2001 по 2007 год доля доллара в конверсионных сделках на мировых валютных рынках снизилась с 90,3 % до 86,3 %. За это время доля австралийского доллара увеличилась в полтора раза – с 4,4 % до 6,7 %. Квота новозеландского доллара выросла втрое – с 0,6 % до 1,9 %. В полтора раза расширили свое присутствие норвежская крона, мексиканский песо и южнокорейская вона. Доля российского рубля увеличилась с 0,4 % до 0,8 %. Начав с нуля, китайский юань отвоевал за шесть лет 0,5 % мирового валютного рынка. При этом доля евро в течение указанного периода колебалась вокруг 37 %, доля иены снизилась с 22,7 % до 16,5 %, а доля английского фунта находилась в пределах от 13 % до 17 %.
Центральный вопрос ближайшего будущего международной валютной системы: как она будет преодолевать накопившиеся диспропорции? Будет ли доллар дешеветь плавно и предсказуемо, или процесс пойдет скачками? Резкое обесценение доллара вызвало бы отток средств с американского фондового рынка, что самым неблагоприятным образом сказалось бы на экономической ситуации в Соединенных Штатах. Ввиду высокого уровня зависимости Европы и других регионов мира от экономики США, в подобном сценарии не заинтересован никто.
СПАСТИ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ
Ответ на поставленный вопрос зависит от того, насколько мировое сообщество хочет и может воздействовать на динамику доллара, особенно в случае его бесконтрольного падения.
В последней четверти прошлого столетия мировые валютные рынки пережили глубокую метаморфозу. Еще в 1970-х они в основном обслуживали мировую торговлю товарами, услугами и фондовыми активами. Тогда ежедневный оборот сделок на мировых валютных рынках примерно равнялся производимому в день мировому ВВП. Но уже в конце 1980-х годов ежедневный объем валютных операций в мире в 7 раз превышал дневной ВВП и в 50 раз – дневной оборот мировых товарных рынков. Иначе говоря, валютные рынки превратились в гигантский и самостоятельный сегмент мировой экономики, действующий по собственным законам.
В 2007-м ежедневный оборот мировых валютных рынков достиг исторического максимума и равнялся 3,2 трлн долларов в день, в том числе 1 трлн составляли сделки спот (с немедленной оплатой) и 1,7 трлн – валютные свопы. По сравнению с предыдущим показателем 2004 года общий объем торгов вырос в постоянных ценах на 64,5 %. На протяжении 18 лет – с 1989 по 2007-й – средний темп прироста мировых валютных рынков (в текущих ценах) был равен 9,8 % в год, что почти вдвое превышало аналогичный показатель для мирового ВВП. Теперь ежедневный оборот мировых валютных рынков в 16 раз больше производимого в день мирового ВВП.
Сказанное означает, что проведение результативных интервенций в поддержку одной из ключевых мировых валют практически невозможно. Чтобы привести в равновесие столь масштабный рынок, потребовались бы колоссальные валютные резервы. В конце февраля 2008 года все официальные валютные резервы Соединенных Штатов составляли 74 млрд долларов, а Европейской системы центральных банков – около 350 млрд евро.
Особенность текущей ситуации состоит в том, что обесценивается валюта, в которой хранятся две третьих официальных резервов. Для поддержания курса доллара центральным банкам следовало бы выводить на рынок ценные бумаги, номинированные в евро, британских фунтах, иенах и других валютах. Однако их запасы довольно скромны. Одновременно Федеральной резервной системе следовало бы скупать доллары США и продавать имеющиеся в ее запасах евро и иены. Возросшая долларовая масса потребовала бы стерилизации, но провести ее при падающем долларе крайне сложно.
Помимо интервенций воздействовать на обменный курс можно за счет процентных ставок. При наличии политической воли ведущие страны мира могли бы заключить соглашение о совместных действиях в целях поддержки доллара. В таком случае ставки в Соединенных Штатах должны были бы быть высокими, а в странах – членах Европейского союза и Японии – низкими. Так же, как и соглашение Плазы, подписанное «Большой семеркой» в 1978-м для противодействия росту курса доллара, эту договоренность следовало бы держать в строгой тайне. Здесь молчание денежных властей оправданно и необходимо.
Однако сейчас возможность координации действий США, ЕС и Японии в пользу доллара представляется маргинальной. Главные усилия Соединенных Штатов направлены на то, чтобы проскочить надвигающийся спад экономики. Это особенно важно в преддверии президентских выборов. Европейский центральный банк не будет снижать ставку рефинансирования из-за усилившегося инфляционного давления. Ставки в Японии и без того низки. Отрицательное отношение к подобной идее прозвучало, в частности, в речи заместителя председателя ФРС Доналда Коха, произнесенной на международном банковском симпозиуме в Париже 7 марта 2008 года.
Таким образом, с одной стороны, у ведущих государств мира нет возможности радикально повлиять на курс доллара. С другой – его постепенное обесценение является для них наименьшим из зол. Вашингтон вполне готов променять ослабление доллара и его мировых позиций в будущем на рост экспорта и избавление от рецессии сейчас. Надо иметь в виду, что в США позитивное влияние дешевеющей валюты на торговый баланс оказывается меньшим, чем в других странах мира. Обычно обесценение национальных денег не только стимулирует экспорт, но и сдерживает импорт (он становится дороже для местных компаний). Но в Соединенных Штатах более 80 % импортных контрактов традиционно заключается в долларах. Поэтому теоретически доллару предстоит более длительное удешевление, чем другим валютам в аналогичной ситуации.
Еврозоне придется смириться с сокращением своего экспорта вследствие укрепляющегося евро. Эта потеря тяжела, но не критична. Резкий рост мировых цен на нефть оказывает на Евросоюз мощное инфляционное давление, а так как нефтяные контракты заключаются в долларах, дорогой евро отчасти амортизирует удар. Кроме того, прогнозы экономического роста на 2008 год во многих странах Европейского союза были скорректированы в сторону понижения. В этой ситуации и Брюссель, и Франкфурт предпочтут дешевеющий доллар тискам стагфляции.
Можно с уверенностью утверждать, что ЕЦБ не будет проводить валютные интервенции, продавая евро и скупая доллары (тем более без участия американцев). Руководители Европейского центрального банка многократно повторяли, что не собираются стимулировать международное использование евро. Согласно Уставу, у ЕЦБ только одна цель – поддерживать стабильность цен. А каждый евро до своего появления за рубежом должен пройти по внутренним каналам денежного обращения. В 2007-м денежная масса (агрегат М3) выросла в зоне евро почти на 12 % вместо запланированных 4,5 %.
Итак, со снижением курса доллара никто бороться не будет. Остается выяснить, кто заплатит за корректировку курсов.
РОЛИ ИСПОЛНЯЛИ…
19 февраля 2008 года Доминик Стросс-Кан, выступая в Дели, призвал промышленно развитые страны и страны с нарождающимися рынками вместе противостоять начавшемуся спаду в мировой экономике. По его словам, «макроэкономические последствия кризиса на финансовом рынке будут серьезными, и ни один регион не сможет выйти из него полностью невредимым». Развивающимся странам напомнили, что их экономический рост стал возможен не только благодаря собственным усилиям, но и благодаря интеграции в мировую экономику. Поэтому данным регионам следует поддержать рост мировой экономики и быть готовыми к либерализации денежно-кредитной политики (то есть к снижению ставок рефинансирования) и введению налоговых послаблений.
Той же логики придерживаются ФРС, ЕЦБ и «Большая семерка». На февральской встрече министров финансов G7 странам Азии, в первую очередь Китаю, в который раз советовали перейти на более гибкие валютные курсы, а именно провести ревальвацию. Другими словами, Запад призывает успешно развивающиеся страны руководствоваться при проведении экономической политики не только национальными интересами, но и интересами всей мировой экономики (читай: Соединенных Штатов).
Связь между ситуацией в США и в странах с нарождающимися рынками действительно существует. В 1970-х и 1980-х неразвитость и нестабильность финансовых систем развивающихся стран и стран с переходной экономикой конвертировались в дополнительную мощь американской финансовой системы. Теперь же высокие темпы роста и оздоровление финансовых систем в этих регионах конвертируются в турбулентность на финансовых рынках Соединенных Штатов.
В России последствия американских финансовых проблем оцениваются по-разному. Одни эксперты полагают, что неразвитой и недостаточно ликвидный национальный финансовый рынок помешает распространению кризиса. Другие же уверены, что кризис в США будет иметь самые разнообразные и неприятные последствия. Чтобы внести дополнительную ясность, попытаюсь классифицировать вероятные издержки и разложить их по регионам.
Для Соединенных Штатов самый большой риск возникнет при резком падении доллара, которое может вызвать отток средств из американских ценных бумаг, особенно корпоративных. Обвал на фондовом рынке стал бы для страны настоящей бедой. Но надо понимать, что в этой области у США есть действенные средства защиты. Главное из них – высокая степень развития американского фондового рынка. По капитализации всего рынка ценных бумаг Соединенные Штаты в два с половиной раза превосходят зону евро, а по капитализации рынка корпоративных бумаг – в десять раз. Это делает фондовый рынок США весьма устойчивым и ликвидным. Операции на нем происходят быстро и с меньшими издержками, чем на других рынках. Все это превращает долларовые активы в излюбленное средство вложения зарубежных инвесторов. Причем в ближайшие десять и, вероятно, двадцать лет по своим качественным характеристикам европейский рынок не догонит американский.
Главная проблема, с которой столкнется зона евро в связи с падением доллара, – ухудшение торгового баланса. Точнее, возможность сокращения профицита торгового баланса и баланса по текущим операциям. Но, как мы видели, это влияние далеко не однозначно. Его тоже не следует переоценивать: в 2007 году активное сальдо торгового баланса зоны евро превысило 60 млрд евро (по сравнению с 23 млрд в 2006-м), а чистый приток портфельных инвестиций составил более 250 млрд евро. Удешевление доллара и низкие ставки в Соединенных Штатах будут только способствовать росту этого показателя.
Потери от удешевления доллара несут и впредь будут нести владельцы активов и счетов в американской валюте, а также держатели наличных денежных знаков. По данным Банка международных расчетов, в сентябре 2007 года в банках США находились средства в долларах на сумму 3,4 трлн, принятые от иностранных вкладчиков. Долларовые пассивы банков за пределами Соединенных Штатов составляли 11,5 трлн долларов. Итого получается 14,9 трлн долларов. Таков объем долларовых вкладов, сделанных нерезидентами США. Снижение курса доллара, например, на 10 % означает потерю ими суммы в 1,5 триллиона, что сравнимо с ВВП Испании.
Валютные резервы всех стран мира оцениваются в 6,5 трлн долларов. Из них 4,2 трлн хранятся в американской валюте. При десятипроцентом падении ее курса Китай ориентировочно потеряет 100 млрд долларов, Япония – около 70 млрд, Россия – 32 млрд (или около 3 % ВВП). Если на руках у россиян находится, как это следует из оценок Банка России, около 30 млрд долларов, то в каждом домохозяйстве в среднем есть по 600 долларов. Сокращение этой суммы на 10 % означает фактическую утрату примерно 14 тыс. рублей.
С серьезными трудностями уже сейчас сталкиваются российские производители, ориентированные на экспорт товаров, которые продаются за доллары и цены на которые не растут. Например, по оценкам экспертов, текущий год будет крайне сложным для предприятий лесной промышленности. Их экспортная выручка в рублевом эквиваленте сократится, что ухудшит финансовые показатели большинства предприятий и, вероятно, поставит на грань разорения мелкие компании в отдаленных регионах.
На финансовых рынках самым опасным следствием американского кризиса может быть резкое сужение денежных потоков. Данный эффект наблюдался в зоне евро осенью 2007-го после первой волны неурядиц на американском рынке ипотечного кредитования. Тогда Европейский центральный банк провел несколько внеочередных тендеров на предоставление заемных средств банковскому сообществу. Аналогичные меры им были приняты в начале 2008 года. Проблема состоит в том, что банки, опасаясь череды неплатежей, перестают кредитовать друг друга. Межбанковский рынок замирает, нарушается привычное движение средств. Одновременно деформируется связь между ставками центрального банка и ставками денежного рынка, что сокращает возможности денежных властей влиять на экономическую конъюнктуру.
По этому поводу ЕЦБ недавно подал финансовому сообществу осторожный, но крайне важный сигнал. Член дирекции банка Хосе Мануэль Гонсалес-Парамо, выступая 29 февраля в университете города Овьедо, отметил, что, несмотря на все усилия, «ЕЦБ и другие центральные банки могут смягчить некоторые проблемы ликвидности, возникающие у кредитных учреждений. Однако не следует ждать, что они разрешат проблемы кредитных рынков и восстановят эффективное функционирование денежного рынка в долгосрочном периоде».
Данные проблемы, по его убеждению, должны решаться самими участниками рынка. Для этого им следует восстановить взаимное доверие и сделать прозрачной информацию о своей деятельности. В том же духе была выдержана произнесенная двумя днями ранее речь члена дирекции ФРС Фредерика Мишкина, в которой он указал на необходимость повышать экономическую грамотность американского населения.
Если центральные банки Соединенных Штатов и еврозоны открыто признаЂют, что их возможности решить проблемы национальных финансовых систем ограниченны, то вывод для третьих стран напрашивается сам собой. Проблемы, которые могут у них возникнуть, предстоит решать собственными силами.
Начавшаяся перестройка международной валютной системы, проявлениями которой стали возмущения на финансовом рынке США и снижение курса доллара, безусловно, затронет все страны мира. Всякое государство, интегрированное в мировую экономику, будет вынуждено реагировать на разворачивающиеся события. Безмятежно наблюдать «битву гигантов» смогут разве что вечнозеленые острова где-нибудь в Полинезии. Остальным лучше бы подняться на сцену и стать активными действующими лицами, чем отсиживаться в зрительном зале: билеты на представление могут оказаться непомерно дорогими.
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОССИИ
Первое. Ввиду общего долгосрочного осложнения обстановки на мировых валютных рынках денежным властям России, банкам, юридическим и физическим лицам целесообразно принять защитные меры, которые позволили бы ограничить негативное воздействие внешних потрясений на экономическую и социальную ситуацию в стране.
Второе. Банку России необходимо продолжить линию на диверсификацию официальных золотовалютных резервов страны, ускорив ее темп. Полезно не только не наращивать резервы в евро и других валютах, но и постепенно переводить имеющиеся долларовые пассивы в другие пассивы. Следует усилить внимание к золоту, фунту стерлингов и швейцарскому франку.
Третье. Денежным и экономическим властям России следует в кратчайшие сроки принять все меры для окончательного вытеснения доллара США из внутреннего оборота.
Необходимо развернуть широкую кампанию как среди предприятий, так и среди населения с целью перевода расчетов, депозитов и наличных сбережений в национальную валюту. Нужно также ограничить выдачу ипотечных кредитов в долларах, так как при их удешевлении это приведет к крупным потерям банков и быстрому распространению кризиса неплатежей.
Четвертое. Коммерческим банкам, работающим с населением, следует понизить привлекательность долларовых депозитов, особенно долгосрочных, за счет снижения ставок и ужесточения других условий вкладов, одновременно повышая привлекательность вкладов в российских рублях. В обслуживании корпоративных клиентов полезно сократить объемы кредитования в долларах США, а также шире применять инструменты страхования от валютных рисков.
Пятое. Правительству и денежным властям России совместно с ассоциациями участников рынка целесообразно разработать план антикризисных мероприятий на случай возникновения крупного возмущения на мировых валютных и финансовых рынках для поддержания стабильности финансовой системы России.
Шестое. Денежным властям России стоит ускорить внедрение системы скоростных валовых расчетов в рублях, а также совместно с руководящими органами СНГ и центральными банками стран Содружества внедрить механизмы совместных расчетов в национальных валютах или в расчетных единицах, отличных от доллара США. Полезно предусмотреть коллективные механизмы защиты стран-участниц от потенциальных пертурбаций на мировых рынках и разработать меры в целях сохранения устойчивости их финансовых систем.
Седьмое. России целесообразно вступить в переговоры с Китаем и другими развивающимися государствами с целью координации действий по управлению официальными резервами и минимизации негативных для их экономики последствий финансового кризиса в Соединенных Штатах.

«Нам грозит более опасный период, чем холодная война»
© "Россия в глобальной политике". № 1, Январь - Февраль 2008
По обе стороны Атлантики стало модно говорить о холодной войне. И хотя перемены в мире очевидны, соблазн вернуться в привычную конфронтационную обстановку, когда все было понятно, велик. Известный обозреватель Джонатан Пауэр, который на протяжении нескольких десятилетий освещает мировые события для ведущих западных изданий, обратился к двум участникам политических битв эпохи идеологического противостояния. Академик РАН Георгий Арбатов и профессор политологии Збигнев Бжезинский – признанные эксперты в области международных отношений. И тот и другой знают предмет не понаслышке: и Арбатов, и Бжезинский многие годы служили советниками руководителей своих стран. Оба интервью впервые вышли в свет в британском журнале Prospect в декабре 2007 года.
Резюме Во времена холодной войны нас тревожило, что противник может сделать что-то плохое. Сегодня мы должны опасаться того, что стороны не делают ничего хорошего. Они рассчитывают, что все будет идти так, как идет сегодня. Но ситуация постоянно меняется.
– Если бы вам пришлось подводить жизненные итоги в 55 лет, были бы вы в таком же мире с собой и со своей совестью, в каком, по всей видимости, пребываете ныне?
– Конечно, я критично относился ко многим сторонам нашего образа жизни, хотя говорить открыто об этом тогда было рискованно. Но, насколько помню, я и в то время не шел на какие-то компромиссы по принципиальным вопросам. Возможно, я был введен в заблуждение теми идеологическими глупостями, которые мы все время друг другу говорили. Я и сегодня считаю, что, хотя мы кое в чем и ошибались, но зачинщиками холодной войны все же были американцы. Полагаю, что ее началом нужно считать атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. В своих мемуарах американский военный секретарь Генри Стимсон честно признал, что это было сделано для того, чтобы преподать русским урок и показать, что теперь придется играть по новым правилам.
– Вам не кажется, что Сталин планировал конфронтацию с Западом после победы во Второй мировой войне?
– Нет. На встречах со Сталиным коммунистические лидеры Франции и Италии, Морис Торез и Пальмиро Тольятти, например, поднимали вопрос о том, не настал ли подходящий момент для начала революций в этих странах, учитывая возникшую революционную ситуацию. Однако Сталин ответил: «Ни при каких обстоятельствах. Запад этого не потерпит». А еще одной войны мы да и мир в целом не выдержали бы.
– Но он ведь был сторонником марксистской идеологии экспансионизма?!
– Да, Сталин считал, что победа революции неизбежна. Но после пережитой нами страшной войны он боялся новых опасных начинаний. Он предпочитал выжидать и уповать на силу убеждения, а также на то, что противоречия капиталистического строя и новые экономические потрясения сыграют свою роль. Во многих вопросах он был наивен и невежествен. Наши общественные науки пребывали в то время в плачевном состоянии — не потому, что у нас не было умных людей, а потому, что было очень мало места для творческого мышления.
– В своей книге воспоминаний вы задаете вопрос в связи с советской интервенцией в Анголе и Афганистане: «Почему во второй половине семидесятых годов мы в глазах всего мира стали агрессивной, экспансионистской державой?» Но вы на него так и не ответили.
– Я предполагаю, что в тот период военно-промышленный комплекс настолько усилился, что политические лидеры не могли долж-ным образом его контролировать. Но при этом нуждались в нем, чтобы оставаться у власти. Он был их главным инструментом власти, и поэтому они всячески избегали отчуждения во взаимоотношениях с военными. Страна управлялась не одним человеком. Вся система была насквозь пронизана военно-промышленным комплексом.
– Почему Горбачёв потерпел крах? Почему он не воспользовался своей колоссальной властью, чтобы ускорить продвижение реформ?
– Горбачёв боялся идти вперед, поскольку не был уверен, что страна и общественное мнение созрели для того, чтобы понять и принять реформы. Жаль, потому что я считаю его лучшим из всех наших лидеров, даже лучше Андропова.
– Тем не менее вы довольно критично высказываетесь о нем в своей книге.
– Только потому, что он не воспользовался своими возможностями и допустил распад Советского Союза. Три пьяных человека устроили заговор в Беловежской Пуще: Борис Ельцин, Леонид Кравчук из Украины и Станислав Шушкевич из Белоруссии. Об этой встрече хорошо известно, но мало кто знает, что все трое были пьяны.
– Откуда вы это знаете?
– Мне об этом рассказал один из присутствовавших там людей.
– Вы можете назвать имя этого человека?
– Нет.
– А каково влияние военно-промышленного комплекса в современной России? Удалось ли взять его под контроль?
– Экономические трудности в постсоветской России заставили сократить военные расходы до такой степени, что это нанесло ущерб нашей безопасности. Но теперь, похоже, наш новый лидер Путин снова вынужден считаться с военно-промышленным комплексом. Во всяком случае, военные назначаются на многие ответственные посты. Не знаю, в какой мере он может их контролировать. В целом им тоже приходится думать о выживании в военно-промышленном комплексе, а не об углублении мирного революционного процесса. Однажды в интервью одному американскому журналу я сказал (и эти слова были весьма популярны в то время), что мы сделаем для вас очень нехорошую вещь – лишим вас врага. И мы это сделали. Многим в Вашингтоне теперь непросто, как непросто и нам. Весьма трудно оправдывать непомерные военные расходы, когда в стране столько других нужд и к тому же нет реальной опасной угрозы извне. Это большая проблема. Не знаю как Путин и его окружение, но, глядя со стороны, можно сказать: он опасается упреков в том, что не заботится о нуждах военных. Коммунисты и Жириновский не преминули бы обвинить его в этом. Сейчас очень много развелось авантюристов. Путин могуществен, он опирается на широкую поддержку избирателей, но никто не знает, что будет после него. Это важно. Бюрократы тревожатся в первую очередь о своем будущем.
– Упустил ли Запад возможность перетянуть Россию на свою сторону?
– Вы хотите сказать, воспользовались ли обе стороны окончанием холодной войны? Полагаю, что нет. Соединенные Штаты были ослеплены тем, что, оказавшись единственной сверхдержавой, пустились в разные авантюры. Не все их инициативы были плохи. В Кувейте все было сделано правильно, но военная кампания в Ираке оказалась слабо обоснованна и подготовлена. Разведывательные службы неудовлетворительно выполнили свою работу, да и сама кампания была проведена некачественно. Поэтому теперь США оказались втянуты в тяжелую войну с очень сомнительным исходом. Ирак может так измотать Америку, что она уйдет из этой страны, как в свое время случилось во Вьетнаме. Мы тоже из-за множества внутриполитических проблем не использовали шанс, полученный после окончания холодной войны. Наши лидеры были удовлетворены тем, что Россию приняли в клуб восьми индустриально развитых стран. Не считаю, что новая холодная война неминуема, но мы вступили в эпоху многополярных международных отношений со множеством «центров силы». Подобная ситуация существовала перед Первой мировой войной. Это непростая политика: она требует больших усилий и тщательно обдуманных шагов. Вряд ли обе стороны к этому готовы. Мы можем шаг за шагом скатываться в трясину противостояния.
– Почему ситуация так резко ухудшилась? Я имею в виду решения в области контроля над вооружениями и вооруженными силами, а также обострение отношений с Великобританией.
– Главное в том, что прекратились переговоры. Стороны теряют интерес друг к другу. Виноваты обе стороны.
– Если бы вы сегодня были президентом России, что бы вы предприняли для предотвращения дальнейшего ухудшения отношений?
– Я бы начал серьезные переговоры. Организовал бы две-три встречи на высшем уровне, чтобы обсудить новую международную обстановку, возможные линии поведения и ответственность ведущих держав. Затем следовало бы со всей старательностью разработать повестку дня таких переговоров. Мы постоянно нуждаемся в переговорах, но к ним нужно все время готовиться, и притом весьма тщательно. Встречу в Кеннебанкпорте нельзя назвать переговорами. Я помню, как в прошлом организовывались подобные саммиты. У всех организаций, включая и мой аппарат, дел было по горло. Мы работали, работали и работали не покладая рук. Теперь же стороны потеряли всякий интерес. Российские правящие круги утратили интерес к консультациям с научным сообществом и пренебрегают мнением авторитетных специалистов. Боюсь, что нечто похожее происходит и в США. Встречи на высшем уровне превратились в шоу: лидеры жмут друг другу руки, улыбаются перед телекамерами, но никакие серьезные переговоры не ведутся.
Создается впечатление, что сейчас никто ни в чем не заинтересован. Я понятия не имею, откуда правители получают информацию и где черпают свои идеи. Путин создал наименее прозрачную на моей памяти систему государственного управления. Даже во времена Сталина мы знали, что, скажем, Маленков, или Суслов, или Жданов хотели сделать то-то либо то-то, после чего это становилось все более очевидным и заметным.
Мне ничего не известно об окружении Путина. Что думают эти люди? Что можно сказать о том или ином члене президент-ской команды? Они не выражают себя как общественные, публичные деятели.
Путин сделал много хорошего – восстановил систему государственного управления, например. Но в то же время ни в одной своей речи он не говорит о перспективах. К чему мы стремимся? Какой курс мы хотим осуществлять во внутренней и внешней политике? Это бы намного эффективнее сплотило страну, чем «вертикаль власти».
Интеллектуальный уровень бюрократов, чиновничества заметно снижается. Это началось при Ельцине: в воскресенье кто-то подсказывает ему имя, а в понедельник мы узнаём о новом премьере. Мы ничего о них не знаем, не знаем их взглядов.
– Вас не беспокоит, что Запад опять начнет считать Россию военным противником, если развитие ситуации продолжится в этом направлении?
– Все зависит от конкретных дел. Если руководители страны будут вести себя, как безумцы, это возможно. Но не думаю, что мы на такое способны – в первую очередь по экономическим соображениям. По дороге сюда вы видели богатые пригороды с фешенебельными особняками. Это главная цель бюрократии. Чинуши не заинтересованы в напряженной работе, военной конфронтации или мировой революции. В любой из этих их особняков можно направить судебных приставов и поинтересоваться источниками сверхдоходов. Все это грязные деньги, чиновники не получают столь высоких зарплат, на которые можно было бы купить такие особняки.
– Путин считает, что США воспользовались временной слабостью России, расширив НАТО, распространив свое влияние на южные республики бывшего Советского Союза и т. д. Теперь он наносит ответный удар, отменяя ранее заключенные договоры и угрожая перенацелить ракеты на Европу.
– Меня это не слишком тревожит. Я больше обеспокоен тем, чтó происходит внутри России. А что представляет собой новое поколение? Что у молодежи на уме? Иногда складывается впечатление, что они ничего не знают о прошлом, и похоже, что их не интересует будущее. На первом плане у них сиюминутные материальные потребности. Завтра эти молодые люди станут играть важную роль. Другой повод для беспокойства – это экономика. Мы так сильно зависим от цен на нефть, что, если они упадут, я не знаю, сможет ли что предпринять Путин. Подобно наркоману, мы сидим на игле высоких цен на нефть.
– Я решил навестить вас сегодня, потому что, похоже, начинается новая опасная фаза противостояния. Призраки и тени прошлого не дают нам покоя.
– Люди размышляют об этом, говорят об этом. Во времена Советского Союза мы были чрезмерно идеологизированы, но жить вообще без идеологии невозможно. Нам нужно прекратить глупые разговоры о том, что у России есть свой, уникальный путь. Это чепуха. Политическое руководство должно думать о том, куда нынешняя ситуация выведет страну, как решить существующие проблемы и к чему они приведут страну.
– Почему так сильно испортились отношения с Великобританией?
– В отсутствие реальных проблем политики искусственно раздувают надуманные. Главными злодеями становятся российские граждане, которые в данный момент находятся на территории России, но когда-то находились в Великобритании.
– Создается ли «дымовая завеса», чтобы защитить убийц Литвиненко?
– Это слишком далеко от меня и моей работы, и поэтому я плохо представляю себе реальное положение вещей. Возможно, создается «дымовая завеса», а быть может, речь идет об элементарной глупости. Я не знаю, что за люди окружают Путина. Я больше всего опасаюсь как раз таких инцидентов, таких мелочей, которые не были заранее спланированы, но могут иметь очень плохие последствия. Мы не выстроили хорошие, на прочной основе, российско-британские отношения, хотя раньше они существовали.
– Обеспокоены ли вы тем, что руководство России плохо контролирует ядерный арсенал страны?
– У нас происходило множество техногенных катастроф, но нет оснований беспокоиться именно по вопросу о контроле над ядерными вооружениями.
– Но достаточно ли благоприятна политическая обстановка для того, чтобы говорить о более решительном сокращении ядерных вооружений?
– Обе стороны потеряли врага. Они не видят друг в друге непосредственной угрозы. И, похоже, не понимают, что эта угроза может снова возникнуть в довольно-таки короткое время. Уже одно только наличие большого количества вооружений повышает вероятность ухудшения отношений и делает ситуацию менее стабильной.
Если у вас накоплено так много ядерных вооружений, то необходимо сказать, что существует план избавления от них, даже если вы пока не можете назвать точную дату. В противном случае другие страны скажут: если у вас есть эти вооружения, почему мы не можем их иметь? В настоящее время обладание ядерным оружием становится признаком великой державы. Какие враги угрожают без-опасности Северной Кореи? Их нет, но эта страна хочет быть великой и могущественной.
Во времена холодной войны нас тревожило, что противник может сделать что-то плохое. Сегодня мы должны опасаться того, что стороны не делают ничего хорошего. Они рассчитывают, что все будет идти так, как идет сегодня. Но ситуация постоянно меняется. Можно ожидать появления новых диктаторов, которые пожелают обзавестись ядерным оружием.
США и Россия в равной степени виновны в том, что ядерного раз-оружения нет. Честно говоря, Россия действует неправильно в этом вопросе. У нас так много вооружений, что мы могли бы сократить их в одностороннем порядке, показав хороший пример. Мы могли бы демонтировать ракеты и тем самым внушить другим доверие. Тогда американцы вынуждены были бы последовать нашему примеру.
– Кто из американских президентов, по вашему мнению, больше виновен в создании напряженности – Буш или Клинтон?
– Буш, поскольку он применил военную силу.
– Не кажется ли вам, что начинается новая холодная война?
– Нет, но мы можем скатиться к ней. Это будет не идеологическая война, но она окажется хуже предыдущей, потому что мы живем в многополярном мире и даже небольшие государства обладают ядерным оружием или могут стать ядерными. Раньше США и СССР всех держали под контролем, а теперь многие страны мира становятся неуправляемыми. Я не говорю, что это уже свершившийся факт, но мы можем подойти к более опасному периоду, чем холодная война. Впереди маячит опасность. Два года тому назад об этом нельзя было даже помыслить, а теперь можно. Многое будет зависеть от личных качеств будущих лидеров США и России.
– Кого бы вы хотели видеть следующим президентом России?
– У меня нет фаворитов, потому что я не знаю кандидатов.
– А с американской стороны?
– Из Хиллари Клинтон может получиться неплохой президент. Что касается Барака Обамы, то о нем я знаю очень мало.
– Обама недавно сказал, что США «снова должны повести за собой мир».
– Если Обама надеется править миром, став политическим лидером Америки, то он наивный новичок в политике. Даже если он так думает, ему не следует говорить об этом вслух.
– Митт Ромни, ведущий кандидат от Республиканской партии, не так давно заявил, что «угроза радикального ислама так же реальна», как в прошлом была реальна угроза нацистской Германии и Советского Союза. «Последствия пренебрежения вызовом в лице радикальной исламской организации или государства, обладающего ядерным оружием, просто неприемлемы», – сказал он.
– Они нашли потерянного врага! Теперь все можно объяснить и оправдать: военные расходы, военные действия… «Война цивилизаций» – это в большой степени надуманное понятие.
– Продолжится ли все это после Буша?
– Продолжится – и у них, и у нас. Нам придется вести переговоры с разными мусульманскими лидерами, потому что такой сценарий плох как для христианства, так и для ислама. Возможно, нам нужно организовать конференцию с участием Китая, Японии, Малайзии, Индонезии, Египта и представителей христианского мира. Нам нельзя допустить, чтобы новое поколение выросло с этой нездоровой идеей «войны цивилизаций», поскольку так недолго и беду накликать. Если все время внушать эту мысль людям, то война станет реальностью.
У Пакистана уже есть ядерное оружие. Вскоре им, возможно, обзаведется Иран. Расползание ядерных вооружений удастся остановить лишь в том случае, если в мире улучшится политический климат, а это не произойдет до тех пор, пока крупные державы не начнут сокращать свои ядерные арсеналы. Нам нужно подать пример, а затем сказать: зачем вам нужно это оружие? Вы опасаетесь других стран? Если это так, то давайте сядем за стол переговоров и обсудим, как мы можем помочь вам.
– Может ли Россия убедить Иран отказаться от планов создания атомной бомбы?
– Думаю, что совместно с Америкой мы сможем остановить Тегеран и уговорить его не создавать бомбу. В Москве все говорят: «Зачем нам тревожиться и переживать по этому поводу? Ведь у американцев больше причин для беспокойства». Поэтому Америка должна стать инициатором переговоров. Если же все будет идти так, как идет сегодня, появление у Ирана атомной бомбы неизбежно. Но если мы будем вести переговоры и подадим хороший пример, сократив собственные ядерные арсеналы, то этого можно будет избежать. Я лично не знаком с лидерами мусульманских стран и не знаю их психологию, но я уверен, что обладание ядерным оружием делает лидера более авантюрным и надменным.
– Беспокоит ли вас рост военной мощи Китая, как это беспокоит Пентагон?
– Мне не очень нравится военное усиление Китая. Это в большей степени угроза для России, чем для США. Но я не вижу явной, реальной опасности. Китай мирно интегрируется в мировую экономику и делает это весьма успешно. Это государство так долго было лишено достойного места в мировом сообществе! Это наложило отпечаток на психологию китайцев. В настоящее время они заняты реальным возрождением своей страны. В то же время у нас нет гарантий того, что военные однажды не придут к власти в КНР. Это будет плохо для Китая и для его соседей. Важно продолжать переговоры с Пекином. Нам придется строить систему многополярного мира и международных отношений как основу нашей общей безопасности.
– Разделяете ли вы идею Горбачёва о том, что Россия должна стать частью общеевропейского дома?
– Конечно. Россия могла бы внести большой вклад в развитие Европейского союза. Почему она должна находиться в изоляции, как того хотят Польша и Эстония? Нельзя все время жить вчерашним днем. Если бы мы жили только прошлым, никто из нас не пожал бы руку немцу. ЕС должен помочь нам теперь, пусть даже чисто символически, дав понять, что Европа не против присоединения России к Евросоюзу. Если бы Европейский союз сказал о том, что Россия может стать частью единой Европы через одно или два десятилетия, это помогло бы стабилизировать политику России.

Упорядоченная оборона
© "Россия в глобальной политике". № 1, Январь - Февраль 2008
Ричард Беттс – директор Зальцмановского института войны и мира при Колумбийском университете, старший эксперт Совета по международным отношениям. Его последняя книга – Enemies of Intelligence («Враги разведки»). Данная статья опубликована в журнале Foreign Affairs, № 6 (ноябрь – декабрь) за 2007 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
Резюме Сегодня Соединенные Штаты тратят на оборону в реальном исчислении больше, чем когда-либо в истории. При этом отсутствует убедительное обоснование необходимости столь впечатляющей военной мощи. Причина подобного положения в том, что без политических стимулов для обуздания аппетитов правящий класс утратил способность ясно мыслить, когда дело касается оборонной политики. Новая мантра Вашингтона должна звучать так: «Полтриллиона долларов – это больше чем достаточно».
Если бы Рип Ван Винкль (персонаж одноименного рассказа Вашингтона Ирвинга. – Ред.) заснул в бюджетном управлении Пентагона 20 лет назад и проснулся сегодня, то с первого взгляда он решил бы, что ничего не изменилось. В мирное время президент Джордж Буш-младший запросил на нужды Вооруженных сил США 505 млрд долларов в 2008 году – почти столько же в переводе на реальную стоимость доллара, сколько просил президент Рональд Рейган в 1988-м. Рип почесал бы в затылке, обнаружив, что советская империя и сам СССР развалились более 15 лет назад, а Вашингтон тратит на свою военную мощь почти столько же, сколько весь остальной мир, в пять раз превышая суммарные расходы всех своих потенциальных противников. Рип перестал бы вообще что-либо понимать, услышав, что планировщики в Пентагоне тем не менее обеспокоены стратегическим перенапряжением, а кандидаты в президенты наперебой обещают еще больше увеличить военный бюджет и численность войск.
Конечно, нынешняя нагрузка на ресурсы и Вооруженные силы объясняется войнами в Афганистане и Ираке. Но расходы на эти войны не включены в указанную выше «базисную» сумму в полтриллиона долларов. Их покрывает дополнительный запрос еще на 142 млрд долларов, тем самым суммарный военный бюджет-2008 поднимается до колоссальной цифры в 647 млрд долларов. В реальном выражении это на 25 % превышает военный бюджет 1968 года, одобренный в разгар вьетнамской войны, то есть в ходе самого масштабного и кровопролитного конфликта, с которым пришлось столкнуться США. И даже эта цифра не включает в себя еще 46 млрд долларов, расходуемых Управлением внутренней безопасности, чьи функции во многих других странах возлагаются на Министерство обороны.
Что можно было бы ответить на неизбежные вопросы Рипа о происходящем? Указать на то, что все подорожало? Возразить, что при этом военные расходы сегодня составляют меньшую долю ВВП, чем во время холодной войны (4,2 % по сравнению с 5,8 % в 1988-м и 9,4 % в 1968-м)? Но, если говорить начистоту, придется признать, что Вашингтон тратит такую сумму и чувствует себя незащищенным только потому, что политическое руководство страны перестало ясно мыслить в терминах оборонной политики.
В последние годы Соединенные Штаты, проводя политику в области национальной безопасности, действовали скорее инстинктивно, реагируя на устрашающие замыслы противников, чем руководствовались трезвой оценкой тех средств, которые им можно эффективно противопоставить. США столкнулись с совершенно реальными угрозами, и в будущем их ожидают, по-видимому, еще более значительные опасности. Но эти угрозы нельзя предотвратить сегодняшними затратами на самые дорогостоящие компоненты военной мощи.
Между тем политические лидеры Америки утратили способность ответственно устанавливать баланс между принятыми обязательствами и имеющимися ресурсами. Американцы моложе 80 лет вряд ли припомнят, чтобы в мирное время Соединенные Штаты обходились без многочисленной регулярной армии, хотя в первые 150 лет существования республики это являлось нормой. Поэтому ситуация, сложившаяся по окончании холодной войны, не выглядит столь уж необычной. К тому же подрядчики, живущие за счет оборонных заказов, приспособились организовывать политическую поддержку путем распределения субподрядов по максимальному количеству избирательных округов для выборов в Конгресс. А электорат обеих главных политических партий, традиционно выступавший за ограничение расходов, просто испарился, открыв простор своим неумеренным оппонентам.
Два последних президента США в конечном итоге прониклись амбициозными планами переустройства мира в соответствии с американскими ценностями. Однако они не учли всю полноту бремени расходов и последствий, которые повлечет за собой воплощение их грандиозных планов. Результатом явился, прямо скажем, не очень удобный оборонный бюджет: больше, чем необходимо для базовой национальной безопасности, но меньше, чем требуется для повсеместного устранения всех существующих в мире злокозненных правительств и группировок.
Настало время трезво взглянуть на проблему. Единственная внятная причина, которой объясняется увеличение военных расходов – попытка установить добрую и великодушную американскую империю – опасное заблуждение. И все же более умеренная и разумная стратегия национальной безопасности может и должна быть «приобретена» по более низкой цене.
КАК БЫСТРО МЫ ЗАБЫВАЕМ
Кабинетные генералы полагают, что государства ставят перед собой прежде всего внешнеполитические задачи, а затем подчиняют все остальное их выполнению. В жизни все сложнее. Угрозы, возможности и риски, как правило, имеют неопределенный характер, а вот экономические затраты на то, чтобы оказаться максимально подготовленным к тому или иному повороту событий, всегда строго фиксированы. Политические лидеры в демократической стране вынуждены не только нести расходы на оборону, но и следить за тем, чтобы затраты на выполнение обязательств не выходили за рамки имеющихся ресурсов. Учитывая, что в прошлом Вашингтон успешно справлялся с куда более серьезными угрозами, чем сегодня, текущие дебаты о стратегиях и бюджетах только выиграют, если их участники попытаются мыслить в исторической перспективе.
Платежеспособность в том, что касается стратегии, – это уравнение, включающее ряд переменных. Так, в период холодной войны, чтобы правильно сводить баланс обязательств и средств, президенты Соединенных Штатов склонялись к разным решениям. Джон Кеннеди и Рональд Рейган пытались примирить амбициозные планы с ограниченными ресурсами, увеличивая оборонные расходы. Ричард Никсон решал аналогичную задачу прямо противоположным образом: он сократил военные обязательства, прибегнув к перераспределению бремени расходов и дипломатическим перегруппировкам. Дуайт Эйзенхауэр добился сокращения расходов, не изменяя унаследованным обязательствам, поскольку адаптировал стратегию и пошел на повышенный риск (он предпочел защищать НАТО путем принятия доктрины массированного ответного ядерного удара, а не с опорой на многочисленные обычные вооруженные силы).
Сегодняшние сторонники увеличения военных расходов оправдывают свою позицию тем, что нынешняя доля обороны в ВВП значительно ниже показателей времен холодной войны. Это верно, но к делу не относится. Данная аргументация принимает во внимание лишь одну сторону уравнения – расходы, выгадывая на том, что игнорирует необходимость регулировать масштаб обязательств, выбор стратегии и степень риска. В результате из истории делается неверный вывод. А она учит, если ее правильно интерпретировать, что сегодняшним сократившимся угрозам можно было бы противостоять, сохраняя бЧльшую устойчивость и равновесие.
В эпоху холодной войны Вооруженные силы США постоянно готовились к Третьей мировой войне. Военная мощь поддерживалась в расчете на противодействие сверхдержаве, которая располагала 175 армейскими дивизиями, 40 тыс. единиц ядерного оружия и многочисленными союзниками. Но даже на ранних стадиях холодной войны, в атмосфере сильнейшей напряженности и страха, ценности минимизации издержек не были забыты. Расходы на оборону держались в узде за счет ограничений на доходы, строгого соблюдения объемов других государственных расходов и последовательного балансирования бюджета.
Как отмечено в классических исследованиях политологов Гленна Снайдера и Самьюэла Хантингтона о формировании оборонной политики при президентах Гарри Трумэне и Эйзенхауэре, в то время расходы на оборону выделялись по «остаточному принципу»: эти президенты начинали с налоговых доходов, вычитали внутренние расходы, а то, что оставалось, отдавали на оборону. Трумэн поступал так, пока шок войны в Корее не заставил его начать наращивать военный потенциал; Эйзенхауэр рассчитывал таким образом сохранить здоровую внутреннюю экономику как основу для стратегической конкуренции в долгосрочной перспективе.
С точки зрения стратегии остаточный принцип являлся произвольным способом ограничения затрат и применялся не слишком долго. Возрождать его не имеет смысла. Однако нецелесообразно и сравнивать текущие оборонные расходы с издержками любой другой стадии холодной войны – ведь она закончилась.
В последний раз Соединенные Штаты оставались один на один с многополярной международной системой в те десятилетия, которые предшествовали Второй мировой войне. Тогда оборонные расходы в мирное время обычно не превышали двух процентов ВВП. В 1939-м, перед тем как в следующем году начать полную мобилизацию, США выделили на оборону всего лишь 1,4 %.
Такой уровень был, конечно, слишком низким, и после Пёрл-Харбора Соединенные Штаты усвоили этот урок навсегда. Но на каком основании делается вывод, что текущий уровень должен быть в три раза выше? Конечно, его не оправдывает ни одна из реальных угроз, с которыми в действительности могла бы столкнуться американская армия. Военный потенциал необходимо поддерживать на уровне комфортного превосходства над имеющимся либо вероятным противником. Но этот потенциал надо соотносить с возможностями самих противников, а не исходить из предельных технологий или неосознанного стремления иметь больше.
НАСТОЯЩИЕ И БУДУЩИЕ УГРОЗЫ
Пентагону будет трудно справляться с основными проблемами, связанными с оборонными расходами, пока Америка не выберется из затруднительного положения, в которое она сама себя загнала, развязав войну в Ираке. Эта война довела некоторые сегменты Вооруженных сил США до критического состояния. Часто сменяющиеся и продолжительные периоды боевой службы солдат и регулярное развертывание гражданских резервистов позорным образом вынудили малое число добровольцов платить высокую цену за просчеты политиков.
Основное планируемое средство преодоления этого кризиса – значительное увеличение численности Сухопутных войск и Корпуса морской пехоты – вызывает сомнения. Если бы дополнительные войска были сформированы раньше и выдвигались по мере необходимости, наращивание сил могло иметь смысл. Однако вербовка, обучение, организация и развертывание дополнительных сухопутных боевых соединений займет годы, а к этому времени Соединенные Штаты, вероятно, выведут основной контингент своих войск из Ирака. И если только Вашингтон не планирует вторжение в Иран либо в Северную Корею и не собирается завести привычку начинать масштабные противоповстанческие кампании в крупных несостоявшихся государствах (а ни то ни другое не представляется ни вероятным, ни желательным), то не ясно, какие именно цели достигаются путем перманентного увеличения численности Сухопутных войск и корпуса морской пехоты США.
Более того, несмотря на попытки администрации Буша объединить войну против Саддама Хусейна и «войну с терроризмом», это два разных конфликта. Группы и люди, вдохновляемые «Аль-Каидой», будут представлять угрозу по всему миру и после того, как Соединенным Штатам удастся выбраться из Ирака. Но распространяемое некоторыми неоконсерваторами мнение о том, что Соединенные Штаты участвуют ныне в Четвертой мировой войне (третьей по счету была холодная война), – абсурдное раздувание современной угрозы. Эта идея неявным образом связывает также все антиамериканские настроения в исламском мире с радикалами, нанесшими удар по Всемирному торговому центру и Пентагону 11 сентября 2001 года. Для наблюдателей, чье стратегическое сознание пробудилось 11 сентября, Усама бен Ладен не менее опасен, чем Сталин. Но подобное мышление означает забвение, какие реальные масштабы имели вызовы прошлого.
Вашингтон распахнул шлюзы военных расходов после терактов 11 сентября в основном не потому, что это было стратегически целесообразно, а потому, что надо было что-то делать. В редких случаях войну против террористов можно вести с применением танковых армейских батальонов, авиации или сил Военно-морского флота – многочисленных обычных вооруженных сил, на которые главным образом тратится военный бюджет. Основная проблема состоит не в том, чтобы уничтожить террористов, а в том, чтобы их найти, и в этих целях в первую очередь наиболее пригодны такие средства, как разведка и силы специального назначения. Расширить возможности США в этих сферах непросто. Тут необходимо осуществить вербовку, и обучение, и эффективное развертывание ограниченного числа талантливых и отважных людей с соответствующими навыками. В то же время нет надобности в расходовании полтриллиона долларов, которые идут на оплату обычных и ядерных вооружений.
Вторая главная угроза безопасности Соединенных Штатов сегодня – распространение ядерного и биологического оружия массового уничтожения (ОМУ). То есть еще одна проблема, которую невозможно решить с помощью развертывания дорогостоящих обычных вооружений. Удары с воздуха сами по себе ненадежны как мера против распространения, особенно если цель заранее предупреждена, рассредоточилась и надежно укрыла инфраструктуру, предназначенную для производства такого оружия. В лучшем случае бомбардировка способна временно приостановить программу, в худшем – вдохнуть в нее новую энергию.
Единственный гарантированный военный способ ликвидировать программы ОМУ в другом государстве на ранней стадии их развития – вторгнуться на территорию этого государства и оккупировать его, но после фиаско в Ираке этот путь вряд ли в скором времени покажется кому-нибудь привлекательным. В конечном счете наименее ущербные инструменты, которыми можно воспользоваться, – это дипломатические и экономические: вознаграждение за сотрудничество и санкции за несоответствие.
После того как страна переступает ядерный порог, риск превентивной войны с ней становится слишком опасным. Имеет смысл решать проблему, прибегнув к мерам сдерживания и устрашения – стратегиям, которые, несмотря на их недостатки, десятилетиями держали оборону против Москвы и Пекина. Тем, на кого сегодня наводят панику Иран и Северная Корея, не следует забывать, что Махмуд Ахмадинежад и Ким Чен Ир – это просто мокрые курицы по сравнению со Сталиным и Мао. В стратегии ничего нельзя предполагать наверняка, но, находясь перед выбором, разумнее сделать ставку на то, что средства, сработавшие с деспотами прошлого, сработают и с нынешними.
Что касается возможных будущих угроз, то Китай, очевидно, представляет собой серьезную проблему. Если экономический рост КНР продолжится, а внутренняя политика сохранит стабильность, она по необходимости будет действовать, как все остальные великие державы в истории: демонстрировать силу, чтобы получить то, на что, по ее мнению, она имеет право, и оспаривать иностранное доминирование в сопредельных странах. Еще более плохим вариантом мог бы стать антиамериканский альянс между восходящим Китаем и восстановившейся озлобленной Россией. Однако даже такая перспектива не требует в данный момент расходов на оборону, сопоставимых с периодом холодной войны.
Хотя военное соперничество с КНР не столь уж невероятно, оно не неизбежно, и отнюдь не в интересах США превращать его в самосбывающееся пророчество – а именно к этому могут привести преждевременные или неумеренные военные инициативы, нацеленные на Китай. Если такой конфликт действительно начнется, времени на подготовку будет достаточно. Соединенные Штаты все еще намного опережают КНР по военно-воздушной и военно-морской мощи, а именно этот потенциал будет испытываться на прочность в случае войны в Тайваньском проливе. Сражаться с многочисленной китайской армией на азиатском материке в любом случае будет трудно, но решение проблемы состоит не в увеличении численности войск США, а в стратегии, позволяющей избежать возможности такого столкновения (за исключением Корейского полуострова, где географические условия позволяют удерживать оборону фронта).
Наилучший способ подстраховаться от долгосрочной китайской угрозы заключается в принятии мобилизационной стратегии. Такая стратегия предполагает планирование и изыскание ресурсов уже сегодня, с тем чтобы впоследствии военные возможности можно было при необходимости расширить. Это означает тщательное проектирование системы мер по обеспечению боевой готовности с акцентом на научно-технические разработки, профессиональное обучение и организационное планирование. Наращивание оборотов мобилизации следует отложить, пока с полной достоверностью не подтвердится, что военное превосходство Америки начинает превращаться в простое преимущество. А до той поры сдерживание роста военного производства и экспансии лишь поможет избежать растранжиривания триллионов долларов на вооружения, способные технически устареть, когда угроза действительно материализуется. (Соединенные Штаты слишком долго – до 1940 года – откладывали мобилизацию против нацистской Германии и имперской Японии. Но начать мобилизацию в 1930-м было бы отнюдь не разумнее: авральная программа производства самолетов в то время привела бы в конечном счете к выпуску тысяч бесполезных бипланов.)
МИФЫ ИМПЕРИИ
Если, с одной стороны, текущий оборонный бюджет США больше, чем это необходимо для противостояния существующим и вероятным угрозам, то, с другой стороны, его совершенно недостаточно, чтобы поддерживать реальные усилия Америки по имперскому наведению порядка. Представление о том, что Соединенные Штаты имеют право и что им вменено в обязанность поддерживать мир в регионах, принимать меры дисциплинарного воздействия на нарушителей цивилизованных норм, продвигать демократию и устанавливать мировой порядок, – одна из отличительных черт вильсоновской традиции внешней политики. Во времена холодной войны эти амбиции отчасти сдерживались советской державой, но с приходом однополярного мира наступила пора расцвета.
Миссия глобального наведения порядка призвана оградить от непосредственных угроз не только американцев. Некоторые ее сторонники говорят об «эффекте домино» и «теории разумного эгоизма». Это означает, что угрозам, с которыми сталкиваются другие страны, следует поставить заслон, прежде чем они дадут метастазы и их разлагающее воздействие скажется на безопасности США. Приверженцы такого взгляда утверждают, что достаточно доверить поддержание стабильности на Ближнем Востоке местным тиранам и позволить Афганистану превратиться в пристанище террористов, как результатом станет новое «11 сентября». Такая логика делает превентивную войну законным средством политики национальной безопасности.
Подобного рода притязания чреваты возникновением серьезной проблемы, поскольку попытки управлять миром порождают сопротивление. Местные политические деятели редко воспринимают действия доминирующей державы как благие либо альтруистические; внешнее вмешательство часто вызывает возмущение и националистическую реакцию; за позитивные результаты хвалят неохотно, а при наличии проблем не скупятся на обвинения. В результате силовые военные акции обычно умножают количество врагов, в то время как разумная стратегия может привести к сокращению их числа и внести в их ряды раскол.
Вторая проблема заключается в том, что гуманитарное вмешательство у нас обычно воспринимают положительно, если оно кратковременно и необременительно, тогда как его успех у местного населения других стран зависит от того, насколько оно длительно и дорого. Политические лидеры редко призывают жертвовать кровью и богатством нации ради решения отдаленных проблем. Опыт Ирака, вероятно, еще больше усилит скептицизм в отношении таких мер.
Обе вышеуказанные проблемы усиливают друг друга. Чтобы иметь хоть какой-то шанс успешно играть роль доброго и великодушного гегемона, Соединенные Штаты должны более последовательно добиваться укрепления международного права, свергая кровожадные режимы, не позволяя государствам приобретать опасные вооружения и т. д. Но бремя таких мер обещает быть тяжелым и потребует национальной мобилизации и напряжения сил куда более значительных, чем те, на которых настаивают сегодня даже самые рьяные приверженцы вмешательства.
Но если Вашингтон предпочтет снизить расходы, подкрепляя универсальную риторику ограниченными действиями в отдельных удобных случаях, то его политику неизбежно будут считать произвольной, капризной или диктуемой в основном собственными материальными интересами. Имперская роль и сейчас, как и в прошлом, является и недоступно дорогой, и неразумной. Тот факт, что у Америки сейчас нет возможностей играть эту роль, не следует считать проблемой.
МЕРЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО УПОРЯДОЧЕНИЯ
Каким же образом политическому руководству США надлежит сбалансировать свои многочисленные интересы и достичь стратегиче-ской устойчивости? Достоинством практики формирования бюджета по остаточному принципу, введенному Трумэном и Эйзенхауэром, является ограничение расходов, а недостатком – необходимость идти на неприемлемо высокие риски. Но подходы, которые после 1950-х годов пришли на смену этим принципам, не принесли безусловных улучшений. Кеннеди пришел к власти на волне критики республиканцев, оказавшихся неспособными добиться успехов в области национальной безопасности, и установил принцип, согласно которому Соединенные Штаты должны тратить столько, сколько потребуется. Проблема была и остается в том, что просто не существует объективного способа подсчитать, какая цифра достаточна для защиты от потенциальных угроз, даже если цели и стратегии ясны. Кабинетные аналитики могут сколько угодно говорить о компромиссах и эффективности, но чье видение одержит верх, всегда определяет политика.
Значительное преимущество фиксированного бюджетного потолка состоит в том, что он заставил Объединенный комитет начальников штабов ВС США принимать трудные решения о программных приоритетах. Несмотря на заверения администрации Кеннеди, что она готова тратить столько, сколько нужно, бюджетные потолки продолжали реально применяться. Но поскольку определялись они уже не произвольно, то предметом разногласий стала величина пирога в целом, а не каждой его доли по отдельности. Не имея возможности сказать, что денег в их распоряжении больше нет, гражданские менеджеры вынуждены были теперь отвергать программы, на которых настаивали военные, заявляя, что в них нет необходимости. Таким образом, особенности процесса принятия решений заставляли их подменять оценки военных профессионалов собственными мнениями, в силу чего обсуждение бюджета превратилось в некий тест отношений между гражданскими и военными.
Тем самым отказ от произвольных лимитов бюджета непреднамеренно ослабил главное средство гражданского контроля – способность разделять и подчинять себе разные виды вооруженных сил и заставлять военных самостоятельно находить компромиссы между программами. Достаточно сравнить жесткую конкуренцию между видами вооруженных сил конца 1940-х и их взаимную предупредительность последних лет. В начале холодной войны ВВС и ВМФ ожесточенно соперничали за то, чья новая система вооружений – бомбардировщик В-36 либо ударный авианосец – станет основным средством нанесения бомбовых ударов по территории Советского Союза. (В итоге, когда расходы на оборону увеличились втрое после начала войны в Корее, закупили и то и другое.) По окончании холодной войны уже не наблюдалось сколько-нибудь принципиальных дискуссий вокруг необходимости заменить бомбардировщиком В-2 военно-воздушных сил одной или нескольких авианосных групп ВМФ, хотя угрозы, с которыми приходилось сталкиваться, были очевидно не столь велики, а стратегическая избыточность – явно менее необходима. В-2 выглядел дешевле, учитывая расходы на приобретение и содержание авианосной группы, однако ВВС не пытались публично или в Конгрессе доказывать, что B-2 – это менее затратный вариант стратегической авиации в XXI веке.
Разумеется, в прежние времена ВВС могли бы попытаться вырвать долю совокупного военного бюджета у других видов вооруженных сил, но в новых обстоятельствах они направили лоббистские усилия не на Объединенный комитет начальников штабов, а на исполнительную ветвь, подчинив свою заинтересованность в приобретении В-2 другим приоритетам закупок в реестре программ ВВС.
Управленческие реформы 1960-х, с помощью которых предпринималась попытка рационализировать решения о ресурсах, не только создали новые трудности для гражданского контроля. В долгосрочной перспективе они также косвенно способствовали повышению расходов на оборону, поскольку создавали имидж Демократической партии как антивоенной. На начальной фазе холодной войны демократы регулярно выступали за более высокие, чем требовали республиканцы, расходы на военные цели и часто приобретали репутацию «партии войны». Однако после президентской кампании Макговерна в 1972 году Демократическая партия стала ассоциироваться с оппозицией оборонным расходам и использованию силы, чем заслужила репутацию стратегически бесполезной.
Когда этот имидж превратился в политический пассив, партия попыталась избавиться от него, отказавшись от требований экономить на обороне. В 1990-е Билл Клинтон тратил на армию больше, чем предлагалось в программе его предшественника, Джорджа Буша-старшего, на заключительном этапе президентства. В ходе избирательной кампании 2000 года кандидат от демократов Альберт Гор обещал увеличить расходы на оборону на 80 млрд долларов в предстоящие 10 лет. С тех пор основная масса демократов наперебой старалась доказать, что они такие же сторонники военных, как и все остальные.
В тот же период республиканцы отказались от своей традиционной одержимости идеей финансовой ответственности. Трумэн и Эйзенхауэр предпочитали остаточный принцип, потому что чувствовали необходимость сбалансировать федеральный бюджет. Позднее республиканцы, начиная с Никсона, придерживались той же риторики, но отказались от ее сути; они делали больший упор на сокращение налогов, чем на сокращение расходов, что приводило к бюджетному дисбалансу.
С течением лет подобные тенденции в обеих партиях привели к ослаблению прочной политической базы, на которой зиждилось ограничение оборонных расходов. Ее полностью уничтожили события 11 сентября. В результате оборонный бюджет в течение девяти из последних десяти лет рос в среднем больше чем на 6 % ежегодно – это рекорд, с которым несравнимо никакое другое десятилетие после окончания Второй мировой войны, даже с учетом ведения войн в Корее и Вьетнаме. (В 1960-е, включая наращивание вооружений при Кеннеди и худшие годы вьетнамской войны, среднегодовое увеличение оборонного бюджета составляло 2,5 %.)
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Глупо задавать вопрос, могут ли Соединенные Штаты позволить себе поднять уровень военных расходов. Могут, и если необходимо – поднимут. Проблема заключается в том, что есть другие важные вещи, которые США тоже хотят и могут себе позволить, а доллар, потраченный на что-то одно, нельзя уже потратить на другое. Расходы на оборону должны быть сбалансированы не только в соответствии с предполагаемыми нуждами военных, но и с иными потребностями. Речь идет не только о таких фундаментальных внутренних программах, как пособия социального страхования и бесплатная медицинская помощь, которым угрожает надвигающийся дефицит, но и о других статьях, затрагивающих интересы национальной безопасности.
Например, Государственный департамент находится на относительно голодном пайке. Ему с трудом удается обеспечивать посольства персоналом и нести миссию США по всему миру, располагая штатом лишь в несколько тысяч человек и запрошенным бюджетом на основную деятельность всего чуть больше 7 млрд долларов. Суммарная бюджетная заявка Госдепа на 2008 год, в которую входят средства на оказание помощи иностранным государствам, вклады в международные организации и миротворческие миссии, а также вспомогательное финансирование операций в Ираке и Афганистане, едва превышает 42 млрд, что составляет 6,5 % от объема финансирования, запрошенного Пентагоном. В мире, где источником многих угроз являются политическая и экономическая нестабильность, а также антиамериканские настроения и где правительство США с огромным трудом способно поддерживать коммуникацию на уровне широких масс населения, эти цифры представляются крайне несбалансированными.
Даже при наличии бесконечных ресурсов, направляемых на поддержание военного потенциала, все равно достигались бы лишь отдельные цели. Способность, опираясь на военную силу, формировать мир в соответствии с американскими ценностями, более ограниченна, чем казалось на волне оптимизма постбиполярной эпохи. Имперское установление порядка возможно, когда речь идет об отдельных убийцах или бандах головорезов, а не в случае организованных и обученных вооруженных отрядов. Навязывание политического порядка при наличии сопротивления, как правило, требует войны – куда более кровопролитного и сложного предприятия.
Профессиональные военные это понимают, и именно поэтому они обычно пытаются избежать таких полицейских операций и отстаивают стратегии, которые опираются на подавляющее военное превосходство. Штатские, напротив, часто предпочитают косвенное и ограниченное применение военной силы, полагая, что таким образом можно добиться значительных выгод за безделицу. Учитывая трудности, с которыми сталкивались в последнее время Соединенные Штаты при осуществлении военных вмешательств, есть основание полагать, что в ближайшем будущем Америка станет реже прибегать к таким операциям.
На восстановление стратегической устойчивости потребуется время, и есть веская причина не сокращать оборонный бюджет радикально. Более того, аргументы в пользу лимитов утратят силу, если в общественном мнении в результате будущих катастрофических терактов пустит корни идея Четвертой мировой войны. Но если подобному не суждено случиться и утвердится более скромная стратегия национальной безопасности, станет легче ограничить расходы на оборону и направить их на угрозы, заслуживающие большего внимания. Демократы придут в себя после многолетней борьбы с имиджем слабаков. Республиканцы вновь проявят интерес к финансовой ответственности.
Для защиты интересов национальной безопасности Соединенным Штатам необходимы мощные вооруженные силы, которые соответствуют внешним угрозам и закрывают слабые места в системе обороны, действительно представляющие опасность для страны, а не используются для удовлетворения амбиций по переустройству мира. В идеале будущая администрация станет принимать соответствующие решения, основываясь на не столь произвольных расчетах, как у Трумэна и Эйзенхауэра, но и не столь регламентированных, как у Никсона. Правда, если бы пришлось выбирать между этими двумя подходами и сегодняшней расточительностью Вашингтона, то оказалось бы, что старые модели – не самые худшие. Нынешние защитники искусственного сохранения высокой доли военных расходов в ВВП придерживаются стандарта, который столь же далек от способности здраво оценить угрозы, сколь и остаточный принцип.
Смена направления в сторону конкретного сокращения расходов потребует принятия непростых решений, трудных переговоров и жестоких схваток на политической арене. Настроения в пользу увеличения оборонных расходов после 11 сентября 2001 года укоренились настолько широко, что пока немногие представители политического мейнстрима систематически отваживаются выступать за их снижение.
Даже Институт политических исследований, который обычно позиционируют значительно левее центра, рекомендует сократить основной оборонный бюджет всего на 56 млрд долларов, то есть на 11 %, а общие военные расходы – меньше чем на 9 %. Подобные призывы не приходится сравнивать с временами президентской кампании Макговерна, который требовал снизить военные расходы на треть, и это на завершающей стадии последней непопулярной войны Америки. Предлагаемый Институтом политических исследований оборонный бюджет на 2008 год предусматривает сокращение или отмену закупок самолетов F-22, F-35, C-130J и V-22, субмарин класса Virginia и эсминцев класса Zumwalt, а также финансирование армейской программы «Боевые системы будущего», национальной противоракетной обороны, космических вооружений, ядерных систем, научно-технических разработок и развернутых сил ВВС и ВМФ.
Возможно, некоторые из этих предложений опрометчивы (например, сокращение расходов на научно-технические разработки плохо сочетается с переходом к мобилизационной стратегии). Но реализация даже половины из обозначенных предложений урежет базисный бюджет (но не текущие расходы на войну) почти на 6 %.
Концентрация политической воли к сдержанности потребует напряженной борьбы. Начало может быть положено лозунгом «Полтриллиона долларов – это более чем достаточно». Небольшие сокращения в течение нескольких лет при неизменном бюджете, подтачиваемом инфляцией, заставят систему туже затянуть пояс. Сокращения должны основываться на том соображении, что дорогостоящие программы предназначены исключительно для противо- стояния реальному потенциалу противника, а не для поддержания традиционных приоритетов видов вооруженных сил, расширения технологических горизонтов как самоцели или поглощения ресурсов, оказавшихся доступными благодаря политической конъюнктуре.

Корейский полуостров: единство и борьба
© "Россия в глобальной политике". № 6, Ноябрь - Декабрь 2007
А.В. Воронцов – заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН, О.П. Ревенко – политолог.
Резюме Наиболее важным достижением последнего десятилетия стало осознание Пхеньяном и Сеулом того, что, несмотря на существующие фундаментальные разногласия, нельзя достичь объединения нации ни военным путем, ни принудительным «поглощением» одной стороны другой.
Несмотря на свои скромные размеры и периферийное положение по отношению к глобальным политическим центрам, Корейский полуостров многие годы остается в фокусе международного внимания. Здесь причудливо переплелись сложные процессы – как уходящие корнями в прошлое, так и порожденные современностью. И итоги второго межкорейского саммита, который прошел в Пхеньяне 2–4 октября 2007 года, имеют принципиальное значение не только для Корейского полуострова, но и для региона в целом.
Со времени трагического раскола страны и разрушительной корейской войны (1950–1953) конфликтные ситуации воспроизводились здесь постоянно, дестабилизируя обстановку и угрожая интересам близлежащих государств. Если в прошлом Корея нередко становилась объектом экспансии и борьбы за влияние со стороны могущественных соседей, то теперь великие державы, включая Россию, Китай, США, а также Японию, серьезно обеспокоены обстановкой на полуострове и вокруг него. В ответ на ракетные, а затем и ядерные испытания, проведенные КНДР в прошлом году, против Пхеньяна были введены жесткие санкции по линии ООН. (В рамках данной статьи мы специально не касаемся ядерной проблемы, поскольку это – сложная тема для отдельного разговора.)
ОТ КОНФРОНТАЦИИ К РЕАЛИЗМУ
Коренная перестройка всей системы международных отношений после окончания холодной войны не обошла и межкорейские отношения. В течение десятилетий две Кореи полностью отрицали друг друга, делая ставку на достижение безусловной победы над «противником» любой ценой. Хотя с начала 70-х годов прошлого века между обеими странами осуществлялись ограниченные официальные контакты, это мало отражалось на общей картине взаимоотношений. Их атмосферу определяли глубокая взаимная неприязнь, недоверие и враждебность.
Поворот к политическому реализму произошел в начале 1990-х. В декабре 1991 года главы правительств Севера и Юга подписали беспрецедентный документ, разработанный в ходе восьми встреч на уровне премьер-министров, – Соглашение о примирении, ненападении, сотрудничестве и обменах. Одновременно с этим была принята межкорейская декларация о денуклеаризации полуострова. Впервые за всю историю раздельного существования двух корейских государств Пхеньян и Сеул фактически отказались от идей «завоевательного похода» против другой стороны и, по крайней мере на бумаге, признали равноправное существование двух самостоятельных государственных образований.
В улучшении межкорейских отношений важную роль, помимо общего влияния внешней обстановки, сыграли два фактора.
Во-первых, в конце 1980-х на волне глобальных изменений и роста протестов в Республике Корея (Южная Корея) рухнул режим военной диктатуры и к власти впервые пришло демократически избранное правительство. Новое руководство выдвинуло ряд конструктивных идей, нацеленных на развитие контактов и мирное сосуществование с северным соседом.
Во-вторых, в результате распада Советского Союза и коммунистического блока Корейская Народно-Демократическая Республика лишилась солидной материальной помощи и политической поддержки. Для Северной Кореи с ее отсталой экономикой, неразвитыми внешними связями, автаркической системой ведения хозяйства новые реалии обернулись ситуацией, близкой к катастрофе. Вынужденное свертывание внешнеэкономических контактов с Россией на фоне небывалых стихийных бедствий, постигших КНДР в середине 90-х годов прошлого века, поставили страну на грань экономического коллапса. В этой непростой ситуации следовало срочно корректировать стратегию, и оптимальным выходом виделся отказ от прежней политики «коммунизации» Юга в пользу более прагматичного курса на постепенное развитие межкорейских связей, прежде всего в сфере экономики.
Оценивая перспективы развития ситуации на полуострове, многие внешние наблюдатели руководствовались известными схемами. Они были апробированы в странах, которые к тому моменту уже перешли от социалистического устройства к рыночной экономике и демократии. Вполне очевидной представлялась тогда и эволюция пхеньянского режима. Наиболее вероятными считались два сценария.
Согласно первому (его поддерживало меньшинство специалистов), предполагалось, что Северная Корея пойдет по пути Китая или Вьетнама. Пхеньян постепенно переведет нежизнеспособную экономику на рыночные рельсы и осуществит экономические реформы в целях привлечения иностранных инвестиций и создания сильного экспортного сектора. Предрекалось, что Север будет опираться на возрастающую помощь Юга, однако реальная интеграция произойдет не так скоро, поскольку для «размягчения» жесткого политического режима потребуются и время, и создание необходимых условий для влияния на него.
Однако подавляющее число экспертов полагали, что КНДР, как и большинство восточноевропейских стран, ждет неминуемый и скорый политический и экономический крах с тяжелейшими социальными последствиями. Обвал режима означал бы острую, но быстротечную борьбу за власть в правящей верхушке с неизбежной победой сторонников объединения с Южной Кореей (естественно, на ее условиях) и стремительное «поглощение» Северной Кореи Югом. Уместно напомнить, что в начале – середине 1990-х самые смелые из приверженцев второго сценария отводили КНДР не более двух-трех лет независимого существования. Из установки на неизбежность скорой «абсорбции» Севера исходил в те годы и официальный Сеул.
Действительность опровергла предположения и тех, и других. Власти Северной Кореи в тот период отказались от значимых рыночных реформ и проведения курса открытости в политической сфере. Однако нельзя считать, что ситуация в стране оставалась полностью статичной.
ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕВЕРА
С начала 1990-х годов северокорейское руководство переносит акценты с марксистско-ленинских постулатов на традиционные конфуцианские и феодально-бюрократические. Во внутренней политике все чаще звучит тема национальных традиций, культурно-исторического наследия и конфуцианских ценностей. Для новой легитимации КНДР используется тезис о том, что она является преемницей некогда сильных и успешных государств, прежде всего Когурё и Корё, в древности располагавшихся на территории нынешней Северной Кореи. Для консолидации общества на основе национальной идентичности возрождается миф о легендарном родоначальнике корейской нации Тангуне, жившем за две тысячи лет до н. э. (кстати, Тангун весьма почитается и в Южной Корее).
В повседневную жизнь все шире внедряются древние нормы и традиции, в частности культ предков. Соблюдение Ким Чен Иром трехлетнего траура по своему отцу, Ким Ир Сену, скончавшемуся в 1994-м, и исполнение многих требований конфуцианского ритуала – одно из подтверждений данного тезиса. Частью курса на утверждение национального наследия и культурной самобытности стало возрождение таких традиционных праздников, как Новый год по лунному календарю, а также формальное восстановление в правах религии. Помимо буддийских храмов в стране действуют и христианские: протестантские, католические, православный. В своей внутриполитической риторике северокорейские власти реже вспоминают социализм и марксизм.
Для преодоления глубокого экономического кризиса середины – второй половины минувшего десятилетия ставка была сделана на традиционную политику «затягивания поясов» ценой любых жертв. К примеру, различные зарубежные источники утверждают, что в так называемый период «трудного похода» (середина 1990-х годов) от голода и болезней, вызванных недоеданием, в стране умерло от 300 тысяч до 2 миллионов человек.
Одновременно был взят курс на укрепление военной мощи для сохранения существующего строя и обеспечения его безопасности перед лицом внешней угрозы, главным источником которой считалась «враждебная политика» Вашингтона. Основой национальной стратегии выживания провозглашается политика «сонгун», рассматривающая армию в качестве основной политической силы и отдающая приоритет военному строительству в ущерб социально-экономическому развитию.
«Политика приоритета армии» достаточно многослойна, и ее не следует трактовать одномерно. Возведение в ранг главной движущей силы общества не рабочего класса с компартией во главе, а надклассового института – армии может при определенных условиях облегчить переход к иным формам социального устройства. Не следует забывать и о том, что вся «военно-ориентированная» риторика и милитаризация, поражающие воображение иностранцев, на деле подчинены прежде всего стремлению обеспечить жесткий контроль над обществом и охладить пыл возможных агрессоров. Если Ким Ир Сен еще мечтал о военном объединении Кореи, то Ким Чен Ир и его окружение думают исключительно о самосохранении, осознавая необходимость перемен. Подтверждение этого – начатая в июле 2002 года очень осторожная экономическая реформа.
Почти полная изолированность от внешнего мира, отсутствие информации о ситуации за пределами страны, а также мононациональность и относительная однородность общества придавали повышенную устойчивость северокорейскому режиму. С другой стороны, высокий мобилизационный потенциал экономики командного типа, традиционно низкий уровень жизни населения, привычка граждан воспринимать трудности и лишения как нечто естественное, их преклонение перед властью в любых условиях – все это позволяло поддерживать стабильность даже без применения широких карательных мер. Консервации существующих порядков способствовала и высокая степень консолидации политической элиты перед лицом возможных попыток США и их союзников «свалить» авторитарный режим путем «политических диверсий» или же в результате прямой военной агрессии.
«СОЛНЕЧНОЕ ТЕПЛО» С ЮГА
Сеульский политический истеблишмент постепенно начал отдавать себе отчет в том, что режим Ким Чен Ира – это всерьез и надолго. По мере осмысления этого обстоятельства все большее распространение в Южной Корее получала точка зрения, что подталкивание северокорейской системы к краху контрпродуктивно и лишено смысла. Альтернативой могли стать решительный отказ от прежней линии на «поглощение» КНДР по германскому сценарию (по крайней мере, в обозримой перспективе) и переключение усилий на наведение мостов.
Именно такое восприятие ситуации способствовало избранию президентом Республики Корея Ким Дэ Чжуна. Этот политик леволиберального толка, бывший диссидент, был известен приверженностью делу воссоединения нации и примиренческими настроениями по отношению к Пхеньяну. Предложенная им «политика солнечного тепла» подразумевала вовлечение КНДР в диалог, оказание ей масштабного содействия в решении социально-экономических проблем и установлении контактов с внешним миром, включая ближайших союзников Сеула. На этой основе должны были быть созданы условия для постепенного сближения двух Корей и их последующей политической, экономической и культурной интеграции на взаимоприемлемых условиях.
Северокорейский режим внимательно наблюдал за эволюцией политических воззрений южнокорейского руководства, выказывая осторожную поддержку как самому Ким Дэ Чжуну, так и его взглядам.
Именно в этой атмосфере президент Республики Корея выдвинул идею проведения первого в истории межкорейского саммита. Главным итогом поездки Ким Дэ Чжуна в Пхеньян и его встреч с Ким Чен Иром в июне 2000-го стала Совместная декларация – по сути, программа развития двусторонних отношений на годы вперед.
Документ нацеливал на решение проблемы объединения Кореи путем совместных усилий, содержал признание общности предложений Севера и Юга относительно движения к этой цели. Обе стороны договорились о мерах укрепления взаимного доверия. Ставились задачи обеспечения сбалансированного развития экономики, активизации сотрудничества и контактов во всех областях, включая социальную сферу, культуру, спорт. Кроме того, в этой декларации говорилось о налаживании общения между членами разделенных семей.
По единодушной оценке самих корейцев, лидеры обеих стран заложили основу для прорыва в отношениях и постепенному развороту от конфронтации к примирению и поэтапному сближению. Саммит дал старт качественно новому взаимодействию Пхеньяна и Сеула как по официальным каналам, так и по общественной линии, что в принципе позволяло искать пути решения довольно широкого круга вопросов сотрудничества.
Главным каналом контактов стали переговоры на уровне министров, на которых поднимались наиболее актуальные проблемы, представлявшие интерес для обеих сторон (состоялось же более 20 таких встреч).
Предусмотрена возможность поддержания связей по военной линии, а также между обществами Красного Креста Севера и Юга для обсуждения разнообразных гуманитарных проблем. Несколько позже, по мере углубления межкорейских хозяйственных связей, было принято решение о выделении вопросов экономического сотрудничества в отдельный блок и создании подотчетного министрам двустороннего органа. При этом с расширением и диверсификацией контактов структура Комитета по содействию экономическому сотрудничеству между Севером и Югом становилась все более разветвленной, увеличивалось число входивших в него отраслевых подкомитетов.
В 2000 году Сеул впервые предоставил Пхеньяну солидную экономическую помощь в размере 113,76 млн дол., объемы которой из года в год возрастают. Бурное развитие получили связи в торгово-экономической области. Если в 2000-м общий объем двусторонней торговли составил 425 млн дол., то в 2006-м он достиг 1 349 млн долларов. Южная Корея уверенно вышла на второе после Китая место в качестве ведущего торгового партнера КНДР. При этом доля коммерческих сделок во взаимном товарообороте составляет сейчас около 70 %. Остальная часть приходится на фактически безвозмездные поставки продовольствия и минеральных удобрений, без которых Северная Корея, по существу, не в состоянии обеспечить население продуктами питания.
Достижения в межкорейских отношениях очевидны, причем все основные сдвиги произошли за последние шесть-семь лет. В определенном смысле можно говорить о реальном прорыве в восстановлении взаимного доверия. Большинство жителей и Севера, и особенно Юга перестали воспринимать друг друга как врагов. В южнокорейском общественном мнении примирительно-объединительный подход пустил столь глубокие корни, что даже наиболее консервативные, традиционно жестко антисеверокорейские силы теперь вынуждены в целом поддерживать курс на примирение и сотрудничество с Пхеньяном.
НАСЛЕДИЕ ВОЙНЫ
Тем не менее о подлинной нормализации говорить пока рано. За шесть десятилетий раздельного существования между Севером и Югом обозначились глубокие политико-идеологические, социально-культурные и даже языковые различия (по признанию Ким Чен Ира, в ходе первого межкорейского саммита он понимал Ким Дэ Чжуна всего на 80 %), преодоление которых потребует обоюдных усилий, терпения и времени.
Два государства де-юре по-прежнему находятся в состоянии войны. Заключенное более 50 лет назад Соглашение о военном перемирии в Корее остается единственным политико-правовым документом, удерживающим стороны от новой братоубийственной междоусобицы.
Острые конфликты вспыхивают время от времени в спорных водах Желтого моря. По итогам корейской войны сухопутная «граница» между Севером и Югом была оформлена в договорном порядке. А так называемую «северную разграничительную линию» в Желтом море, которую произвольно установило американское командование, Пхеньян не признаёт. Кровопролитные столкновения между воинскими формированиями обеих стран в этом районе, богатом морскими ресурсами, в 1999 и 2002 годах приводили к человеческим жертвам.
Взаимное недоверие в военной среде выше, чем среди других кругов политической элиты. В 2000-м состоялась единственная за все послевоенное время встреча глав оборонных ведомств, осуществляются контакты и на более низком уровне. Однако стороны так и не приступили к обсуждению вопроса о мерах доверия в военной области и сокращении вооружений. Южане при этом обычно ссылаются на то, что в районах, прилегающих к границе, сосредоточено свыше 70 % всех боеспособных соединений Севера, включая десятки тысяч артиллерийских и ракетных систем, способных в считанные минуты уничтожить Сеул и превратить 50-километровую приграничную полосу в «море огня». Уместно, однако, напомнить, что лишь с 2004 года военная доктрина Южной Кореи официально перестала рассматривать КНДР в качестве «главного противника». Вместо этого была введена новая, чуть более корректная формула – «угроза со стороны Севера», на противодействие которой и нацеливалась мощь страны.
В Республике Корея до сих пор действует Закон о национальной безопасности. В этом уникальном для современной политической практики документе КНДР квалифицируется как «территория, находящаяся под контролем антигосударственной организации». А потому несанкционированные контакты граждан Республики Корея с представителями Северной Кореи и поездки на Север, а также публичное проявление симпатий к существующим в КНДР порядкам или выражение поддержки официальной идеологии Пхеньяна однозначно рассматриваются как «помощь врагу» и посягательство на национальную безопасность. Либеральная идеология на Юге все же смягчает область правоприменения этого закона. Если раньше нарушители могли быть подвергнуты наказанию вплоть до смертной казни, то теперь им чаще всего угрожает условный срок тюремного заключения или крупный денежный штраф. А нелегальные перебежчики из КНДР принимаются почти как национальные герои и автоматически получают гражданство Республики Корея.
В свою очередь Пхеньян лишь после саммита-2000 перестал называть сеульское руководство «марионеточными властями». Тем не менее во внутренней пропаганде по-прежнему господствуют утверждения о том, что власти Южной Кореи, находящейся под «иностранной военной оккупацией», не в состоянии проводить независимую политику на международной арене и в сфере межкорейских отношений. По сути, КНДР до сих пор не отказалась от претензий на право именоваться единственным суверенным государством на Корейском полуострове.
В действующей Конституции страны особо оговаривается, что Корейская Народно-Демократическая Республика «представляет интересы всего корейского народа». (Кстати, и Конституция РК предусматривает распространение суверенитета Сеула на весь Корейский полуостров.) Неудивительно, что в прессе и в высказываниях официальных северокорейских представителей Республика Корея практически никогда не называется «государством», а вместо этого употребляется своеобразный эвфемизм – «южная часть республики». При этом такие понятия, как «президент», «правительство» либо «парламент Южной Кореи», как правило, приводятся в кавычках.
Пхеньян рассматривает пребывание американских войск на территории Республики Корея как военный вызов, а учения, периодически проводимые южанами совместно с США, считает «репетицией» нападения на КНДР. Северяне категорически отказываются посылать на них своих наблюдателей и оповещать Сеул о собственных аналогичных маневрах.
ДВЕ ТЕНДЕНЦИИ
Излагая столь подробно перипетии межкорейских отношений, авторы стремились на конкретных примерах показать, что на Корейском полуострове по-прежнему сталкиваются две, казалось бы, несовместимые тенденции – к противоборству и сотрудничеству, к жесткой военно-политической конфронтации и национальному примирению. При этом ситуация может кардинально меняться в зависимости от конъюнктуры, цепочки роковых или, наоборот, счастливых случайностей. Она зависит от политических, властных амбиций лидеров Севера и Юга, оспаривающих друг у друга право на историческую и политическую легитимность. Не последнюю роль играют и трудности преодоления «осадной» психологии, ощущения отчужденности, сформировавшегося за годы раскола и размежевания, и стремление Северной Кореи к выживанию и защите своих порядков любой ценой – вплоть до обладания ракетно-ядерным потенциалом сдерживания.
С другой стороны, у корейцев, как у малой нации с многовековой историей, весьма велико стремление к национальной идентичности, обострено чувство единения и родства. Достаточно сказать, что ни на Севере, ни на Юге у политика нет ни малейших шансов сделать карьеру, если он хотя бы на йоту усомнится в возможности объединения Кореи, пусть даже в отдаленном будущем.
Наиболее важным достижением последнего десятилетия стало осознание Пхеньяном и Сеулом того, что, несмотря на существующие фундаментальные разногласия, нельзя достичь объединения нации ни военным путем, ни принудительным «поглощением» одной стороны другой. Для столь несхожих партнеров, каковыми являются КНДР и Республика Корея, это уже немало.
Существенную роль в росте взаимного притяжения играют экономические соображения. Несмотря на продолжающуюся пропаганду идей «социализма корейского образца», северокорейские лидеры прекрасно осознают, что автаркический экономический курс в духе «идей чучхе» завел страну в тупик. Единственным условием выхода из него без ущерба для существующего режима являются как продолжение начатых в 2002-м «проторыночных» преобразований в экономике, так и расширение сотрудничества с Сеулом, включая получение масштабной помощи, к оказанию которой южнокорейцы в принципе готовы.
Для Юга приоритетами остаются обеспечение доступа к богатым природным ресурсам и дешевой рабочей силе Севера, а также преодоление фактически «островного» положения за счет соединения с «Большой землей» – прежде всего Россией и Китаем – через территорию КНДР, где должны быть проложены автомобильные и железнодорожные коммуникации, трубопроводы для доставки углеводородного сырья.
Второй межкорейский саммит стал еще одним шагом на пути примирения и сближения Севера и Юга. Президент Южной Кореи Но Му Хён продолжил линию своего предшественника Ким Дэ Чжуна. В Совместной декларации о развитии межкорейских отношений, мире и процветании, подписанной по итогам переговоров, стороны подтвердили приверженность принципу невмешательства во внутренние дела, стремление решать проблемы двусторонних отношений в духе согласия и сотрудничества, исключая использование силовых методов.
Крупным достижением стала выраженная Сеулом и Пхеньяном решимость вести дело к переходу от режима перемирия к прочному, постоянному миру на Корейском полуострове. Для этого предполагается начать диалог с участием «трех-четырех высших руководителей». Вряд ли такие планы можно считать четкой политической договоренностью, но уже само обсуждение этой острой темы является серьезным сдвигом.
Лидеры двух стран наметили в Пхеньяне впечатляющую программу развития двустороннего экономического сотрудничества. Среди крупных проектов – создание специального экономического района в северокорейском городе Хэджу, дальнейшее развитие Кэсонского технопарка, кооперация в области судостроения, реконструкция железных и автодорог на Севере, начало железнодорожных грузовых перевозок через демилитаризованную зону и создание совместной рыболовной зоны в спорном районе Желтого моря.
С точки зрения перспектив укрепления взаимного доверия и развития межкорейской экономической интеграции результаты встречи выглядят многообещающими. Они открывают возможность сделать ситуацию на Корейском полуострове более стабильной и предсказуемой, ослабить хроническую конфронтацию.
Реализация экономических договоренностей даст КНДР возможность улучшить транспортную инфраструктуру, укрепить промышленный потенциал, увеличить валютные поступления. Последовательное осуществление намеченных проектов может привести к созданию по периметру западных границ между Севером и Югом целой полосы совместных экономических зон, способных стать общекорейской «лабораторией» для выработки и применения на практике взаимоприемлемых форм совместной хозяйственной деятельности.
Естественно, многое будет зависеть от готовности Пхеньяна и Сеула выполнять намеченные планы. На предстоящих в Южной Корее в декабре с. г. президентских выборах шансы на победу имеет претендент от правоконсервативной оппозиции Ли Мён Бак. Он давно критикует действующего главу государства за чрезмерный либерализм и уступчивость Северу. На Юге уже высказываются сомнения относительно возможности реализации масштабных, но «слабо проработанных» экономических проектов. Независимые исследовательские институты в Республике Корея подсчитали, что обещания, содержащиеся в принятой Но Му Хёном и Ким Чен Иром декларации, обойдутся стране не менее чем в 13 млрд дол., что ляжет тяжелым бременем на экономику. В этой связи нельзя исключить, что будущая южнокорейская администрация, не отказываясь формально от намеченных планов, постарается спустить их на тормозах.
Не до конца понятны и намерения Пхеньяна, который в прошлом делал все для того, чтобы экономические и иные связи с Сеулом носили дозированный и ограниченный характер. На Севере небезосновательно опасаются, что экономическое проникновение южного соседа в КНДР может быть нацелено на постепенное изменение северокорейского строя изнутри.
Немало будет зависеть и от международной и военно-политической ситуации вокруг Корейского полуострова, особенно в связи с необходимостью решения северокорейской ядерной проблемы. Дальнейший прогресс в ходе ведущихся в настоящее время в Пекине переговоров отнюдь не гарантирован. Позиция же ближайших союзников Южной Кореи – США и Японии состоит в том, что любые уступки Пхеньяну, равно как и продвижение вперед в межкорейских отношениях в целом, должны находиться в прямой зависимости от успехов в деле ядерного разоружения Северной Кореи.
В заключение можно сделать следующие выводы:
начатая бывшим президентом Южной Кореи Ким Дэ Чжуном «политика солнечного тепла», а также ее модифицированный вариант – курс нынешнего президента Но Му Хёна на сближение и сотрудничество – работают;
данный курс базируется на выработанном в Сеуле прагматичном и реалистичном подходе. От объединения в качестве конечной цели никто не отказывается, но это – вопрос не сегодняшнего и не завтрашнего дня;
линия на примирение и сотрудничество встречает растущее понимание и в Северной Корее, руководство которой, несмотря на сохраняющиеся идеологические «ограничители», демонстрирует все большую заинтересованность в расширении контактов и связей с Югом в практических областях;
объединение по германскому образцу путем «поглощения» станет неподъемным для южнокорейской экономики. Задача нынешнего этапа, который может оказаться достаточно длительным, – не допустить военного конфликта на Корейском полуострове и коллапса КНДР. Южная Корея должна способствовать развитию Северной Кореи, сближению и постепенной конвергенции обоих государств, чтобы минимизировать цену будущего объединения.

Открытый код и национальная безопасность
Павел Житнюк, Виталий Кузьмичёв, Леонид Сомс
© "Россия в глобальной политике". № 4, Июль - Август 2007
П.П. Житнюк – директор по развитию компании "iTREND" , интернет-редактор журнала «Россия в глобальной политике»; В.Б. Кузьмичёв – директор по развитию компании "Линкс"; Л.Н. Сомс – ведущий научный сотрудник Государственного оптического института (Санкт-петербургский институт информационных технологий, механики и оптики).
Резюме Информационные технологии – одна из самых важных сфер человеческого развития в постиндустриальном мире. Сегодня же получается, что на средства российских налогоплательщиков поддерживается не самая бедная ИТ-отрасль экономики США.
Вступление Российской Федерации во Всемирную торговую организацию станет принципиальным рубежом развития экономики нашей страны. Долгий путь, начавшийся в 1994 году подачей заявки о ее присоединении к Генеральному соглашению о тарифах и торговле (ГАТТ), по всей видимости, близится к завершению. На финальной стадии переговоров России приходится решать наиболее сложные и важные вопросы, например проблему, связанную с нарушением прав интеллектуальной собственности (попросту говоря, пиратством) в сфере информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).
Российские ИКТ пока находятся на менее высокой ступени развития, чем в развитых постиндустриальных державах, хотя тенденции обнадеживают. Российский рынок стал более открытым, он сталкивается с возрастающей конкуренцией на мировом уровне. Внедрение новых технологий, повышающих эффективность управления, активное использование передового зарубежного опыта, применение новых методов и ноу-хау становятся нормой для частных компаний и государственных учреждений.
В ноябре 2006-го в Ханое был подписан российско-американский Протокол о присоединении России к ВТО. Москва убедила партнера в том, что будет активно бороться за соблюдение авторских прав и не допустит ухудшения ситуации с защитой интеллектуальной собственности. Часть разногласий снята подписанием так называемых обменных писем – документов, фиксирующих взаимные позиции Москвы и Вашингтона. Одно из них посвящено проблематике интеллектуальной собственности.
Следует отметить, что в этой области российское законодательство практически полностью гармонизировано с международными договорами. На сегодняшний день Российская Федерация – участник 20 из 24 международных соглашений в сфере интеллектуальной собственности. Мы также находимся в процессе подписания договора по авторскому праву, в перспективе – заключение двух договоров с Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) по Интернету.
За подготовительный период российский рынок информационных технологий (ИТ) стал более зрелым, и действующее законодательство практически соответствует требованиям ВТО, в том числе и тем, что предъявляются в Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). Впрочем, последнее предполагается расширить (так называемые требования «ВТО плюс»), что поможет выявлять правонарушения не только на рынке товарных знаков, но и по более сложным видам интеллектуальной собственности. Очевидно, что оппоненты России будут использовать ситуацию с контрафактом как дополнительное препятствие на пути к членству во Всемирной торговой организации.
«Ожидание ВТО» уже сейчас привело к усилению борьбы с несанкционированным использованием интеллектуального труда. В первую очередь, это затронуло распространителей нелегального программного обеспечения (ПО), или, попросту говоря, пиратов. Меры по борьбе с пиратством были ужесточены еще в декабре 2005 года, когда впервые в российской уголовной практике директору частной компании из Ростова-на-Дону был вынесен приговор (год лишения свободы и штраф) за установку пиратского ПО на компьютеры клиентов. До этого обвинительные приговоры выносились только изготовителям и распространителям контрафактной видеопродукции. Ростовское дело создало прецедент: впервые срок получил специалист, который устанавливал контрафактное программное обеспечение.
Последующее заведение уголовных дел (особенно процессы против директора одной из пермских школ Александра Поносова и директора Челябинского текстильного комбината Владимира Калиниченко) за использование нелегального программного обеспечения Microsoft – заставили общественность, предпринимателей и госчиновников по-новому взглянуть на ситуацию с пиратством.
Руководители крупнейших российских компаний не отрицают необходимости платить за лицензионные копии программного обеспечения. Однако многие считают, что главной причиной пиратства являются слишком завышенные цены на ПО. Серьезной проблемой остается и тот факт, что большинство топ-менеджеров даже не подозревает об использовании в их фирмах пиратского программного обеспечения. Только 10 % директоров отметили факт наличия у себя нелицензионных программных продуктов. В то же время чем ниже сотрудники по служебной лестнице, тем более реальными становятся цифры. Так, 59 % замдиректоров и 67 % начальников отделов признали, что в их компаниях имеется пиратское ПО (http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2005/10/28/190795).
Эти цифры близки к оценке уровня пиратства в России, которую приводит аналитическая компания International Data Corporation (IDC), в докладе, опубликованном организацией Business Software Alliance. Согласно данному исследованию, доля нелицензионного ПО в России составляет 87 % и оценивается в 1,3 млрд долларов. В сегменте домашних пользователей этот показатель достигает 81,7 %. По прогнозам IDC, благодаря не только милицейским рейдам и ужесточению законодательства, но и более гибкой ценовой политике производителей, уровень компьютерного пиратства в Российской Федерации будет ежегодно снижаться на несколько процентов.
ЧТО ВТО НАМ ГОТОВИТ?
Выступая на открытии выставки «CeBIT-2007» в Ганновере министр информационных технологий и связи России Леонид Рейман привел следующие данные: уже в 2010 году объем отечественного ИТ-рынка возрастет с 12 млрд дол. до 40 млрд дол., то есть более чем втрое. Экспорт ИТ-продукции должен, соответственно, превысить нынешние 1,8 млрд дол. и достигнуть 10 млрд долларов. Начиная с 2000-го российский сектор ИТ растет более чем на 20 % ежегодно, сейчас в России активно вводятся в строй технопарки, которые будут способствовать дальнейшему ускорению темпов. Министр также напомнил о создании Российского инвестиционного фонда информационно-коммуникационных технологий. Он должен приступить к работе в текущем году, как только за счет привлечения частных инвесторов доля государства в нем снизится до 51 %. Общий объем государственных вложений в фонд составляет 50 млн долларов.
Для российского ИТ-сообщества вступление в ВТО сопряжено со многими, хотя и вполне предсказуемыми и ожидаемыми сложностями: речь идет об ужесточении требований к качеству продукции и услуг, вопросах сертификации, проблемах соответствия международным стандартам. Именно несоответствие отечественных продуктов и услуг мировым сертификационным стандартам зачастую составляет основную проблему выхода на новые рынки. Это порождает значительные трудности в сфере реализации совместных проектов с иностранными партнерами.
Для большинства ИТ-компаний переходный период станет серьезным экзаменом на зрелость. Мелким, не имеющим достаточного опыта предприятиям предстоит переквалификация. Не исключена возможность поглощения их более крупными компаниями, а многим вообще придется покинуть рынок масштабных, особенно государственных, проектов. При вступлении России в ВТО импортные пошлины на товары ИТ («компьютеры и средства их производства») будут отменены через три года. Отмена пошлин, безусловно, приведет к перераспределению ИТ-рынка не в пользу отечественных производителей оборудования и усилит конкуренцию с западными компаниями.
Однако компании, которые имеют прочные связи с лидерами мирового ИТ-рынка, в которых знания и опыт сотрудников подтверждаются признанными на мировом уровне сертификатами, в условиях ВТО даже выиграют. Зарубежным компаниям, которые только готовятся к приходу на российский рынок, придется затратить значительное время на освоение реалий российского рынка, осуществить масштабные исследовательские программы и провести рекламные кампании, что потребует, может быть, от года до нескольких лет. Отечественные ИТ-структуры успеют за это время приспособиться к новой обстановке.
Основные разработчики крупных проектов автоматизации сохраняют спокойствие. Конкуренция даже с самыми маститыми зарубежными компаниями их не пугает. Знание особенностей российского бизнеса и опыт внедрения различных ИТ-систем на местном рынке делает работу отечественных компаний более ценной для потенциальных пользователей.
Больше всех выиграют потребители: обострение конкуренции приведет к снижению цен и положительно отразится на качестве товаров.
OPEN SOURCE: И ВОЛКИ СЫТЫ, И ОВЦЫ ЦЕЛЫ
Ужесточение требований по использованию интеллектуальной собственности и соблюдению авторских прав, несомненно, вызовет повышенный интерес к программным продуктам на основе открытого кода – Open Source.
Одновременно с коммерческим, так называемым «проприетарным», софтом существует широчайшее поле «открытого», или свободного, программного обеспечения. Его идея заключается в том, что программные коды доступны для использования и редактирования, но результат редактуры должен быть обнародован и свободен для общего использования. Исходные коды открытых программ выпускаются либо как всеобщее достояние, либо на условиях «свободных» лицензий, как, например, GNU General Public License или BSD License. Таковые, как правило, выдвигают требование доступности кода и его распространения вместе с программным обеспечением. Его можно использовать для своих нужд, но с определенными ограничениями. В некоторых случаях (в частности, популярнейший веб-сервер Apache либо ставшая практически стандартом для большинства серверов операционная система FreeBSD) ограничения незначительны. «Лицензия не должна ограничивать право любых физических/юридических лиц продавать или бесплатно распространять программный продукт» – так говорится в Концепции Open Source.
В начале эволюции открытого ПО подобные разработки были доступны исключительно профессионалам. Отсутствие графических интерфейсов вроде Windows либо MacOS, непривычная архитектура системы, несовместимость форматов файлов со стандартами Microsoft, малое количество поддерживаемых аппаратных устройств отпугивали обычных пользователей. Они привыкли к удобству, простоте использования и настройки программных продуктов Microsoft и ему подобных производителей проприетарного ПО под Windows.
Несомненные преимущества открытого кода (свободное распространение, качество и производительность, которые обеспечиваются за счет работы «коллективного разума» десятков тысяч энтузиастов во всем мире) могли оценить только профессионалы программирования и системные администраторы. Однако сообщество Open Source развивалось, и многие гиганты рынка программного обеспечения, такие, например, как Sun Microsystems или Novell, осознав перспективы свободного ПО для коммерческого использования, стали вкладывать большие ресурсы в эти разработки.
Тем не менее вопрос о противопоставлении коммерческих программных продуктов и продуктов Open Source не столь принципиален, борьба между корпорациями и свободным ПО ведется в разных плоскостях. В конечном счете, в цивилизованном правовом обществе все зависит от удобства либо целесообразности использования того или иного продукта: пользователь (приобретатель) должен самостоятельно определять наиболее выгодные и функционально оправданные решения.
В России программное обеспечение с открытым исходным кодом наиболее активно применяется в структурах Министерства обороны. Министерство образования и науки до недавнего времени ориентировалось исключительно на Microsoft Windows. Эта операционная система, причем конкретная версия – Windows 2000, требовалась по условиям тендеров на компьютеризацию школ. Но в 2007-м в государственных структурах наметилась позитивная тенденция в отношении ПО с открытым кодом.
Важнейшая особенность такого рода программного обеспечения – доступность исходных текстов программ для самостоятельного изучения. Тем самым у российских разработчиков – от самых продвинутых до начинающих студентов либо даже старших школьников – появляется уникальная возможность максимально быстро постичь суть самых современных технологических решений и на равных влиться в общемировой процесс разработки программного обеспечения. Это тем более важно сегодня, когда уйти от сырьевого вектора развития можно лишь в сторону высоких наукоемких технологий.
В феврале 2007 года авторы проводили в петербургском информационном агентстве «Росбалт» «круглый стол», посвященный проблемам свободного ПО и его будущему применению в России. Участники – представители крупных ИТ-компаний, государственных учреждений и органов власти, включая Законодательное собрание Санкт-Петербурга, проявили большой интерес. Уже после мероприятия поступило значительное количество запросов повторить «круглый стол» в других городах, а итоговый ролик, выложенный организаторами в Интернет, скачали более 40 тысяч пользователей. Широкие массы специалистов всерьез задаются вопросом о том, как существовать дальше в условиях повышенного внимания государства к используемому в организациях ПО.
Для успешной интеграции России не только в ВТО, но и в общемировое ИТ-сообщество необходимо, чтобы государство содействовало обеспечению равноправной здоровой конкуренции, в том числе в области применения программного обеспечения. Все участники коммуникаций – и в частных, и в государственных структурах – для начала должны хотя бы в общих чертах знать о существовании различных типов ПО – закрытого (проприетарного) и открытого (свободного).
ВОПРОСЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Важным аспектом применения ПО являются вопросы информационной безопасности страны. Государство, планирующее занимать одну из ключевых позиций в мировом сообществе, должно быть уверено, что программное обеспечение, управляющее критически важными процессами (особенно в оборонной отрасли), не содержит «закладок», наличие которых способно повлечь за собой непредсказуемые последствия.
Предотвратить кризисы возможно посредством перехода государственных учреждений и организаций федерального подчинения на ПО с открытыми кодами. Министерство информационных технологий и связи и Министерство экономического развития и торговли уже выразили заинтересованность в подобной мере. Это имеет и важное экономическое значение. Направление бюджетных средств в российские компании вместо зарубежных, а также на оплату реальных сервисных служб и обучения позволит расширять ИТ-сферу внутри России. Лицензионные отчисления иностранным корпорациям из бюджетных средств представляются неэффективными расходами государства в ИТ-бизнесе.
Свободное ПО – это уникальная возможность. Ее можно и нужно использовать, например, при создании новой отрасли промышленности, связанной с программным обеспечением. Приходит время активных действий, и если в процесс будут вовлечены все стороны, заинтересованные в развитии отечественной ИТ-индустрии, то Россия сможет не только избавиться от внешней зависимости, но и решить локальные задачи, направить средства на развитие своей экономики.
В 2003-м в рамках рабочей группы при Министерстве связи и информатизации РФ (прежнее название ведомства. – Ред.) была разработана «Концепция базового программного обеспечения в Российской Федерации». В ней содержатся предложения по созданию отечественной отрасли производства и обслуживания собственного ПО на базе открытых программных продуктов. Основная идея этой концепции – необходимо оснастить все государственные институты софтом отечественной разработки. Эффект от этого будет разнообразным: в области безопасности (в том числе военной), экономики (масштабная экономия бюджетных средств, дальнейшее развитие сферы ИТ-услуг), социальной сферы (образование новых рабочих мест, наращивание интеллектуального потенциала), научного процесса (вовлечение научных и учебных заведений всей страны в разработки). (Ознакомиться с данной Концепцией можно по адресу http://www.linuxformat.ru/docs/bpo_concept.phtml)
Подобные проекты есть и за рубежом. Экономические программы для стимулирования перехода различных отраслей на открытые технологии разрабатываются в Индии и Китае, сделаны заявления об использовании Linux в качестве официальной государственной операционной системы (ОС). Еще в 2003 году ряд госкомпаний Японии, Южной Кореи и Китая начали работы по созданию собственной ОС, которая должна избавить от внешней зависимости. Сингапур, Тайвань и Германия намерены внедрять серверные решения на базе Linux, мотивируя это прежде всего соображениями экономии средств. Очевидно, что движение в этом направлении будет развиваться.
В рамках стратегического развития российских ИТ следует обеспечить возможность свободного осознанного выбора различных видов применяемого программного обеспечения – особенно для государственных предприятий и организаций. В государственной политике необходимо избегать тенденций к монополизму, поскольку здоровое развитие обеспечивается именно благодаря свободной конкуренции. Как доказывает развитие глобальной экономики и тем более информационных технологий, использование такого типа ПО – продукции собственных разработчиков, находящихся на территории России и выполняющих международные правила General Public License (GPL), – мощная составляющая национальной безопасности.
* * *
Россия должна использовать достижения мирового сообщества и в полном соответствии с лицензией GPL применить разработки программных продуктов Open Source для развития собственной ИТ-индустрии. Стране, которая претендует на значительную роль в глобальной экономике, необходима независимость в отношении базового программного обеспечения, каким является любая операционная система. Информационные технологии – одна из самых важных сфер человеческого развития в постиндустриальном мире. Сегодня же получается, что на средства российских налогоплательщиков поддерживается не самая бедная ИТ-отрасль экономики США. В отсутствие государственной программы поддержки российской ИТ-отрасли огромные средства уходят зарубежным компаниям, а отечественные разработчики зачастую остаются на грани финансового выживания.
Разумеется, нельзя настаивать на полном «изгнании» иностранного ПО: любой программный продукт обладает собственной нишей, пользователям нужна полная свобода выбора. Но в той части, которая решающим образом влияет на информационную безопасность, а именно, в части операционных систем, требуется четкая государственная политика – ОС, используемая в государственных структурах, оборонной промышленности, образовании и так далее, – должна иметь местные «корни». Именно в сфере образования необходима как можно большая свобода действий для изучения альтернативных Microsoft операционных систем. В этом случае Россия получит поколение людей, свободно ориентирующихся в любых сложных программных средах, способное творчески подходить к широчайшим возможностям, предоставляемым ИТ, и тем самым уйти от необходимости вслепую потреблять монопольный продукт единственного иностранного производителя.

Буш и генералы
© "Россия в глобальной политике". № 3, Май - Июнь 2007
Майкл Деш руководит кафедрой теории принятия решений по вопросам разведки и национальной безопасности в Школе государственного и общественного управления имени Джорджа Буша-старшего при Сельскохозяйственном и политехническом университете Техаса. Автор монографии «Гражданский контроль над Вооруженными силами» (Civilian Control of the Military) и готовящейся к печати книги «Демократия торжествует?» (Democracy Triumphant?). Статья опубликована в журнале Foreign Affairs, № 3 (май – июнь) за 2007 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
Резюме Конфликт между военными и гражданскими руководителями Соединенных Штатов начался не при Джордже Буше-младшем, но действия именно его администрации и пренебрежение мнением военных экспертов усугубили проблему. Новый министр обороны должен восстановить разделение труда, при котором генералы отвечают за тактику, а штатские – за стратегию. В противном случае он рискует еще больше дискредитировать идею гражданского контроля над армией.
РАСКОЛ МЕЖДУ ШТАТСКИМИ И ВОЕННЫМИ
Не секрет, что с началом войны в Ираке отношения между Вооруженными силами (ВС) США и гражданскими чиновниками администрации Джорджа Буша заметно испортились. Согласно опросу, проведенному Military Times, в 2006 году почти 60 % военнослужащих не верили, что штатские в Пентагоне «болеют за их интересы». Доклад межпартийной Группы по изучению положения в Ираке (в нее входил Роберт Гейтс, пока президент не назначил его главой Пентагона вместо Доналда Рамсфелда), опубликованный в декабре 2006-го, содержал прямую рекомендацию «новому министру обороны предпринять все усилия для того, чтобы выстроить здоровые отношения между штатскими и военными». Достичь данную цель предлагалось «путем создания условий, в которых военное командование сможет свободно обращаться с независимыми рекомендациями не только к гражданскому руководству в Пентагоне, но также и к президенту и Совету национальной безопасности».
Однако напряженность в отношениях между штатскими и военными началась отнюдь не с Ирака; иракская проблема просто выявила разлад, существовавший десятилетиями. Во время вьетнамской войны многие офицеры пришли к убеждению: их безусловное подчинение гражданскому руководству способствовало фиаско, и в будущем высшему военному командованию не следует молча соглашаться, когда штатские в Вашингтоне поведут их по пути, ведущему к стратегическим промахам.
Некоторое время после Вьетнама штатские и военные элиты избегали прямой конфронтации. Военное руководство сосредоточило усилия на перестройке Вооруженных сил для ведения традиционной войны против стран – членов Организации Варшавского договора, а гражданские чиновники без особого сопротивления следовали избранной ими тактике. Однако с окончанием холодной войны на поверхность всплыли глубокие разногласия о том, следует ли использовать военных в иных операциях, кроме войн за границей, и как адаптировать военные институты к меняющимся общественным нравам.
Администрация Джорджа Буша пришла в Белый дом, исполненная решимости заново утвердить контроль штатских над военными, и это намерение еще ярче проявилось после 11 сентября 2001 года. Доналд Рамсфелд пообещал «трансформировать» ВС страны и использовать их для ведения глобальной войны против терроризма. Когда чиновники из администрации Буша считали, что, планируя кампанию в Ираке, военное командование демонстрирует чрезмерную осторожность, они без колебаний игнорировали мнение военных о необходимой численности посылаемых войск и конкретном моменте их развертывания. А когда положение в Ираке ухудшилось после падения Багдада, напряженность вновь обострилась.
Отставные генералы требовали увольнения Рамсфелда. В Объединенном комитете начальников штабов (ОКНШ) ВС США, как сообщается, существует настолько глубокая озабоченность планами Белого дома по применению ядерного оружия в упреждающей атаке против ядерной инфраструктуры Ирана, что некоторые из его членов угрожали отставкой в знак протеста. В рамках политики «наращивания» в Ирак были дополнительно отправлены десятки тысяч военнослужащих – вопреки рекомендациям значительной части военных.
Поэтому новому министру обороны со многим придется разбираться. В краткосрочной перспективе Гейтс должен разыграть эндшпиль иракской войны, которую, по его признанию, Соединенные Штаты «не выигрывают», но которую ни он, ни президент не хотят «проиграть». Ему предстоит продолжить работу над трансформацией Вооруженных сил США, одновременно пытаясь поднять боевой дух наземных войск, во многом деморализованных в результате непрекращающихся почти четыре года боевых действий в Афганистане и Ираке. Но на успешное решение этих задач Гейтс может надеяться только в том случае, если ему удастся восстановить отношения сотрудничества между гражданскими и армейскими начальниками. Ему необходимо пересмотреть методы осуществления контроля штатским руководством над армией и в то же время прояснить границы легитимного «инакомыслия» военных.
Главное – Гейтсу необходимо признать, что вмешательство Рамсфелда в значительной мере усугубило проблемы в Ираке и не только. Лучшее решение – вернуться к прежнему разделению труда. Гражданские с должным уважением воспринимают профессиональные рекомендации военных, относящиеся к тактической и оперативной сферам. Те же в свою очередь полностью подчиняются решениям по вопросам большой стратегии и политики. Успех пребывания Гейтса в Пентагоне будет зависеть от того, сможет ли он восстановить необходимое равновесие между штатскими и военными.
ОТДАВАТЬ ЧЕСТЬ И ПОВИНОВАТЬСЯ?
Отношениям между высшим военным командованием и его штатскими контролерами присуще напряжение. Вопреки распространенному представлению, дебаты об использовании силы обычно сводятся к противостоянию между упирающимися генералами и воинственно настроенными штатскими. Нынешняя трещина образовалась фактически еще в годы войны во Вьетнаме.
Решение об интервенции во Вьетнаме продвигали в основном гражданские лидеры: президенты Джон Кеннеди и Линдон Джонсон, министр обороны Роберт Макнамара, госсекретарь Дин Раск, помощник президента по национальной безопасности Макджордж Банди, а также поддерживавшая их группа чиновников более низкого ранга. Высшее военное командование с самого начала не испытывало энтузиазма по поводу отправки американских сухопутных сил в Юго-Восточную Азию. Даже после того как гражданские чиновники убедили генералов, что на карту поставлены жизненно важные национальные интересы, у военных оставались серьезные сомнения относительно вашингтонской стратегии ведения наземной и воздушной войн. К лету 1967-го недовольство военных достигло такой степени, что, как сообщается, Объединенный комитет начальников штабов подумывал о коллективном уходе в отставку. Ее не произошло, однако младшие офицеры запомнили вред, причиненный готовностью военного командования отдавать честь и беспрекословно повиноваться в годы войны во Вьетнаме.
В одном из самых запоминающихся фрагментов своих мемуаров бывший государственный секретарь Колин Пауэлл вспоминает, как во время вьетнамской кампании «военные как единая организация не сумели вести прямой диалог ни со своим политическим руководством, ни друг с другом. Командование ни разу не пришло к министру обороны или президенту и не сказало: эту войну нельзя выиграть теми способами, какими мы ее ведем». Книга полковника Х. Р. Макмастера «Преступная халатность» (Dereliction of Duty), давно включенная в список литературы для чтения председателем ОКНШ, демонстрирует, что этот урок Вьетнама как следует усвоен современным офицерским корпусом. Подспудная мысль военного бестселлера Макмастера состоит в том, что принцип безоговорочной лояльности Верховному главнокомандующему ВС необходимо пересмотреть.
Вьетнамский опыт оказался миной замедленного действия, дожидавшейся момента взорвать взаимоотношения штатских и военных. Только холодная война удерживала ее от того, чтобы сработать. Тогда обе стороны соглашались в том, что приоритетная миссия военных – подготовка к традиционной войне в Европе против стран – членов Организации Варшавского договора, и штатские лидеры предоставили военным значительную свободу действий в выборе соответствующих средств. Тем не менее начальник штаба Сухопутных войск генерал Крейтон Абрахамс сознательно перестроил структуру регулярных армейских дивизий таким образом, чтобы их нельзя было привлечь к участию в войне, не задействовав резервистов или «бригад пополнения» Национальной гвардии. Тем самым генерал обеспечил такие условия, при которых будущим президентам придется провести в стране всеобщую мобилизацию для ведения крупномасштабной войны.
Выросший после вьетнамской войны офицерский корпус начал по-настоящему укреплять свои позиции только тогда, когда у руля государства встал Билл Клинтон – первый президент эпохи, наступившей вслед за окончанием холодной войны. Он занял свой пост, уже имея непростые отношения с военными. Значительные сокращения военного бюджета (на 27 % с 1990 по 2000 год) и личного состава (на 33 % регулярного персонала за тот же период), а также амбициозная социальная повестка дня (интеграция гомосексуалистов в ВС страны и разрешение женщинам служить в боевых частях войск) привели к откровенно враждебным отношениям между штатскими и военными лидерами. Значительное повышение темпа военных операций, характеризовавшее развертывание воинских контингентов на Гаити, в Сомали, Боснии и других «горячих точках» планеты, привело только к нарастанию напряжения.
Натянутые отношения Клинтона с военными негативно сказались на его способности выполнить ряд предвыборных обещаний. Раскритиковав администрацию Буша-старшего за ее недостаточные усилия по прекращению кровопролития во время гражданской войны в Боснии, Клинтон пообещал, что будет проводить более настойчивую политику в сфере гуманитарного вмешательства. В ответ Пауэлл (в то время председатель ОКНШ) опубликовал комментарий в газете The New York Times и статью в журнале Foreign Affairs, возражая против такой политики и выступая за более ограничительный характер критериев допустимости применения силы. Эта концепция стала известна как доктрина Пауэлла. Сомнения военных относительно целесообразности наземного вмешательства в Боснии сыграли важную роль в том, что, применяя силу, США ограничились авиационными ударами в августе 1995 года.
Еще одной из первых инициатив Билла Клинтона было намерение положить конец практике Пентагона по недопущению гомосексуалистов к службе в армии. Это положение тоже являлось важным пунктом предвыборной платформы, которому, как сообщается, президент был глубоко привержен в плане защиты гражданских свобод. Однако, когда Клинтон попытался выполнить свое обещание, он попал под яростный огонь критики со стороны военных и оппозиции в Конгрессе. Ему пришлось отступить и согласиться на далеко не идеальный для него компромисс – «не спрашивай и не рассказывай», что не рассматривается большинством аналитиков как реальное изменение политики.
Неудовлетворительные отношения между штатскими и военными, которые омрачили первые годы работы клинтоновской администрации, сохранились до самого конца второго срока президентства Клинтона. К весне 1999-го стало очевидно, что только военное вмешательство заставит президента Сербии Слободана Милошевича прекратить этнические чистки в Косово. Клинтон и его штатские советники, такие, как государственный секретарь Мадлен Олбрайт и помощник по национальной безопасности Сэнди Бергер, выступали за тактику нанесения ограниченных авиационных ударов, сопровождаемых угрозами сухопутной операции. Однако ОКНШ настаивал на более широкой воздушной кампании, сопротивляясь идеям использовать любые угрозы наземных действий.
Через считанные дни после начала войны из Пентагона пошли утечки – мощный поток информации о том, как президент начал интервенцию в Косово вопреки советам военных. В дальнейшем ОКНШ предпринимал равные усилия и для сдерживания кампании в Косово, и для содействия ей – вплоть до проволочек с выделением необходимых сил для проведения операции НАТО под командованием генерала Уэсли Кларка. Обещая предоставить в распоряжение Кларка все необходимое, Пентагон на несколько недель задержал отправку запрошенных ударных вертолетов Apache, а впоследствии так и не позволил ему реально использовать их.
Нет ничего удивительного в том, что военные сопротивлялись многочисленным инициативам администрации Билла Клинтона. В конце концов высшее военное командование, пережив поражение во Вьетнаме, убедилось: штатским нельзя доверять принятие весомых решений, отражающихся как на внутренней организации армии, так и на том, где и как используются ВС. Колин Пауэлл с гордостью рассказывал, как он вместе со своими поствьетнамскими армейскими коллегами «поклялся, что, когда придет [их] время принимать решения, они не станут молчать и соглашаться на войну в полсилы и без достаточно серьезных оснований».
Даже после того как в 1993-м сам Пауэлл ушел в отставку, доктрина, названная его именем, продолжала жить и процветать в Пентагоне. Преемник Пауэлла на посту председателя ОКНШ, генерал Хью Шелтон, сказал мне в ходе интервью в 1999 году: «Я твердо верю в доктрину [бывшего министра обороны Каспара] Уайнбергера, развитую генералом Пауэллом, и считаю, что мы следовали ей» в ходе операции в Косово. Вторя Пауэллу, он утверждал, что ВС должны быть использованы только в самую последнюю очередь. При отправке американских войск для участия в боевых действиях Шелтон предложил учитывать то, что он называл «проверкой Довером»: «Когда тела погибших начнут доставлять на родину, будем ли мы по-прежнему считать, что это служит интересам Соединенных Штатов?» (Довер – название авиабазы в штате Делавэр, куда доставляют тела погибших американских военнослужащих. – Ред.).
БУНТ ШТАТСКИХ
Многие ожидали, что избрание на пост президента Джорджа Буша-младшего в 2000-м приведет к новому золотому веку взаимодействия и доброжелательных отношений между штатскими и военными. В конце концов, Буш боролся за голоса военных, обещая, что к ним «идет помощь» после восьми лет якобы пренебрежения их интересами. В своей речи по случаю выдвижения республиканцами его кандидатуры на должность президента США (август 2000 г.), Буш предостерег: «Нашим Вооруженным силам не хватает технического оснащения, зарплаты и боевого духа. Если Верховный главнокомандующий призовет их сегодня, целых две дивизии вынуждены будут доложить: “Не готовы к выполнению задания”. У нынешней администрации был подходящий момент. У них (демократов. – Ред.) имелся шанс. Они не смогли стать достойными командирами. Мы сможем». Казалось бы, у администрации, в которую входили два бывших министра обороны (Рамсфелд и вице-президент Дик Чейни), а также бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов (Пауэлл), должны были установиться превосходные отношения с высшим военным командованием.
Однако помимо всего прочего Буш вступил в Белый дом с амбициозной повесткой дня в сфере оборонной политики, что сделало продолжение конфликта между штатскими и военными практически неизбежным. В своем выступлении в «Цитадели» (военное училище в штате Южная Каролина. – Ред.) в сентябре 1999 года Буш заявил, что намерен «заставить» военных «думать по-новому и принимать сложные решения». В первые несколько месяцев работы новой администрации Рамсфелд начал трансформировать американские Вооруженные силы в направлении, которое, как надеялись и он сам, и другие гражданские чиновники, должно было привести к «революции в военных вопросах».
Это незамедлительно вызвало трения с военным руководством и их союзниками на Капитолийском холме, у которых были серьезные претензии как к стилю работы нового министра обороны, так и к сути его политики. Рамсфелд отмахнулся от подобной озабоченности. «Если это кому-то не нравится и их восприятие таково, что это их задевает, мне жаль, – заявил он пресс-службе Пентагона. – Но такова жизнь, потому что перед нами стоят серьезные задачи, и мы должны их успешно выполнить. Мы должны их выполнить хорошо. Конституция устанавливает гражданский контроль над данным ведомством. Я – гражданский. И, поверьте мне, мы тут добились грандиозных успехов. Мы столько осуществили за последние два года! А такого не сделаешь, если просто стоять, заткнув уши, и надеяться, что всем вокруг это нравится».
Некоторые романтики-военные, такие, как адмирал Уильям Оуэнс и вице-адмирал Артур Сибровски, примкнули к стану адептов трансформации. Но Рамсфелд не доверял даже тем людям в мундирах, которые, как казалось, поддержали его революцию. Трансформация, считал он, произойдет, только если гражданские будут подталкивать этот процесс и управлять им. В результате к осени 2001-го отношения Рамсфелда с высшим военным командованием и руководством Конгресса стали хуже некуда. Многие наблюдатели предсказывали, что именно он станет первой «кабинетной» потерей в администрации Буша.
Теракты 11 сентября 2001 года и начальные стадии глобальной войны с терроризмом в Афганистане обусловили временное перемирие между Рамсфелдом и высшим военным командованием. Но как только администрация Буша дала понять, что рассматривает Ирак как следующий фронт (взгляд, не разделявшийся большинством профессиональных военных), перемирие было нарушено. Столкнувшись с тем, что представлялось им непримиримостью военных, Рамсфелд и заместитель министра обороны Пол Вулфовиц без особых угрызений совести вмешивались в решение таких вопросов, как надлежащая численность войск и фазы их развертывания для проведения операции «Иракская свобода».
Самым явным проявлением настроя штатских на игнорирование мнения профессиональных военных по тактическим и оперативным вопросам стал эпизод, когда Рамсфелд бесцеремонно отмахнулся от расчетов необходимой численности войск, подготовленных начальником штаба Сухопутных войск генералом Эриком Шинсеки. В феврале 2003-го, выступая перед Конгрессом, Вулфовиц отмел прогноз Шинсеки о том, что Соединенным Штатам понадобится не меньше «нескольких сотен тысяч военнослужащих» для послевоенных операций по стабилизации. По мнению замминистра обороны, данные оценки «были серьезно преувеличенными». Вулфовиц одержал верх.
Когда такие «послевоенные» операции оказались проблематичными, упреки и взаимные обвинения между недавно ушедшими в отставку генералами и штатским руководством в администрации Буша обнажили постоянные противоречия в отношениях между гражданскими и военными лидерами Соединенных Штатов. Генерал-лейтенант Грегори Ньюболд, бывший директор по оперативным вопросам ОКНШ, в своей острокритической статье в журнале Time написал: он «искренне считает… что отправка [американских] войск на эту войну была произведена с такой небрежностью и чванством, какие присущи только тем, кому никогда не приходилось выполнять подобные миссии или хоронить павших товарищей». Ньюболд присоединился к множеству других недавно ушедших в отставку генералов, в том числе генералу Энтони Зинни (экс-глава Центрального командования), генерал-майору Полу Итону (бывший руководитель миссии по военной подготовке иракской армии), генерал-майору Джону Риггсу (бывший начальник рабочей группы по реформированию армии) и генерал-майорам Чарлзу Суоннаку и Джону Батисте (бывшие командующие дивизиями в Ираке), которые требовали отставки Рамсфелда. Согласно опросу общественного мнения, проведенному Military Times, 42 % американских военнослужащих не одобряют то, как президент Буш ведет войну в Ираке.
Осенью 2006 года Белый дом и не входящие в администрацию влиятельные «ястребы» в конце концов согласились с тем, что численность американских войск недостаточна для удержания под контролем проблемных районов Ирака. Но к тому времени высшее военное командование в Ираке пришло к выводу, что силы США сами составляют скорее часть проблемы, чем ее решение, поскольку повстанческое движение перешло в межконфессиональную войну. Поэтому вместо того чтобы просить прислать дополнительные воинские части, как они делали в период подготовки к войне, многие высшие командиры в Ираке стали утверждать, что Соединенным Штатам необходимо снизить активность и сократить зону своего присутствия. По данным Military Times, план по увеличению численности войск получил поддержку менее 40 % населения.
В ноябре генерал Джон Эбизейд, нынешний глава Центрального командования, заявил в сенатском Комитете по делам Вооруженных сил, что «не верит, будто увеличение численности американских войск является на данный момент решением проблемы» в Ираке. В ответ на настойчивые расспросы сенатора-республиканца Джона Маккейна Эбизейд пояснил, что «встречался со всеми командирами дивизий, с командиром корпуса генералом [Джорджем] Кейси, с генералом [Мартином] Демпси [главой Командования многонациональных сил по обеспечению безопасности в Ираке]. …И я спросил: “Пойди мы сейчас на увеличение численности американских войск, смогло бы это, по вашему профессиональному мнению, значительно расширить наши возможности добиться успеха в Ираке?” И все они ответили: нет».
Эбизейд и другие высшие военные руководители США считают, что рост числа американских военнослужащих в Ираке приведет к обратным результатам. Как объяснил Эбизейд в телепрограмме «60 минут», «всегда существовало это противоречие между тем, что можем сделать мы, а что делают иракцы. Мы могли бы, конечно, попытаться все сделать в Ираке своими руками, но таким путем страну не стабилизировать». Давая показания на слушаниях в Конгрессе, он отметил: «Мы можем завтра отправить еще 20 тысяч американцев и добиться временного эффекта… [но] когда вы посмотрите на совокупность американских сил, которые там сейчас находятся, то поймете: мы просто не располагаем сейчас способностью сохранять такое присутствие, учитывая численность Сухопутных войск и Корпуса морской пехоты». Однако, несмотря на эти протесты, штатские в Вашингтоне снова одержали верх над военным руководством, что и привело к нынешней политике «наращивания».
ШТАБНЫЕ КРЫСЫ
Почему отношения между штатскими и военными обострились при администрации Буша? В книге «Возвышение вулканцев» (Rise of the Vulcans) Джеймс Манн рассказывает, что ключевые штатские чиновники в занимавшейся вопросами национальной безопасности команде Буша (эта команда называла себя «вулканцами» по имени древнеримского бога огня, 55-метровая статуя которого установлена на родине бывшего помощника президента по национальной безопасности Кондолизы Райс. – Ред.) полагали, что администрация Клинтона не сумела удержать военных в узде. Известно, что Рамсфелд считал гражданский контроль над военными основной функцией министра обороны. Вместе с Вулфовицем и другими высшими чиновниками администрации он пришел на свой пост, будучи убежденным в том, что потребуется более настойчивое вмешательство гражданских в дела армии, с тем чтобы преодолеть ведомственное местничество и бюрократическую инерцию.
После 11 сентября 2001-го Рамсфелд и другие штатские – сторонники войны, которая поставила бы своей целью свержение иракского режима, осознали: основным препятствием началу такой войны – и проведению ее с использованием минимальных сил (что соответствовало взглядам Рамсфелда на трансформацию американских ВС) – является высшее руководство армии США.
Вместо того чтобы прислушиваться к предостережениям профессиональных военных, они преисполнились решимости преодолеть как широко распространенный в среде военных скептицизм по отношению к войне, так и, как им казалось, бюрократическую инерцию, определявшую представления военного ведомства о численности и составе войск, необходимых для выполнения миссии. Тот факт, что именно Вулфовиц, а не Шинсеки одержал верх в дебатах о численности войск, необходимой для ведения войны в Ираке, показывает, насколько успешны усилия администрации Буша по упрочению власти штатских чиновников над военными.
Члены администрации, решительно настроенные на восстановление гражданского контроля, были готовы даже сами погрузиться в оперативные вопросы, такие, как определение численности сил и составление графика их развертывания. Как вспоминает бывший министр Сухопутных войск Томас Уайт, Рамсфелд хотел «показать всем в структуре, что он несет ответственность за все и собирается руководить, возможно, еще более досконально, чем предыдущие министры обороны, и что он намерен заниматься операционными вопросами». Столь глубокий характер гражданского контроля не мог не усилить трения с военными.
В своем содержательном труде «Солдат и государство» (The Soldier and the State), посвященном отношениям между гражданскими и военными, Самьюэл Хантингтон предложил систему, позволяющую установить баланс между компетенцией военных и всеобъемлющим политическим верховенством гражданских; эту систему ученый назвал «объективный контроль». Хантингтон рекомендовал, чтобы гражданское руководство предоставило профессиональным военным значительную автономию в тактической и оперативной сфере в обмен на их полное и безусловное подчинение гражданскому контролю в вопросах политики и большой стратегии. Хотя эта система не всегда находила практическое выражение, она в течение 50 лет формировала представление о том, как гражданским властям следует осуществлять надзор за ВС США. Когда ее не нарушали, она приводила и к хорошим в целом отношениям между штатскими и военными, и к разумным политическим решениям.
Администрация Буша предпочла фундаментально иной подход к гражданскому контролю. Чиновники администрации опасались, что если гражданские не будут агрессивно и неустанно подвергать сомнению политику и решения военных на всех уровнях, то им не удастся выполнить задачи радикальной трансформации Вооруженных сил и перехода к совершенно новым способам их использования. Бывший член Совета по оборонной политике Элиот Коэн, которого госсекретарь Кондолиза Райс недавно назначила на должность советника Госдепартамента, дал интеллектуальное обоснование такому усилению вмешательства. Его работу «Верховное командование» (Supreme Command) читали многие высшие чиновники из тех, кто входит в команду Буша, занимающуюся вопросами национальной безопасности. Говорят, что эта книга даже оказалась на прикроватной тумбочке в спальне президента в Кроуфорде (штат Техас).
Основная идея Коэна состоит в том, что для военного успеха совершенно необходимо вмешательство гражданских не только на стратегическом, но и на тактическом и оперативном уровне. Чтобы преодолеть сопротивление или некомпетентность военных, гражданскому руководству необходимо быть готовым глубоко «зондировать» военные вопросы посредством «неравного диалога» с подчиненными им профессиональными военными. Комментируя в мае 2003 года деятельность администрации Буша, Коэн с одобрением отметил, что «Рамсфелд производит впечатление весьма активного министра обороны, действия которого вполне вписываются в рамки поведения, необходимого для правильного военно-гражданского диалога. Он подталкивает, изучает, сомневается, но, как мне кажется, не навязывает военным детального плана действий. [По Ираку] администрация Буша поддерживала чрезвычайно интенсивный диалог с высшим военным командованием, и, по-моему, это было правильно». Даже в конце апреля 2006-го Коэн все еще считал, что «можно многое сказать в защиту министра обороны Доналда Рамсфелда, возражая на недавние нападки полудюжины генералов в отставке», критиковавших министра за то, как он и его помощники вели войну в Ираке.
К несчастью, все пошло не по плану, и в ретроспективе кажется, что для Соединенных Штатов было бы гораздо лучше, прочитай Буш во время летнего отпуска в 2002 году книгу Хантингтона «Солдат и государство», а не «Верховное командование» Коэна. Учитывая нынешнюю тяжелую ситуацию в Ираке (а это прямой результат намеренного небрежения советами военных), наследием Буша в отношениях между штатскими и военными, скорее всего, станет нечто прямо противоположное тому, на что рассчитывала его команда, – дискредитация самого понятия гражданского контроля над военными.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАВНОВЕСИЯ
Положение, в котором оказался министр обороны Роберт Гейтс, сложно вдвойне: в деле трансформации Вооруженных сил США достигнуто мало реального прогресса, а Вооруженные силы втянуты в конфликт, к которому даже сам руководитель военного ведомства относится без оптимизма. Хуже того, он вынужден заниматься этими проблемами в атмосфере явного охлаждения отношений между штатскими в администрации Буша и высшим военным командованием. Бывший министр Сухопутных войск Уайт отметил, говоря об общем наследии Буша и Рамсфелда: «По определению [министры обороны] являются штатскими. У некоторых в молодости мог быть опыт службы в армии, однако их работа, помимо прочего, состоит в том, чтобы выслушивать мудрые советы военных, обдумывать их, в большей степени доверять им, а затем принимать решения. Вопрос в том, не потеряли ли мы равновесие в этой сфере? Мне кажется, они зашли слишком далеко». Таким образом, главная проблема Гейтса – восстановление баланса между штатскими и военными.
Разумеется, Гейтс не может и не должен избегать обязанности осуществлять гражданский контроль над Вооруженными силами. В демократической политической системе решения о войне и мире должны приниматься не солдатами, а избирателями через избранных ими лидеров. Однако в то же время Роберту Гейтсу необходимо приветствовать, а не отметать откровенные советы высшего военного командования, даже если они идут вразрез с политикой администрации.
Право и долг военных – быть выслушанными. В конце концов, военнослужащие являются экспертами в вопросах ведения войн, и именно их жизни в конечном счете ставятся на кон. Если старшие офицеры чувствуют, что их рекомендации игнорируют или что им отдают приказы, не соответствующие моральным нормам, они должны уходить в отставку. И действительно, если бы Шинсеки либо Ньюболд уволились в период подготовки войны в Ираке, этот шаг стал бы очень ярким показателем скептического отношения военных к этой войне и куда более эффективным фактором, чем протесты постфактум. Угрозы членов Объединенного комитета начальников штабов уйти в отставку, возможно, влияют на политику администрации в отношении Ирана (включая крушение планов по применению ядерного оружия против иранских укрепленных ядерных сооружений). Но за исключением подобных чрезвычайно серьезных случаев, высказав свое мнение, старшие военные офицеры должны отдать честь и подчиниться.
По иронии судьбы генерал Дэвид Петриус, недавно назначенный командующим объединенными силами в Ираке, возглавляемыми США, в прошлом писал о неспособности высшего военного командования откровенно говорить о войне во Вьетнаме и о том, как это повлияло на последующие отношения между штатскими и военными. Петриус сам сейчас находится в положении, позволяющем выступать с рекомендациями в адрес и администрации, и нового состава Конгресса с демократическим большинством. Во время слушаний о его утверждении в должности, прошедших в сенатском Комитете по делам вооруженных сил, Петриус пообещал, что будет давать «самые полезные профессиональные военные советы, а если они окажутся не по вкусу, пускай поищут кого-нибудь другого». Остается надеяться, что генерал будет высказываться откровенно, а Гейтс – к нему прислушиваться.
Должное равновесие сохранит за гражданским руководством право принимать политические решения. Например, о том, оставаться ли Соединенным Штатам в Ираке, или следует ли им применять силу против Ирана. У военных же останутся широкие полномочия самостоятельно принимать тактические и оперативные решения о путях и способах выполнения данной миссии. Граница между двумя зонами ответственности не всегда является идеально четкой, и иногда военные соображения влияют на политические и наоборот. Однако альтернатива – вмешательство гражданских в сферу компетенции военных – почти так же плоха, как и участие военных в политике. Каждый раз, когда баланс между штатскими и военными нарушается в ту или в другую сторону, страдает вся страна.

Грядет ли холодная война?
© "Россия в глобальной политике". № 2, Март -Апрель 2007
А.Г. Арбатов - член-корреспондент РАН, член редакционного совета журнала «Россия в глобальной политике».
Резюме В отличие от биполярного мира, в многополярной системе международных отношений противостоянием России и Запада неминуемо и немедленно воспользуются другие «центры силы», чтобы с его помощью добиться собственных целей.
Выступление президента России Владимира Путина в Мюнхене 10 февраля 2007 года стало если не водоразделом, то наверняка заметной вехой в отношениях Российской Федерации с Соединенными Штатами и другими странами Запада. Некоторые эксперты и наблюдатели заговорили даже о наступлении эры новой холодной войны. Но действительно ли все так плохо и дело идет к глобальному противостоянию двух держав и коалиций?
КАК БЫЛО...
Холодная война - политический феномен, продукт особого исторического периода, продолжавшегося с конца 40-х до конца 80-х годов прошлого века. Ее основополагающей чертой была ярко выраженная биполярность структуры международных отношений, расколовшая мир по линии Восток - Запад. В 1950-е СССР и США разделили на сферы влияния Европу и Азию, а в 1960-е и 1970-е - Латинскую Америку и Африку. Центральный разлом расколол несколько стран и народов: Германию, Корею, Вьетнам, Китай (отделив Тайвань), Палестину (современный конфликт между арабами и евреями стал, по сути, результатом геополитических маневров великих держав при переделе палестинских территорий). Мир фактически превратился в арену напряженного соперничества двух сверхдержав, которое с переменным успехом продолжалось вплоть до конца 1980-х годов.
Практически в любом локальном и региональном вооруженном конфликте сверхдержавы оказывались по разные стороны баррикад. Так было в Корее, Индокитае, Алжире, вокруг Кубы, в Южной Азии, в ходе четырех войн на Ближнем Востоке, в странах Африканского Рога, в Анголе, Мозамбике, Никарагуа и Афганистане.
Планета, как минимум, трижды вплотную подходила к Третьей мировой войне (во время второго и четвертого ближневосточных конфликтов в 1957 и 1973 годах, в период берлинского кризиса 1961-го), а однажды (в дни Карибского - ракетного - кризиса в 1962 году) роковую черту чуть было не переступили. Катастрофы удалось избежать, скорее всего, благодаря счастливому стечению обстоятельств и сдерживающей роли ядерных вооружений, накопленных обоими противниками.
Опасаясь прямого военного столкновения, сверхдержавы и их союзники изобрели суррогат военных действий в форме интенсивного соревнования по подготовке к войне - гонку вооружений. В пиковые периоды в строй вводились в среднем по одной межконтинентальной баллистической ракете (МБР) ежедневно и по одной стратегической ракетной подводной лодке в месяц, в другие времена - по тысяче и более ядерных боеголовок на стратегических ядерных силах (СЯС) ежегодно. Масштабы наращивания и модернизации обычных вооружений были не менее впечатляющими, особенно в 1960-е и начале 1980-х в НАТО и в 1970-1980-е в Организации Варшавского договора (ОВД). Каждая сторона ежегодно вводила в строй сотни боевых самолетов и тактических ракет разного класса, тысячи единиц бронетехники и артиллерии, десятки боевых кораблей и многоцелевых подводных лодок.
В обоснование глобального соперничества и оправдание связанных с ним жертв стороны вели непримиримую идеологическую борьбу, демонизируя противника и приписывая ему самые зловещие заговоры и агрессивные намерения. Это имплицитно снимало необходимость понимать точку зрения другой стороны, считаться с ее интересами и соблюдать по отношению к ней те или иные нормы морали и права.
Холодная война достаточно отчетливо распадается на два этапа. Первый (с конца 1940-х до конца 1960-х годов) - биполярность в «чистом» виде. Второй (конец 1960-х - конец 1980-х) - начало формирования многополярности. Китайская Народная Республика выделилась в самостоятельный «центр силы», конфликт между Пекином и Москвой вылился в вооруженные столкновения на границе в 1969 году, а после вторжения китайских войск во Вьетнам в 1979-м СССР и КНР оказались на грани войны. Биполярность ослабевала и по мере роста политико-экономического влияния Западной Европы (например, «новая восточная политика» канцлера ФРГ Вилли Брандта) и развития Движения неприсоединения во главе с Индией и Югославией.
...И КАК ЕСТЬ
Нынешний рост напряженности в отношениях между Россией, с одной стороны, и США, НАТО, Европейским союзом - с другой, не имеет ничего общего с холодной войной второй половины XX века.
Во-первых, отсутствует ее системообразующий элемент - биполярность. Наряду с глобальными и трансрегиональными центрами экономической и военной силы, такими, как США, ЕС, Япония, Россия, Китай, крепнут региональные лидеры - Индия, тихоокеанские «малые тигры», страны - члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Иран, Бразилия, ЮАР, Нигерия.
Кроме того, традиционные формы межгосударственных отношений размываются мощными течениями глобализации и информационной революции, повсеместным ростом национализма, выходом на авансцену транснациональных экономических, политических и даже военных игроков.
Отношения США - РФ больше не являются центральной осью мировой политики. Они лишь одна из многих ее граней, причем по многим вопросам далеко не самая важная. Наряду с противоречиями у России и Запада есть важнейшие общие интересы, к тому же они конкурируют не только друг с другом. Об «игре с нулевой суммой» не может быть и речи.
В текущих международных конфликтах Россия и Запад стоят по одну сторону баррикад, какие бы разногласия их подчас ни разделяли. В Афганистане они действуют сообща, стремясь не допустить реванша движения «Талибан» и «Аль-Каиды». А такие важнейшие вопросы, как ядерные программы Северной Кореи и Ирана, ситуация вокруг Палестины и Нагорного Карабаха, они решают посредством многосторонних переговоров.
Осталось в прошлом и непримиримое идеологическое противоборство. Истинный идейный разлом пролегает теперь между либерально-демократическими ценностями и исламским радикализмом, между Севером и Югом, между глобализмом и антиглобализмом. И если нынешняя Россия не вполне воспринимает либеральные ценности, то она уж точно никогда не примкнет к радикальному исламу. Не кто иной, как Россия, понесла самые большие потери в борьбе против исламского экстремизма за последние двадцать лет (война в Афганистане, войны и конфликты в Чечне, Дагестане и Таджикистане).
Что касается гонки вооружений, то, несмотря на рост оборонных бюджетов США и РФ, нет ничего даже отдаленно сопоставимого с тем, что происходило во времена холодной войны. За период с 1991 по 2012 год, то есть со дня подписания в Москве Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (Договор СНВ-1) до окончания срока действия московского Договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов (Договор СНП), заключенного в 2002 году, стратегические и тактические ядерные вооружения сторон будут сокращены примерно на 80 % (окончание срока действия московского договора - 31 декабря 2012 года. - Ред.).
Идет медленная модернизация ядерных и обычных вооружений. Так, в России в 2006-м в боевой состав введено 6 МБР, 31 танк, 120 бронемашин, 9 самолетов и вертолетов. Новые корабли и подводные лодки вводятся по одной единице за несколько лет. Все это на один-два порядка меньше, чем в 1970-1980-е годы. В США при гораздо большем военном бюджете основные средства идут на содержание Вооруженных сил и военные операции в Ираке и Афганистане. По сравнению с Россией там вводится в строй больше новых обычных вооружений, но меньше - ядерных.
Есть, конечно, такие возмущающие стратегическую стабильность факторы, как развертывание в США ограниченной системы противоракетной обороны (ПРО) для защиты от единичных ракетных пусков и планы размещения ее элементов в некоторых странах Европы, перспективные проекты Вашингтона по развитию космических вооружений и оснащению стратегических носителей высокоточными обычными боевыми частями.
С подачи Соединенных Штатов популярной стала идея о том, что после падения Берлинской стены исчезла необходимость в соглашениях (а значит, и в переговорах) об ограничении и сокращении вооружений, поскольку их якобы заключают только противники.
Жертвой такого безответственного подхода стали Договор об ограничении систем противоракетной обороны (Договор по ПРО, 1972), не вступивший в силу Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ, 1996), Договор СНВ-2 (1993) и рамочный Договор СНВ-3 (1997). Не состоялись переговоры о правилах засчета боезарядов и мерах контроля по Договору СНП и о запрещении производства разделяющихся материалов в военных целях (ДЗПРМ). В 2007 году Россия заявила о своем возможном выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД, 1987) и адаптированного Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ, 1999). Из-за политики ядерных и «пороговых» держав под угрозой оказалось самое главное соглашение - Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968).
ПРИЧИНЫ ПОХОЛОДАНИЯ
Хотя речь о новой холодной войне и не идет, обострение взаимоотношений в целом налицо. Чем же обусловлена эта напряженность?
Первое. За последние годы соотношение сил между РФ и Западом изменилось. Россия обрела устойчивый экономический рост и относительную социально-политическую стабильность. Москва консолидировала власть, получила крупные свободные капиталы для внутренних и внешних инвестиций, вчетверо (с 2001-го) увеличила финансирование национальной обороны, подавила массовое вооруженное сопротивление на Северном Кавказе.
На этом фоне Россия стремится изменить сложившиеся еще в 90-е годы прошлого века «правила игры» в отношениях с Западом. Парадигма отношений, при которой Москва вольно или невольно идет в фарватере курса США, а с ее интересами и мнением не считаются, теперь абсолютно неприемлема в глазах всех политических партий и государственных ведомств России. Между тем большинство американских и значительная часть европейских политиков считают модель отношений 1990-х естественной и единственно верной.
Второе. После окончания холодной войны мир не стал однополярным. Наоборот, быстро формировалась новая многополюсная и многоуровневая система международных отношений.
В этих условиях Соединенные Штаты получили уникальную возможность. Они могли утвердить в международной политике верховенство правовых норм, ведущую роль международных институтов (прежде всего ООН и ОБСЕ), примат дипломатии в разрешении конфликтов, принцип избирательности и законности применения силы в целях самообороны либо обеспечения мира и безопасности (согласно статьям 51 и 42 Устава ООН). У Вашингтона появился исторический шанс возглавить процесс созидания нового, многостороннего, согласованного миропорядка.
Однако шанс был бездарно упущен. Неожиданно ощутив себя «единственной глобальной сверхдержавой», США в 1990-е годы все более подменяли международное право правом силы, легитимные решения Совета Безопасности ООН - директивами американского Совета национальной безопасности, а прерогативы ОБСЕ - акциями НАТО. Наиболее ярким и трагическим образом эта политика получила выражение в военной операции против Югославии в 1999 году.
После смены администрации в 2001-м и чудовищного шока, который нация испытала 11 сентября того же года, эта линия была возведена в абсолют. Вслед за законной и успешной операцией в Афганистане Соединенные Штаты под надуманным предлогом и без санкции Совета Безопасности ООН вторглись в Ирак, намереваясь далее «переформатировать» весь Большой Ближний Восток под свои экономические и военно-политические интересы.
Представление государственными органами США заведомо ложной информации для оправдания вторжения в Ирак, вопиющие нарушения прав человека при оккупационном режиме, в тюрьмах «Абу-Грейб» и Гуантанамо, явно одобренные Вашингтоном предвзятые суды над иракскими лидерами и их варварские казни (вопреки протестам Европы) - все эти скандальные факты густо запятнали моральный облик Соединенных Штатов.
Даже самая сильная держава, самонадеянно бросившая вызов новой системе и вставшая на путь односторонних и произвольных силовых действий, неизбежно должна была встретить сплоченное сопротивление других государств и потерпеть фиаско. И действительно, начался небывалый подъем антиамериканских настроений во всем мире, поднялась новая волна международного терроризма и распространения ядерного и ракетного оружия. Америка увязла в беспросветной оккупационной войне в Ираке, подорвала коалиционную политику ООН и НАТО в Афганистане, связала себе руки в отношении Ирана и Северной Кореи. США утрачивают влияние в Западной Европе, на Дальнем Востоке и даже в своей традиционной «вотчине» - Латинской Америке.
Односторонняя силовая линия оттолкнула от Соединенных Штатов и вынудила перейти в лагерь международной оппозиции столь непохожие государства, как Германия, Франция, Испания, Россия, Китай, Индия, Узбекистан, Венесуэла, Боливия, Эквадор, Никарагуа, многие страны - члены Лиги арабских государств... Шанхайская организация сотрудничества, созданная в 2001 году как коалиция для борьбы с исламским экстремизмом, превратилась в противовес американскому вмешательству в Азии. Набирает силу оппозиция республиканской администрации внутри США.
Постепенно Америка обостряла отношения и с Россией. После террористических актов 11 сентября Владимир Путин сделал серьезный шаг навстречу Вашингтону, руководствуясь как чувством сострадания, так и стремлением повысить уровень сотрудничества. В ответ Россия получила выход США из Договора по ПРО (прикрытый «фиговым листком» в виде Договора СНП), ликвидацию в Ираке крупнейших российских нефтяных концессий, а также новое расширение НАТО на восток, в том числе на территорию бывших балтийских республик СССР.
При этом обнародуются планы ускоренного втягивания Украины и Грузии в НАТО. А проект строительства объектов американской стратегической ПРО в Польше и Чехии противоречит духу Совместной декларации новых стратегических отношений между РФ и США от 2002 года о сотрудничестве в разработке такой системы и идет вразрез с переговорами в Совете Россия - НАТО о работе над общей ПРО театра военных действий.
Третье. Положение на территории бывшего СССР - важный фактор нынешнего ухудшения взаимоотношений РФ и Запада. Москву возмутило активное вмешательство последнего в «цветные» революции в Грузии (2003) и Украине (2004) в целях поддержки наиболее антироссийски настроенных политиков (что заставило подозревать применение той же модели в Киргизии в 2005-м).
В 1990-е годы Россия сделала немало ошибок, пытаясь превратить постсоветское пространство в зону своего доминирования. Но с ростом своего экономического и финансового потенциала и укреплением независимости Россия перешла к прагматичной линии применительно к каждой конкретной соседней стране. Отойдя от эфемерных имперских «прожектов», Москва поставила во главу угла отношений с соседями транзит энергоэкспорта в Европу, скупку перспективных предприятий и инфраструктур, осуществление инвестиций в разведку и добычу природных ресурсов, сохранение действительно важных военных баз и объектов, сотрудничество в борьбе с новыми трансграничными угрозами и взаимодействие по гуманитарным вопросам.
Конфликты с Украиной и Белоруссией из-за цены на поставки энергоресурсов и стоимости транзита повлекли за собой перебои в экспорте энергосырья в Европу. Это вызвало на Западе взрыв возмущения, на Россию посыпались обвинения в энергетическом империализме и шантаже, зазвучали призывы использовать НАТО как гарантию энергобезопасности стран-импортеров. Возможно, тактика Москвы была грубой, особенно в случае с Украиной. Но переход на мировые цены в поставках энергосырья как раз и означал по сути дела отказ от прежней имперской линии экономических подачек в обмен на политическую или военно-стратегическую лояльность. Что подтвердилось фактом одинаково прагматичного подхода Москвы к столь разным соседям, как Украина, Грузия, Армения и Белоруссия.
Тем не менее эскалация напряженности идет по замкнутому кругу. Ужесточение российской политики в отношении стран ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия) обусловлено перспективой расширения НАТО на их территории. В свою очередь ГУАМ и НАТО отвечают Москве более активным противодействием и еще больше усиливают страх России перед новым «санитарным кордоном».
Четвертое. Важнейшая причина обострения отношений между Россией и Западом - внутриполитические процессы в РФ после 2000 года. В 1990-е в нашей стране было во многих аспектах больше свободы, чем теперь и тем более в предшествовавший советский период. Но эти свободы смог оценить сравнительно узкий круг либеральной интеллигенции в больших городах. Остальная часть граждан воспринимала ветер перемен на фоне шоковых реформ, обнищания большинства населения, невиданных масштабов коррупции, криминального беспредела и разворовывания национальных богатств. В одночасье рухнули системы социального обеспечения, здравоохранения, образования, науки, культуры, обороноспособности. (Как отметил лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, «менее чем за десять лет народ пережил два путча, два дефолта и две войны».)
Поэтому большинство населения поддерживает курс президента Владимира Путина на консолидацию государственной власти вокруг Кремля и расширение его контроля над экономикой и внутренней политикой.
Главная проблема путинской «управляемой демократии» и «исполнительной вертикали» состоит в том, что нынешнее экономическое благополучие и политическая стабильность зиждутся на весьма хрупком и недолговечном фундаменте. Экономический рост последних лет в огромной мере обусловлен беспрецедентными мировыми ценами на сырье. Но такая модель не обеспечивает ни широкую занятость, ни научно-техническое развитие, ни социальную стабильность, ни достаточные доходы для удовлетворения всех острых нужд страны. Да и высокие цены на нефть и газ не вечны.
Зарубежные деятели редко задумываются о том, что их глубокое беспокойство по поводу способности России обеспечить энергетические потребности Запада противоречат западной же озабоченности состоянием российской демократии. Ведь демократия несовместима с экспортно-сырьевой моделью экономики, всегда и везде являвшейся базой авторитарно-бюрократической государственно-политической системы.
Перед Западом стоит сложная проблема: какую политику проводить в отношении России в ходе ее длительной, глубокой и крайне противоречивой трансформации? До сих пор США и многие их союзники бросались в этом вопросе из одной крайности в другую: от радужных надежд к горькому разочарованию, от чрезмерной вовлеченности к полному равнодушию и пренебрежению, от восторженности к подозрениям и враждебности.
Крупнейший американский дипломат и политический мыслитель ХХ века Джордж Кеннан еще в 1951 году пророчески предвидел крушение советской империи и оставил мудрое завещание, как будто написанное в наши дни: «Когда советская власть придет к своему концу или когда ее дух и руководители начнут меняться... не будем с нервным нетерпением следить за работой людей, пришедших ей на смену, и ежедневно прикладывать лакмусовую бумажку к их политической физиономии, определяя, насколько они отвечают нашему представлению о "демократах". Дайте им время; дайте им возможность быть русскими и решать внутренние проблемы по-своему. Пути, которыми народы достигают достойного и просвещенного государственного строя, представляют собою глубочайшие и интимнейшие процессы национальной жизни».
По мнению Кеннана, конструктивные отношения и постепенное, но последовательное сближение с Москвой возможно в случае выполнения Россией всего трех, но важнейших условий: быть открытой для внешнего мира; не обращать своих трудящихся в рабов; не стремиться к имперскому доминированию в окружающем мире и не воспринимать всех тех, кто находится вне сферы ее господства, как врагов. Эти качества свойственны современной России, несмотря на ее многочисленные проблемы и ошибки.
На внутренней эволюции нашего государства существенно скажутся его отношения с окружающим миром, и прежде всего со странами Запада. Чем лучше эти отношения, чем глубже взаимодействие в экономике, международной политике, сфере безопасности, гуманитарной и культурной областях, тем прочнее позиции демократических кругов внутри России, тем больше возрастает ценность демократических свобод в глазах общественности и тем более внимательно последняя следит за соблюдением демократических процедур и норм властями всех уровней.
ВЫЗОВЫ МНОГОПОЛЯРНОСТИ
Нынешнее похолодание в отношениях России с США и Евросоюзом - это напряжение в отдельных звеньях многополярной системы, вызванное постоянно меняющимся соотношением сил, калейдоскопической сменой разнородных проблем глобализации и непрерывными «сюрпризами» от третьих стран, освободившихся от контроля прежних сверхдержав.
Несмотря на преобладающие антизападные настроения и давление, исходящее от соответствующих политических кругов внутри страны, российское руководство не желает конфронтации с США и Европейским союзом, не хочет разрыва сотрудничества и не позиционирует Россию как вторую, наряду с Соединенными Штатами, сверхдержаву. Москва формулирует свои интересы в первую очередь в трансрегиональном формате и лишь избирательно заявляет о своих правах на глобальном уровне.
Но при этом Россия стремится к тому, чтобы ее на деле, а не только на словах признали великой державой в ряду других великих держав. Она требует, чтобы уважали ее законные интересы и считались с ее мнением по важнейшим вопросам, даже если оно расходится с позицией США и их союзников. В случае же возникновения подобных разногласий проблемы должны решаться на основе взаимных компромиссов, а не путем «продавливания» американской линии или самонадеянного навязывания Москве точки зрения, будто она якобы неверно понимает собственные интересы.
В этом состоит пафос Мюнхена, и по большей части с ним нельзя не согласиться, хотя есть несколько конкретных моментов, вызывающих возражение, в частности возможный выход России из Договора по РСМД (см.: А. Арбатов. Шаг ненужный и опасный // НВО, 2-15 марта 2007 г., № 7 (513), с. 1-2) и критика в адрес ОБСЕ.
Низкая вероятность новой холодной войны и распад американской монополярности (как политической доктрины, если не реальности) не может, однако, быть поводом для самоуспокоенности. Объективно существующая на разных уровнях многополярность и взаимозависимость таят в себе немало сложностей и угроз.
Например, если противостояние по линии Россия - НАТО продолжится, оно может нанести огромный ущерб обеим сторонам и международной безопасности. Окончательное отделение Косово от Сербии способно спровоцировать аналогичные процессы в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье и вовлечь Россию в вооруженный конфликт с Грузией и Молдавией, которых поддерживает НАТО.
Ускорение процесса включения Киева в Североатлантический союз (санкционированное недавно Конгрессом США) угрожает повлечь за собой раскол Украины и массовые беспорядки, при которых России и Западу будет трудно удержаться от вмешательства.
Планы строительства объектов американской ПРО в Центральной и Восточной Европе могут побудить Россию выйти из Договора о РСМД и возобновить программы по производству ракет средней дальности. На это Вашингтон ответит размещением в Европе своих новых ракет средней дальности, что резко повысит уязвимость российских стратегических сил, их систем управления и предупреждения и усилит напряженность ядерного противостояния.
Другие «центры силы» неминуемо и немедленно извлекут выгоду из нарастающего противостояния России и Запада, используют его в своих собственных интересах. Китай получит возможность занять еще более выигрышные позиции в экономических и политических отношениях с Россией, США и Японией, укрепить свое влияние в Центральной и Южной Азии, зоне Персидского залива. Вряд ли упустят свой шанс Индия, Пакистан, страны - члены АСЕАН, экзальтированные режимы Латинской Америки.
Многополярный мир, который не движется по пути ядерного разоружения, - это мир расширяющегося «ядерного клуба». Пока Россия и Запад будут конфликтовать друг с другом, государства, способные разработать собственное ядерное оружие, поспешат с этим. Вероятность его применения в каком-либо региональном конфликте существенно возрастет.
Оборотной стороной процесса глобализации станет резкое повышение активности международного исламского экстремизма и терроризма. Последует дальнейшая дестабилизация Афганистана и Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока, Северной и Восточной Африки. Волна воинственного сепаратизма, трансграничной преступности и терроризма захлестнет также Западную Европу, Россию, США, другие страны.
Рухнут последние договоры по разоружению (ДНЯО, ДОВСЕ, ДВЗЯИ). Как крайний случай, какой-либо авантюристический режим может осуществить провокационный ракетный запуск по территориям или космическим спутникам одной либо нескольких великих держав с целью вызвать между ними обмен ядерными ударами. Вполне вероятной станет и угроза террористического акта с использованием ядерного устройства в одной или нескольких главных столицах мира.
Чтобы избежать неблагоприятного развития событий, необходимо остановить сползание России к противостоянию и соперничеству с США и НАТО, пусть даже оно имеет не глобальный, а региональный геополитический и избирательный военно-технический характер. Те, кто в России и на Западе пытается набрать очки на конфронтации, безответственно превращают важнейшие национальные интересы своих государств в разменную монету внутриполитических игр.
В конкретном плане Москве следует, во-первых, в духе последних заявлений российского президента выдвинуть комплекс предложений как по сокращению вооружений в двух- и многостороннем форматах, так и по укреплению режима нераспространения ядерного оружия. В отличие от горбачёвских инициатив 80-х годов прошлого века, новый пакет должен основываться не на прекраснодушной утопии, а на радикальном, но реалистическом военно-экономическом и техническом расчете, подкрепляться программой эффективного военного строительства. И не в пример линии последних лет инициативы нужно продвигать не по принципу «хотите - берите, не хотите - не надо», а как твердое требование государства с использованием всех доступных дипломатических и военно-технических рычагов (чему не грех поучиться у американцев). Особую роль будет играть позиция Москвы по иранской и северокорейской ядерным проблемам.
Главный и, видимо, единственный военно-технический козырь России - программа грунтово-мобильных МБР «Тополь-М» и проект их оснащения разделяющимися головными частями. В этой сфере даже США отстают от нашей страны на 10-15 лет. Вялое осуществление данной программы и «размазывание» средств по другим, весьма сомнительным, проектам подчас создает впечатление, будто Россия смирилась с растущим стратегическим отставанием от Америки, не хочет серьезных переговоров и выпускает из рук единственную остающуюся у нее козырную карту.
Во-вторых, вместо того чтобы разрабатывать аморфные («зонтичные») интеграционные планы для всего постсоветского пространства, а потом от них отступать, Москва должна предельно конкретно сформулировать свои интересы применительно к каждому государству - участнику СНГ, отбросив всякий неоимперский идеализм. Но за эти ставки и проекты нужно упорно бороться, используя все рычаги и козыри, в том числе имеющиеся в дальнем зарубежье. Нерасширение НАТО на СНГ следует увязать с гарантиями территориальной целостности соседних стран, а взаимоприемлемое решение их острых проблем - с соблюдением прав этнических меньшинств.
При настойчивой и конструктивной политике Кремля Запад наверняка рано или поздно примет новые «правила игры», поскольку они отвечают его долгосрочным интересам. В перспективе переход России с экспортно-сырьевой на высокотехнологичную инновационную модель экономики, сопровождающийся расширением демократических институтов и норм, естественным образом снимет противоречия вокруг российской внутренней политики и определит европейское направление интеграционного курса России - самой крупной страны и потенциально наиболее сильной экономики Европы.
Конкретные сроки, формы и пути равноправной и взаимовыгодной интеграции России в Евросоюз определит время. А конечным ее продуктом станет формирование самого мощного в экономическом, военном, геополитическом и культурном отношении глобального «центра силы». Центра, который навсегда устранит угрозу как однополярности и произвола, так и биполярности и конфронтации и который возглавит процесс созидания нового правового миропорядка, призванного решить проблемы XXI века.

"Тони Блэр Лимитед"
© "Россия в глобальной политике". № 2, Март -Апрель 2007
Ал.А. Громыко - д. полит. н., заместитель директора Института Европы РАН, руководитель Центра британских исследований (www.gromyko.ru).
Резюме Фигура Тони Блэра бессменно возвышалась над соратниками. Его проект по управлению страной был «обществом с ограниченной ответственностью», в котором ответственность лежала больше на плечах премьера, чем правящей партии.
[Тони Блэр] верен программе «нового лейборизма», с которой мы пришли к власти. Поэтому мы дважды отстояли мандат правящей партии, и поэтому мы одержим победу в четвертый раз. И это будет его наследие.
Сайон Саймон, депутат-лейборист
Тони Блэр не более чем умный актер, обещающий все что угодно,
хамелеон, которому нельзя доверять ни на йоту.
Пол Джонсон, правый комментатор,
бывший поклонник Тони Блэра
Второго мая 1997 года Тони Блэр, сверкая широкой улыбкой, поднялся на подиум, установленный перед входом в резиденцию премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10. Накануне Лейбористская партия нанесла консерваторам сокрушительное поражение и возглавила страну после почти восемнадцати лет политического изгнания. «Мы пришли к власти как "новые лейбористы", и мы будем править как "новые лейбористы"», - заявил тогда 44-летний Блэр, самый молодой британский премьер за последние полтора столетия.
Сегодня он стоит на пороге своей отставки. За истекшее столетие дольше у власти удалось удержаться лишь Маргарет Тэтчер, ставшей для Блэра своего рода alter ego. «Железная леди» изменила и свою партию, и страну в целом. Эмоциональный политик с холодным рассудком, Блэр руководствовался не менее амбициозными целями.
ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ВЛАСТИ
О Тони Блэре часто говорят, что он не был рожден лейбористом, - и это верно в том смысле, что его не воспитывали в духе традиционного лейборизма.
Однако Блэр представлял собой новое поколение политиков, которые в силу своей молодости не ощущали принадлежности к эпохе послевоенного межпартийного консенсуса, основанного на принципах кейнсианства и корпоративизма. Впервые заняв место в Палате общин в 1983 году, Тони Блэр не ассоциировался с предыдущими кабинетами лейбористов, а значит, и с их ошибками. Он стал депутатом слишком поздно, чтобы быть втянутым во внутрипартийный раскол, постигший лейбористов в начале 1980-х, но вовремя для того, чтобы присмотреться к происходящему в партии и попасть в обойму команды реформаторов, формировавшейся вокруг Нила Киннока.
Через десять лет, благодаря своим незаурядным качествам, прежде всего политическому чутью, умению держать себя на публике, красноречию и фотогеничности, Блэр стал одной из самых заметных и перспективных фигур в руководстве лейбористов.
В 1994 году скоропостижно скончался Джон Смит, сменивший Киннока на посту лидера партии, и Тони Блэр решил побороться за вакантное место. Легко обойдя других претендентов, в том числе нынешнего заместителя премьера Джона Прескотта и главу Форин оффис Маргарет Бекетт, Блэр возглавил вторую по значению политическую организацию Великобритании. Тогда мало кто знал, что дело могло принять иной оборот, не договорись он заранее с не менее популярным среди лейбористов Гордоном Брауном: последний согласился на время уступить ему лидерство в партии, а в будущем и в стране.
В 1990-х обнаружилось, что Великобритания, пройдя огонь, воду и медные трубы тэтчеровской модернизации, утомилась от неолиберализма по-британски. Да, экономика отметила ощутимый рост (не в последнюю очередь за счет нефтедолларов), рынок труда стал гибче, прекратилось противостояние правительства и профсоюзов, на международной арене страна избавилась от образа «больного человека Европы» и вернула себе уважение. Но «лечение» по рецептам британских «новых правых» принесло побочные эффекты: часть населения от реформ проиграла. Значительно возросли социальное неравенство и показатели бедности, из-за хронического недофинансирования ухудшалось положение в сферах образования и здравоохранения, в Европейском союзе Великобритания, как никогда после ее вступления в эту организацию, «шла против течения».
Вместе с тем череда поражений на выборах привела лейбористов к осознанию того, что британцы не хотят допускать к власти партию, огульно отрицающую результаты деятельности консерваторов. Дабы побороть тори, надо было и отвергнуть тэтчеризм, и принять его. Иными словами, представить Лейбористскую партию как ясную альтернативу консерваторам и одновременно переманить на свою сторону значительную часть традиционного электората тори.
Новый лидер не обманул ожидания сторонников глубокой модернизации Лейбористской партии. В течение нескольких лет после того как Тони Блэр возглавил партию, из ее программы были изъяты остатки традиционных для лейбористов левых лозунгов. Не менее важным стал и шаг символического характера: в одной из ключевых статей партийного Устава 1918 года исчезла установка на национализацию средств производства, распределение и обмен, что означало окончательное избавление Лейбористской партии от элементов социалистической идеологии. В очередной раз (и далеко не в последний) содержание и форма имели для Блэра равноценное значение.
В 1979-м британцы остановили свой выбор на консерваторах, руководствуясь в основном прагматичным стремлением освободиться от экономических и иных проблем, характеризовавших последние годы правления лейбориста Джеймса Каллагэна. Но после почти двух десятилетий риторики индивидуального обогащения и минималистского государства (на деле доля налогов в ВВП страны при консерваторах выросла), после длительного периода экспансии рыночных отношений жители страны почувствовали дефицит солидарности и доверия. Ими двигало желание ощутить себя обществом, а не просто бездушной суммой самодостаточных индивидуумов, сменить эмоциональный климат, избавиться от правительства, погрязшего в склоках и скандалах.
Победа на выборах лейбористов, которые шли к власти под флагом социального сплочения, восстановления «ткани человеческих взаимоотношений», вылилась в мае 1997 года в демонстрацию коллективной радости. Эти настроения, равно как и повсеместная скорбь в связи с гибелью принцессы Дианы в начале сентября того же года, отражали процесс душевного выздоровления британского общества.
Возможно, в последний раз подобное единение отмечалось в обычно сдержанной и чопорной Великобритании в далеком 1982-м, в дни фолклендской войны. Но то было сплочение в порыве воинственности и ожесточения, направленном вовне. Теперь же нации представилась возможность объединиться на более позитивной основе. Не случайно многие считают, что успех «новых лейбористов», принявших большинство реформ тэтчеристов, - это победа правых в экономике, но триумф левых в сфере эмоций.
ВРЕМЯ НАДЕЖД И РЕФОРМ
С приходом лейбористов к власти Великобритания приступила к поискам новых национальных символов, написанию новой главы своей истории. Эти попытки осуществлялись под лозунгами обновления и модернизации, тем более что приближение третьего тысячелетия подталкивало к подведению итогов и выработке планов на будущее. Новаторство приветствовалось во всем: в политике, экономике, культуре, архитектуре. Именно при «новых лейбористах» в центре Лондона появилось огромное колесо обозрения, которое так же взломало привычные очертания города, как до того Париж потрясла стеклянная пирамида, воздвигнутая во внутреннем дворе Лувра.
Самые смелые шаги Тони Блэр предпринимал в первые годы своего правления. Позже его нередко будут упрекать в излишней осторожности, в том, что он растранжирил оказанное ему доверие. На начальном же этапе пребывания лейбористов у власти чаще говорили о «лихорадке реформ» и гиперактивности правительства, инициативы которого сыпались как из рога изобилия.
Правительство перво-наперво направило свою энергию в русло конституционных, а не социально-экономических перемен, как можно было бы ожидать от социал-демократов. Наиболее далеко идущие из них приняли форму деволюции - делегирования части государственной власти британским регионам («кельтская периферия»). В результате впервые с 1707-го возобновил работу парламент Шотландии, появилась Национальная ассамблея Уэльса. Соглашение Страстной пятницы (соглашение 1998 года о перемирии между ирландскими сепаратистами и юнионистами. - Ред.) открыло заключительную главу в истории мирного урегулирования в Северной Ирландии. Эти меры придали импульс процессу постепенного превращения Великобритании из унитарного государства в федеративное. Было введено самоуправление городов, учреждена должность мэра (в столице ее занял известный левый политик Кен Ливингстон). Один из патриархов британской политологии Энтони Кинг назвал Блэра «первым конституционным радикалом на посту премьер-министра со времен Гладстона».
Лейбористы замахнулись на святая святых британского истеблишмента - Палату лордов, бастион аристократических привилегий, и добились исключения из нее большинства наследственных пэров. Правительство законодательно запретило охоту на лис - многовековую забаву британских дворян - по причине ее антигуманного характера.
Если раньше в стране действовала мажоритарная избирательная система, при которой доступ к государственному рулю имели только консерваторы и лейбористы, то теперь на выборах мэров городов, в кельтских регионах, в Европарламент применяются комбинированные избирательные системы с элементом пропорциональности. В результате на этих электоральных уровнях распространилась практика многопартийности, коалиционного управления. Так, в Шотландии с 1999-го у власти находится коалиция лейбористов и либерал-демократов, в 2000-2003 годах такая же коалиция сложилась и в Уэльсе. Благодаря более справедливому механизму распределения депутатских мандатов, на вторых позициях в законодательных органах власти этих двух британских регионов прочно обосновались местные партии - Шотландская национальная партия и валлийская Плайд камри (Уэльская националистическая партия). Многопартийность стала нормой и в отличающейся политической пестротой Северной Ирландии. Подобные же изменения ожидают местные органы власти.
Одно время Тони Блэр обещал назначить национальный референдум по вопросу введения элементов пропорциональности на всеобщих выборах. Случись это, и третья по значению Партия либеральных демократов, для которой, как и для лейбористов, консерваторы - главные соперники, могла бы со временем рассчитывать на посты в правительстве. Вероятность такого сценария в будущем не исключена. Если же «прогрессивные силы» станут вновь тесно сотрудничать, как это делали в начале XX века лейбористы и либералы, то консерваторы, руководившие страной бЧльшую часть прошлого столетия, окажутся надолго оттеснены от власти.
Вся совокупность перемен, произошедших при лейбористах в политическом управлении, государственном, конституционном устройстве Великобритании, в партийной жизни, свидетельствует о происходящем в стране сдвиге от вестминстерской к плюральной (консенсусной) модели демократии. Первой свойственны строгая двухпартийная система, культура жесткого политического противостояния, нетерпимость к оппонентам, пренебрежение мнением меньшинств; вторая же обладает прямо противоположными характеристиками. Если данная тенденция получит развитие при преемниках Блэра, к какой бы партии они ни принадлежали, этого будет вполне достаточно, чтобы в британской истории он встал в один ряд с наиболее успешными политиками-реформаторами.
«ТРЕТИЙ ПУТЬ»
Деятельность лейбористского правительства в социально-экономической сфере также никак не укладывалась в представление о традиционной британской социал-демократии. Тони Блэр твердо считал, что его партия должна раз и навсегда перестать ассоциироваться с крупномасштабным экономическим регулированием со стороны государства. В этом его полностью поддержал министр финансов Гордон Браун.
Правительство не вернуло в государственную собственность ни одну из компаний, не говоря уже о целых отраслях британской промышленности, попавших под нож приватизации при тэтчеристах. Оно даже не решилось провести ренационализацию в такой неблагополучной сфере, как железнодорожный транспорт, хотя общественное мнение симпатизировало этой идее. Более того, была приватизирована часть авиадиспетчерской службы и лондонского метро, и только перспектива провала правительственного законопроекта остановила «новых лейбористов» от проталкивания проекта акционирования Королевской почты.
Лейбористы лишь смягчили антипрофсоюзное законодательство, принятое в 1980-е, понизили ставки прямых налогов. Демонтировав ряд рыночных механизмов, которые пытались применить консерваторы (например, так называемая ваучеризация), они создали другие, с помощью которых в сферах образования, здравоохранения и даже в тюремно-исправительной системе внедряются принципы рынка. Предоставив Банку Англии операционную независимость, то есть самостоятельность в выборе процентных ставок, лейбористы подчеркнули свою приверженность политике низкой инфляции и макроэкономической стабильности.
Есть доля правды в том, что Тони Блэр предложил стране «тэтчеризм с человеческим лицом». Но все же «новый лейборизм» - это скорее пост-, нежели неотэтчеризм. До этого единственным премьером-лейбористом, заставившим тори сместиться влево, был Клемент Эттли (на волне социального оптимизма и веры в мобилизационные способности государства, царивших в обществе после окончания Второй мировой войны, его правительство возвело здание «государства благосостояния»). Но послевоенный межпартийный консенсус оказался непригоден к постиндустриальной эпохе и был похоронен в годы тэтчеризма. Тогда лейбористам не оставалось ничего иного, как поправеть. Когда же страна вновь переключила внимание на вопросы социальной справедливости, приспосабливаться к новым веяниям времени пришлось уже консерваторам.
К 2007 году государственные расходы поднялись за пять лет с 37 до 43 % ВВП. К достижениям «новых лейбористов» в социально-экономической сфере относятся: введение минимальной оплаты труда и ее постоянный рост, активная государственная политика в области занятости, увеличение помощи малоимущим и неполным семьям, грандиозный проект по искоренению детской бедности, вложение больших дополнительных средств в образование и здравоохранение. Несмотря на то что показатели социального неравенства в стране за последние десять лет выросли, число бедных снизилось. Налоговая нагрузка перераспределялась в пользу менее обеспеченных, хотя она и остается ниже, чем во Франции, Германии, Италии и Скандинавских странах. Придя к власти, лейбористы оставили в частных руках денационализированные консерваторами предприятия, но ввели налог на сверхприбыль. Тем самым они убили двух зайцев: не только собрали несколько дополнительных миллиардов фунтов стерлингов, которые вложили в социальные программы, но и повысили легитимность несправедливой, по мнению многих, приватизации, проведенной при Маргарет Тэтчер и Джоне Мейджоре.
«Третий путь» - стремление сочетать часть оправдавшего себя наследия британских «новых правых» с социал-демократическими традициями, экономическую эффективность с социальной справедливостью, свободу индивида со здоровым коллективизмом, социальный рынок континентальной Европы с англосаксонским капитализмом - стал визитной карточкой Тони Блэра. Со временем карточка пожелтела, но в архив сдавать ее рано. Конечно, чуда не произошло и Великобритания не превратилась в страну с по-калифорнийски успешной экономикой и по-скандинавски щедрым социальным обслуживанием. Однако шаг вперед сделан. В Лондоне «третий путь» упоминают всё реже, но не потому, что он не оправдал себя, - просто пул изначальных идей («экономика знаний», «вспомогательное государство», «государство социальных инвестиций» и проч.) все время обновляется, старые концепции заменяются новыми... «Третьему пути» предшествовали идеи «общества соучастников» и коммунитаризма, а теперь ему на смену могут прийти теории «встроенного рынка», «государства-гаранта» и др.
ВОДОРАЗДЕЛ НОМЕР ОДИН
Война в Ираке в 2003 году жирной чертой разделила прошедшее десятилетие на «до» и «после». Иракские события критически повысили градус общественного недовольства и ударили по престижу и репутации властей, а точнее, Тони Блэра. Ведь присоединение к военной колеснице США фактически стало его единоличным решением. Если бы не премьер-министр, свято веривший в наличие у Багдада оружия массового уничтожения, Великобритания вряд ли взвалила бы на себя бремя «вьетнамского синдрома» наших дней.
Во второй половине 1960-х воевавший во Вьетнаме Вашингтон нуждался в поддержке Лондона куда сильнее, чем в 2003 году. Тогда премьер-лейборист Гарольд Вильсон отклонил вариант прямого военного участия, ограничившись политической солидарностью со старшим союзником. Он полагал, что поддержка Соединенных Штатов должна быть не автоматической, а зависеть от того, насколько их действия отвечают британским национальным интересам. В этом Вильсон оказался дальновиднее Блэра.
В мае 2003-го обозреватель Би-Би-Си Эндрю Гиллиган выступил с утверждением, будто в канун войны правительство подтасовало данные разведки и намеренно преувеличило угрозу со стороны Ирака. Ситуация приняла еще более угрожающий для премьер-министра характер, когда покончил с собой Дэвид Келли - микробиолог, работавший на Министерство обороны. Явным облегчением для премьера стали итоги независимого судебного расследования, которое показало, что обвинения, выдвинутые Гиллиганом, необоснованны, а к самоубийству Келли правительство не имеет отношения.
Однако призывы к более обстоятельному изучению причин войны в Ираке не ослабевали, и в феврале 2004 года началось новое расследование. В задачу возглавляемой лордом Батлером комиссии входила оценка качества информации, предоставленной разведслужбами правительству перед началом войны. Блэр категорически отказался подвергнуть анализу также и политическую составляющую принятия решения о вторжении, т. е. мотивацию своих собственных действий. В заключительном докладе Батлер остановился в шаге от того, чтобы подтвердить факт искажения правительством информации британских спецслужб с целью обосновать необходимость вступления в войну.
А вскоре, к изумлению британских военных и дипломатов, выяснилось, что у Вашингтона нет продуманной программы послевоенного восстановления Ирака. Официальные военные потери США в живой силе с момента начала войны на рубеже 2006-2007 годов достигли 3 тыс. человек, Великобритании - более 130. Обещания британского премьер-министра, прозвучавшие в обращении к иракскому народу в апреле 2003-го, способствовать созданию «мирного процветающего Ирака» и обеспечить силами войск коалиции безопасность в стране не превратились в реальные действия.
Согласно опросам общественного мнения, уровень доверия к премьеру так и не восстановился до довоенного. Недовольство политикой правительства на иракском направлении во многом обусловило последние неудачи правящей партии на местных и европейских выборах, резкое сужение правительственного большинства в парламенте по итогам всеобщих выборов-2005. В июле того же года иракская война непосредственно докатилась до туманного Альбиона. Серия взрывов в Лондоне унесла жизни 52 человек, теракты совершили выросшие в Великобритании мусульмане. Фактор Ирака, несомненно, сыграет свою роль и на региональных выборах в мае 2007-го, и на всеобщих выборах, которые могут состояться в 2009 году.
После прихода к власти Тони Блэр подтвердил как приверженность «особым отношениям» с США, так и стремление видеть свою страну «в сердце Европы». Открылась возможность превращения Великобритании из неудобного в надежного партнера в рамках Европейского союза. Однако произошло обратное: Лондон рассорился с ведущими европейскими столицами.
ОПЕРАЦИЯ «ПРЕЕМНИК» ПО-БРИТАНСКИ
В сентябре 2006-го - незадолго до ежегодной конференции лейбористов - Блэр объявил о своем скором уходе. Предшествовавшая волна отставок младших министров стала той соломинкой, которая «сломала горб верблюду». Одни встретили эту новость с сожалением - ведь свой пост оставляет самый успешный руководитель Лейбористской партии за всю историю ее существования. Другие с нетерпением ждут, когда избавятся от «предвыборного балласта».
В последние месяцы положение Тони Блэра усугубилось из-за нового правительственного скандала. Лейбористскую партию подозревают, по сути, в продаже мест в Палате лордов взамен на секретные денежные вливания перед парламентскими выборами-2005. Справедливости ради надо сказать, что в поле зрения следователей попала и Консервативная партия. Практика продажи чинов и титулов была запрещена законом, принятым в 1925 году. Требование раскрывать информацию о спонсорской помощи содержится и в Законе о политических партиях, выборах и референдумах (2000). Несколько подозреваемых, в том числе приближенный к Блэру лорд Майкл Леви, отвечавший за привлечение спонсорских денег, подверглись арестам, хотя обвинения им пока не предъявлены. Допроса в качестве свидетелей не избежали не только ряд бывших и действующих министров, но впервые в британской истории и сам глава правительства.
Происходящее во многом напоминает события 1990-го, когда Маргарет Тэтчер, ни разу не проигравшая парламентских выборов, но настроившая против себя значительную часть электората, была вынуждена покинуть политический постамент под давлением однопартийцев. Последние хотели в очередной раз отстоять место у руля управления государством. Их расчет оказался верным: два года спустя Консервативная партия в четвертый раз, теперь под руководством Джона Мейджора, преградила лейбористам путь к власти. Блэр же, в отличие от своей знаменитой предшественницы, решил не доводить дело до «восстания».
Более того, если в России операция «Преемник» лишь набирает обороты, в Великобритании она вступила в завершающую фазу. Терпение Гордона Брауна, который с 1994 года ждал, когда Блэр выполнит свое обещание, иссякло, и отношения между двумя ведущими политиками совсем разладились.
Премьер-министр был готов уйти еще в марте 2003-го, проголосуй депутаты парламента против вступления страны в войну с Ираком. Тогда многие члены лейбористской фракции из двух зол - британские войска в Ираке и кризис правящей партии из-за отставки ее лидера и премьер-министра страны - выбрали первое. С высоты сегодняшнего дня очевидно, что это была пиррова победа.
В мае текущего года пройдут очередные выборы в местные органы власти в Англии и региональные в Уэльсе и Шотландии. С учетом этой перспективы никто в Лейбористской партии не хочет дальнейшего ослабления ее позиций - отсюда и многочисленные призывы к Тони Блэру уйти раньше. Однако именно такой шаг может в сложившейся ситуации оказаться бóльшим злом.
Дело в том, что в свете приближающихся выборов министру финансов выгоднее не торопить события: правящая партия при любом руководителе потеряет на них очки, так пусть лучше это случится при Блэре. Зато после его ухода Браун сможет начать с чистого листа и получить один-два относительно спокойных года для подготовки, возможно, четвертой парламентской победы лейбористов.
Конечно, выборы нового руководителя правительства (в Великобритании после ухода Тони Блэра состоятся выборы лидера правящей Лейбористской партии, который автоматически станет новым премьер-министром) не будут безальтернативными. О своем намерении участвовать в них уже заявил представитель левого крыла партии; вероятно, появится и кандидатура справа. Однако исход борьбы практически предрешен: победит «преемник».
Но, как известно, всякая аналогия хромает. Гордон Браун - политик с многолетним стажем, успешный министр финансов в течение последних десяти лет - не будет никем «назначен» (Тони Блэр, будь на то его воля, возможно, благословил бы кого-то иного). Он станет руководителем благодаря многочисленным заслугам и репутации, заработанной в горниле политической борьбы и государственного управления.
Фигура Тони Блэра бессменно возвышалась над соратниками. Его проект по управлению страной был «обществом с ограниченной ответственностью», в котором ответственность лежала больше на плечах премьера, чем правящей партии, а скорая смена ее руководителя означает куда больше, чем перестановку в кадрах.
И все же история проекта «Тони Блэр Лимитед» заканчивается не точкой, а многоточием. Политика «новых лейбористов» была востребована Великобританией, а не навязана ей; многие предвыборные обещания еще ждут своего выполнения. Обновленное руководство партии и правительства избавится от ненужного балласта в наследии Блэра, но одновременно продолжит большинство запущенных при нем реформ. Гордон Браун разочарует тех, кто ждет от него возврата к традициям левого лейборизма. Курс будет скорректирован, но не изменён.
Хорошо известная фирменная улыбка Тони Блэра долгое время не сходила с его лица. Сегодня она больше похожа на тающую улыбку Чеширского Кота. Остается совсем мало времени закончить дела так, чтобы будущие историки не ограничились определением «выдающийся лидер партии» и вынесли более желанный вердикт - «выдающийся премьер». Но «Чеширский Кот» еще обязательно улыбнется - ведь «новые лейбористы» не уйдут с Даунинг-стрит, 10.

«Понятие “нация” станет отзвуком былых реалий»
© "Россия в глобальной политике". № 2, Март -Апрель 2007
Жак Аттали (род. в 1943 г.) – французский ученый-экономист и общественный деятель. В период президентства социалиста Франсуа Миттерана он в течение десяти лет занимал пост его советника, в 1991–1993 годах был первым руководителем Европейского банка реконструкции и развития. Автор многих книг по проблемам трансформации и глобального мироустройства. Об идеологиях XXI века и о том, когда на нашей планете возникнет и надолго ли сохранится многополярная политическая архитектура, с Жаком Аттали беседовала в Париже Вера Медведева.
Резюме Отличительная черта современной эпохи – глубокое противоречие между рынком и демократией. Сущность рынка такова, что он требует все более глобального охвата, тогда как демократия остается
на национальном или локальном уровне.
– С распадом Советского Союза социалистические теории, казалось, тоже канули в Лету. Сегодня, однако, они переживают своеобразный ренессанс. В частности, написанная вами биография Карла Маркса вызвала значительный интерес. Это мода или долговременное явление?
– Начнем с того, что Маркс был теоретиком не социализма, а капитализма и эволюции именно этой формации он посвящал свои работы. Безусловно, Маркс являлся сторонником социалистических идей, но он ни в коей мере не поддерживал и не предсказывал построения коммунизма в России. Он вообще мало описывал само социалистическое общество, поскольку полагал, что оно появится значительно позднее.
Кроме того, мы зачастую неправильно употребляем слова «социализм» и «коммунизм». Существует около пятидесяти определений социализма. И то, чтó под социализмом понимал Советский Союз, не имеет ничего общего с тем действительным социализмом, который мы рассматриваем здесь, на Западе. Наше восприятие социализма исходит из идеи, что воздействие рынка должно быть уравновешено социальной защитой трудящихся и самых незащищенных членов общества. Сегодня почти повсеместно признано: опираясь только на рыночные отношения, невозможно построить сбалансированное общество, поскольку рынок производит материальные блага, но не способен уменьшить неравенство или обеспечить защиту наиболее слабых. Собственно, роль демократии вообще и социал-демократии в частности состоит как раз в том, чтобы дополнить рынок.
– Значит, социализм – это теория, которая подходит скорее богатым, чем бедным странам?
– Социализм, утверждал Карл Маркс, приходит не «вместо», а «после» капитализма. Социализм как общество, призванное сбалансировать демократию и рынок, появляется тогда, когда последний уже достаточно окреп.
– Однако сейчас социалистические идеи активно возрождаются, например, в слаборазвитых странах Латинской Америки. Какое будущее вы видите, скажем, у социализма Уго Чавеса?
– Это эффект возвратно-поступательного движения, которое характерно для нынешнего периода глобализации и зачастую способствует использованию прежних теорий на новый лад. В конце концов, Венесуэла – не диктатура, а демократическая страна с демократическими выборами. Так что посмотрим, как там будут развиваться события.
– В 1960-е годы социализм нередко являлся идеологической основой национально-освободительных движений. Сейчас они всё больше действуют под религиозными лозунгами. Способен ли в этих условиях сформироваться «коктейль» из национализма, религиозных догм и социалистических идей?
– Не стоит все сваливать в одну кучу. Сейчас нации повсеместно пытаются найти свою идентичность, боясь раствориться среди других народов в процессе глобализации. Во многих странах действительно наблюдается возрождение национализма. Иногда, чтобы протащить националистические идеи, их перемешивают с социалистическими. Получается такой современный вариант национал-социализма либо социал-национализма. Но это вовсе не идентично тому, чтЧ мы на Западе называем социализмом. Вследствие происходящих вокруг изменений нередко появляются режимы с достаточно высокой степенью централизации государственной власти. Это особенно свойственно Латинской Америке, Африке и частично Восточной Европе и Азии. Но такие процессы не имеют ничего общего с социализмом; точно так же мы не можем ставить знак равенства между ними и поиском национальной идентичности. Кроме того, я вообще не считаю, что выбор между социализмом и капитализмом – это именно тот вопрос, который определяет современную эпоху.
– А что в таком случае отличает нашу эпоху?
– Глубокое противоречие между рынком и демократией. Сущность рынка такова, что он требует все более глобального охвата, тогда как демократия остается на национальном или локальном уровне. Рынок и демократия не могут существовать друг без друга: одно усиливает другое. Когда мы пытаемся создать рынок без демократии либо демократию без рынка, то в большинстве случаев это оказывается невозможно. Однако неограниченное развитие рыночных отношений становится опасным, поскольку демократические процессы не успевают эволюционировать столь же быстро. Между тем, если демократия останется локальной, она превратится в «пустышку», потому что рынок все в большей и большей степени берет на себя такие функции демократического государства, как здравоохранение, образование, обеспечение безопасности. На эту ситуацию люди реагируют противоположными способами: одни требуют усилить государство, чтобы противостоять рыночным силам, другие, напротив, призывают к максимально возможному упразднению государства.
В своей новой книге «Краткая история будущего» я, исходя из вышеприведенного противоречия, описываю пять возможных этапов дальнейшего развития.
Первый этап – это постепенное ослабление американской империи, доминирование которой в мире сохранится в течение еще примерно двадцати лет. Затем, как и любая другая империя в прошлом, она «устанет» и откатится назад. Может быть, по Соединенным Штатам ударит серьезный экологический кризис или они окажутся «побеждены» мировой глобализацией, особенно в финансовом плане. Не исключено, что страна будет «подавлена» мощью крупнейших фирм, особенно страховых. Конечно, США продолжат оставаться крупнейшей планетарной силой, но уже не будут управлять миром.
На втором этапе другие государства начнут уравновешивать Америку и мир станет полицентричным. Я выделяю 11 таких стран, в том числе и Россию. Но даже при такой «диверсификации» политической силы мне не кажется, что какая-то одна держава сможет выступить в роли мирового гегемона.
В целом же предстоит доминирование Азии, которая обеспечит две трети мирового товарооборота. Через 20 с небольшим лет производство в азиатских странах превысит половину мирового промышленного производства. Уже сейчас 13 из 20 наиболее крупных мировых контейнерных портов находятся в Азии.
Такие новые «центры силы» появятся в результате развития рыночных отношений и демократических процессов. Сторонники теории «конца истории» предсказывали, что внутри каждой страны рыночные отношения и демократия будут развиваться естественным образом и в конечном счете люди «освободят» сами себя благодаря экономическому росту, прозрачности информации и развитию среднего класса. Никакой авторитарный режим не может долго сопротивляться изобилию. Мир станет многополярным, а возросшее число демократических стран рыночной ориентации будут группироваться вокруг нескольких доминирующих центров.
Такой сценарий вполне может осуществиться между 2025–2035 годами. Но я не думаю, что этот этап продлится долго. Как мне кажется, на смену ему придет третий этап – мировое господство рынка. Причем рынка без демократии, когда все более будет доминировать не какая-то одна страна, а рынок в целом. Последует глобальная приватизация экономики, во всех сферах утвердится главенство мировых корпораций, а понятие «нация» превратится лишь в отзвук былых реалий. К 2050-му рынок приобретет планетарные масштабы и будет функционировать без вмешательства государства. Я называю такой этап «гиперимперией».
Этот период будет отмечен массовыми народными движениями и феноменальными технологическими изменениями. К середине столетия новые технологии существенно сократят потребление энергии и невероятно трансформируют сферы, которые сегодня еще остаются коллективными, – здравоохранение, образование, безопасность. Каждый превратится в своего собственного врача, преподавателя и контролера. Главным ограничителем свободы будет служить самоконтроль. Прозрачность станет обязательной во всех сферах жизни.
Такой открытой империей без границ и без центра будут управлять «гиперкочевники». Каждый останется лоялен только самому себе, а предприятия лишатся национальной принадлежности. Вместо закона будет действовать контракт, юстиция заменится арбитражем. Страховые компании станут играть роль мировых регуляторов, устанавливающих нормы, которым должны следовать государства, предприятия и индивидуумы.
Все это подготовит приход четвертого этапа, который характеризуется огромным неравенством, а потому будет чрезвычайно тяжел. Содержание этого этапа – война, его можно назвать «гиперконфликтом». Я полагаю, что появление все более разрушительного оружия и постоянно возрастающее неравенство неизбежно ведут именно к такому печальному сценарию.
– Хочется верить, что человечество идет к миру, а не к войне…
– К 2050 году на Земле будет проживать 9,5 млрд человек, причем две трети рождающихся придутся на 20 наиболее бедных стран. «Гиперконфликт» обусловлен тем, что бедность станет правилом, возникнет дефицит воды и энергии, изменение климата тоже может стать источником конфликтов. Возможно вооруженное противостояние между различными нациями. Я думаю, что по совершенно очевидным причинам существует серьезная угроза возникновения войны между Россией и Китаем, чрезвычайно заинтересованном в оккупации Сибири. Не исключен военный конфликт в Центральной Азии – ведь этот регион обладает значительными энергетическими запасами, в которых нуждается весь мир. Военная угроза постоянно присутствует и на Ближнем Востоке. Массовые народные движения в Африке тоже могут вылиться в новые вооруженные конфликты.
– Вы говорили о пяти этапах, но перечислили только четыре. Значит, есть надежда, что история человечества не завершится всеобщей войной?
– Пятый этап, если человечество вообще до него доживет, – это не социализм, а «гипердемократия». То есть демократия, утвердившаяся в глобальном масштабе, демократия, которая стала такой же сильной, как и рынок. Конечно, все это – абстрактные построения. Как я писал в своей книге, «гиперимперия» и «гиперконфликт» изначально обречены, а «гипердемократия» изначально нереальна, поскольку сегодня невозможно представить себе единое мировое демократическое правительство.
Но я верю, что к 2060-му «гипердемократия» победит. И тогда в каждом отдельном государстве установится достаточно развитая демократия для того, чтобы обеспечить выполнение всех социальных функций. А на общемировом уровне все более будет развиваться (благодаря фантастическому прогрессу технологий), «рынок бесплатности». Я имею в виду прежде всего бесплатные информационные блага.
– Ваше представление не совпадает с теориями постиндустриального общества, согласно которым технологический прогресс, наоборот, будет являться разъединяющим фактором в силу разного образовательного уровня людей.
– Вот почему я и говорю, что сначала будет война. Неравенство – это чрезвычайно широкое явление. Я трачу бóльшую часть своего времени на изучение инструментов борьбы против бедности, таких, например, как выдача микрокредитов (система микрокредитов, основателем которой является ученый из Бангладеш Мухаммад Юнус, лауреат Нобелевской премии мира 2006 года, предполагает предоставление небольших кредитов без залога. – Ред.). Эта практика все больше распространяется по всему миру – от Бангладеш до Африки, от Латинской Америки до России. Уже сейчас существует почти 10 тыс. организаций, которые занимаются микрокредитами, а их услугами пользуются не менее 50 млн человек во всем мире.
– Мы не можем победить бедность без демократического правительства. Но демократия требует определенного самосознания и уровня жизни. Порочный круг?
– Не обязательно. Система микрофинансирования устроена таким образом, что ее услугами могут воспользоваться самые бедные слои населения, минуя государственные структуры. В дальнейшем такая практика будет только расширяться, превращаясь во все более существенный аспект будущей экономики. Даже если микрокредитование нельзя отнести к «экономике бесплатности», оно все равно способствует искоренению бедности.
– Раньше все думали, что главное условие процветания – демократическое правительство. Теперь, оказывается, усилия надо сосредоточить на изменении жизни бедняков?
– Необходимо и то и другое. Без демократии не может быть эффективной борьбы против бедности, но чтобы помочь демократии, нужно одновременно оказывать непосредственную помощь людям. Демократия, при которой выборы проводятся правильно, а народ страдает от бедности, не имеет смысла.
– А в какой из пяти этапов вы помещаете постиндустриальное общество?
– Полагаю, что будущее принадлежит не постиндустриальному, а, наоборот, «гипериндустриальному» обществу, где основная роль отводится не производству услуг, как это подразумевает постиндустриальная концепция, а производственной сфере. Более того, «индустриализация» охватит даже сферу услуг. Этот процесс начался уже сейчас благодаря информационным технологиям. И так будет происходить буквально во всех областях жизни.
Даже такие сферы услуг, как образование и здравоохранение, окажутся «индустриализированы». Уже сегодня широко распространены обучающие машины. На наших глазах формируется индустрия медицины: конструируются протезы, изучаются возможности выращивания органов для трансплантации. Такая трансформация сферы услуг в индустрию является одним из признаков «гипериндустриализации».
– Но для такого общества принципиальным является уровень образования. Опять получается, что развитые страны уйдут вперед, не оставив остальным надежду их догнать?
– Главной жертвой такого развития может быть Африка с ее населением, приближающимся к 1,5 млрд человек. На Черном континенте нет этатической структуры, которая бы обеспечивала относительно равный доступ к образованию и социальным благам. Все остальные страны вполне впишутся в «гипериндустриализацию». Китай, Россия, Латинская Америка уже имеют относительно развитую инфраструктуру.
– Может быть, есть смысл оставить Африку в том состоянии, в каком она пребывает? Ведь международная помощь африканским странам растет год от года, а особого прогресса не наблюдается.
– Определенный прогресс все-таки есть. И кроме того, если мы ничего не предпримем для африканцев, рано или поздно они наводнят Европу и, не исключено, Россию. Да и вообще, Европа не может допустить, чтобы люди и впредь жили в Африке, как в аду.
– А что ожидает азиатские страны?
– К 2025 году Китай займет второе место в мире по экономической мощи. Если он продолжит развиваться нынешними темпами, то в 2015-м его ВВП превысит японский, а в 2040-м – американский. При этом миллионы китайцев станут представителями среднего класса.
Население Японии будет по-прежнему стареть, а ее экономика продолжит падение в относительном исчислении, и поэтому, возможно, к 2025 году страна не сможет удержаться даже на пятой позиции среди наиболее развитых государств. Южная Корея, наоборот, имеет все шансы занять первое место в Азии, поскольку ее ВВП на одного жителя должен вырасти к 2025-му в два раза. А сама она вполне может превратиться в новую культурную и экономическую модель для подражания. Другому азиатскому государству – Вьетнаму, где в скором времени будет насчитываться 115 млн жителей, вполне по силам стать к 2025 году третьей страной в Азии по экономическому развитию, если, конечно, ему удастся реформировать политическую, банковскую и образовательную систему.
Индия со своими 1,4 млрд жителей станет самой населенной страной мира и третьей после США и Китая экономической державой. Начиная с 2010 года показатели ее экономического роста будут превышать китайские, однако ВВП на душу населения окажется ниже из-за более быстрого роста численности населения. Индийская демократия должна решить сложнейшие задачи, среди которых формирование городской инфраструктуры, поиск альтернативных источников энергии, строительство дорог и аэропортов, сокращение неравенства между регионами и социальными классами. Если центральному правительству не удастся справиться с данными проблемами, это поставит под вопрос целостность страны.
В Индонезии к 2025-му будет проживать 270 млн человек. Страна может превратиться в самую развитую с экономической точки зрения страну исламского мира. Однако для этого ей придется усиленно бороться с коррупцией, повышать уровень образовательной системы, а также преодолевать серьезные этнические конфликты.
– На своем недавно прошедшем съезде Коммунистическая партия Китая заявила о признании частной собственности. Устоит ли сама КПК перед рыночными силами?
– В настоящее время 90 % китайцев не имеют ни пенсии, ни медицинской страховки. Без серьезной реорганизации КПК не сможет избавить страну от этой и других проблем. Думаю, что к 2025 году Компартия Китая тем или иным образом исчезнет. Мы не можем исключать, что за этим последует хаос, который подорвет целостность Китая. Поэтому, чтобы сохранить власть, коммунисты могут попытаться прибегнуть к внешним авантюрам, например захвату Тайваня либо Сибири.
– Давайте перенесемся в другой будущий «центр силы» – в Европу.
– Два следующих десятилетия Европейский союз будет лишь общим экономическим пространством. Что касается интеграции в политической, социальной и военной сферах, то этот проект по-настоящему воплотится в жизнь лишь тогда, когда единая Европа столкнется с реальными угрозами своей безопасности, то есть на последующих этапах.
Отсутствие необходимых реформ в системе высшего образования, а также недостаточное стремление к инновациям и в дальнейшем не позволят ЕС создать новый творческий класс. Если нынешние тенденции продолжатся, то в 2025-м единая Европа будет обеспечивать только 15 % мирового ВВП по сравнению с сегодняшними 20 %.
В политическом плане Европа должна стремиться обрести собственную идентичность. Мы быстрее достигнем этой цели, если у нас появится единый президент и общий министр иностранных дел, как это подразумевалось европейской Конституцией. Не следует забывать и о единых вооруженных силах, каковы бы ни были будущие европейские границы. Я много раз повторял, что Европа и Россия должны объединиться в союз, поскольку по многим параметрам мы похожи и необходимы друг другу.
– После того как эпоха доминирования Соединенных Штатов сменится многополярностью, одним из новых полюсов станет, по вашей версии, Россия. Мы-то думаем, что многополярность уже наступила. Каковы, на ваш взгляд, перспективы России и основные задачи, стоящие перед ней?
– Россия может использовать часть природной ренты, чтобы обеспечить свое развитие. К 2025 году российский ВВП должен превысить ВВП Англии, Германии и Франции. Российская Федерация превратится в шестую по экономической мощи державу мира. Благодаря доходам от экспорта энергоносителей, она будет способна скупить индустриальные предприятия в Западной Европе, что может оказаться менее затратным делом, чем модернизировать собственные. Экспорт энергоносителей продолжит обеспечивать половину налоговых поступлений.
Но прежде всего перед Россией стоит задача усовершенствования медицинской системы. Успехи на этом направлении приведут к тому, что начнется рост продолжительности жизни. В таком случае к 2025-му население стабилизируется на уровне 120 млн жителей (по сравнению с нынешними 142 млн человек). Кроме того, Россия может столкнуться с реальными угрозами: с юга – от мусульман, а с Востока – от китайцев.
– А как будет развиваться ваша родная страна – Франция?
– В первую очередь Франция должна понять, что у нее нет другой возможности обеспечить себе достойное будущее, кроме как в составе Европейского союза. Она должна по-настоящему захотеть создать сильную единую Европу. Хотя многие говорят об упадке Франции, она все еще – сильная держава. При населении менее 1 % от общемирового, производит более 3 % мирового ВВП. Это одна из самых красивых стран планеты, куда приезжает больше всего туристов. Франция находится на втором месте в мире и по привлечению иностранных инвестиций, и по объему предоставляемых услуг. У нее одни из самых высоких почасовых показателей производительности труда и лучшая в мире система социального обеспечения. Кроме того, благодаря развитию атомной энергетики, мы обладаем определенной энергетической автономией.
Так что Франция вполне сможет быть влиятельной мировой силой, если урегулирует проблему бюджетного дефицита и начнет больше интересоваться стратегическими вопросами, особенно энергетикой, системой высшего образования и иммиграционной политикой. Многие кандидаты в президенты на предстоящих выборах предпочитают дискутировать о незначительных проблемах, а ведь именно эти выборы будут одной из последних возможностей для Франции определить новые ориентиры на будущее.

Битва за глобальные ценности
© "Россия в глобальной политике". № 1, Январь - Февраль 2007
Тони Блэр – премьер-министр Великобритании. Статья о опубликована в журнале Foreign Affairs, № 1 (январь – февраль) за 2007 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
Резюме Война против терроризма не может быть сведена к решению проблем безопасности или военной тактики. Это битва ценностей, победить в которой можно, только добившись триумфа терпимости и свободы. Афганистан и Ирак были необходимыми отправными точками данного сражения. Но успех там невозможен без решительных, последовательных и продуманных усилий по внедрению глобальных ценностей. Лидером здесь является Вашингтон.
КОРНИ ЭКСТРЕМИЗМА
Наш ответ на теракты 11 сентября на практике приобрел гораздо более весомое значение, чем могло показаться в свое время. Дело в том, что мы могли бы свести всё к вопросам безопасности. Но вместо этого решили отстаивать свои ценности, заявив, что нам не нужно еще что-то вроде «Талибана» или другого диктатора наподобие Саддама Хусейна. Нам хорошо известно, что идеологию фанатизма нельзя победить, лишив свободы либо уничтожив ее лидеров. Необходимо доказать несостоятельность их идей.
Ситуация, с которой мы столкнулись, на самом деле свидетельствует о том, что разразилась настоящая война. Но война особого свойства, в которой невозможно победить обычными средствами. Нам не выиграть кампанию против глобального экстремизма, не доказав, что мы превосходим его не только по своей мощи, но и с точки зрения ценностных ориентиров. Мы сможем победить, только показав всему миру, что наши ценности имеют качественное преимущество по сравнению с альтернативными ценностями, и продемонстрировав наше беспристрастное и открытое стремление сделать их общедоступными. Для защиты нашего образа жизни может понадобиться применение силы, но мы не сможем заручиться реальной поддержкой, если не станем энергично бороться с глобальной бедностью, деградацией окружающей среды и социальной несправедливостью.
Нынешний всплеск глобального терроризма и экстремизма имеет глубокие исторические корни. Причины его кроются в десятилетиях отчуждения, гонений и политических преследований в арабском и мусульманском мире. Однако терроризм подобного рода никогда не был и не является неизбежным. Для меня самое примечательное в Коране – это его прогрессивный характер. Будучи последователем другой веры, я отдаю себе отчет в неполноте своих знаний. Как стороннего наблюдателя Коран поражает меня своим реформаторским духом. В этой книге предпринимается попытка вернуть иудаизм и христианство к их истокам, попытка, во многом похожая на то, что несколькими веками позже пытались сделать в отношении христианской церкви деятели эпохи Реформации. Коран весьма многообразен. В нем восхваляются науки и знания и отвергаются суеверия. Коран практичен и намного опережает свое время в том, что касается вопросов брака, положения женщин и государственного управления.
Под вдохновляющим воздействием Корана ислам и его господство неимоверно быстро распространились на ранее христианских или языческих территориях. За столетия ислам основал империю, которая стала мировым лидером в научных открытиях, искусстве и культуре. В эпоху раннего Средневековья проявления религиозной терпимости чаще можно было встретить в мусульманских, чем в христианских странах.
Но к началу XX века, после того как Запад пережил эпохи Ренессанса, Реформации и Просвещения, мусульманский и арабский мир стал обнаруживать неопределенность, неустойчивость своего положения и перешел на оборонительные рубежи. Некоторые мусульманские страны, например Турция, сделали решительный шаг в сторону светского государства. Другие попали в силки колонизации, зарождающегося национализма, политических преследований и религиозного радикализма. в жалком состоянии своих стран мусульмане стали видеть проявление удручающего состояния ислама. Политические радикалы превратились в религиозных и наоборот.
Власть пыталась приспособиться к исламскому радикализму, привлекая в правящую элиту некоторых его лидеров и отчасти принимая его идеологию. Результат почти всегда был катастрофическим. Религиозный радикализм таким образом становился приемлемым, политический же радикализм подавлялся, и в сознании значительной части населения они слились воедино как свидетельство необходимости перемен. Многие стали думать, что вернуть доверие и стабильность исламу можно путем сочетания религиозного экстремизма и популистской политики, в то время как «Запад» и те исламские лидеры, которые с ним сотрудничали, превратились в их глазах во врагов.
Этот экстремизм, по всей вероятности, начинался с религиозной доктрины и философии. Но вскоре в ответвлениях «Братьев-мусульман», поддерживаемых экстремистами-ваххабитами и рассредоточенных по некоторым медресе Среднего Востока и Азии, зародилась новая идеология, которую начали экспортировать по всему миру.
День 11 сентября 2001 года унес жизни 3 тысяч человек. Но терроризм, о котором идет речь, впервые дал себя знать не на улицах Нью-Йорка. Гораздо больше людей погибло еще раньше, причем не только во время терактов, острие которых было направлено против западных интересов, но и в ходе политических мятежей и волнений по всему миру. Жертвами этого терроризма пестрит недавняя история многих стран, таких, как Индия, Индонезия, Йемен, Кения, Ливия, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, список можно продлевать до бесконечности. Более 100 тысяч человек погибло в Алжире. Некогда вполне разрешимые политические проблемы в Чечне и Кашмире превратились под натиском терроризма в категорически неразрешимые. Сегодня в тридцати либо сорока странах разрабатываются планы действий, так или иначе связанные с идеологией терроризма. И хотя численный состав активных приверженцев этой идеологии относительно невелик, им удается эксплуатировать чувство отчуждения, гораздо более широко распространенное в арабском и мусульманском мире.
Теракты, которые мы упоминаем, отнюдь не являются единичными случаями. Это часть ширящегося движения, участники которого убеждены, что единоверцы отошли от правоверной религии и попали под влияние западной культуры. Ими правят те вероломные мусульмане, которые напрямую замешаны в этом перевороте (в отличие от тех, кто понимает, что для восстановления не только истинной веры, но и уверенности и самоуважения мусульман необходимо ополчиться против Запада и всего, что с ним связано).
Борьба с терроризмом в Мадриде, Лондоне либо Париже – это часть той же борьбы против терактов «Хезболла» в Ливане или «Исламского джихада» на палестинских территориях, а также повстанческих группировок в Ираке. Убийство ни в чем не повинных людей в Беслане является плодом той же идеологии, которая сеет невинные жертвы в Йемене, Ливии, Саудовской Аравии. И когда Иран спешит оказать поддержку подобного рода терроризму, он также становится участником этой битвы.
Политическая стратегия может утверждаться сознательно либо подсознательно. В данном движении она возникла, вероятно, инстинктивно. Ему свойственны идеология, мировоззрение, глубокая убежденность и решимость фанатиков. Оно во многом напоминает ранний революционный коммунизм и не всегда нуждается в структурах и центрах управления или даже в прямой коммуникации. Участники и так знают наперечет все свои помыслы.
В конце 1990-х годов стратегия стала достаточно очевидной. Если бы речь шла только о борьбе внутри ислама, движение рисковало столкнуться с тем фактом, что другие мусульмане, которым, как и всем остальным людям, свойственно чувство порядочности и справедливости, предпочтут отвергнуть фанатизм. Битва за ислам – это междоусобная борьба мусульман против мусульман. Экстремисты осознали, что возникала необходимость начать совершенно другую битву – мусульман против Запада.
Меня до сих пор поражает, как много людей уверены в том, что сегодняшний терроризм явился следствием вторжений в Афганистан и Ирак. Эти люди, похоже, напрочь забыли о том, что теракты 11 сентября 2001-го произошли раньше обоих вторжений. Запад не нападал. Он сам подвергся нападению.
ХАРАКТЕР ЗАВЯЗАВШЕЙСЯ СХВАТКИ
Итак, согласно идеологии терроризма, мы олицетворяем собой врага. Однако «мы» – это не Запад. «Мы» – это мусульмане в той же степени, что и христиане, иудеи либо индусы. «Мы» – это те, кто верит в религиозную терпимость, в открытость по отношению к другим, в демократию, в свободу и права человека, которые защищаются в светских судах.
Это не конфликт цивилизаций – это конфликт по поводу того, что такое цивилизация. Это старая как мир битва между прогрессом и реакцией, между теми, кто принимает современный мир, и теми, кто отвергает его: между оптимизмом и надеждой, с одной стороны, и пессимизмом и страхом – с другой.
В любой борьбе главное – правильно оценить природу конфликта, и здесь нам еще предстоит долгий путь. Мне трудно понять, каким образом столь значительная часть общественного мнения на Западе может допускать мысль, что в появлении глобального терроризма каким-то образом виноваты мы сами.
Начнем с того, что терроризм действительно приобрел глобальный характер. Он направлен не только против Соединенных Штатов и их союзников, но и против стран, которые практически невозможно назвать партнерами Запада.
Кроме того, борьба в Ираке и Афганистане явно ведется не за освобождение этих стран от оккупации США. Цель экстремистов – не дать обеим странам превратиться в демократические государства. И не просто «по западному образцу», а по любому образцу. Именно экстремисты, а не мы убивают невинных, и делают это намеренно. Они – единственная причина, по которой мы до сих пор остаемся в Ираке и Афганистане.
Предположение о том, что исламский терроризм – продукт бедности, просто нелепость. Конечно, бедность используется им для оправдания своих действий. Но его фанатичных последователей трудно назвать приверженцами экономического развития.
Более того, цель террористов не в том, чтобы способствовать созданию Палестины, мирно сосуществующей с Израилем, а скорее в том, чтобы этого не допустить. Они борются не за становление палестинского государства, а за исчезновение Государства Израиль.
Террористы строят свою идеологию на религиозном экстремизме, и не просто на религиозном экстремизме, а конкретно – на его мусульманском варианте. Террористы отвергают модернизацию. Они надеются, что дуга экстремизма, которая протянулась сегодня через весь регион, сметет первые, хотя и нетвердые попытки, которые современный ислам предпринимает, чтобы устремиться в будущее. Они хотят возвращения мусульманского мира назад под управление полуфеодальной религиозной олигархии.
И всё же, несмотря на все эти достаточно очевидные факты, многие в западных странах прислушиваются к пропаганде экстремистов и принимают ее. (И надо отдать должное: экстремисты используют наши собственные СМИ с мастерством, которому могут позавидовать многие политические партии.) Ссылаясь на массовые убийства в Ираке, они говорят, что это – причина для того, чтобы уйти из страны. Каждый кровопролитный теракт почему-то служит указанием на нашу ответственность за беспорядки, а не на степень зла, присущую тем, кто его совершил. То, что было сделано в Ираке в 2003 году, для многих настолько неправильно, что они неохотно принимают и то, что, безусловно, правильно сейчас.
Некоторые верят, что теракты целиком лежат на совести Запада из-за того, что он-де подавляет мусульман. Другие всерьез полагают, что достаточно нам покинуть Ирак и Афганистан, как теракты прекратятся. Наконец, не могут не настораживать разделяемое многими пагубное мнение, что мы, мол, платим слишком высокую цену за поддержку Израиля, а также тот факт, что многие сочувствуют тем, кто осуждает еврейское государство.
Осознай мы истинный характер ведущейся сегодня борьбы, мы были бы, как минимум, на пути к победе. Однако огромная часть общественного мнения на Западе еще очень далека от этого.
Идеологии терроризма должен быть брошен вызов – причем повсюду, где она только появляется. Исламский терроризм нельзя победить, пока мы не осознаем необходимость противостояния не только методам, но и идеям экстремизма. Я не намерен объяснять экстремистам, что террористическая деятельность – это зло. Я хочу, чтобы они поняли: их отношение к Соединенным Штатам абсурдно, их концепция государственной власти из дофеодальных времен, а их взгляды на положение женщин и на другие религии реакционны. Не только варварские теракты, но и ложное чувство обиды на Запад, попытки убедить нас в том, что ответственность за насилие должны нести другие, а не сами экстремисты, достойны всяческого осуждения.
В эпоху глобализации наше будущее определяет исход столкновения между экстремизмом и прогрессом. Мы больше не можем игнорировать эту борьбу, так же как не можем не принять меры в связи с изменением климата. Бездействовать, то есть перекладывать ответственность на Соединенные Штаты или пытаться обмануть себя, полагая, что терроризм – это череда изолированных эпизодов, а не глобальное движение, глубоко ошибочно.
ДВА ФРОНТА
Именно поэтому ошибается тот, кто игнорирует значение выборов в Ираке и Афганистане. Остается фактом, что народ, если ему дать шанс, предпочитает демократию. С того момента, как афганцы пришли и проголосовали на первых в своей истории выборах, миф о том, что демократия – это концепция Запада, окончательно развенчан. Точно так же и в Ираке, несмотря на разгул насилия и запугивание, голосование было представительным, причем количество людей, которые пришли к избирательным урнам, могло бы сконфузить многие западные демократии.
Указанные избирательные кампании продемонстрировали, что люди не хотят диктатуры, ни теократической, ни светской. Когда сторонники Саддама или муллы Мухаммада Омара решают выдвинуть свои кандидатуры на выборах, им не удается собрать сколько-нибудь значительное число голосов. Иракские и афганские мусульмане открыто заявили: у нас не меньше прав на демократию, чем у вас. Принимая демократию, они тем самым демонстрируют, что тоже стремятся жить в обществе, в котором мирно сосуществуют представители разных культур и религий. Эта и наша борьба.
В чьих интересах заблокировать прогресс демократии? В Ираке это пестрая смесь из иностранных джихадистов, бывших сторонников Саддама и отвергающих сотрудничество повстанцев; в Афганистане – объединение наркобаронов, талибов и «Аль-Каиды». Они утверждают, что демократия – западная идея, которую силой навязывают сопротивляющейся исламской культуре. Вспоминают о всех мыслимых теориях заговора, начиная с намерения Запада захватить иракскую нефть и кончая его планами по установлению империалистического господства. Кое-кто на Западе даже соглашается с ними.
В чем же причина столь яростного сопротивления этих реакционных элементов? Очевидно, что они с самого начала осознали важность победы или поражения. Конечно, с нашей стороны тоже допускались ошибки и имели место случаи неприемлемого нарушения прав человека. Однако мы не можем не признать, что именно здесь, в этом регионе, в наиболее чистом виде проявилась борьба между демократией и насилием
Наверняка найдутся аргументы в пользу того, что процесс дебаасизации Ирака (отстранение партии Баас от власти) протекал слишком быстро и без разбору, особенно в вооруженных силах. Однако при этом забывается тот факт, что основную тревогу в 2003-м вызывал гуманитарный кризис, который удалось преодолеть, и что в тот момент насущной необходимостью было ускорить отстранение Баас от власти.
Но после убийства сотрудников ООН в августе 2003 года в качестве главной предстала четко обозначенная задача – обеспечение безопасности. Реакционные элементы стремятся подорвать процесс восстановления и демократизации страны путем насилия. Снабжение электроэнергией превратилось в проблему отнюдь не вследствие халатности, проявленной иракцами либо коалиционными силами, а по причине саботажа. Люди испытывали страх в обстановке террора со стороны криминальных группировок, многих членов которых Саддам намеренно выпустил из тюрем накануне своего падения
Подобные акции не были случайностью, они составляли и продолжают составлять часть стратегии. Когда, действуя в рамках такой стратегии, экстремисты потерпели неудачу в попытке досрочно вытеснить коалицию из Ирака и не смогли остановить голосование, они перешли к отдельным убийствам, актам грубого насилия и вандализма. Наиболее вопиющим является варварское и кощунственное разрушение шиитской мечети в Самарре.
Экстремисты знают, что если им удастся добиться успеха – в Ираке, Афганистане, Ливане или любой другой стране, желающей следовать демократическим путем, – то демократическое будущее арабского и мусульманского мира, как перспектива, потенциально подвергнется смертельному удару. И наоборот, если эти страны превратятся в демократии и станут успешными, будет нанесен мощный удар по всей антизападной пропаганде экстремистов, а также и по их системе ценностей.
В каждом из этих случаев Соединенные Штаты, Великобритания и многие другие государства помогают подготовке местных сил безопасности, оказывают поддержку демократическому процессу и служат оплотом против терроризма, угрожающего подорвать его. Все это происходит в полном соответствии с мандатом ООН.
Дебаты о правильности изначально принятых решений, особенно в отношении Ирака, будут продолжаться. Оппоненты станут говорить, что Ирак никогда не представлял собой угрозы, что там не было оружия массового уничтожения, что торговля наркотиками в Афганистане продолжается. Я же отмечу, что Ирак в действительности представлял собой угрозу, о чем свидетельствуют две войны в регионе, 14 резолюций Совета Безопасности ООН и заключительный доклад наблюдательной группы. Я также напомню, что после окончания войны в Ираке мы добились крупных успехов в ограничении распространения ОМУ, установили новые взаимоотношения с Ливией и настояли на прекращении деятельности нелегальной ядерной сети пакистанца Абдул Кадира Хана. Подчеркну, что именно талибы управляли наркоторговлей и давали приют «Аль-Каиде» и ее тренировочным лагерям.
Но чем бы ни завершились дебаты, если они вообще завершатся, какими бы правильными или неправильными ни были действия по устранению Саддама и талибов, остается фактом, что сейчас существует очевидная, ясная и чрезвычайная причина для поддержки народов указанных стран в их стремлении к демократии. Начиная с июня 2003 года многонациональные силы находятся в Ираке на основании резолюции ООН и по мандату первого в истории этой страны избранного правительства. В Афганистане все действия с самого начала осуществлялись в соответствии с решением ООН.
Ключевым моментом в деле устранения Саддама в Ираке и талибов в Афганистане является отнюдь не смена режимов, а стремление изменить систему ценностей, господствовавшую в этих странах. Лозунгом на самом деле была не «смена режима», а «смена ценностей». Именно поэтому я настаиваю на том, что сделанное в результате подобного вмешательства может иметь гораздо более весомое значение, чем это представлялось в свое время. Горькая ирония состоит в том, что экстремисты не в пример многим на Западе отдают себе более ясный отчет в том, что поставлено на карту.
БИТВА ЗА СЕРДЦА И УМЫ
В конечном счете это битва за прогрессивные ценности. Отчасти ее можно вести и выигрывать только внутри самого ислама. В этой связи полезно вспомнить, что экстремизм – это не подлинный голос ислама. Миллионы мусульман по всему миру хотят того же, что и все люди: свободы для себя и для всех остальных. Они считают терпимость добродетелью, а уважение к вере других – частью своей собственной веры.
Речь идет о битве ценностей, битве за прогресс. Следовательно, она не должна быть проиграна. Если мы хотим защитить наш образ жизни, у нас нет другой альтернативы, кроме как сражаться за него. Это может означать только одно – отстаивание наших ценностей не только у себя стране, но и во всем мире. Нам необходимо построить глобальный альянс в защиту глобальных ценностей и действовать через него. Бездействие тоже политика, дающая соответствующие результаты. Но она ошибочна.
Вся стратегия исламистского экстремизма базируется на необоснованном чувстве обиды, которое разделяет людей. В ответ мы должны предложить систему ценностей, которые в достаточной степени привлекательны, чтобы послужить целям объединения. Речь здесь идет не только о безопасности или военной тактике. Все дело – в сердцах и умах людей, в том, чтобы вдохновить и убедить их, продемонстрировав им все то лучшее, что символизируют наши ценности. Почему мы пока не добились успеха? Потому что мы недостаточно энергичны, последовательны и основательны в борьбе за те ценности, в которые верим.
Сказанного достаточно, чтобы стало очевидно, как много предстоит сделать. Убедить западную общественность, в чем природа настоящего конфликта, – задача трудная уже сама по себе. Но нам еще нужно помочь современным умеренным, центристским силам исламского мира нанести поражение реакционным оппонентам.
Нам предстоит доказать, что наши ценности – не западные, и тем более не американские или англосаксонские; они принадлежат всему человечеству, носят универсальный характер и должны стать правом для гражданина мира.
На нас ополчились целые отряды ярых ненавистников. Но гораздо больше людей, которые не испытывают к нам ненависти, но сомневаются в наших мотивах, доброй воле и беспристрастности. Именно они могли бы разделить с нами наши ценности, однако им кажется, что мы и сами придерживаемся этих ценностей лишь избирательно. Следовательно, нам предстоит переубедить их, довести до сведения этих людей, что дело касается в равной степени правосудия и справедливости, безопасности и процветания.
Вот почему целый ряд ключевых вопросов не только ждут своего решения в важной для нас сфере национальных интересов, но и являеются для нас серьезным тестом на приверженность глобальным ценностям. Если мы верим в справедливость, как мы можем допускать, чтобы ежедневно погибали 30 тысяч детей, хотя их смерть можно предотвратить? Если мы верим в нашу ответственность перед будущими поколениями, как мы можем быть равнодушны к деградации планеты? Как мы можем быть сопричастны к глобальной торговой системе, которая основана на несправедливом товарообмене? Как мы можем принести мир на Ближний и Средний Восток, не решив палестино-израильскую проблему?
Везде, где люди живут в страхе, оставив надежду на продвижение вперед, нам следует принять их сторону, солидаризируясь с ними, будь то в Мьянме, Северной Корее, Судане или Зимбабве. Нам следует протянуть руку помощи всем тем странам, которые находятся в процессе демократического развития.
Во имя достижения указанных целей необходимо вести активную внешнюю политику, направленную на привлечение к сотрудничеству, а не на изоляцию. Это недостижимо без прочного альянса с Соединенными Штатами и Европой в его основе. Но на необходимом нам альянсе дело не заканчивается, все только начинается.
Позвольте мне высказаться без обиняков. Я не всегда соглашаюсь с Соединенными Штатами. Иногда наша дружба переживает трудные моменты. Однако распространение антиамериканских настроений кое-где в Европе является безумием, особенно в свете долгосрочных интересов будущего мироустройства, в которое мы верим. Опасность не в том, что США слишком активно вовлечены в мировые проблемы. Опасность в том, что Вашингтон может развести мосты и отдалиться от этих проблем. Мир нуждается в их вовлеченности. Мир хочет их вовлеченности. Реальность такова, что без Соединенных Штатов нельзя ни решить, ни даже приблизиться к решению ни одной из тех проблем, которые нас одолевают.
НЕ ТОЛЬКО БЕЗОПАСНОСТЬ
Сегодня очень важно понять, что наши злободневные темы не ограничиваются вопросами безопасности. Существует риск разделения глобальной политики на «жесткую» и «мягкую», при котором «жесткие» меры принимаются в отношении террористов, а с бедностью и социальной несправедливостью ведется борьба главным образом с помощью «мягких» кампаний. Такой разрыв опасен, поскольку взаимозависимость уравнивает все эти проблемы в правах. В том-то все и дело, что они взаимозависимы. Ответ терроризму – в универсальном применении глобальных ценностей; при этом на бедность и социальную несправедливость можно ответить тем же самым способом. Вот почему отстаивание глобальных ценностей следует осуществлять не избирательно, а вникая во все вопросы глобальной повестки дня.
Нам необходимо с новой энергией взяться за мирное урегулирование между Израилем и палестинцами – и сделать это решительно и углубленно. Его значение для более широкой проблемы Ближнего и Среднего Востока и борьбы внутри ислама выходит за пределы исправления бедственного положения палестинцев. Урегулирование могло бы стать реальным, ощутимым доказательством того, что различные религии и культуры способны сосуществовать и в регионе, и в мире. Это не только отнимет у реакционного ислама один из его наиболее эффективных и взрывных лозунгов, но и окончательно подорвет основы его идеологии.
Мы должны бороться с губительными последствиями бедности, голода, болезней и конфликтов путем наращивания гуманитарной помощи и активных действий, особенно в Африке. До председательства Великобритании в группе ведущих индустриальных держав «Большой восьмерки» в 2005 году проблемы Африки и изменения климата не входили в число первоочередных в политической повестке дня Лондона, тем более на международной арене. Теперь же положение изменилось. Этим в немалой степени мы обязаны усилиям миллионов людей, вдохновленных кампаниями «Make Poverty History» («Пусть бедность уйдет в прошлое») и «Live 8» (благотворительные концерты, прошедшие в ноябре в странах «Большой восьмерки». – Ред.), которые сыграли чрезвычайно важную роль в деле мобилизации гражданского общества. Но то, что данные темы занимают сейчас верхние строчки повестки дня, не означает, что они не рискуют снова легко переместиться вниз.
Нам следует позаботиться о том, чтобы этого не произошло. Наш долг – продолжать мобилизацию ресурсов и прикладывать усилия к тому, чтобы превратить обязательства 2005-го в реальные действия. Могу засвидетельствовать: когда африканские правительства по-настоящему проявляют приверженность делу прогресса, народы континента вполне поддерживают их усилия. Именно поэтому, каким бы отчаянным ни выглядело положение и какими бы непреодолимыми ни казались препятствия, мы должны сохранять оптимизм и верить, что прогресс реально достижим.
Следует активизировать торговые переговоры. Очевидно, что на кон поставлена наша решимость бороться с бедностью на планете и оказывать поддержку развитию. Кроме того, на чашу весов брошена сама идея многосторонних действий для достижения общих целей. Если мы окажемся неспособны обеспечить на должном уровне проведение раунда торговых переговоров, когда этого, безусловно, требуют и наши долгосрочные национальные, и широкие международные интересы, это может привести к провалу с многочисленными неблагоприятными последствиями. Политика сельскохозяйственного протекционизма в Европе – порождение прошлой эпохи, и пришло время положить ей конец. Однако перемены в рамках одной лишь Европы ни к чему не приведут. Соединенные Штаты также должны раскрыть свои возможности. То же самое касается Японии. Чтобы сделать более доступными несельскохозяйственные рынки, мы рассчитываем на лидерство со стороны Бразилии и Индии. Нам следует также договориться о пакете мер развития для беднейших стран, который включает 100-процентный доступ к рынкам и помощь в развитии торговли.
Наконец, мы взываем ко всему миру о необходимости сосредоточить усилия на угрозе изменения климата. Будущие поколения не простят нас, если мы не обратим внимание на деградацию и загрязнение нашей планеты. От нас зависит, будет ли выработана четкая и стройная система действий с измеряемыми результатами, в которой примут участие все основные игроки и которая будет направлена на то, чтобы стабилизировать концентрацию парниковых газов и температуру планеты. Убежден, что четко поставленная цель и отлаженная система действий помогут стимулировать столь необходимую нам технологическую революцию. Жизненно важно также вселить в бизнес чувство уверенности для инвестиций в более чистые технологии и сокращение выбросов в окружающую среду.
Соединенные Штаты стремятся к созданию низкоуглеродной экономики, осуществляют крупные капиталовложения в чистые технологии, заинтересованы в существенном росте Китая и Индии. Мир готов к новому старту. Вашингтон призван возглавить этот процесс.
За девять лет на посту премьер-министра я не стал меньше идеалистом или больше циником. Просто я все больше убеждаюсь в том, что различие между внешней политикой, движимой ценностями, и внешней политикой, движимой интересами, некорректно. Глобализация порождает взаимозависимость, а последняя влечет за собой необходимость общей системы ценностей, без которой она не будет работать. Идеализм, таким образом, превращается в реальную политику.
Само по себе это не означает, что принятие решений в нашем суровом мире временами не будет приводить к неудачам, недочетам, противоречиям и лицемерию. Но что действительно важно, так это то, что духовное начало человека, от которого зависит прогресс человечества, таит в себе надежду на будущее человечества.
Именно в этом смысл моего утверждения, что эта борьба – борьба за ценности. Наши ценности служат нам ориентиром, олицетворяющим прогресс человечества на протяжении веков. На каждом этапе нам приходилось отстаивать их. И в преддверии новой эры наступило время снова вступить за них в схватку.

Ветер перемен в Латинской Америке
© "Россия в глобальной политике". № 6, Ноябрь - Декабрь 2006
В.М. Давыдов – д. э. н., профессор, директор Института Латинской Америки РАН. Статья написана в рамках проекта «Внешние условия развития Российской Федерации в 2007–2017 гг.», который осуществляется при поддержке РИО-Центра коллективом экспертов из Совета по внешней и оборонной политике, ГУ – ВШЭ, Института стратегических оценок и анализа, Института Европы РАН. Руководитель проекта – С.А. Караганов.
Латинская Америка переживает серьезные перемены. С одной стороны, государства региона отходят от прежних стандартов экономической политики и поведения на международной арене. С другой – меняется характер внешнего воздействия. Традиционно здесь доминировали США, теперь же усиливается присутствие других мировых держав, благодаря чему расширяется поле деятельности для политического маневра. Последствия новой ситуации могут быть весьма разнообразны и зачастую противоречивы, однако она сулит неплохие шансы для укрепления российских позиций в регионе.
"ДРЕЙФ" ВЛЕВО
Латинская Америка обладает крупным и еще не полностью раскрытым ресурсным потенциалом, однако в мировой экономике и политике она традиционно занимала периферийное положение. С середины ХХ века регион становится одной из арен противоборства двух сверхдержав – Соединенных Штатов и Советского Союза, причем в самом центре этого глобального противостояния оказалась Куба.
Исчезновение СССР ослабило левую часть латиноамериканского политического спектра, что привело к некоторой разрядке внутренней напряженности. Однако в результате нарушения международного баланса сил у государств региона оказалось меньше возможностей для стратегического маневра.
По континенту прокатилась волна демократизации, которую использовали силы неоконсервативного и неолиберального толка. Запущенные ими реформы обеспечили на первом этапе макроэкономическую стабилизацию и определенный экономический рост. Но во второй половине 1990-х неолиберальная волна начала «захлебываться». Реформированным экономикам не удалось приспособиться к процессам глобализации, их уязвимость перед лицом внешних кризисных шоков только возросла; к тому же резко усилилось имущественное расслоение.
В этих условиях настроение населения стало меняться. Начиная с конца прошлого столетия к власти конституционным путем приходят альтернативные силы и лидеры – в Венесуэле (1998), Аргентине (2002) Бразилии (2002 и 2006), Боливии и Уругвае (2005), Эквадоре и Никарагуа (2006). В Перу и Мексике в 2006 году левые если и не победили, то привлекли на свою сторону почти половину электората.
Диапазон «полевения» весьма широк: от леворадикального варианта в Венесуэле до центристского и социально ориентированного в Чили. Массовый характер этого социально-политического сдвига указывает на то, что воспроизводство на латиноамериканской почве левой политической культуры имеет объективный характер. (Сегодня к этому процессу добавляется стремительный рост политического самосознания коренного населения – так называемый «индейский ренессанс».)
ПРОГНОЗ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
В силу переломного характера нынешней ситуации в странах Латинской Америки неясным является и ее экономическое будущее. Вместе с тем можно предположить, что в период до 2017-го вероятно следующее.
Вес региона в мировом ВВП останется на уровне 7–8 %, в мировом населении – 8–9 %.
Сохранится тенденция к экономической дифференциации стран региона. Бразилия, Мексика, Чили и Аргентина, идущие по пути технологического обновления и постепенного формирования элементов «экономики знания», увеличат отрыв от остальных государств. Положение Венесуэлы будет, разумеется, зависеть от конъюнктуры нефтяного рынка.
В экономической политике следует ожидать преобладания неокейнсианского подхода, ряд стран региона смогут несколько сократить имущественное расслоение.
Бразилия подтвердит свой статус восходящего гиганта и станет наращивать усилия по формированию собственной зоны влияния в Южной Америке.
Значительная часть стран Латинской Америки, скорее всего, продолжат «дрейфовать» влево. Настроение избирателей будет в большей степени зависеть от положения дел в Бразилии, нежели от развития событий в Венесуэле. Максимальную степень нестабильности следует ожидать в Андском поясе (Боливия, Перу, Эквадор, Колумбия), минимальную – в странах Южного конуса.
В большинстве государств сохранится традиционная демократическая система, однако не исключены авторитарные «зигзаги», особенно под предлогом необходимости решить задачи по перераспределению.
Изменится ситуация на Кубе, где наиболее вероятен «вьетнамский сценарий» поэтапной трансформации. При этом нужно учитывать серьезную морально-политическую и экономическую поддержку Гаваны со стороны Каракаса.
Шансы преодоления затяжного внутреннего конфликта в Колумбии невелики, но его относительное «охлаждение» все же возможно. (В данном конфликте, который продолжается в стране около 40 лет, левоэкстремистские «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК) и Армия национального освобождения (АНО) противодействуют колумбийской армии. – Ред.) С другой стороны, в случае радикализации венесуэльского режима не исключено обострение отношений между Венесуэлой и Колумбией.
В 2007–2017 годах продолжится большая геополитическая «игра», развернувшаяся вокруг региона в 1990-е. Обострится соперничество Соединенных Штатов и Европейского союза (в первую очередь его «неформального представителя» в регионе – Испании) за влияние в Латинской Америке. Сегодня Вашингтон пожинает плоды своего прошлого невнимания к региону; Евросоюз же постепенно усиливает здесь свои позиции. К прежним «игрокам» де-факто добавляется новый – Китай, прорвавшийся на местные рынки. Возрастет – особенно в конце исследуемого периода – роль Бразилии как регионального центра силы.
Тенденция возобновления сотрудничества Юг – Юг, по всей видимости, укрепится и выльется в расширение торгово-экономических отношений. Ряд латиноамериканских государств (прежде всего Бразилия) будут проявлять значительный интерес к восходящим странам-гигантам других регионов – Китаю, России и Индии.
Начавшаяся перекомпоновка интеграционных блоков внутри региона и противоречия, обнажившиеся в ходе многолетних переговоров о создании Панамериканской зоны свободной торговли (FTAA), не позволяют с уверенностью прогнозировать судьбу этого проекта. Очевидно, однако, что его реализация в любом случае откладывается. В перспективе она по-прежнему возможна, но в урезанном виде и ограниченном формате.
Особое значение приобретает ось сотрудничества, формирующаяся в рамках Ибероамериканского сообщества (ибероамериканский саммит впервые прошел в 1999 году в Мексике и объединяет страны Латинской Америки, Испанию и Португалию. – Ред.). Можно было ожидать, что вступление Венесуэлы в Южноамериканский общий рынок (Меркосур) придаст серьезный стимул дальнейшему развитию этого наиболее мощного интеграционного блока Латинской Америки. Правда, принимая во внимание особенности нынешнего венесуэльского режима, стоит учитывать риск того, что конфликтный потенциал внутри Меркосура увеличится.
Разделение региона по геополитической и геоэкономической ориентации на северную (Мезоамерика и часть Карибов) и южную (Южная Америка) части, проявившееся в последнее десятилетие, сохранится и впредь. Вместе с тем очевидно, что для Мексики предел ориентации на севере уже достигнут и даже протеже правых сил, который недавно выиграл выборы, заявляет о необходимости в течение своего мандата сбалансировать внешние связи, в частности, поворотом к Латинской Америке. В свою очередь, на юге региона следует ожидать дальнейшую диверсификацию внешних экономических и политических связей в духе «открытого регионализма». Новым фактором развития латиноамериканских государств стало их усиливающееся сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
Массовый отток населения латиноамериканских стран в Соединенные Штаты, Канаду и Испанию, вероятно, возрастет, что может негативно отразиться на отношениях с последними (прежде всего это касается отношений Мексика – США). Рост в Северной Америке латиноамериканских диаспор будет превращаться из внутриполитического во внешнеполитический фактор. В Соединенных Штатах уже появилось латиноамериканское лобби, которое будет только расти, меняя и внутриполитический баланс, и политику в отношении отдельных стран региона.
В настоящее время внешняя политика латиноамериканских государств активизируется после продолжительного затишья 1990-х. В предстоящий период их подавляющее большинство сохранят приверженность таким принципам, как примат международного права, универсальная роль ООН, нераспространение оружия массового уничтожения (ОМУ), многосторонность в решении крупных международных проблем (многополюсность). Проблемы международной безопасности станут по-прежнему решаться с учетом социальных, экономических и других нетрадиционных факторов. К интерпретации понятий «международный терроризм» и «антитеррористическая борьба» латиноамериканские страны будут подходить с осторожностью, указывая на их социально-экономические причины.
В случае если ряд стран Дальнего Востока, Среднего и Ближнего Востока обзаведутся ядерным оружием, то и в Латинской Америке, прежде всего в Бразилии, отношение к вопросу о распространении ОМУ может подвергнуться ревизии. В любом случае будет нарастать интерес к развитию атомной энергетики.
РОССИЯ И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА: ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
В основе «латиноамериканского» курса СССР лежали преимущественно идейно-политические и военно-стратегические мотивы. Однако весьма активно развивались и торговые отношения. Довольно высоких показателей достиг торговый оборот не только с Кубой, но и с Аргентиной (до 3 млрд дол. в 1981 году, когда эта страна стала для Москвы альтернативным источником закупки зерна), Бразилией (пик – 835 млн дол. в 1983-м), Перу, Чили (до переворота 1973 года), Никарагуа (после победы сандинистов).
В советском экспорте преобладала машино-техническая продукция (в Аргентину в 1980-е – свыше 80 %). В ряде стран региона Советский Союз занимался сооружением и техническим оснащением крупных инфраструктурных и индустриальных объектов. В Аргентине на нашем оборудовании до сих пор вырабатывается 25 % электроэнергии. Многие кубинские, перуанские, эквадорские, боливийские и никарагуанские специалисты получили образование в советских вузах.
В первой половине 1990-х российско-латиноамериканские отношения переживали катастрофический спад. Однако в последнее время они стали выправляться. Сегодня объем товарооборота и интенсивность политических контактов превосходят показатели советских времен. Регион выделяется в «самостоятельное направление» российской дипломатии, характеризующееся многообещающим потенциалом взаимопонимания и взаимодействия.
В торгово-экономической сфере до сих пор превалировала активность латиноамериканской стороны. Инертность российского бизнеса начинает преодолеваться лишь в самое последнее время. На латиноамериканские рынки уже выходят крупные корпорации: «Газпром», «Русал», «Силовые машины», «ЛУКойл», «КамАЗ» и др. Они постепенно переходят от зондирования почвы к коммерческим переговорам по участию в крупных проектах. Создается задел, который может масштабно реализоваться в ближайшем десятилетии.
Какие факторы будут в предстоящие годы определять взаимодействие России с Латинской Америкой?
Во-первых, поэтапный выход части стран региона из периферийной зоны мировой экономики и политики. Прежде всего это касается ведущих государств – Бразилии, Мексики, Аргентины, Чили, Венесуэлы.
Во-вторых, необходимость диверсифицировать международные политические и экономические отношения РФ, а также рост интереса российских корпораций к инвестициям за рубежом.
В-третьих, объективная заинтересованность латиноамериканских производителей в доступе на российский рынок.
В-четвертых, значительное сходство позиций России и основных стран Латинской Америки по ключевым вопросам мирового развития. Регион поддерживает активную роль Москвы на международной арене, видя в ней альтернативный центр силы и влияния.
В период 2007–2017 годов Латинская Америка будет иметь существенное значение для расширения поля международной деятельности России и закрепления ее статуса мировой державы. Более того, сотрудничество с латиноамериканскими государствами сможет в какой-то мере компенсировать ослабление наших позиций на других направлениях внешней политики.
Конфликтный потенциал во взаимоотношениях Москвы с латиноамериканскими партнерами минимален. Россия не находится в ситуации «связанных рук», есть простор для инициативы.
Отношения между Москвой и государствами региона идут по восходящей линии, но явно отстают по формам, методам, содержательному наполнению от международных стандартов. Не дотягивают они и до того уровня сотрудничества, который достигнут латиноамериканскими странами в их взаимоотношениях с США, ЕС, странами АТР. Прогрессу на этом направлении мешают медленная модернизация российской экономики, а также сохранение «остаточного принципа» в латиноамериканской политике России.
Ключевыми задачами, которые предстоит решать в Латинской Америке российской дипломатии, являются:
диверсифицировать институциональную структуру взаимодействия, дополнить договорную базу сотрудничества до современного стандарта двусторонних отношений;
создать механизм поддержки российских экспортеров машино-технической продукции и инженерных услуг;
реализовать систему информационно-политических мер по улучшению имиджа России в общественном мнении Латинской Америки;
расширить поле сотрудничества на многосторонней основе, навести мосты в отношениях с внутрирегиональными интеграционными группировками, войти в Межамериканский банк развития;
реально обозначить политико-дипломатическое присутствие РФ (в ранге наблюдателя) в ряде ключевых международных организаций Западного полушария, прежде всего в Организации американских государств, а также проявить инициативу в целях получения аналогичного статуса в Ибероамериканском сообществе;
в ближайшие 4–5 лет вывести отношения с Бразилией на уровень стратегического партнерства, наполнить его реальным политическим и экономическим содержанием;
перевести торгово-экономическое сотрудничество с наиболее перспективными партнерами латиноамериканского региона в формат соглашений об экономической дополняемости либо о свободной торговле.
По итогам 2006 года торговый оборот Российской Федерации со странами региона превысит 7 млрд дол. (ведущий партнер – Бразилия: почти 4 млрд дол.). При сохранении существующих тенденций можно прогнозировать к 2017-му уровень 20–25 млрд долларов. А если задачи, перечисленные выше, будут хотя бы отчасти решены, то можно поднять планку до 30–35 млрд дол., улучшив при этом соотношение импорта и экспорта и увеличив в наших поставках долю несырьевого компонента. Наибольшие шансы РФ сохранит в торговле энергетическим оборудованием.
На предстоящее десятилетие приходится цикл обновления вооружений в армиях латиноамериканских стран. У России уже есть определенный задел на рынках региона. Вертолетная техника, артиллерийское и зенитное вооружение, аппаратура радиоэлектронного наблюдения могут стать важными и относительно стабильными статьями российского экспорта в регион.
В течение прогнозного периода, очевидно, начнется практическая реализация соглашений о сотрудничестве в космической области. В случае с Бразилией это выгодно еще и потому, что Россия может использовать экваториальный космодром «Алькантара».
Разумеется, активизация российского присутствия в Латинской Америке будет сопровождаться трениями с традиционными поставщиками. Отечественным дипломатии и бизнесу придется соразмерять свои интересы с риском осложнения отношений с доминирующими на региональных рынках экспортерами и инвесторами. Поэтому в ряде случаев целесообразен и возможен переход российских поставщиков на формат производственной кооперации (прежде всего с Бразилией).
Наиболее болезненным для российской дипломатии останется кубинский вопрос, особенно в случае неадекватных действий Вашингтона. Нельзя забывать, что историческая вовлеченность Москвы в дела Кубы не позволяет попросту «умыть руки». Нужно быть готовыми к сложным маневрам для обеспечения щадящих условий трансформации и предотвращения разрушительных столкновений. Разумеется, важно при этом сохранить возможности присутствия на кубинском рынке.

«Плеяды» присоединяются к «звездам»
© "Россия в глобальной политике". № 6, Ноябрь - Декабрь 2006
Тоомас Хендрик Ильвес – президент Эстонской Республики. Данная статья была опубликована в журнале Cambridge Review of International Affairs (июль 2005) в бытность автора заместителем председателя Комитета Европейского парламента по международным делам.
Резюме Проамериканская позиция стран, недавно вступивших в Евросоюз, обусловлена их историческим опытом, а также тем, что Вашингтон с большим пониманием относится к нынешним опасениям «новичков». Сегодня, однако, государства Центральной и Восточной Европы должны делать все, чтобы добиться европейского единства.
Вплоть до 2004 года, когда Европейский союз принял в свои ряды 10 новых стран, раздавались голоса, предрекавшие, что новички окажутся троянским конем Вашингтона, агентами влияния, грозящими подорвать новые, еще непрочные позиции Европы в сфере международной политики.
Доказательства были налицо: незадолго до начала иракской кампании увидело свет «Письмо десяти» в поддержку курса Соединенных Штатов, подписанное министрами внутренних дел стран – участниц «Вильнюсской десятки» (Албания, Болгария, Латвия, Литва, Македония, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия и Эстония). Все эти государства стремились вступить в НАТО, а девять из них (кроме Македонии) одновременно являлись и кандидатами в члены ЕС. Высказывания лидеров государств Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в поддержку Вашингтона окончательно укрепили мнение об их будущей роли. Еще до своего вступления в Евросоюз все будущие новые страны-члены так или иначе участвовали в оккупации Ирака. И все же, нелишне спросить: а обоснованны ли страхи и ожидания, связанные с «американизацией» Евросоюза?
Расширение действительно изменило внешнеполитическую концепцию объединения, усилив трения в этой сфере. Однако в первую очередь изменилось восприятие не Запада, а Востока, и главным образом – России.
ПРОАМЕРИКАНСКИЙ НАСТРОЙ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
С осени 2002-го война в Ираке стала доминирующим фактором трансатлантических отношений. Сегодня, по утверждению политологов, достигнут пик напряженности со времен Вьетнама, Суэцкого кризиса либо даже окончания Второй мировой войны. Истоки раскола или (дабы не драматизировать) расхождений между партнерами по обе стороны Атлантики многократно анализировались. Это целый комплекс причин, однако чаще всего называют два взаимно усиливающих фактора.
Во-первых, исторические разногласия по вопросу многосторонней легитимации силовых действий. Во-вторых, глобальные изменения в мировом балансе сил, вызванные распадом Советского Союза. Ведь за последние полтора десятилетия Америка превратилась в единственную военную сверхдержаву.
Но на фоне основной американо-европейской драмы разыгрывалась другая – раскол между 15 странами-ветеранами Европейского союза и новыми, проамерикански настроенными странами-членами. Основываясь на существующих противоречиях, обозреватели дали двум сторонам целый ряд определений.
«Старая» и «новая» Европа. Так неудачно и не вполне доброжелательно министр обороны США Доналд Рамсфелд провел в 2003 году грань между сторонниками Соединенных Штатов в иракском вопросе, готовившимися к членству в ЕС, и противниками, большей частью из «старого» Евросоюза.
«Страны Марса» и «страны Венеры». Роберт Кейган, американский аналитик по вопросам безопасности, не без основания усмотрел духовное родство США с бывшими странами коммунистического блока в вопросах применения силы и защиты свободы. И те и другие более склонны к гоббсовскому миропониманию. Европа же, философия которой базируется на принципе консенсуса и кантианской системе юридически достигнутого «вечного мира», разительно отличается от новых членов Европейского союза с их непростой историей. Страны Восточной Европы не столь уверены в возможности сохранить мир, полагаясь лишь на переговоры и придерживаясь многостороннего подхода.
«Модернистская» Восточная Европа и «постмодернистский» ЕС-15. Эти определения ввел в 2003-м Роберт Купер, в ту пору сотрудник управления Высокого представителя ЕС по общей внешней политике и политике безопасности. Купер противопоставляет «постмодернистский» Евросоюз-15, менее приверженный национальному государству и наиболее космополитичный в поствестфальской системе, «модернистским» восточноевропейцам, которые, подобно американцам, тяготеют к подходам, бытовавшим до 1939 года. Аналогичным образом их охарактеризовали Юрген Хабермас и Жак Деррида.
«Невоспитанные дети», которым следует помалкивать в присутствии осмотрительных «взрослых» из ЕС-15. Так по поводу вышеупомянутого «Письма десяти» высказался президент Франции Жак Ширак.
Можно по-разному относиться к этим определениям, но все они отражают попытку докопаться до сути различий между востоком и западом Европы. Различий, которые уже получили широкий резонанс в среде политических элит. Их причины следует искать в своеобразии послевоенного устройства новых стран-членов, находившихся тогда под советским диктатом.
Эта не слишком оригинальная идея имеет, однако, свою подоплеку.
С одной стороны, что касается стран-ветеранов Европейского союза, для них нет ничего удивительного или нового в том, что государства ЦВЕ симпатизируют Соединенным Штатам. Западная Европа тоже чувствовала себя в долгу перед Америкой в 50-х – начале 60-х годов прошлого века. Создание НАТО, план Маршалла, берлинский «воздушный мост» в 1948-м и 200-тысячный американский контингент надежно скрепили фундамент трансатлантических отношений, который начал расшатываться лишь во второй половине 1960-х в период войны во Вьетнаме. Пока существовала угроза военного вмешательства либо государственного переворота со стороны Советского Союза (наподобие тех, что в 1940–1950-х годах испытали на себе Польша, Венгрия, Чехословакия и другие страны региона), трансатлантический консенсус на уровне политических элит был более или менее нерушимым. Позиция представителей государств ЦВЕ должна быть понятна странам ЕС-15, но они отказываются ее принимать, хотя новички лишь воспроизводят тогдашний трансатлантизм их самих.
С другой стороны, как ни парадоксально, исторически жителей государств ЦВЕ мало что связывало с США. БЧльшую часть стран бывшего соцлагеря освободила от фашизма Красная армия, поэтому здешнему обществу отнюдь не знаком образ американского солдата-освободителя – обязательная составляющая того, как представляют себе Америку европейские политики старшего поколения. Но для стран Восточной Европы изгнание фашистов не стало освобождением – война продолжалась, и ее новые методы были не намного лучше прежних. В этом и коренятся истоки их проамериканских настроений.
Поскольку примитивная коммунистическая пропаганда, поносившая врага, вызывала презрение, люди, пусть и мало знавшие об Америке, были уверены, что правда на ее стороне. Перефразируя Невилла Чемберлена, далекая и малоизвестная Восточной Европе Америка, будучи врагом ненавистных Советов, просто не могла не стать другом.
С таким восприятием страны региона и вернулись на политическую арену в 1989–1991 годах, когда в Западной Европе аналогичные настроения начали заметно ослабевать, особенно в молодежной среде. В начале прошлого десятилетия Западная и Восточная Европа относились к Соединенным Штатам по-разному. На западе континента к моменту падения «железного занавеса» чувство долга перед Вашингтоном многим стало казаться анахронизмом, а кое-где и вовсе сошло на нет. На востоке же, напротив, оно еще только вызревало в период холодной войны. Активная антикоммунистическая деятельность США, более знакомая простому обывателю по передачам «Голоса Америки» и радио «Свобода», являла собой разительный контраст благодушному безразличию Западной Европы. К 80-м годам прошлого столетия в западной части Европы эти американские усилия зачастую расценивались как «пропаганда». Восточноевропейцы, и особенно лидеры антисоветского движения, которым суждено было вскоре встать во главе своих стран, видели в США глашатая истины.
«Постмодернистская» Европа снисходительно усмехнулась, когда в 1982-м Рональд Рейган (в восприятии Старого Света ковбой и посредственный актер) назвал СССР «империей зла». Напротив, поляки, пережившие зверское убийство ксендза Ежи Попелюшко в 1984 году, или жители Балтии, прошедшие ГУЛАГ, считали это определение абсолютно точным. Подобное восприятие резко контрастировало с тем, чтЧ некоторые восточноевропейцы окрестили как «правозащитную доктрину Улофа Пальме», в соответствии с которой интенсивность внимания к нарушениям прав человека прямо пропорциональна расстоянию до места, где они отмечены.
И действительно, с конца 1960-х Западную Европу преимущественно волновала ситуация в Латинской Америке (где многие режимы пользовались поддержкой США) и в других отдаленных странах. Восточная Европа могла лишь недоумевать, отчего ее соседей меньше волнуют нарушения, творящиеся у них под боком. Зато она с воодушевлением следила за действиями Вашингтона, который сыграл ключевую роль в том, что на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе появилась «третья корзина», а также провел через Конгресс Закон о порабощенных народах и не признавал аннексию Балтии, о чем громогласно объявляли радио «Свобода» и «Голос Америки».
Однако важнее всего для новых стран-членов, по крайней мере в последнее время, было то, что Америка в лице Билла Клинтона, а затем и Джорджа Буша неуклонно выступала за расширение НАТО на Восток. Хотя некоторые деятели в НАТО и Европейском союзе поддерживали эту идею, «старая» Европа проявляла куда большую сдержанность. Невмешательство в восточноевропейские проблемы, чтобы не раздражать СССР, а также медлительность с расширением Североатлантического альянса, чтобы не задевать Россию, лишь утвердили Восточную Европу во мнении о ее западных соседях.
АХЕЙЦЫ В ЧРЕВЕ ДЕРЕВЯННОГО КОНЯ?
При этом позиция Соединенных Штатов в отношении Восточной Европы, подчас весьма жесткая, породила в ряде государств этого региона убеждение в том, что моральный долг уже выплачен. Прекращение помощи странам – участницам договора о создании Международного уголовного суда, отказ подписать Киотский протокол, одностороннее введение тарифов на импорт стали при одновременном требовании от кандидатов на вступление в ВТО либерального торгового режима – сильный раздражающий фактор для новых стран-членов. Договор о безвизовом въезде в США не распространяется на страны, чьи войска сражаются и гибнут в Ираке (в отличие от европейских государств, не поддержавших Америку), что также не вдохновило Восточную Европу.
К тому же моральный долг сродни процентным платежам: со временем его можно погасить. Германия была в большом долгу перед Америкой – ведь именно она преодолела сопротивление Великобритании и Франции на пути к объединению расколотой надвое страны. Не кто иной, как Соединенные Штаты помогли Германии восстановить полный суверенитет и воплотить в жизнь мечты немцев по обе стороны Берлинской стены. Тем не менее чуть более десятилетия спустя канцлер уже объединенной Германии без колебаний приостановил «выплату» морального долга ради победы на выборах (в 2002-м Герхард Шрёдер в преддверии выборов отказался поддерживать США по вопросу о войне в Ираке, что, по мнению многих, перевесило чашу весов в его пользу. – Ред.).
Сегодня государства Центральной и Восточной Европы заново познаюЂт фундаментальную истину, объясняющую их горькое прошлое в XX веке: малые и слабые страны заинтересованы в соблюдении принципа многосторонности и международного права. Они должны принять правила игры, определенные acquis communautaire, и стремиться к легитимации каждой силовой операции Советом Безопасности ООН.
Странам, пострадавшим от диктата больших держав в ходе Второй мировой войны, это должно быть особенно понятно. Крах Лиги Наций, мюнхенский раздел Чехословакии, пакт Молотова – Риббентропа, Ялтинская конференция – основные этапы непростой истории новых членов Евросоюза. Все они – примеры того, чем чреват недостаток легитимности в международной политике. В Восточной Европе многие до сих пор рассуждают о дипломатическом сговоре между Россией и Западом, о многостороннем соглашательстве, заплатить за которое пришлось их странам.
Забыв о своей уязвимости и былых трагедиях, новые страны-члены примкнули к Америке в ее упреждающей войне, не заручившись мандатом ООН, что, если задуматься, идет вразрез с их долгосрочными интересами в рамках Европейского союза. Политическим деятелям региона понадобилось время, чтобы это осознать, хотя, как показывают опросы, рядовое население, не обремененное дипломатическими соображениями насчет обязательств перед Вашингтоном, сделало выводы раньше своих лидеров. Есть и другие факты, указывающие на то, что новичкам не стоит спешить с участием в превентивных операциях. Так, в 2003 году Кремль принял новую оборонную доктрину, предусматривающую нанесение превентивных ударов по странам, граничащим с РФ (см. официальные документы МИДа России за 2003-й).
Важнее исторического опыта – реальность ЕС. Национальные интересы чем дальше, тем больше будут оттеснять на второй план стремление к трансатлантизму. Главной задачей новых стран-членов (как и всегда при расширении Евросоюза начиная с 1973 года) останется необходимость добиваться своего, не увязнув в политических вопросах, к решению которых они не готовы. Уровень государственного руководства, который был достаточен для вступления в Европейский союз, совсем не обязательно соответствует опыту и знаниям, необходимым для успешной деятельности в рамках этой организации.
Одно дело – договариваться о сроках перехода к энергетической либерализации и свободной конкуренции, другое – воплощать договоренности в жизнь. Новым странам-членам будет трудно оказывать влияние на богатых старожилов ЕС, больше не желающих проявлять щедрость. Правительствам центрально- и восточноевропейских государств стоит задуматься, не связано ли урезание им помощи с поддержкой, которую они оказывают США.
Кандидатам на вступление в Евросоюз, одновременно стремившимся к членству в НАТО, финансовый прогноз на 2007–2013 годы и распределение средств из структурных фондов между обеспеченными старожилами и бедными новичками казались делом далекого будущего. Сегодня они вошли в состав обеих организаций. Повседневная деятельность в рамках Европейского союза зачастую сводится к умению убедить партнеров выделить деньги. К примеру, чтобы реализовать крупный инфраструктурный проект, страны Балтии должны заручиться поддержкой Испании и Греции, не говоря уже о Франции и Германии, которые, конечно, будут более благосклонны, если новички примут их сторону в других вопросах.
Грубо говоря, моральный долг забудется, как только понадобятся деньги на новую магистраль, особенно в преддверии выборов. В ближайшие несколько лет практически во всех сферах, кроме внешнеполитической, новые страны-члены будут играть роль учеников и подмастерьев. Они, безусловно, захотят продемонстрировать свою подкованность во внешних вопросах, но дело в том, что и здесь они не обладают преимуществом.
Центрально- и восточноевропейские государства, а вернее, их СМИ годами отслеживали и комментировали уровень подготовленности кандидатов, пройденные ими этапы и т. д. Так, процесс подготовки к расширению ЕС в 2004-м пресса и общество воспринимали как некое соревнование, политический аналог музыкального конкурса «Евровидение». От правительств требовались уступки, лишь бы удалось обогнать соседа-«соперника» на очередном повороте. Еврокомиссия вполне сознательно эксплуатировала гонку кандидатов в ходе горизонтальных переговоров («Польша уже приняла эти условия, мы не можем предложить вам больше») и продолжает применять эту тактику.
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ НОВЫХ ЧЛЕНОВ ЕС
Отношение Москвы к новобранцам Евросоюза и ее действия в зоне двойного влияния, которую в Брюсселе называют территорией «новых соседей», а в Москве – «ближним зарубежьем», представляют непосредственную угрозу национальным интересам государств ЦВЕ. Здесь новые страны-члены готовы при необходимости пойти наперекор старым.
Чтобы лучше понять озабоченность этих стран «восточной политикой» и основные причины, побудившие их вступить в Европейский союз и НАТО, напрашивается сравнение с мифическими плеядами (спасаясь от стрел Ориона, семь сестер нашли прибежище на небе и были превращены в созвездие). Подобно плеядам, семь новых членов ЕС (три балтийских и четыре вышеградских государства), расположенных по соседству с Россией, могут чувствовать себя в безопасности только в качестве части Евросоюза. (Словения, восьмая страна бывшего соцблока, присоединившаяся к ЕС в 2004 году, не входит в вышеназванную группу, поскольку не была оккупирована Советским Союзом, не находилась под его влиянием и, будучи частью Югославии, не подчинялась Организации Варшавского договора.)
Давление со стороны России, которому они подвергались и после окончания холодной войны, заставляет их, в отличие от более давних членов Европейского союза, усомниться в отсутствии преемственности между СССР и Россией.
Правительства новых стран – членов ЕС опасаются, что в перспективе удачной двусторонней сделки с Россией индивидуальные интересы членов Евросоюза возобладают над коллективными. Ничто так не возмутило государства ЦВЕ, как заявление Сильвио Берлускони на саммите Европейский союз – Россия осенью 2003 года. Игнорируя поручение Совета Евросоюза потребовать от России выполнения обязательств по соблюдению прав человека в Чечне, итальянский премьер-министр заявил, что выступает «адвокатом» Путина в чеченском вопросе. Подтвердив опасения новых стран-членов и добавив аргументов евроскептикам в Восточной Европе, он недвусмысленно дал понять, что двусторонние интересы в отношениях с Россией перевешивают как общие интересы ЕС, так и базовые принципы прав человека.
ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Одна из главных проблем – слабость «новых соседей», особенно тех, которые расположены в непосредственной близости к границам новых членов Евросоюза – Украины, Белоруссии, Молдавии и Грузии. Международная преступность, нелегальная миграция, работорговля – проблемы долгосрочные, а по мере увеличения экономического разрыва между восточным крылом Европейского союза и «новыми соседями» они только обострятся. Но в первую очередь новых членов ЕС тревожит характер режимов по ту сторону границы. Возможно, олигархическая, автократическая Украина и вызывала недовольство Западной Европы, но для Польши и прочих стран она была настоящим проклятьем. Многих беспокоят тоталитарные порядки в Белоруссии, но острее всего угрозу ощущают те, у кого еще свежи в памяти ужасы тоталитаризма.
Неудивительно, что новые страны-члены делали все, чтобы концепция Большой Европы (как связующего звена во взаимном ускорении интеграционных процессов поверх внешней границы Евросоюза на межгосударственном уровне. – Ред.) легла в основу Общей внешней политики и политики безопасности.
В рамках Европейского союза основное беспокойство «плеяд» вызывал и вызывает усиливающийся двусторонний характер отношений с Россией. Если некоторых старожилов раздражает проамериканизм новичков, то последние независимо от своего отношения к иракской войне возмущены позицией западных стран в российском вопросе. И здесь мы подходим к главной проблеме отношений в сфере Общей внешней политики и политики безопасности.
Симпатия к Америке воспринимается как угроза общей внешней политике, а недоверие к России – как фактор, мешающий двусторонним отношениям. Новобранцы, напротив, считают, что антиамериканизм западных стран неоправдан и ставит под удар европейскую безопасность, а их готовность закрыть глаза на политику России во имя двусторонних национальных интересов – реальная угроза Общей внешней политике и политике безопасности.
Хотя дискуссия в этом плане фокусируется на столкновении интересов западного и восточного крыла Евросоюза, настоящие трудности начинаются, когда Америка встает на восточноевропейскую позицию в отношении Москвы.
Пока Джордж Буш-младший был известен тем, что увидел душу Владимира Путина, заглянув ему в глаза на первой встрече в Любляне в 2001 году, новые члены ЕС не делали особых различий между американским и европейским восприятием России. Когда Буш продемонстрировал гораздо более жесткую линию в отношении Москвы, восточноевропейские комментаторы снова задались вопросом, чьи действия больше соответствуют их национальным интересам.
Тому, кто следит за развитием отношений в Европейском союзе, ясно, что долго так продолжаться не может. Если Евросоюз не будет учитывать и защищать важнейшие интересы своих новых членов, то его популярность в этих странах резко упадет и осложнится достижение компромисса по другим вопросам. Со своей стороны новые страны-члены должны пересмотреть свое прохладное отношение к Общей внешней политике и политике безопасности. Новичкам понадобилось время, чтобы проникнуться интересом к ней (отчасти потому, что они не знали, распространяется ли она далее на восток), но они не сразу осознали и угрозу, связанную с усилением двустороннего характера отношений между ЕС и Россией.
Так или иначе, укрепление общей политики в области международных отношений и безопасности и, как следствие, ограничение двусторонних сделок отдельных стран с Россией пойдет на пользу «новым европейцам». Но если окажется, что Америка более решительно настроена пресекать российское вмешательство в дела «новых соседей», новичков будет труднее убедить присоединиться к квалифицированному большинству в вопросах Общей внешней политики и политики безопасности. Если в отношениях с Москвой возобладают национальные интересы старожилов Европейского союза, государства ЦВЕ могут снова обратить свой взор за океан.
* * *
Позиция новых стран-членов в трансатлантических отношениях гораздо сложнее, чем предполагает простая схема «новой Европы против старой» или «Марса против Венеры». Они действительно симпатизируют Соединенным Штатам, это вполне понятно и объяснимо. Однако в новом веке произошли некоторые изменения. Отчасти потому, что моральный долг со временем забывается, отчасти из-за поведения США в отношении новых стран-членов, но в первую очередь потому, что «плеяды» не готовы рисковать финансовыми преимуществами членства в ЕС ради абстрактных или сентиментальных (на нынешний взгляд) обязательств. Только в случае угрозы национальным интересам они решатся всерьез противостоять Западной Европе.
От того, как разрешатся эти противоречия и прислушаются ли старые страны-члены к опасениям новых относительно России и европейского соседства, во многом зависит, согласятся ли последние занять сторону Европы в отношениях Евросоюз – США. Если окажется, что Америка занимает более жесткую позицию по приоритетным для новых членов Европейского союза вопросам, проамериканские настроения в Центральной и Восточной Европе усилятся, а у лидеров стран региона будет меньше стимулов примкнуть к «старой» Европе в ее спорах с Вашингтоном.

Россия и глобализация
© "Россия в глобальной политике". № 3, Май - Июнь 2006
Г.М. Вельяминов – д. ю. н., профессор, главный научный сотрудник Института государства и права РАН; арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ.
Резюме Развитие рыночной глобализации и усиление террористической активности – процессы параллельные и взаимосвязанные. Терроризм коренится не только в бедности, но и в углубляющейся пропасти между бедностью и богатством, в желании добиться успеха любой ценой.
Вступление России в глобализирующийся мир, ее активное участие в международных структурах, в том числе ожидающееся членство во Всемирной торговой организации (ВТО), требуют глубокого осознания сущности, истоков и перспектив глобализационных процессов. Глобализация – понятие не правовое, а экономическое, политическое и социальное. Речь идет о всесторонней планетарно ориентированной экспансии, осуществляемой отдельными индивидами, коллективами, государствами и межгосударственными объединениями в таких сферах, как торговля, финансы, промышленность, коммуникация, информатика, наука, техника, культура, религия, преступность и пр., и сопровождающейся конвергенцией (сближение различных цивилизационных систем, стирание различий между ними. – Ред.).
История глобализации, восходящая к эпохе Римской империи (Pax Romana), есть по большей части история вестернизации. Современная глобальная политика зародилась, по мнению исследователей, в XIV–XVII веках – в период начальной европейской экспансии. Нынешний этап развития глобализации характеризуется ее беспрецедентным географическим охватом, интенсивностью и масштабностью торгово-промышленных и финансовых трансграничных трансфертов. Такие не зависящие непосредственно от глобализации факторы, как распад колониальной системы, крушение социалистического сообщества, а также научно-техническая и коммуникационная революция, обеспечили ей мощную материальную базу.
На сегодняшний день глобальный капитализм и свободный рынок – это наиболее эффективный мотор экономического прогресса, они же, увы, содействуют увеличению судьбоносного разрыва между бедностью и богатством (или, по крайней мере, оказываются не в состоянии его сократить), деградации окружающей среды и массовой культуры. Но процесс глобализации исторически не постоянен; годы активизации сменяются периодами спада и дезинтернационализации. Что касается современного витка глобализации, то согласно прогнозу группы английских ученых, сделанному в 1999 году, предвидится «после сдвига в сторону более регулируемой формы глобализации переход к поверхностной глобализации (поскольку протекционизм, эксклюзивный регионализм и национализм одерживают верх), а затем – к более хищной форме неолиберальной экономической глобализации».
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Локомотивом построения глобализационной системы являются Соединенные Штаты. Между современной глобализацией и панамериканизмом вполне уместно поставить знак равенства. Как утверждают в своем капитальном исследовании «Империя» ученые Майкл Хардт и Антонио Негри, «образ американского правительства как мирового жандарма… сформировался не в 1960-е и даже не на первом этапе холодной войны, а начиная с периода советской революции и, возможно, с еще более ранних времен… Мы переживаем первую фазу преобразования глобального фронтира (постоянно отодвигаемая под натиском непрерывной экспансии граница. – Г.В.) в открытое пространство имперского (имеется в виду американского. – Г.В.) суверенитета».
Идеологической базой глобально-имперских притязаний Америки служит (прежде всего со времен президента Вудро Вильсона) мессианская идея об исключительной демократическо-цивилизаторской миссии США, подразумевающей построение Pax Americana. Эта провиденциальная (провиденциализм – понимание процесса всего мирового развития как проявления воли Провидения, осуществления божественного плана «спасения» человека. – Ред.) идея владеет умами и нынешних американских строителей всемирной империи. С 1990-х годов администрация Соединенных Штатов взяла открытый курс на глобальное военно-стратегическое доминирование. По словам бывшего президента Билла Клинтона, американский народ и Конгресс должны быть готовы платить за сохранение своего лидерства, в том числе иногда и «жизнями американцев». (Агрессия в Ираке, осуществленная уже при президенте Джордже Буше-младшем, показала, что это не пустые слова.)
Что касается торгово-финансовой глобализации, то здесь политика Вашингтона определяется экономическими интересами большого капитала США. При этом все реальные «успехи» такой глобализации практически сосредоточены в сфере экономического экспансионизма (международная торговля, финансовые трансферты и инвестиции, промышленность). Можно, правда, говорить и об «успехе» военной глобализации, в которую вовлечено шесть стран: США, Великобритания, Япония, Франция, Швеция и Германия, каждая из которых играет свою роль в структуре мирового военного порядка, «что имеет важные политические последствия, разрушающие само понятие независимой государственности» (Дэвид Хелд, Дэвид Гольдблатт, Энтони Макгрю, Джонатан Перратон, в книге: Глобальные трансформации. Политика, экономика и культура).
Даже так называемая культурная глобализация, по сути, не более чем маргинальный продукт торговой экспансии, причем движущей силой глобального распространения массовой культуры является культурная индустрия Соединенных Штатов. «В конце концов и Голливуд, и такие компании, как Microsoft и АТ&Т, занимаются тем, что делают деньги», – отмечают эксперты.
Социальная составляющая глобализации оценивается со знаком минус. По словам профессора Иллинойского университета (США) Роберта Макчесни, «политика глобализации привела к значительному росту социального и экономического неравенства, к заметному ухудшению положения беднейших наций и народов мира…». В программном документе United States Command, Vision for 2020 отмечается, что «глобализация мировой экономики продолжается, а пропасть между “имущими” и “неимущими” возрастает». Этот разрыв и есть питательная среда преступности, терроризма, наркомании и т. д. Однако для исправления такой ситуации ничего не делается.
Глобализация оказывает пагубное воздействие также и на окружающую среду. Даже скромная попытка ограничить загрязненность атмосферы на многосторонней основе (Киотский протокол 1997-го, предусматривающий установление для стран-участниц квот на выброс парниковых газов) не была поддержана самыми главными «загрязнителями» – Соединенными Штатами и Китаем.
Важнейшая системообразующая особенность современной глобализации – ее ярко выраженная управляемость. Хотя глобализационные процессы объективно обусловлены общей интернационализацией жизни на планете и, казалось бы, стихийны, на самом деле они умело направляются в русло рыночной экономики, в рамки ее концептуально капиталистической, неолиберальной модели. «Глобализация далека от того, чтобы оставаться просто “вне контроля”, она, напротив, представляет собой объект новых форм многостороннего регулирования и многостороннего управления… разные и осознанные политические или экономические проекты национальных элит и межнациональных социальных сил», – утверждают Хелд, Гольдблатт, Макгрю, Перратон. Главной руководящей силой, несомненно, являются США – оплот международного мегакапитала.
Наиболее действенный и надежный метод управления – право. Однако глобализация, как таковая, не может напрямую формировать право, ибо последнее есть выражение государственной воли, а международное право (в том числе в экономической области) выражает согласованные воли государств. В современном мире такое согласование происходит в ходе переговоров в первую очередь между странами – членами международных организаций; а торгово-экономические глобализационные отношения регулируются в рамках ВТО.
Явственное воздействие контролируемой экономической глобализации на реальное многостороннее правотворчество наблюдается только в сфере международной торговли прежде всего промышленными товарами, а также в связанной с торговлей защитой интеллектуальной собственности и инвестиций. Что касается регулирования валютно-финансовых отношений, с крахом Бреттон-Вудской системы (1972) валютные курсы, транснациональные трансферты капитала существенно не регулируются на многостороннем международно-правовом уровне.
Это же касается и сферы производства. Как пишут солидные английские исследователи, сегодня «глобализацию производства осуществляют в значительной мере многонациональные корпорации…, остающиеся стержнем современной мировой экономики». Около 25 % всех крупнейших ТНК базируются в Соединенных Штатах. Для ТНК, естественно, какое-либо государственное или межгосударственное вмешательство в их деятельность отнюдь не желательно. Но при этом в отношении прямых инвестиций в страны с так называемыми некоммерческими (политическими) рисками защита от таковых оказывается весьма востребованной, и она осуществляется в рамках в основном двусторонних международных соглашений о поощрении и защите инвестиций, а также на базе Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (MIGA).
СТОРОННИКИ, ПРОТИВНИКИ И ИДЕЙНЫЕ ВДОХНОВИТЕЛИ
Сущность и перспективы глобализации оцениваются учеными по-разному.
Ортодоксы-глобалисты (гиперглобалисты) – Кенечи Омае, Джеймс Редвуд, Милтон Фридман, Пол Кеннеди, Энн Слотер и др. – рассматривают глобализацию как новую эру глобальной цивилизации, движущими силами которой являются капитализм и новые технологии. Национальные государства переживают упадок, а людские судьбы полностью зависят от порядков на мировом рынке.
По мнению трансформистов (Барри Аксфорд, Дэвид Хелд, Дэвид Гольдблатт, Энтони Макгрю, Джонатан Перратон, Джеймс Розенау, Энтони Гидденс и др.), глобализация глубоко трансформирует мировую политику, государственную власть и общество, которые пытаются адаптироваться к более взаимосвязанному и быстро меняющемуся миру. Однако, поскольку интеграции сопутствует фрагментация, стабильность дальнейшего развития глобализации ставится этими учеными под сомнение.
Скептики (Пол Хирст, Грэхем Томпсон, Джордж Аллен, Роберт Гилпин, Найель Фергюссон и др.) считают, что глобализация – миф. Речь может идти только о трех основных региональных блоках, конфликте цивилизаций и маргинализации Юга. Власть национальных правительств остается неизменной и весьма сильной, интернационализация зависит от согласия между государствами. Мир сегодня даже менее взаимозависим, чем в 90-е годы XIX столетия.
Антиглобалисты (Ноам Хомский, Роберт Макчесни, Алекс Каллиникос, Наоми Кляйн, Сьюзен Джордж, Ричард Фальк и др.), некоторые из которых сами себя называют альтерглобалистами, фактически выступают не против самого процесса глобализации, а против его целей (служить корыстным интересам мегакапитала) и методов. Сопротивление современной однобокой глобализации – «всеобщей товаризации и приватизации мира» (Каллиникос) – реализуется в интернациональном, то есть как раз глобальном, масштабе, правда, иногда и в форме уличных беспорядков.
Идейным фундаментом рыночной глобализации является неолиберализм. По мнению его адептов, альтернативы свободному рынку нет. Как отмечает в своей книге «Капитализм и свобода» неолиберальный гуру Милтон Фридман, поскольку достижение прибыли есть сущность демократии, любое правительство, проводящее антирыночную политику, является антидемократичным.
Будучи своего рода вероучением, неолиберализм окружен ореолом сакральности: бог этой «религии» – Капитал; храм – свободный рынок. Есть и свое евангелие – так называемый «Вашингтонский консенсус» (комплекс мер, рекомендуемых странам для реформирования их экономики. – Ред.). Этот термин, введенный в политический обиход в конце прошлого века экономистом Джоном Уильямсоном, служит для обозначения лишь виртуального консенсуса великих мира сего, принимающих в отношении более уязвимых стран и сообществ важнейшие решения, которые реализуются через международные учреждения, в основном подконтрольные Соединенным Штатам. В данном произведении, излагающем, в сущности, догматы неолиберализма, предлагаются такие подходы, как либерализация цен и финансов, приватизация, дерегулирование экономики государством. (Прощай, учение достопочтенного Джона Мейнарда Кейнса, утверждавшего, что стабильность капитализма зависит от государственного вмешательства в обеспечение занятости!) Проповедуются финансово-бюджетная дисциплина с приоритетностью расходов на государственные нужды, либеральные налоговые реформы, обуздание инфляции; конкуренция валютных курсов; прямые иностранные инвестиции и «святая святых» – либерализация торговли.
Между тем преобладающая ныне неолиберальная парадигма глобализации не столь безобидна, как полагают многие из ее самых горячих сторонников. После окончания Второй мировой войны либерализация под флагом свободной конкуренции, рассматриваемой как панацея от всех бед, стала стержнем Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ), флаг этот и поныне развевается над ВТО. Однако, как свидетельствует профессор Массачусетсского университета (США) Ноам Хомский, «конкуренция встречается на рынках довольно редко. БОльшая часть экономики контролируется огромными корпорациями, которые безраздельно господствуют на своих рынках».
В результате под эгидой ГАТТ в рамках, по сути, всего капиталистического мира была осуществлена впечатляющая программа правовой либерализации импортных таможенных тарифов для промышленных товаров. Средний уровень импортных пошлин на них был снижен в странах – участницах ГАТТ с 40 % (1948 г.) до менее 4 % в 1990-е годы ad valorem (соответственно стоимости товара. – Ред.). Однако либерализация, изначально провозгласившая принцип: laisser faire, laisser passer («не мешайте деловой активности, не мешайте пересечению границ». – Ред.), приобрела весьма однобокий характер, поскольку подразумевает, что бедные и слабые страны должны открыть свои рынки для промышленных товаров из богатых и сильных государств, последние же оставляют за собой право на протекционистскую защиту от аграрного, текстильного и иного импорта из слабых стран. Такую модель можно назвать экстравертным либерализмом, который нацелен на либерализацию не собственного, а зарубежного рынка. Иначе говоря, возникает особого рода протекционизм экспорта собственной продукции на иностранных рынках. Страстный поборник принципа laisser faire Рональд Рейган «…защитил американскую промышленность от конкуренции со стороны импортных товаров в большей степени … чем все его предшественники, вместе взятые» (Хомский).
Но почему более слабые страны пошли на такое неравное сотрудничество, к тому же юридически закрепленное? Чтобы вынудить их к этому, было задействовано множество экономических и политических рычагов – например, угроза лишения кредитов, финансовой и гуманитарной помощи. «Долги развивающихся стран послужили для МВФ и МБРР рычагом, чтобы заставить правительства стран Третьего мира принять в 1980-е годы неолиберальные программы “структурного регулирования”, а крах коммунизма позволил США оказать регионам […] в Восточной Европе и в бывшем СССР содействие в проведении “шоковой терапии”» (Уолден Белло). А кроме того, лучше играть вторые роли, нежели быть аутсайдерами либо, что еще хуже, странами-изгоями...
ЧЛЕНСТВО РОССИИ В ВТО: ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ
Столпом правового регулирования международной торговли является Всемирная торговая организация и, главное, комплекс действующих под ее эгидой свыше пятидесяти многосторонних соглашений, охватывающих широкий спектр международной торговли.
Упорядочивающий и гармонизирующий правовой эффект данной системы – серьезный мотив стремления Российского государства обрести статус ее участника. Сам факт подачи Москвой официальной заявки (1993) должен пониматься как осознание на государственном уровне полезности членства в этой организации. Важным стимулом для участия в ВТО служит и возможность использования механизма урегулирования споров в ВТО, хотя механизм этот не является исключительно правовым (rule oriented), но включает и элементы дипломатического (power oriented) метода разрешения споров посредством переговоров. При этом значительную роль играет Орган по урегулированию споров (фактически Генеральный совет ВТО), выполняющий скорее роль дипломатического форума, нежели процессуально-правовую функцию, но возможности воспользоваться этим инструментарием Россия получит сразу же после своего вступления, чего не скажешь о других, вообще довольно проблематичных, выгодах.
Отечественные ученые – специалисты по международному экономическому праву неоднозначно относятся к перспективе присоединения нашей страны к ВТО. Владимир Шумилов, например, весьма оптимистичен: он прогнозирует возникновение «глобального экономического пространства» и дальнейшее развитие и укрепление права ВТО. С другой стороны, Сергей Григорян утверждает, что «нет оснований для априорных ожиданий, что вступление России в ВТО даже на относительно приемлемых условиях существенно поможет решить ее экономические проблемы. Возможно, наоборот». Столь же скептически относится к данному вопросу автор этих строк, поскольку в рамках торгово-финансовой глобализации, и соответственно в ВТО, Россия сильно рискует оказаться в рядах Юга.
Какие же надводные и подводные рифы ожидают нашу страну в бурных водах океана мировой торговли?
Первое. Организационно-правовое регулирование современной международной торговли в рамках ВТО концептуально остается и на сегодня непосредственным продуктом неолиберальной, рыночной глобализации – процесса, возглавляемого наиболее агрессивным американским мега-капиталом. Всё новые и новые, зачастую явственно выходящие за пределы компетенции ВТО требования и вступительные «экзамены», которым подвергается Россия, со всей очевидностью служат одной единственной цели, согласующейся с американской политикой сдерживания, – любой ценой задержать вступление России в ВТО. «Мы сознаем, что членство России может существенно изменить соотношение сил», – признаётся заместитель генерального директора ВТО Родерик Эббот.
Второе. При вступлении в ВТО Россия автоматически становится жертвой экстравертной либерализации: сомнительно, что она быстро сможет (если вообще ей это удастся) стать нетто-экспортером промышленных товаров и тем самым влиться в клуб стран богатого Севера. Во всяком случае России придется широко открыть ворота для импорта иностранных индустриальных товаров.
Наиболее эффективный способ быстрой индустриализации – мощная инвестиционная, налоговая и протекционистская (в отношении иностранной конкуренции) государственная поддержка. Но беда как раз в том, что все подобные меры запрещаются или подавляются правилами ВТО в свете неолиберальной концепции свободной конкуренции.
Третье. В ходе более чем полувекового процесса неолиберализации международной торговли западные страны успешно сопротивляются требованиям Юга отменить «западный» аграрный протекционизм, а также протекционизм в отношении промышленного производства Юга, в котором он конкурентоспособен на западных рынках (текстиль, готовая одежда и аналогичные товары). Продукция стран Третьего мира остается невостребованной, а аграрная продукция Севера продается в развивающихся государствах иногда даже дешевле, чем собственная. Как отмечал бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда Хорст Кёлер, вся помощь, получаемая бедными странами, гораздо меньше тех средств, которые они теряют в силу протекционистских мер развитых стран. В таких условиях России, имеющей огромный потенциал аграрного производства продовольствия и сырья, едва ли удастся занять соответствующее место на мировых рынках.
Четвертое. Страны Запада предпочитают свободу игры и на рынках сырья. На практике это ведет к хищнической эксплуатации ресурсов планеты в интересах крупных корпораций. Заложниками этой модели волей-неволей становятся государства, экономика которых зависит от производства и экспорта сырья: они превращаются в сырьевые придатки развитых государств, поскольку иностранные инвестиции и кредиты направляются именно в сырьевое производство.
Россия после распада СССР и социалистического лагеря быстро превратилась в страну, по сути зависящую от экспорта энергетического и иного сырья. (В 1990-е кредиты Всемирного банка шли прежде всего в нефтегазовый и угольный секторы нашей экономики). Единственная возможность удержать страну от ее превращения в сырьевой придаток Европы (а также США, Китая и других государств) – это концептуально вернуться к политике бывшего СССР, когда на доходы от экспорта сырья строились, в частности, крупные промышленные предприятия. Во всяком случае, не приходится уповать на применение правовых рычагов в рамках ВТО и прочих международных организаций с целью содействовать индустриализации сырье-добывающих стран.
Пятое. Торговля услугами развивается исключительно быстро, значительно опережая темпы роста торговли товарами. Между тем национальные рынки услуг повсеместно подпадают под протекционистскую защиту. Во многих странах разные виды услуг часто монополизируются государственным сектором (железные дороги, водоснабжение, электроэнергетика, связь и т. д.). Все это не способствует формированию действительно свободного рынка услуг и его эффективному международно-правовому регулированию, в котором заинтересованы наиболее конкурентоспособные в этой области страны, прежде всего Соединенные Штаты.
Хотя в 1994 году и было заключено Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС), предоставление допуска на внутренний рынок иностранных предприятий по конкретным видам услуг и на условиях национального режима, однако, практически остается в компетенции национальных государств. Но в ходе переговоров государства могут принимать на себя в рамках ГАТС так называемые конкретные (специфические) обязательства заморозить существующие национальные ограничения по допуску иностранных услуг и не ужесточать их.
При вступлении во Всемирную торговую организацию России следует по примеру других стран обеспечить защиту своего рынка услуг, особенно в страховом и банковском бизнесе, где иностранная конкуренция особо опасна. Конечно, открытие транспортного транзита через Россию было бы выгодно трубопроводным, авиа- и автопредприятиям западных стран, но где же свободный транзит между Калининградским эксклавом и остальной Россией? Нельзя не напомнить и о так называемых соглашениях об односторонних «добровольных ограничениях» экспорта, которые Вашингтон использовал в 1990-е для того, чтобы оказывать грубое давление на Россию, Китай и Украину с целью максимально тормозить их выход на мировой рынок торговли услугами в области запусков космических спутников ракетами-носителями.
Шестое. В полном противоречии с неолиберальным принципом свободы конкуренции ведущие либерализаторы – развитые капиталистические страны во главе с Соединенными Штатами – активно используют, в том числе в отношении России, протекционизм и дискриминацию во всем спектре внешней торговли (нередко и в своих политических интересах). Имеется в виду, в частности, неправомерное применение торговой блокады, эмбарго, бойкота и других силовых мер в отношении политически неугодных стран; неоправданное использование антидемпинговых мер, чрезвычайных защитных мер. Это и прямое манипулирование, если не шантаж, с предоставлением финансовой помощи странам в обмен на их политическую, военную поддержку.
По оценкам Министерства экономического развития и торговли РФ, Россия находится на втором месте после Китая по числу мер, которые применяются, нередко необоснованно, против ее товаров. Самый одиозный пример: американская так называемая поправка Джексона–Вэника, действующая с 1974 года в отношении СССР, а потом России. Эта поправка предусматривает невозможность применения в торговых отношениях режима наибольшего благоприятствования к странам, препятствующим эмиграции своих граждан (в случае СССР это были лица еврейской национальности). Поправка не отменена и до сих пор, хотя ограничений для выезда евреев из России давно нет.
Седьмое. В рамках Марракешского пакета соглашений (1994) было заключено Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (TRIPS) с благой целью защиты от пиратства авторских и патентных прав, принадлежащих прежде всего правообладателям западных стран. При этом размах производства контрафактной продукции прямо пропорционален взвинченным монопольными ценам на продукцию, защищаемую исключительными правами. Фармацевтические гиганты Севера не желают, к примеру, снижать монопольные цены или делать патентные (лицензионные) послабления для производства в странах Юга так называемых антиретровирусных препаратов, широко и эффективно применяемых на Севере для борьбы со СПИДом, но недоступных на Юге в силу их дороговизны. Священное право собственности, справедливо обеспечиваемое правилами ВТО, как обычно, не в ладах с социальной справедливостью.
Другим важным документом Марракешского пакета является Соглашение о торговых аспектах инвестиционных мер (TRIMS), направленное на недопущение нарушений неолиберальных принципов свободы конкуренции в странах – импортерах инвестиций. Оговоренные TRIMS запреты, в частности касающиеся практики допуска и использования иностранных инвестиций на условиях достижения страной-импортером определенных экономических результатов (“performance requirements”), не отвечают потребностям индустриального развития России.
Восьмое. После окончания Второй мировой войны и крушения колониальной системы перед развитыми капиталистическими странами встала проблема сохранения традиционных и установления новых экономических связей со ставшими юридически независимыми странами Третьего мира. Чтобы удержать развивающиеся страны в орбите капиталистического мира, применялись как «политика кнута» (Вьетнам, Гренада), так и «политика пряника» – целенаправленная финансовая помощь, на практике оказавшаяся более продуктивной, чем «кнут».
Принцип уважения прав человека и основных свобод превратился при этом в удобный предлог для интервенции (в том числе гуманитарной) и для вмешательства во внутренние дела, разумеется, обычно более слабых государств: ведь нарушение прав и свобод человека при желании можно обнаружить в любой стране. К примеру, когда первоначальный повод для нападения на Ирак – ликвидация оружия массового уничтожения – «лопнул», агрессор переключился на защиту прав и свобод человека.
Россия многократно испытала и испытывает на себе двойные стандарты в применении данного принципа. Это, к примеру, с одной стороны, навязчивые обвинения в излишнем применении силы и ущемлении прав человека в Чечне, и с другой – отказ выдавать в Россию чеченских террористов, укрывающихся за рубежом, или нежелание признать факт дискриминации русскоязычного меньшинства в Латвии и Эстонии.
Девятое. В настоящее время происходит масштабный рост участия государств, как таковых, в торгово-экономических отношениях с контрагентами – субъектами частного права других государств («диагональные» отношения). Соответствующие сделки с «торгующими государствами» частные партнеры заключают обычно на условиях обеспечения имущественной ответственности государства на случай неисполнения им своих обязательств и часто с условием применения права тех государств, на территории которых находятся соответствующие частные лица. Эта практика способствовала постепенно отходу от концепции абсолютного государственного иммунитета и от невозможности привлечения государства к суду в другом государстве в силу принципа par in parem non habet jurisdictium (равный равному неподсуден). В результате во внутреннем праве отдельных государств (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Россия) возникло и постепенно закреплялось понимание государственного иммунитета как функционального. Это означает, что государство имеет право на иммунитет от властных действий другого государства только тогда, когда выполняет свои суверенные, властные функции – jure imperii, но не тогда, когда выступает в качестве торгового, коммерческого партнера в частно-правовых отношениях.
Концепция функционального иммунитета применяется и к Российскому государству в случаях его участия на коммерческих условиях в мировых торговых отношениях. Необходимо иметь, однако, в виду, что принцип функциональности применим не ко всей полноте государственного иммунитета (включая дипломатический иммунитет), а лишь к одной из его составляющих – к судебному, процессуальному иммунитету.
Десятое. Развитие «диагональных» сделок и других контрактов между предприятиями развитых и развивающихся стран привело к уходу от применения «нежелательного» законодательства (юрисдикции) прежде всего развивающихся стран, в том числе ориентированного на развитие национальной экономики и на решение социальных задач, то есть законодательства, применимого к соответствующим трансграничным сделкам и возникающим на их основе спорам.
Появляются теории, утверждающие особые, самодостаточные «внегосударственные» правовые системы или методы, которые должны заменять как международное, так и национальное право. Это так называемые «транснациональное право», «мягкое право», т.н. lex mercatoria (купеческое право), концепции самодостаточности частно-правового контракта («контракт без права»), трактуемого как исчерпывающее право для сторон.
Все это укладывается в далеко идущие задачи дискредитации национально-этатистской концепции права, грядущего создания мирового правительства, «мирового права» и т. п. и ведет к подрыву четкой правовой основы международных экономических отношений, к замене ее правом силы. В отсутствие ясного закона и его надежного обеспечения верх берут «кулачное право», «самопомощь», вплоть до физического устранения оппонентов.
В этой связи нельзя обойти вниманием и угрозу, связанную со стремлением внедрять методы экстерриториального действия американских законов за пределами страны. Свежим одиозным примером может служить решение Верховного суда США, позволяющее судам низших инстанций разбирать дела, касающиеся европейской собственности (иск американской гражданки Марии Альтман к австрийскому правительству о возврате ей хранящихся в Государственном музее Австрии шести ценных картин из коллекции Фердинанда Блох-Бауэра – австрийского еврея, покинувшего страну в 1938 году). Это решение способно спровоцировать новую волну возврата собственности, принадлежавшей евреям до периода нацистской оккупации.
Разумеется, всякие эвентуальные посягательства на российское юрисдикционное поле со стороны любого иностранного экстерриториального законодательства крайне опасны и недопустимы. В условиях, когда правовое регулирование в международных организациях и в двусторонних отношениях зависит от воли Вашингтона и поддерживающих его стран, твердые правовые основы международных отношений для России исключительно важны.
Одиннадцатое. Транснациональные корпорации (ТНК) оказывают двоякое экономическое, политическое и социальное воздействие. С одной стороны, их инвестиционная и торговая деятельность стимулирует и ускоряет развитие экономики принимающих стран. С другой – они используют свою мощь для давления на политику стран – импортеров капитала, часто нанося ущерб национальным интересам последних, допускают налоговые и коррупционные злоупотребления, отказываются принимать местную юрисдикцию, требуя особых льгот и привилегий, предпринимают попытки получить иммунный статус субъекта международного публичного права и т. п.
Деятельность ТНК в России, разумеется, ничем не отличается от их практики в других странах, особенно в развивающихся. Международно-правовая защита от негативных элементов этой деятельности отвечала бы российским интересам.
Двенадцатое. Развитие рыночной глобализации и усиление террористической активности – процессы параллельные и взаимосвязанные. Терроризм коренится не только в бедности, но скорее, в углубляющейся пропасти между бедностью и богатством, в желании добиться успеха любой ценой, в использовании террора в политических целях, в том числе на путях сепаратизма и религиозного экстремизма. Вместе с тем провозглашение борьбы с терроризмом чуть ли не главной задачей международного сотрудничества, утверждение «права» на превентивное, упреждающее применение военной силы против угрозы терроризма, поиски очагов терроризма в странах-изгоях направлены не столько на противостояние террору, сколько на достижение своекорыстных целей Вашингтона.
Совпадение в России торжества неолиберальной политики с возникновением и расцветом терроризма, конечно, тоже не случайно. «Наш» терроризм в немалой степени является следствием нашего же неолиберализма, и борьба с первым бесполезна без отказа от доминанты второго. Ведь неолиберальные реформы 1990-х уже привели к тому, что только по официальным данным Федеральной службы государственной статистики, в 2005 году за чертой бедности находилось около 15 % населения России, т. е. более 20 млн человек.
* * *
Приведенный выше перечень трудностей и угроз, предстоящих перед Россией, разумеется, не исчерпывающий. Кардинально же важно то, что экономический курс российского правительства и на сегодня продолжает быть радикально неолиберальным, по сути, антиконституционным (Статья 7 Конституции РФ прямо гласит, что Россия – социальное государство). Очевидно, что сохранение неолиберального курса оказывается возможным только в результате сложившегося в стране номенклатурного управления. «Номенклатура, бюрократия, ранее допустившая до власти взращенных ею же олигархов, а также либералов, решила, что может управлять страной самостоятельно. […] выбрана худшая модель развития страны» (Гавриил Попов). Утвердилась модель, обкатанная и проявившая продуктивность в олигархической экономике США: ставка на индивидуализм, жесткую конкуренцию, материальный успех любой ценой, бездуховность, наличие резерва дешевой рабочей силы, невмешательство в экономический процесс государства с его социальными функциями. Модель, грубо противоречащая историческому опыту, ментальности, уровню жизни, национальному укладу большинства населения нашей страны. А потому обреченная у нас на провал.

Новый американский милитаризм
Bacevich, Andrew. The New American Militarism. How Americans are Seduced by War Supremacy. Oxford, New York: Oxford Univ. Press, 2005. xvi + 270 pp.
Резюме Эндрю Басевич, профессор политологии, возглавляющий Центр изучения международных отношений при Бостонском университете, приобрел широкую известность несколько лет назад, после публикации книги об американской империи.
Эндрю Басевич, профессор политологии, возглавляющий Центр изучения международных отношений при Бостонском университете, приобрел широкую известность несколько лет назад, после публикации книги об американской империи (см.: Bacevich, Andrew. American Empire. The Realities and Consequences of U.S. Diplomacy. Cambridge (Ma.), London: Harvard Univ. Press, 2002). Сегодня автор вновь обратился к той же теме, но – в соответствии с изменившейся ситуацией – сконцентрировал внимание уже не на специфике американской дипломатии, а на исторических истоках, особенностях и опасности американского милитаризма.
Казалось бы, проблема уже разработана: в советские времена мы воспитывались на книгах об «американской военщине», в последние годы эта тема приобрела широкую популярность в Европе, а отчасти и в самих США. Однако, если внимательнее присмотреться к книгам, десятками лежащим на полках российских и западных магазинов, окажется, что подавляющее их большинство посвящено агрессивности современной Америки, а не милитаризму в собственном смысле этого слова. Профессор Басевич пытается предложить читателю новый подход, рассматривая милитаризм не только как атрибут внешней политики администрации Джорджа Буша-младшего, но и как одну из важнейших черт, определяющих мировоззрение современного среднего американца.
По мнению автора, в начале XXI века отношение большинства граждан Соединенных Штатов к войне изменилось настолько, что теперь они «с готовностью смиряются как с перспективой войны, которой не видно конца, так и с политикой, в которой не содержится и намека на оборонительный характер действий США или на то, что Соединенные Штаты считают войну исключительным и экстраординарным средством [разрешения международных проблем]» (p. 19). Такая ситуация явилась следствием нескольких тенденций: роста числа американских военных операций за границей, развернутой правительством пропаганды военной мощи США, активного подчеркивания американского исторического предназначения как основы единства нации и даже – парадоксальным образом – глубокой религиозности значительного числа жителей страны. Милитаризм американцев, подчеркивает Басевич, не следует отождествлять с агрессивностью Америки; последняя может снизиться или возрасти со сменой хозяина Белого дома, но первый вряд ли может быть преодолен.
Профессор Басевич рисует подробную картину нарастания военной риторики высших лиц государства (рр. 31–33), рассказывает о том, как американские религиозные организации фактически превратились в апологетов войны и насилия (рр. 127–128, 140–142), показывает, насколько свыклось с неизбежностью милитаристской истерии американское общественное мнение (рр. 25–26), как дешевое позирование политиков на броне танка или палубе военного корабля становится залогом их популярности и успеха (рр. 30–31 и др.). На фоне всего этого, отмечает автор, уже сегодня военный бюджет Соединенных Штатов на 12 % превышает средние военные расходы страны в период холодной войны, а «к 2009 году будет превышать их на 23 %, несмотря на отсутствие сколь бы то ни было достойного соперника» (p. 17). Поддержание милитаристского «настроя» в обществе стало, таким образом, частью не только внешне-, но и внутриполитической стратегии правительства, и в подобной ситуации мало кто из политиков искренне заинтересован в ослаблении его «накала».
Эндрю Басевич считает, что нынешнее положение вещей не следует воспринимать как неожиданность, так как курс президента Буша отнюдь не противоречит вильсонианской логике внешней политики Соединенных Штатов. Он подчеркивает, что обусловленность последних акций США на международной арене приверженностью руководства страны вильсонианскому мессианизму (рр. 10–13) выглядит не менее очевидной, чем их подкрепленность неоконсервативной идеологией (рр. 82–87). Соглашаясь с мнением Лоуренса Каплана о том, что Джорджа Буша-младшего можно воспринимать как «наиболее “вильсонианского” президента после самого Вильсона» (см.: Kaplan, Lawrence. Regime Change in: The New Republic. 2003. March 3), автор de facto солидаризируется со знаменитой формулой Роберта Кейгана, гласящей, что «после 11 сентября Америка не изменилась – она лишь в большей мере стала самой собой” (Kagan, Robert. Of Paradise and Power. America and Europe in the New World Order. New York: Alfred A. Knopf, 2003. Р. 85). И это является очередным подтверждением малой вероятности изменения политического курса Соединенных Штатов в обозримой перспективе.
Особый интерес, на мой взгляд, представляют рассуждения автора о месте армии в нынешнем американском обществе и о восприятии военнослужащими и гражданским населением друг друга. По мере того как доля служивших в армии американцев среди представителей высокообеспеченных слоев и политического класса снижается (так, например, сегодня лишь 36 % сенаторов и 23 % членов Палаты представителей имеют за плечами опыт армейской службы, тогда как в 1970-е таковых было соответственно 3/4 и около половины – см. р. 26), многие всё охотнее соглашаются с тем, что моральные качества военных выше нравственных стандартов большинства членов общества (рр. 28–29). Однако еще более примечательно то, что и «две трети [опрошенных в 2003 году военнослужащих] выразили мнение, что военные обладают более прочными моральными устоями, нежели народ, которому они служат», что, по мнению Басевича, «свидетельствует о нездоровых тенденциях в армии, призванной служить демократической стране (курсив мой. – В.И.)» (p. 24). Все это наводит на некоторые мысли относительно российской ситуации, где в условиях меньшей укорененности демократических традиций псевдопатриотическая риторика и вопли о неисчислимых внутренних и внешних угрозах оправдывают апологетизацию армии и ведут к увеличению числа людей в погонах на высших постах – параллельно со свертыванием демократии и упадком законности. Хотя Россия не является ныне «более развитой страной», чем Соединенные Штаты, нельзя исключать, что ее опыт, перефразируя слова Маркса, «указывает им на их собственное будущее».
Однако за провокационными и будоражащими мысль рассуждениями об американском милитаризме в книге скрыта и другая «сюжетная линия», заслуживающая, быть может, даже бЧльшего внимания, нежели та, которая заявлена в ее названии. По сути, автор пытается «вырваться» из рамок традиционной доктрины, четко разделяющей историю второй половины ХХ столетия на период холодной войны и эпоху, открытую ее завершением. Исходным элементом ревизии этого подхода стала для автора позиция известного ультраконсерватора Нормана Подгореца. Последний попытался сотворить нечто подобное интеллектуальному «подвигу» Фрэнсиса Фукуямы и отождествить бушевскую «войну с террором» с… Четвертой мировой войной (см.: Podhoretz, Norman. How to Win the World War IV? in: Commentary. No 113. February 2002. pp. 19–29). Допуская возможность подобной трактовки (рр. 175–176), профессор Басевич, однако, выступает против датирования начала этой «мировой войны» 11 сентября 2001 года. По его мнению, само понятие холодной войны, «как бы втискивающее всемирную историю в некий абстрактный период, служит своего рода ярлыком, всё объясняющим и пригодным для самых разнообразных целей, ярлыком, обозначающим весь период между серединой 40-х и концом 80-х годов ХХ века» (p. 177), но в действительности обладающим крайне небольшим теоретическим и прогностическим значением.
В предлагаемой автором версии холодная война (которую многие исследователи склонны называть Третьей мировой войной) разделена на две фазы Карибским кризисом 1962 года, после которого каждый из противостоявших блоков утратил надежду на военную победу над противником, переключившись на сомнительные аферы в периферийных регионах, закончившиеся соответственно Вьетнамом и Афганистаном (см. рр. 178–179). Зона же американских интересов сместилась из Европы на Ближний Восток. Именно с этого времени, а точнее, с 1979-го, когда под влиянием исламской революции в Иране и ввода советских войск в Афганистан «Дж. Картер счел, что отношение к Ближнему Востоку как к второстепенному внешнеполитическому направлению, имеющему подчиненное к основному “театру” холодной войны положение, более недопустимо» (p. 181), профессор Басевич и ведет историю «Четвертой мировой войны». Такой поворот в оценке ранее казавшихся очевидными временных границ позволяет ему сделать оригинальные выводы.
Во-первых, подобная трактовка подчеркивает, что центральной задачей «войны» является не пресловутое «сдерживание» идеологического врага, а банальное установление контроля над регионом, в котором (ввиду непреодолимой зависимости Америки от импортируемой нефти – см. р. 184) у США имеются жизненно важные интересы. Во-вторых, в случае принятия данного подхода оказывается, что Соединенные Штаты начали эту новую «мировую войну» сами, стремясь укрепить свое влияние в регионе и поддержать своего стратегического союзника – Израиль; именно в ходе этой «войны» Америка и «воспитала» ненависть к себе со стороны всего исламского мира. В-третьих, что наиболее важно, «всемирно-исторические» события 11 сентября 2001 года практически ничего не изменили в этой «войне», но сделали ее из скрытой вполне явной и очевидной (рр. 200–201). (Или, можно сказать так: перевели ее из подобия холодной войны в состояние традиционно понимаемого военного конфликта.)
Таким образом, предлагаемое автором видение послевоенной истории «не создает образа США как невинной жертвы… и не может оправдать военные акции в стиле Дж. Буша-младшего; напротив, оно подчеркивает угрозы, порождаемые новым американским милитаризмом, так как не за горами оказываются Пятая и Шестая мировые войны, которые неизбежно будут оправдываться неудержимым стремлением к [утверждению] свободы» (p. 181). Перспектива, таким образом, не выглядит вдохновляющей. По мнению автора, окончание холодной войны не привело к миру, пусть даже и «холодному», а лишь раздвинуло занавес, за которым вырисовывались контуры нового – на этот раз даже более опасного – глобального вооруженного конфликта.
Что следует противопоставить американскому милитаризму? Может ли международное сообщество быть препятствием на его пути? Вряд ли. Ведь сегодня нельзя создать коалицию, способную стать реальным военным противником Соединенных Штатов и заставить их скорректировать свою политическую линию. А до тех пор пока другие государства не смогут этого сделать, в Америке по-прежнему будет доминировать мнение о том, что «международное сообщество – это фикция», а «коллективная безопасность – это всего лишь мираж» (Krauthammer, Charles. A World Imagined in: The New Republic. 1999. March 15; Idem. The Anti-Superpower Fallacy in: Washington Post. 1992. April 10). Поэтому, убежден Эндрю Басевич, ситуация может измениться лишь в случае, если сами американцы проявят решимость ее изменить. Но не свидетельствуют ли последние десятилетия об утопичности такой перспективы?
Автор не столь пессимистичен. По его мнению, американцев можно «переубедить», если доказать им, что нынешний курс отнюдь не делает Америку такой, какой она должна быть, а, напротив, попирает большинство принципов, на которых строилось американское государство и основывалась идентичность нации. Основным должна стать апелляция к тем идеям отцов-основателей США, к которым американцы – эта «нация с душой Церкви» (высказывание Герберта Честертона; цит. по: Huntington, Samuel. Who Are We? The Challenges to America’s National Identity. New York: Simon & Schuster. 2004. Р. 48) – относятся, как к строкам Священного Писания.
Профессор Басевич предлагает план преодоления проблемы американского милитаризма, основанный на возрождении американских ценностей и состоящий из десяти основных мер (рр. 205–226), – план, амбициозно и двусмысленно названный им «Common Defense». Не хочется вдаваться в его детали – это было бы пересказом книги, а не такова наша задача. Основная же идея заключена в необходимости преодоления той отчужденности народа от армии и армии от народа, которая, убежден автор, и стала важнейшей предпосылкой усиления позиций современного милитаризма в Соединенных Штатах. По его мнению, масштабы военного доминирования США позволяют переосмыслить проблемы безопасности, «принять на вооружение» доктрину применения силы лишь в исключительных случаях (см. р. 211), демократизировать силовые ведомства и в конечном счете возродить исконно американскую доктрину гражданина-солдата, в рамках которой эти два качества человека были неотделимы друг от друга (рр. 221–222). «Короли, армии и непрекращающиеся войны определяли облик Европы [XVIII века], – пишет он, – и отсутствие всего этого явилось исходным пунктом, из которого Америка начала свой исторический путь. Полные решимости сохранить завоеванные свободы и развить опыт народного самоуправления, американцы интуитивно понимали, что милитаризм может стать главной помехой на этом пути» (p. 33). Что ж, скорее всего, они не ошибались. Ведь, как учил Екклесиаст, «всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться и время умирать... время разрушать и время строить… время войне и время миру» (Екклесиаст, III, 1–2, 7–8). Но американцам, видимо, так и не суждено стать мессианской нацией, если все их мессианство сводится к тому, чтобы поменять местами слова в последней фразе и до конца пройти путь, ведущий от мира к войне. А в то, что эту страну удастся повернуть вспять, не верится даже по прочтении глубокой и основательной книги Эндрю Басевича.
В.Л. Иноземцев – д. э. н., главный редактор журнала «Свободная мысль-XXI».

После СНГ: одиночество России
© "Россия в глобальной политике". № 4, Июль - Август 2005
М.Г. Делягин – д. э. н., председатель Президиума – научный руководитель Института проблем глобализации.
Резюме Драматическое ослабление влияния российской бюрократии на ближнее зарубежье привело к появлению качественно новых проблем, которые она не в состоянии решить. Эти проблемы могут способствовать дестабилизации российского общества, повышая вероятность революционного развития.
Серия «цветных» революций в ряде государств постсоветского пространства резко изменила ближайшее окружение России, создав качественно новую геополитическую реальность. К сожалению, руководство нашей страны до сих пор не только не предприняло попыток скорректировать в этой связи свою политику (как внешнюю, так и внутреннюю), но и даже не продемонстрировало стремление к осознанию масштаба произошедших изменений.
ПРИНЦИП «БОЛЬШОГО РАЗМЕНА»
Анализ внешнеполитических действий российского руководства в первую «пятилетку Путина» создает ощущение последовательного отказа от всех возможностей влияния на страны дальнего зарубежья. Здесь и уход с принципиально значимых в стратегическом отношении военных баз в кубинском Лурдесе и во вьетнамской бухте Камрань, и крайняя сдержанность в вопросах сотрудничества со многими традиционными партнерами, и несамостоятельная позиция в международных организациях, и списание колоссальных долгов (которые, даже будучи безнадежными, являются инструментами влияния), что превратило далекую от процветания Россию в крупнейшего донора Третьего мира, и многое другое.
И общая направленность, и конкретные недочеты российской внешней политики последних лет обусловлены не столько идеологическими установками, сколько стремлением действовать по схеме «большого размена» с развитыми странами, в первую очередь с США. Кремль прагматично преследует вполне конкретную цель – «обменять» остатки своего влияния в дальнем зарубежье (которое унаследовано от СССР и с которым, в общем, непонятно, что делать) на признание развитыми странами его доминирующей роли на постсоветском пространстве, исключая «подобранную» Европейским союзом Прибалтику.
Конечно, принципиальное отсутствие в России специализированных структур, занимающихся анализом, выработкой и согласованием (как с собственными «внутриполитическими» ведомствами, так и с иными государствами) ее внешней политики, не может не накладывать отпечаток на адекватность действий государства в этой сфере. Однако даже знаменитое «ситуативное реагирование» все равно не может осуществляться вне некой общей парадигмы, пусть не формализовавшейся, но подразумевающейся большинством участников внешнеполитического процесса.
В целом схема «большого размена» работала успешно. На всем протяжении «оранжевой революции» представители США вели себя на редкость корректно. Они не противодействовали ни возможной победе Виктора Януковича, ни потенциальной реализации более жестких сценариев, способных впоследствии получить поддержку со стороны официальных российских властей.
В Грузии, где западные фонды, как широко утверждалось, сыграли весьма важную роль, принципиально значимую часть революционных задач на самом важном – первом – этапе выполнили российские акторы, стремившиеся к скорейшему решению ряда конкретных проблем (например, к прекращению полетов вдоль южных границ России самолетов, оснащенных системой АВАКС, или к организации совместного патрулирования границы). Что же касается «тюльпановой революции» в Киргизии в конце марта – начале апреля 2005 года, то она вообще оказалась полной неожиданностью для развитых стран.
Таким образом, до самого последнего момента Запад был готов передать российскому управляющему классу глобальную ответственность за состояние не очень существенного, но потенциально опасного постсоветского пространства. Однако в конечном итоге эта схема рухнула из-за одностороннего нарушения ее не развитыми странами, а российскими чиновниками, еще раз продемонстрировавшими неспособность управлять чем бы то ни было. Разумеется, сыграла свою роль и пресловутая административная реформа, парализовавшая государственный аппарат, но она лишь сделала более явной неэффективность бюрократии, полностью освободившейся от контроля со стороны общества.
СМЫСЛ ПОСТСОВЕТСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
С легкой руки отдельных российских политиков стало модным считать Содружество Независимых Государств исключительно «ликвидационной конторой», призванной обеспечить «цивилизованный развод» и смягчить «фантомные имперские боли» России. Если трактовать значение СНГ лишь в этом узком смысле, то очевидно: его миссия действительно завершена, потребность в нем отпала, и оно должно окончательно переродиться в клуб региональных лидеров, которые время от времени будут вести друг с другом ни к чему не обязывающие беседы и иногда реализовывать совместные гуманитарные программы.
Однако постсоветская интеграция, как таковая, обращена не только в прошлое, но и в будущее. Ведь региональная интеграция – единственный способ выживания относительно слабо развитых стран в условиях неуклонного обострения международной конкуренции, обусловленного глобализацией. Потребность России в постсоветской интеграции носит сугубо практический характер и связана прежде всего с тем, что Советский Союз, при всей разнородности его территории, являлся единым живым организмом, все части которого зависели друг от друга. Между тем за 14 лет, прошедших после разделения СССР на независимые государства, большинство хозяйственных, политических и человеческих связей, соединявших бывшие советские республики в единое целое, разрушены.
Решить же за истекший период позитивную задачу – обеспечить условия для успешной эволюции вновь созданных государств – так и не удалось. Более того, несмотря на отдельные безусловные успехи, ни одна из этих стран не демонстрирует способность к самостоятельному развитию, а следовательно, и к нормальному функционированию в будущем. (Единственным исключением, и то с весьма существенными оговорками, может быть признана лишь Россия.)
Безболезненность выхода Польши, Финляндии и стран Прибалтики из состава Российской империи после Великого Октября во многом объяснялась тем, что империя, прежде чем отпустить народы этих стран в самостоятельное плавание, «воспитала» их до уровня, позволявшего самостоятельно существовать в Европе. В этом заключалось ее принципиальное отличие от западных империй, которые предоставляли независимость в том числе и неподготовленным к самостоятельному развитию народам, что вело к социальным катастрофам и деградации, как, например, это имеет место в большинстве государств современной Африки. Распад Советского Союза был страшен не сам по себе, а именно тем, что независимость получили общества, не готовые к ней, не доросшие до того, чтобы самим управлять своей судьбой. Когда Россия фактически отказалась влиять на них, она проявила преступную безответственность и в итоге принесла неисчислимые бедствия якобы освобожденным ею народам.
Во всех постсоветских государствах к власти пришла бюрократия, вообще не способная обеспечивать грамотное управление. Ни одно из них не является экономически самостоятельным и не может обойтись собственными силами (даже богатейшая Украина, как показывает практика, обеспечивает свои потребности прежде всего за счет воровства российского газа). Ни одному из них (за исключением стран Балтии, сразу взятых Евросоюзом под свое крыло) не удалось обеспечить не то что советский, а просто приемлемый уровень жизни. Все это, конечно, не только наследие (которое в принципе может быть когда-нибудь изжито) тоталитарного режима с его «разлагающим влиянием», но и результат объективных экономических процессов.
Таким образом, Россия оказалась окружена полукольцом территорий, не способных к саморазвитию и нуждающихся во внешней поддержке, причем не только и не столько финансовой, сколько политической, организационной и моральной. По сути дела, в постсоветских странах, большинство которых прошли через массовое изгнание русскоязычного населения (по существу, этнические чистки) и массовую же эмиграцию специалистов, надо заново создавать общества.
Но за решение этой задачи развитые страны взялись только в одной, наиболее цивилизованной части постсоветского пространства – в Прибалтике. Даже самые оптимистичные прогнозы исключают возможность того, что они расширят сферу своей реальной ответственности на какие-либо другие страны, кроме разве что небольшой Молдавии. (Китай, опираясь на Шанхайскую организацию сотрудничества, проявляет большой интерес к стабилизации в Центральной Азии, но он не только не сможет, но и не захочет действовать в этом направлении в одиночку, без участия России).
Это означает, что всем остальным странам постсоветского пространства не останется ничего другого, как либо развиваться при действенной помощи России, либо не развиваться вообще, продолжая деградировать. Между тем деградация постсоветского пространства приведет к возникновению там хаоса, что неминуемо будет означать и хаотизацию нашей страны. Противостояние хаосу на дальних, постсоветских рубежах принесет России больший эффект и позволит сэкономить значительно больше средств, чем наведение порядка внутри нашего общества.
Иначе говоря, если российское руководство не хочет получить в Москве второй миллион не интегрирующихся с коренным населением азербайджанцев, оно должно приложить усилия для нормализации развития Азербайджана и неуклонного повышения уровня жизни его населения. Если руководство России желает остановить пандемию наркомании, ему следует обеспечить такое развитие Таджикистана, которое позволило бы его населению зарабатывать на жизнь созидательным трудом, а не только транзитом афганского героина.
Одним словом, требуется неуклонное углубление и наращивание постсоветской интеграции. Понятно, что усилия подобного рода приобретают длительный, а следовательно, и успешный характер только в том случае, если они взаимополезны и, кроме того, предусматривают коммерческую выгоду для негосударственных, включая и российских, участников. Стало быть, разумный подход России к своей территории и к собственному внутреннему рынку – как товаров, так и рабочей силы – мог бы лечь в основу ее политики в отношении новых суверенных стран – бывших союзных республик.
Постсоветские государства привыкли считать доступ к внутреннему рынку России и возможность транзита через ее территорию чем-то само собой разумеющимся. Между тем простое уважение их суверенитета требует отношения к ним как к равноправным и соответственно обособленным субъектам международной жизни, в том числе и в том, что касается доступа к российским рынкам и территории.
Это не означает некоего «нового изоляционизма» – просто Россия должна начать по-хозяйски относиться к своим владениям и, в частности, воспринимать свои рынки и свою территорию именно как свои, а не как находящиеся в чужой собственности или, по крайней мере, в свободном доступе для всех желающих. В рамках данной парадигмы логично рассматривать доступ к своему рынку и к своей территории как услугу, подразумевающую ответные услуги, например такие, как предоставление российскому капиталу преимущественных прав на приобретение тех или иных объектов собственности и особый статус граждан России на территории соответствующих стран. Подобные встречные услуги и станут своего рода «платой за развитие».
ПРОБЛЕМА СОТРУДНИЧЕСТВА С УКРАИНОЙ
В настоящее время уже практически не вызывает сомнений тот факт, что «оранжевая революция» в Украине окончательно развеяла надежды на интеграционистские возможности Содружества Независимых Государств в его современном виде. Действительно, только представители российской бюрократии с ее навыками самоотверженного игнорирования реальности могут делать вид, что жесткая европейская ориентация нынешнего руководства Украины никак не разрушает идею Единого экономического пространства. Ведь если Европейский союз не желает даже говорить о возможном включении в его состав Украины, то это отнюдь не означает, что со стороны украинского руководства не последует односторонних шагов, не только исключающих углубление ее интеграции в Россию, но и, напротив, ведущих к неминуемой дезинтеграции экономик двух стран.
Так, Украина намеревается снизить пошлины на импорт европейского продовольствия (причем его производители получают наибольшие объемы субсидирования в мире) с нынешнего запретительного уровня до 10–20 %. Понятно, что данная мера вынудит Россию ввести в отношении Киева новые серьезные ограничения, с тем чтобы не допустить уничтожения собственного сельского хозяйства. Это в свою очередь и резко осложнит переговоры России о ее членстве в ВТО (а с ними – и весь комплекс отношений с развитыми странами), и обострит ее отношения с нынешним украинским руководством.
Существует и проблема сворачивания в соответствии с интересами Запада украинского ВПК, в том числе предприятий, жизненно важных для российского оборонного комплекса. Нельзя исключать возможность того, что украинская конверсия, осуществляемая на американские деньги (или, по крайней мере, под американские обещания), создаст сложности даже для стратегической компоненты российской обороноспособности.
Возможно, в ближайшие годы актуальной станет и защита некоторых видов российской собственности в Украине, в первую очередь недвижимости в Крыму, принадлежащей в том числе гражданам России – физическим лицам. Вместе с тем не вызывает сомнения, что возрастет роль Украины как убежища российских собственников, прежде всего средних и мелких, ищущих спасения от произвола и насилия со стороны «силовой олигархии» (под этим термином понимается доминирующий в современной России социальный слой, представители которого связаны с государственными структурами и широко применяют насилие от имени Российского государства и якобы в его интересах или угрозу применения такого насилия для личного обогащения).
Обострятся традиционные разногласия, связанные с оплатой Москвой газового транзита, с одной стороны, и «несанкционированным отбором» газа Киевом – с другой, не говоря уже о противоречиях по такому болезненному для Украины вопросу, как цена на российский и туркменский газ. Наконец, действия нынешних украинских лидеров по сдерживанию цен на нефтепродукты способны сильно ударить по карману российских нефтяников. (От этого могут пострадать и «силовые олигархи», которым отечественные нефтяные компании, работающие в Украине, вынуждены передавать значительную часть своих доходов. Поскольку решающую роль в определении российской политики играет как раз «силовая олигархия», можно ожидать и существенных политических – правда, асимметричных – шагов).
Российское руководство до сих пор не выработало свое отношение к указанным проблемам, и значит, эти проблемы, пока еще внешние, будут в дальнейшем только обостряться и постепенно превратятся во внутренние.
НАСТУПЛЕНИЕ ИСЛАМА
Главная же угроза дестабилизации России исходит, конечно, от стремительной экспансии радикального ислама. Вопреки расхожему мнению, распространение исламистских настроений в постсоветских государствах обусловлено не столько внешними, сколько внутренними факторами: последовательно проводимая и поддерживаемая Россией социально-экономическая и административная политика правительств этих стран такова, что ислам там становится единственным общедоступным инструментом реализации присущей человеку тяги к справедливости.
Надо отметить, что ислам, проповедующий идеи социальной справедливости, повсюду завоевывает новые позиции; на постсоветском же пространстве эта тенденция проявляется особенно ярко вследствие резкого падения уровня жизни и всеобщего ощущения безысходности. Социальный характер современного ислама практически ставит его на место дискредитированной коммунистической идеологии. (Интересно, что партия «Хизб-ут-Тахрир», имеющая широкую сеть по всей российской территории, стремится к построению всемирного исламского государства, допуская возможность его создания поначалу и «в отдельно взятых» странах, в частности в России.)
Главная причина восстания в Киргизии – невыносимые условия жизни большинства населения. Аналогичные проблемы – в Узбекистане, Таджикистане и Туркмении. Киргизская революция привела к власти представителей так называемых южных кланов, которые традиционно, несмотря на жесткие контрмеры Аскара Акаева, укрывали у себя представителей Исламского движения Узбекистана (ИДУ) и соответственно были связаны с наркомафией.
Что касается восстания в узбекском Андижане, то его успешное подавление режимом Ислама Каримова не является стратегически значимым, поскольку не устранены ни причина восстания – массовая нищета и отчаяние, ни «субъективный фактор» будущей революции в лице ИДУ. В этих условиях ужесточение репрессий лишь провоцирует выступления против власти.
В стратегическом плане свержение Каримова представляется почти неизбежным. Между тем плоды народного восстания в исламских странах обычно пожинают силы, связанные с радикальными исламистами. Революция в Киргизии не станет исключением. Она неминуемо активизирует деятельность радикальных исламистских структур и, весьма вероятно, приведет к формированию, по крайней мере в Ферганской долине, исламского государства, существующего в значительной степени за счет наркобизнеса, – аналога Афганистана времен талибов, только на тысячу километров ближе к России. Поэтому Москве надо сделать все, чтобы избежать такого хода событий, прежде всего добиться от киргизского руководства смены социально-экономического курса – единственной меры, способной предотвратить массовые беспорядки в стране. Но с этой задачей российская бюрократия не справится не только из-за своей неэффективности, но и из-за присущего ей пренебрежения социальными интересами граждан (как собственных, так и любых других). Последствия такого сценария нетрудно предугадать. Это – дальнейшее продвижение радикального ислама, грозящее разделением российского общества на две различные общины, а также усиление террора и новый виток пандемии наркомании.
«ЦВЕТНЫЕ» РЕВОЛЮЦИИ И РОССИЯ
Таким образом, драматическое ослабление влияния российской бюрократии на ближнее зарубежье привело к появлению качественно новых проблем, которые она не в состоянии решить и которые могут способствовать дестабилизации российского общества, повышая вероятность революционного развития.
При всех своих национальных особенностях «цветные» революции имеют общие родовые черты. Прежде всего это насильственная смена власти, организованная небольшой энергичной группой людей и осуществляемая под прикрытием демократических процедур и лозунгов; при этом, как показал киргизский опыт, наличие сильной организованной оппозиции, не говоря уже о популярных и эффективных лидерах, не обязательно.
Важнейшим фактором революции является иное – массовый характер недовольства (и в том числе непременно в среде элиты) правящим режимом и неадекватность последнего, то есть неспособность упредить революцию, удовлетворив хотя бы наиболее острые потребности общества.
С этим условием в современной России всё в порядке: почва подготовлена. 85 % населения страны – малоимущие (по данным социологических исследований Центра Юрия Левады, к таковым относятся граждане, которые не имеют денег на покупку простой бытовой техники), значительно пострадавшие в результате монетизации льгот и с недоверием относящиеся к грядущей коммунальной реформе. При этом суть сложившейся политической системы состоит в освобождении и государства, как такового, и обслуживающих его чиновников от какой-либо ответственности, в том числе перед населением. Демонстрируя формальную лояльность высшей власти, бюрократия получила полную свободу произвола. Демократия, как институт принуждения государства к несению ответственности перед обществом, практически искоренена.
Правящая бюрократия умудрилась восстановить против себя наиболее значимые для российской политической жизни «группы влияния». Региональные элиты лишились политических прав, не получив никаких компенсаций. И даже силовые структуры – опора правящей бюрократии – подверглись сильнейшему унижению в ходе монетизации льгот и раздражены откровенной неспособностью руководства страны защищать национальные интересы (особенно болезненно они воспринимают именно провалы на постсоветском пространстве, являющемся в их глазах «задним двором» России).
Нынешняя модель экономики в принципе не способна к саморазвитию. Она представляет собой некий устойчивый симбиоз: с одной стороны, либеральные фундаменталисты, отбирающие у населения деньги в пользу бизнеса в ходе псевдолиберальных реформ, с другой – «силовая олигархия», отнимающая эти же деньги у бизнеса для непроизводительного потребления. При этом растущие аппетиты «силовых олигархов» (по некоторым оценкам, уже в 2004 году их доля достигала 25 % оборота ряда крупных коммерческих предприятий) не позволяют большинству видов бизнеса нормально развиваться.
В этих условиях все более актуальным становится вопрос не о смене власти, как таковой, а о модели этой смены.
Ясно, что российский вариант будет отличаться от украинского. У нас можно ожидать иную степень озлобленности народа, наличие сильнейшего исламского фактора (ведь исламские общины практически не имеют представительства на федеральном уровне), а также реальное воздействие на ситуацию со стороны международного (а не только чеченского и дагестанского) терроризма.
Отличия от другого крайнего – киргизского – сценария тоже очевидны. Поскольку российскому обществу не свойственно клановое устройство, российские «революционеры» будут вынуждены делать ставку не на «своих», а на привлекательные и хоть как-то проработанные идеи. Вместе с тем не вызывает сомнения, что российская власть окажет серьезное сопротивление, которое выкует последовательных и дееспособных лидеров из аморфного оппозиционного конгломерата.
Таким образом, нестабильность в ряде стран СНГ, вызванная срывом процессов постсоветской интеграции в результате неадекватных действий нынешней российской бюрократии, может стать катализатором драматических процессов оздоровления политической системы в России. К власти должно прийти новое поколение политиков, ответственных перед своей страной и способных осуществить как модернизацию самой России, так и постсоветскую реинтеграцию.

Истоки американского поведения
© "Россия в глобальной политике". № 6, Ноябрь - Декабрь 2004
А.Д. Богатуров – д. и. н., профессор, заместитель директора Института проблем международной безопасности РАН, главный редактор журнала «Международные процессы».
Резюме Чем руководствуется американская элита, принимая внешнеполитические решения? Не поняв этого, невозможно выстроить адекватные отношения с Соединенными Штатами.
В феврале 1946 года поверенный в делах США в Москве Джордж Кеннан послал в Вашингтон знаменитую «Длинную телеграмму» (The Long Telegram), которая по сей день остается лучшей из предпринятых в Америке попыток проанализировать мотивы внешней политики сталинского руководства. В переработанном виде этот документ был опубликован в июле 1947-го в журнале Foreign Affairs под заголовком «Истоки советского поведения» (The Sources of Soviet Conduct). Кеннан оказал большое влияние на политическую мысль США: он сформулировал ключевые идеи концепции сдерживания Советского Союза, которая на многие десятилетия определила взаимоотношения Соединенных Штатов и СССР.
Почин Кеннана-аналитика интересен прежде всего как одна из первых успешных попыток выявить политико-психологические и идейно-культурные истоки внешней политики государства. Без их понимания сегодня, как и полвека назад, трудно рассчитывать на выработку эффективной внешней политики вообще и курса в отношении ведущих международных партнеров, таких, как США, в частности. Предлагаемая статья – попытка зеркально отразить замысел Кеннана, раскрыть особенности мотивов, которыми руководствуется нынешняя американская элита во взаимодействии с внешним миром.
ДЕМОКРАТИЯ ИЛИ ДЕМОКРАТИЯ ПО-АМЕРИКАНСКИ?
Уверенность в превосходстве – первая и, возможно, главная черта американского мировидения. Она свойственна богатым и бедным, уроженцам страны и недавним переселенцам, образованным и не очень, либералам, консерваторам и политически безразличным. На идее превосходства высится махина американского патриотизма – неистощимо многообразного, сводимого, однако, к общему знаменателю: многое в Америке нужно исправить, но это – лучшая страна в мире. Идея превосходства – такая же въевшаяся черта американского сознания, как чувство уязвленности (обиды на самих себя) – современного русского. В данном смысле американцы – это «русские наоборот».
Два века наши «интеллигентствующие» и «антиинтеллигентствующие» соотечественники сладострастно страдают в метаниях между комплексами несоответствия «стандартам» демократии и ксенофобией. Те и другие твердят об ужасах жизни в России. Подобное самоистязание недоступно уму среднего американца. В США могут, не стесняясь, словесно «отхлестать» любого президента. Но усомниться в Америке? Унизить собственную страну даже словом – значит, по американским понятиям, выйти за рамки морали, поставить себя вне рамок приличия. Граждане США любят свою страну и умеют ее любить. Американцы развили высокую и сложную культуру любви к отечеству, которая допускает его критику, но не позволяет говорить неуважительно даже о его пороках.
Америка достойна уважения по многим показателям. Но простому американцу не до статистики экономических достижений. Подозреваю, что если бы США и не были самым сильным и богатым государством мира, то наивно-восторженная убежденность американских граждан в достоинствах родины осталась бы ключевой чертой их национального характера. Отчего? Да оттого, что приток иммигрантов в США возрастает, а оттока из страны нет. На уровне массового сознания это неопровержимый аргумент. Почему мы стыдимся говорить о том, что и в Россию устремляются сотни тысяч людей, в том числе здоровых, красивых, образованных, из Украины, Молдавии, Казахстана, Китая, Вьетнама, из стран Центральной Азии и Южного Кавказа?
Оборотная сторона американского патриотизма – искренняя, временами слепая и пугающая убежденность в том, что предназначение Соединенных Штатов – не только «служить примером миру», но и действенно «помогать» ему прийти в соответствие с американскими представлениями о добре и зле. Это вторая черта американского характера. Для американца типична незамутненная вера в то, что его представления хороши для всех, поскольку отражают превосходство американского опыта и успех благоденствующего общества США.
Принято считать, будто в основе американских ценностей лежит идея свободы. Но стоит подчеркнуть, что в представлениях американцев абстрактное понятие свободы переплетается с более конкретным понятием демократии, хотя, строго говоря, это разные вещи.
В самом деле, свободу белого человека, пришедшего из Европы, чтобы колонизовать Америку, удалось защитить от посягательств Старого Света при помощи демократии – демократии как формы государственной самоорганизации колоний Северной Америки против Британской империи. Вот почему в глубинах сознания американца идея его личной свободы органично «перетекает» в идею свободы нации. При этом в американском понимании «нация» и «государство» сливаются. Возникает тройной сплав: свобода – нация – государство. А поскольку кроме собственного государства никакого иного американское сознание не знало (и знать никогда не стремилось), то названная триада приобрела несколько специфический вид: свобода – нация – американское государство. Демократия для американцев – не тип общественно-политического устройства вообще, а его конкретное воплощение в США, совокупность американских государственных институтов, режимов и практик. Именно так рассуждают ведущие американские политики: в США – «демократия», а, например, в странах Европейского союза – парламентские или президентские республики. С американской точки зрения, это отнюдь не тождественные понятия.
Происходит парадоксальное, с точки зрения либеральной теории, сращивание идей свободы и государства. Концепция освобождения (эмансипации) человека от государства обосновалась на американской почве не сразу. Это в Европе тираническое государство с VIII века виделось антиподом свободного человека. В США государство казалось инструментом обретения свободы, лишь с его помощью жители североамериканских колоний добились независимости от британской монархии (freedom).
Идея освобождения личности от государства утвердилась в США только ко времени президентства Джона Кеннеди (1960-е годы), косвенно это было связано с началом реальной эмансипации черных американцев. Отчасти поэтому идея «свободы-демократии» (liberty) имеет в массовом американском сознании несколько менее прочные основания, чем идеи патриотизма и предназначения, которые апеллируют к понятию freedom (см.: Н.А. Косолапов. Нелиберальные демократии и либеральная идеология // Международные процессы. 2004. № 2).
Приверженность этой идее – третья черта американского политического мировосприятия. На уровне внешнеполитической практики идея «свободы-демократии» легко трансформируется в идею «свободы Америки», которая подразумевает не только право Америки быть свободной, но и ее право свободно действовать. Внешняя политика администрации Джорджа Буша выстраивается в русле такого понимания свободы. В этом заключается идейный смысл политики односторонних действий.
Уверенность в самоценности «свободы-демократии» позволяет считать ее универсальным высшим благом. Идея «свободы действий» в сочетании с комплексом «исторического предназначения» позволяет формулировать миссию Америки – нести «свет демократии» всему миру. Представление об оправданности американского превосходства дает возможность отбросить сомнения в уместности расширительных толкований прав и глобальной ответственности США. В результате взаимодействия всех трех свойств американского политического характера формируется четвертая присущая ему черта – упоенность идеей демократизации мира по американскому образцу.
При всей иронии, которую вызывает «собственническое» отношение американцев к демократии, его стоит принять во внимание. Например, для того, чтобы отличать «обычное» высокомерие республиканской администрации от характерной черты сознания американской нации. Причудливая на первый взгляд вера американца в почти магическое всесилие демократизации для него самого не более необычна, чем наша почти природная тяга к «сильной, но доброй власти» и «порядку». Американцам трудно понять, почему другие страны не хотят скопировать практики и институты, доказавшие свое преимущество в США. Стремление «обратить в демократию» против воли обращаемых (в Ираке и Афганистане) – болезненная черта американского мировосприятия. Ирония по этому поводу вызывает в Америке недоумение или холодную отстраненность.
В отношении американца к демократизации много от религиозности. Пиетет к ней связан с высоким моральным авторитетом, которым в глазах американца обладает проповедь вообще. Исторически протестантская миссионерская проповедь среди привезенных из Африки черных рабов сыграла колоссальную роль для их интеграции в американское общество через обращение в христианство. Демократизация мира приобретает черты сакральности в глазах американца, потому что по функции она родственна привычным формам «богоугодного» религиозного обращения.
Повод для сарказма есть. Но и американцам кажется «природной тоталитарностью» россиян то, что сами мы предпочитаем считать естественным своеобразием собственного культурно-эмоционального склада. Наш народ сформировался в условиях открытых пространств Евразии, на которых Российское государство не могло бы выстоять, не занимаясь обеспечением повышенной военно-мобилизационной готовности своего населения. Постоянный настрой на нее сформировал у русских канон поведения, в соответствии с которым личная свобода соотносится с подчинением таким образом, что акцент делается на последнем.
Любопытна и другая параллель. Всемирное коммунистическое братство и глобальное демократическое общество – единственные светские утопии, способные по мощи и охвату претензий сравниться с главными религиозными идеологиями (христианство, ислам и буддизм). Но коммунизм оттеснен, а религии могут уповать лишь на частичную реставрацию былых позиций. Только демократизация остается вселенской идеологией, по-прежнему притязающей на победу во всемирно-историческом масштабе.
Мышлению политической элиты США, как и любой другой страны, присущ элемент цинизма. Однако в вере американцев в полезность демократии для других стран много искренности. Поэтому она и не лишена заряда внутренней энергии, неподдельного пафоса, даже романтики подвига, которые помогают американцам убеждать себя в том, что, бомбя Сербию и Ирак, они «на самом деле» несут благо просвещения.
Демократизация фактически представляет собой идеологию американского национализма в его своеобразной, надэтнической, государственнической форме. Подобную «демократизацию» США успешно выдают за идеологию транснациональной солидарности. Это упрек американским политикам и интеллектуалам. Но это и пояснение к характеру рядового американца. Он лишь отчасти несет ответственность за политику той властной группы, которую его голос, преломленный избирательной машиной, приводит к власти, но влиять на которую повседневно ему сложно, хотя и легче, чем россиянину влиять на российскую власть.
Не имея возможности в достаточной степени воздействовать на внешнюю политику, американский избиратель легко освобождает себя от мыслей о «вине» за нее. Проблемы экономической политики и внутренние дела вызывают расхождения, но внешняя политика – предмет консенсуса. При видимости «раскола» в американском обществе из-за войны в Ираке полемика ведется, на самом деле, относительно тактики прорыва к победе: с опорой на собственные силы или в сотрудничестве с союзниками, при игнорировании ООН или при символическом взаимодействии с ней. В главном – необходимости победить – демократы и республиканцы едины.
Такое отношение к войне с заведомо слабым противником не новость в американской истории. Но оно не новость и в истории советской (Афганистан), французской (Алжир), британской (война с бурами) или китайской (война 1979 года с Вьетнамом). В 60-е прошлого века отношение американцев к вьетнамской войне тоже стало всерьез меняться только в канун президентских выборов 1968 года. Лишь тогда Республиканская партия, добиваясь поражения демократов, сделала ставку на антивоенные настроения. За счет вброса денег в СМИ республиканцы инспирировали обнародование сведений о потерях США во вьетнамской войне. Журналисты и владельцы новостных каналов располагали этими сведениями и прежде, но ждали момента для выпуска их в эфир и помещения на страницы печати.
«БЕЗГРАНИЧНАЯ» АМЕРИКА
Пятая черта американского мировидения – американоцентризм. Принято считать, что это китайцы помещают свою страну в центр Вселенной. Возможно, когда-то так и было. Во всяком случае в маленькой, тесной Европе трудно было развить психологию «срединности» какого-то одного государства. Все европейские страны придумывали себе родословную на базе исторической памяти о двух Римских империях, империи Карла Великого и Священной Римской империи германской нации. Европейские государства ощущали себя скорее «частями», чем «центрами». Политический центр в «европейском мире» блуждал из одной страны в другую. Не удалось развить идею «мироцентрия» и России, которая на протяжении истории безотрывно смотрела через свои границы – сначала на Византию, потом на Орду и, наконец, на Западную Европу, отдавая силы преодолению «маргинальности», а не утверждению «мироцентрия».
Долго не было американоцентризма и в США. Присутствовали изоляционизм и идея замкнуть на себя Западное полушарие, сделав его «американским домиком» («доктрина Монро»). Но посягательства на вселенский охват эти концепции не предполагали. Идея Рах Аmеricana стала зреть в умах американских интеллектуалов после Второй мировой войны. Но тогда «мироцентрие» США оставалось мечтой. Ее реализации препятствовал Советский Союз. Американоцентризм начал процветать лишь с распадом последнего.
Все, что из России, Германии, Японии и Китая кажется американской экспансией, расширением сферы контроля США (в 1990-х годах – Босния, Косово, в 2000-х – Ирак, Афганистан), американцам таковым не представляется. Они полагают, что наводят порядок в «американском доме». Драма в том, что дом этот имеет странную конструкцию: у него «пульсируют» стены – то сжимаются, то раздвигаются. Снаружи они служат оградой вокруг территории США, ощетинившись кордонами на границе и жесткими процедурами выдачи виз. Изнутри – наоборот: если речь идет об американских интересах, масштабы которых безгранично разрастаются, до бескрайних пределов раздвигаются и стены «американского дома».
При прочтении любого внешнеполитического документа США очевидно: сферой американских интересов в Вашингтоне считают весь мир. Никакой другой стране, согласно американским воззрениям, не полагается иметь военно-политические интересы в Западном полушарии, Северной Америке и даже на Ближнем и Среднем Востоке. Американцы терпят факт наличия у Китая и России собственных стратегических интересов в непосредственной близости от их границ. Но попытки Москвы и Пекина создать там зоны своего исключительного влияния воспринимаются Вашингтоном как противоречащие его интересам. Принцип «открытых дверей в сфере безопасности» распространяется на весь мир… за исключением тех его частей, которые США считают для этого «неподходящими».
Картина интересов США предстает в виде трех отчасти взаимопересекающихся зон. Первая совпадает с контурами Западного полушария – это «внутренний дворик» США. Вторая охватывает нефтяные регионы – Ближний и Средний Восток и Каспий с выходом в Центральную Азию. Третья с запада охватывает Европу, «подпирая» Европейскую Россию, а с востока – Японию и Корею, «обнимая» Китай и Индию. Первая воплощает интересы безопасности США. Вторая – потребности экономической безопасности. Третья – старые и новые сферы фактической стратегической ответственности Соединенных Штатов.
Международная жизнь – последнее, что интересует американцев. Обычно они поглощены внутренними делами – социально-бытовыми, преступностью, развлечениями, затем – экономикой, наличием рабочих мест, выборами, политическими интригами и скандалами. Внешнеполитические сюжеты для них второстепенны за исключением ситуаций вроде войны в Ираке. Но и такая война – вопрос для американца внутренний. Соль новостей из Ирака – это не страдания иракцев, а влияние войны на жизнь американцев: сколько еще солдат может погибнуть и вырастут ли цены на бензин?
Представления о географии, истории, культурных особенностях внешнего мира не очень занимают американцев. Все, что не является американским, значимо лишь постольку, поскольку способно с ним соперничать. США уделяют больше внимания тем странам, отношения с которыми у них хуже. Опасаются Китая? Госбюджет, частные корпорации, благотворительные организации тратят огромные деньги на изучения КНР. Вспыхнули разногласия с Парижем из-за Ирака? В Америке создаются центры по изучению Франции. Ким Чен Ир стал угрожать ядерной программой? В течение 2003 года американцы издали около 20 плохих и не очень плохих книг по КНДР – больше, чем о России за три года.
Сам факт, что Россия почти не упоминается в американских СМИ, а средства на ее изучение сокращаются, – признак того, что о «российской угрозе» в Вашингтоне не думают. Между тем американские политологические школы изучения России, никогда не отличавшиеся глубиной исследования, находятся в состоянии кризиса, сравнимого лишь с упадком американистики в Российской Федерации.
Мышление аналитиков яснее от этого стать не может. Размываются и прежде неотчетливые географические представления американских коллег, пишущих о евразийских сюжетах (речь не о профессиональных географах). А поскольку на карте все кажется рядом, то в ходе «научной» дискуссии в США можно услышать, что размещение американских баз в Киргизии и Узбекистане будет способствовать повышению надежности транспортировки нефти на Запад. Тот факт, что нефтяные месторождения Казахстана находятся на Каспии, на крайнем западе региона, а американские базы – у границ Китая, на его восточной оконечности, западному человеку кажется далеко не важным. «Центральная Азия» предстает сплошным нефтеносным пластом от Синьцзяна до Абхазии – этакая гигантская «Тибетско-Черноморская нефтяная провинция», замершая в восторге ожидания демократизации.
РОССИЯ – США: «СОЮЗ НЕСОГЛАСНЫХ»
Американское руководство предпочитает вести переговоры с позиции гласного или негласного проецирования силы, считается с силой и всегда использует ее – в той или иной форме – как дипломатический инструмент. Этот набор характеристик распространяется на обе версии американской политики – республиканскую и демократическую.
Между двумя партиями есть разница. Демократы считают применение силы последним резервным средством. Республиканцы готовы применять ее без колебаний, по собственному произволу, если не отдают себе отчета в том, что им может быть оказано противодействие сопоставимой разрушительной силы. Страх перед ядерной войной с СССР умерял пыл республиканцев в 1950-х годах. Отсутствие опасений в отношении России придает смелость администрации Буша.
Как вести себя с таким важным партнером, как США? Ответ замысловат. Если Россия в самом деле намеревается стать партнером/союзницей Америки, она должна стремиться быть как можно сильнее, но при этом не представлять угрозы для Соединенных Штатов. Иначе сотрудничество с ней не будут воспринимать всерьез. Слабая Россия, идеал отечественных «пораженцев» бесславной ельцинской поры, для союза с Вашингтоном бессмысленна, а для роли «сателлита» слишком тяжела.
Необходимо осуществить второй этап реформы экономики, преодолеть ее исключительно нефтегазовый характер, провести модернизацию оборонного потенциала и реформу Вооруженных сил, принять меры по усилению государства на основе рационализации при одновременном укреплении демократических устоев политической системы. Отказ России от мысли построить жизнеспособную демократическую модель – аргумент в пользу оказания давления на нее.
Другое дело – какое место даже для умеренно сильной (и «умеренно демократической») России угадывается в американской картине мира. В истории внешней политики США можно отыскать десятки вариантов партнерств с разными странами – от Великобритании, Франции, Канады или императорской России до Китая (между мировыми войнами), Филиппин, Австралии, Японии или Таиланда. Однако американская традиция знает всего два случая равноправного партнерства – это союз США с Россией в пору «вооруженного нейтралитета» Екатерины II и советско-американское сотрудничество в годы борьбы с нацизмом.
Больше Соединенные Штаты на равных ни с кем не сотрудничали. Американское партнерство – это альянс сильного, ведущего, с менее сильным, ведомым. Но такое понимание дружбы плохо сочетается с российскими представлениями о союзе как о договоре равных или договоре сильного с менее сильным, в котором роль ведущего отводится России. Мы слишком похожи на американцев, чтобы нам было легко дружить. Россия стремится стать сильнее, надеясь с большей уверенностью заговорить с иностранными партнерами. США хотели бы видеть Россию умеренно сильной и ничем не угрожающей, но были бы против уравнивания ее голоса с американским.
Можно представить себе несколько вариантов «особых отношений» между Россией и США. Вариант под условным названием «Большая Франция» отчасти реализуется сегодня. Россия, как и Франция при президенте Шарле де Голле, поддерживает США в принципиальных вопросах: борьбе с терроризмом, нераспространении оружия массового уничтожения и соответствующих технологий, предупреждении ядерного конфликта между Пакистаном и Индией. Одновременно, и тоже как Париж времен де Голля, Москва не разделяет подходов США к региональным конфликтам – на Ближнем Востоке и в Северо-Восточной Азии. В отличие от Франции, однако, Россия не связана с США договором союзного характера и формально строит свою оборонную стратегию на базе концепций, не исключающих конфликта с Соединенными Штатами.
Вариант «либерального Китая» не имеет аналогов в реальности, но может возникнуть, если между Россией и США станет нарастать отчуждение, вызванное, например, односторонними действиями США в Центральной Азии или в Закавказье, которые Москва сочтет враждебными. Это не будет автоматически означать возобновления конфронтации, но повысит вероятность сближения России с Китаем.
Двусмысленность американского военного присутствия у западных границ КНР в сочетании с неясностью ситуации вокруг Тайваня тревожит Пекин. Ни Россия, ни Китай не хотят противостояния с США, но их сближают подозрения, которые вызывает «неопределенность» целей американской стратегии в Центральной Азии. Вариант «либерального Китая» в лице России не напугает США. Он может оказаться для Вашингтона приемлемым (если не привлекательным) при условии уверенности американской стороны в том, что Пекин и Москва не вступят в полномасштабный союз с целью противодействия США.
Возможно, в идеале для американского восприятия подошел бы вариант «Россия в роли более мощной Британии». С одной стороны, дружественная страна, к тому же снабжающая США нефтью. С другой – достаточно сильная держава, способная оказать поддержку американской политике в глубине материковых районов Евразии, там, где Соединенные Штаты настроены расширить свое влияние. Однако нет уверенности, что этот вариант импонирует российскому руководству, если принять во внимание «ведомый» характер британской политики, подрывающий ее авторитет даже в глазах европейских соседей.
Компромиссным вариантом оказалось бы сочетание элементов первого и третьего сценариев. Россия – страна, развивающая, как и Великобритания, отношения с США независимо от отношений с Европейским союзом, но одновременно менее покладистая, чем Великобритания, и более упорная, как Франция, в отстаивании своих позиций.
При данном варианте разумной была бы политика «уклонения от объятий» Евросоюза и НАТО. От форсирования дружбы с первым – ввиду его стремления в последние годы мешать сближению России с Вашингтоном. От сотрудничества со второй – в силу неопределенности перспектив такого сотрудничества. Как инструмент обеспечения безопасности только на евроатлантическом пространстве, НАТО перестала представлять для США ценность. Трансформация альянса – с точки зрения американских интересов – предполагает его отказ от роли исключительно европейской оборонной структуры и приобретение им военно-политических функций в зонах Центрально-Восточной Азии и Большого Ближнего Востока, то есть в бывшем Закавказье и бывшей Средней Азии. Если эта трансформация состоится, Россия, как геополитически ключевая держава региона, окажется в более благоприятных условиях для вступления в НАТО. Если подобной трансформации не последует, роль этой организации будет еще более маргинальной и для России не будет иметь смысла придавать ей слишком большое значение.
Зачем Россия нужна Соединенным Штатам? Мы привыкли думать о своей стране в основном как о ядерной державе. Своей «нефтяной идентичности» мы стесняемся: неловко вписывать себя в один ряд с Саудовской Аравией, Кувейтом, Катаром, Венесуэлой и Нигерией.
Теоретически американцы нашу ядерную сущность признаюЂт и отрицать не собираются. Однако для политиков-практиков, особенно среднего и более молодого поколений, Россия – это прежде всего крупнейший мировой экспортер энергоресурсов, который при всем при том обладает еще и ядерным потенциалом. То есть никакая не «Верхняя Вольта с ракетами», а страна, обладающая сдвоенным потенциалом энергосырьевого и атомного оружия.
Переговоры о контроле над вооружениями вернутся в повестку дня встреч российских и американских лидеров. Но это случится позже, когда к ним присоединятся Китай и, возможно, лидеры других государств, если продолжится пока необратимый распад все еще действующего режима нераспространения ядерного оружия. Тогда откроются новые возможности для российско-американского совместного маневрирования в военно-стратегических вопросах.
Это не значит, что России не надо совершенствовать свой ядерный потенциал. Но это означает, что в обозримой перспективе попытки вернуть Вашингтон к ведению дел с Москвой с упором на переговоры о контроле над вооружениями обрекают российскую дипломатию на застой. Ядерный потенциал России обеспечивает ей пассивную стратегическую оборону. Будущее активной дипломатии – в сочетании энергетического оружия в наступлении и ядерного в самозащите. В мире нет больше ни одной ядерно-нефтяной державы. А потенциально таковой могут стать только Соединенные Штаты.
США изучают нефтегазовые перспективы России с различных точек зрения. Во-первых, с точки зрения ее собственного экспортного потенциала (нефть Коми и газ Сахалина); во-вторых, способности России препятствовать или не препятствовать Америке в налаживании импорта из пояса месторождений поблизости от российских границ – на Каспии прежде всего, в Казахстане и Азербайджане; в-третьих, ввиду возможности влиять на новых импортеров российской нефти – Китай и Японию (нефть и газ из Восточной Сибири). Ядерный фактор работает скорее на воспроизводство подозрений США в отношении России, нефтяной – больше на повышение конструктивного интереса к ней.
Другие факторы проявления Америкой внимания к России тоже делятся на условно негативные и позитивные. К первым относится способность Москвы дестабилизировать обстановку в государствах, важных для производства нефти и ее транспортировки на Запад, – Азербайджане, Казахстане и Грузии, а также способность вернуть себе доминирующие позиции в Украине. Последнюю Вашинигтон рассматривает в качестве новой транзитной территории, которая позволит обеспечить расширение военно-политических функций НАТО на новые фактические зоны ответственности альянса вне Европы. К позитивным факторам относится способность России оказывать поддержку США, например, в борьбе с радикалами-исламистами в Большой Центральной Азии (от Казахстана до Афганистана и Пакистана), а может быть, со временем отчасти служить противовесом Китаю.
ИСКАЖЕННЫЕ ВОСПРИЯТИЯ
В США Россию изображают то страной «неудавшейся демократии» и авторитаризма, то просто отстающим в демократизации государством, способным или быть полезным Соединенным Штатам, или нанести ущерб американским интересам и поэтому тоже достойным внимания. Сохраняется высокомерное отношение к России, как к дежурному мальчику для битья. Призывы «потребовать от Кремля...», «сказать Путину…», «напомнить, что США не потерпят (позволят, допустят)...» – к таким фигурам речи прибегают и демократы, и республиканцы. Поводы одни и те же: ситуация в Чечне и внутриполитические шаги, нежелание Москвы поддерживать авантюру в Ираке или согласиться с попытками Вашингтона повторить ее сценарий в Северной Корее и Иране.
Правда, подобные выходки со стороны США имеют место и по отношению к другим странам – например, в связи со вспышками разногласий с Францией или Японией. Разница в том, что японское лобби в Америке – одно из самых мощных, да и людей, симпатизирующих Франции, достаточно. Напротив, признаков ведения систематической деятельности в пользу России в США почти не наблюдается. Российское государство на эти цели денег тратить не хочет, а крупный российский бизнес, в отличие от японского, тайваньского, корейского и французского, поступает как раз наоборот, лоббируя свои интересы в России при помощи нагнетания за рубежом антироссийских настроений.
Какая из российских нефтяных фирм вложила средства в исследования России, проводимые, например, в Институте Гарримана (Нью-Йорк), в Школе Генри Джексона (Вашингтонский университет в Сиэтле) или в Центре русских исследований Университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне? Неудивительно, что на многих конференциях, посвященных России, в США продолжают говорить об «авторитарных и неоимперских тенденциях».
Правда, в последние годы американские политологи-русоведы стали больше читать по-русски (на это справедливо указывал один из них; см.: Рубл Б. Откровенность не всегда плохо // Международные процессы. 2004. № 1). Но контраст очевиден: в России рукопись книги о США с указанием малого количества американских источников просто не будет рекомендована к печати, а диссертацию по американистике, две трети сносок в которой не будут американскими, не пропустят оппоненты. В США – иначе. В советские времена американцы находили извинительным не читать русские книги, говоря, что все, публикуемое в СССР, – пропаганда. Те немногие американские работы о советской общественно-политической мысли, которые выходили тогда, являют собой стандарт аналитической беспомощности. Исследуя состояние умов в Советском Союзе, американские авторы до середины 1980-х годов ссылались лишь на решения съездов КПСС и труды советских официальных идеологов, не улавливая сдвигов, которые проявлялись в советской политической науке в виде массы осторожных, но вполне ревизионистских книг и статей. В результате американская политология проспала и перестройку, и распад СССР.
С тех пор в России изданы десятки новых книг и напечатаны сотни статей, представляющих плюралистичную палитру мнений авторов новой волны. И что? За редким исключением (Роберт Легволд, Брюс Пэррот, Блэр Рубл, Фиона Хилл, Гилберт Розман, отчасти Эндрю Качинс, Клиффорд Гэдди и Майкл Макфол) американские политологи, пишущие о российской политике, читают русские публикации лишь от случая к случаю. Сноски на русскоязычные источники и литературу в американских политологических работах – исключение, а не правило. Они не составляют и трети справочного аппарата.
На что же ссылаются американские политологи? Во-первых, американцы предпочитают цитировать друг друга. Во-вторых, использовать материалы газет, выходящих в Москве на английском языке, будто не зная, что эти тексты рассчитаны на зарубежного читателя, а россиянин их обычно не читает и не испытывает на себе их влияния. В-третьих, они ссылаются на книги на английском языке, написанные русскими авторами по заказам американских организаций. Работы этой категории авторов тоже предназначаются американской аудитории и в минимальной степени характеризуют российскую политико-интеллектуальную ситуацию. За свои деньги американцы получают от русских авторов те выводы, которые хотели бы получить. Каков коэффициент искажения подобного рода «научных» призм?
Читали бы американцы русские работы в оригинале чаще, они бы, может быть, узнали из истории почившего Советского Союза нечто о перспективах собственной страны. Поняли бы – и кое-чего бы остереглись.
***
США – страна, которая, используя исторический шанс, стремится на максимально продолжительный срок закрепить свое первенство в международных отношениях. Это ключ к пониманию американской политики. Опасность заключается в том, что Соединенные Штаты чувствуют себя вправе применять любые инструменты, включая наиболее рискованные. Остановить продвижение США по этому пути вряд ли может внешняя сила, если иметь в виду другие страны и их коалиции. Иное дело, что международная среда, природа которой сильно меняется под влиянием транснационализации, способна еще не раз резко осложнить воплощение в жизнь американской стратегии глобального лидерства.
Смысл идущих в России дебатов вокруг вопроса о перспективах российско-американского сближения состоит в выработке оптимальной позиции в отношении не столько самих Соединенных Штатов, сколько той непосильной, если верить истории, задачи, которую они гордо и, возможно, неосмотрительно на себя возложили.
Глобальную мощь Америки невозможно рассматривать и вне контекста эгоизма ее внешней политики. Но в то же время планета выигрывает от готовности США нести на себе груз таких мировых проблем, как нераспространение ядерного оружия, борьба с наркобизнесом, ограничение транснациональной преступности, упорядочение мировой экономики, решение проблем голода и пандемий и, наконец, ограничение потенциала авторитаризма национальных правительств.
Лучше или хуже станет миру, если вместо «либеральной деспотии» Вашингтона установится иной, не просчитываемый пока вариант борьбы за новую гегемонию? Непохоже, чтобы в случае падения величия США настала мировая гармония. Так что же правильнее: ждать революционного свержения лидера или коллективным ухищрением втискивать его амбиции в рамки придуманного американскими же учеными конституционализма?
Когда полвека назад Джордж Кеннан, «человек, который придумал сдерживание», писал свою статью, он пылко ненавидел советский строй и силился сочувствовать нашему народу. Оттого в его тексте много чеканных приговоров, временами чередуемых с лирическими отступлениями. Мне симпатичны американцы, и мне трудно ненавидеть американский строй по очевидной причине: современный российский строй, казалось бы пропитанный обоснованным раздражением против США, в главных чертах, в сущности, моделируется по американскому образцу. Это не случайно и, думаю, не во всем плохо. Это – важнейшая черта современной российской жизни, пронизывающая политические дебаты, которые в России отнюдь не затихают.

Афганистан «арендованный»
© "Россия в глобальной политике". № 3, Май - Июнь 2004
А.Ю. Дубнов – обозреватель газеты «Время новостей». Освещает события в Афганистане с 1992 года, данная статья написана по итогам поездки по стране в апреле 2004-го.
Резюме Не умаляя значимости победы Вашингтона над талибами осенью 2001 года, стоит отметить: они были не разгромлены, а просто ушли из Кабула. Точно так же, как до этого столицу покинули моджахеды. В результате и те, и другие сохранили свой боевой потенциал.
Как-то вечером мы со знакомым афганцем, много лет прожившим в Москве, ловили на окраине Кабула такси. Одна за другой машины, притормозив и осветив нас фарами, уносились дальше. Наконец какой-то водитель остановился. Высунувшись из окна, он бросил пару резких фраз, нажал на газ и умчался.
– Что он сказал?
– Вы, говорит, из тех, кто жрет собак, которых кидают вам американцы.
«Мы одеты по-европейски, и он принял нас за афганцев, которые обслуживают американский контингент, – объяснил мой спутник. – Таксисты ненавидят американцев, но еще больше – тех соотечественников, кто работает на янки».
Любому репортеру известно: попав в чужой город, прежде всего стоит поговорить с таксистами, потому что нет лучше способа проникнуться местной атмосферой. Конкретную информацию вы получите позже, но она, как правило, только подтверждает первое впечатление, которое создалось в ходе беседы с первым попавшимся тружеником извоза.
Американцев в Кабуле и вправду не любят. Кабульские дуканщики говорили мне: «Мы теперь понимаем, в чем разница между русскими и американцами. У русских характер простой и незаносчивый, вы держались с нами на равных. К американцам-то не подступиться, они нас за людей не считают».
– Но афганцы же воевали против русских.
– Ну да… Но русские в то же время нас учили, строили дороги, школы, больницы. У нас нет к ним ненависти.
ИЛЛЮЗИИ – В СТОРОНУ
То, что реальная и формальная власть в Афганистане не одно и тоже, становится понятно сразу, как только ступаешь на афганскую землю. Кабульский аэропорт увешан отнюдь не портретами главы Переходной администрации Афганистана Хамида Карзая, а многочисленными листовками с изображением Мохаммада Мирвайса Садека, погибшего в марте 2004-го. Согласно квоте, выделенной администрацией его отцу – известному полевому командиру, губернатору Герата Исмаил Хану, Мирвайс занимал пост министра гражданской авиации и туризма. Он был убит в столкновениях между сторонниками губернатора и войсками, подчиняющимися Кабулу.
Что там произошло, доподлинно неизвестно. Однако никто в Афганистане не сомневается: Мирвайс пал жертвой неудачной попытки центральной администрации (и поддерживающих ее американцев) сместить строптивого «льва Герата», как называют Исмаил Хана еще со времен сопротивления советской интервенции. В результате мартовских событий губернатор восстановил свое влияние: новым министром был назначен его очередной ставленник, служивший до этого в Герате начальником департамента образования.
Какой же политический строй установился в Афганистане после победоносной войны США против движения «Талибан» осенью 2001 года? В статье «Афганистан “освобожденный”», опубликованной в журнале Foreign Affairs, журналистка Кэти Гэннон размышляет об «упущенных Америкой возможностях и пренебрежении уроками афганской истории». «Почему все так быстро пошло не так? Каким образом разгром талибов – большая победа Вашингтона, ставшая, казалось, предвестием возрождения измученной войной страны, – привел к восстановлению статус-кво?»
Кэти Гэннон пытается понять, почему к власти в Афганистане снова пришли полевые командиры, лидеры Северного альянса: маршал Мохаммад Фахим, ставший министром обороны, генерал Абдул Рашид Дустум, которого Хамид Карзай назначил своим спецпосланником на севере страны, и другие – все те, кто «разделяет ответственность за чудовищные убийства середины 1990-х». И почему «Хамид Карзай… ничего не может с этим поделать?».
Но Кэти Гэннон не может не знать хотя бы о том, что именно «приручение» Хамидом Карзаем того же Фахима стало серьезным политическим достижением руководителя государства. Дело в том, что маршал оказался сегодня серьезным гарантом поддержки главы Переходной администрации Афганистана со стороны силовых структур страны. Правда, Фахиму это дорого обошлось: он потерял влияние среди большинства своих соратников в Панджшере. Маршал уже давно не рискует появляться там, где считают, что он продался американцам.
Журналистка критикует Вашингтон за то, что он сделал своими новыми союзниками людей, которые терроризировали Афганистан до прихода к власти движения «Талибан» и многие из которых исповедовали почти столь же радикальную идеологию, что и сами талибы. Кэти Гэннон недоумевает: как можно было допустить, что в центральной администрации слабому в военном отношении пуштунскому большинству противостоят сильные таджикские, узбекские и хазарейские фракции? При этом справедливо отмечено: «слабость» пуштунского большинства объясняется тем, что его возглавляют «бывшие эмигранты, вернувшиеся на родину после нескольких десятилетий пребывания по большей части в США».
Но самое поразительное замечание Гэннон, настроенной резко критически к афганской политике нынешней американской администрации, звучит так: «Америка уверена, что люди, в прошлом причинившие Афганистану столько бедствий, каким-то образом сумеют привести страну к демократии и стабильности в будущем».
Журналистка абсолютно права в своей критике, если она адекватно передает представления Вашингтона. Но как-то не верится, что американские руководители искренне убеждены в приверженности афганских полевых командиров демократии. Рискну предположить, что нападки коллеги на Белый дом и Госдепартамент несправедливы. В США изначально не строили иллюзий в отношении афганских моджахедов. Только очень наивный человек мог искренне надеяться, что генерал Дустум, маршал Фахим, командир Сайяф и их соратники способны стать «буревестниками» афганской демократии. На самом деле американская политика демонстрирует другой, абсолютно прагматичный подход: в Афганистане полезно все, что приносит результат. Когда-то я услышал в этой стране фразу: «Нас, афганцев, нельзя купить, нас можно только арендовать».
СРОК АРЕНДЫ
Утверждать, что в сентябре 2001-го лидеры Северного альянса Афганистана стали союзниками Соединенных Штатов в борьбе против «Аль-Каиды» и ее талибских покровителей, строго говоря, некорректно. Наоборот, это Америка присоединилась к Северному альянсу, который до трагической нью-йоркской осени нес на себе всю тяжесть войны против талибов.
Между прочим, многие афганские таджики задаются вопросом: а что, если бы был жив легендарный лидер Северного альянса Ахмад Шах Масуд? (Напомню, что его гибель в результате покушения 9 сентября 2001 года стала кровавой прелюдией атаки на Всемирный торговый центр.) И сами же отвечают: власть в Кабуле была бы иной, Америка вряд ли договорилась бы с Масудом, поскольку укрепление тех, кто поддерживал движение «Талибан», было не в его интересах. Сразу после убийства Масуда вину за покушение возлагали на талибов. Но скоро их не стало, и в выигрыше оказались те из политических наследников харизматического моджахеда, которые стали союзниками Америки. А начавшееся пару лет назад расследование обстоятельств покушения на Масуда как-то незаметно сошло на нет… Впрочем, сам Масуд постоянно повторял, в том числе и автору этих строк, что воюет не с талибами (с ними-то, мол, он всегда договорится), а с интервентами – с пакистанской армией. Действительно, именно части регулярной армии соседней страны составляли военный костяк движения «Талибан». За Исламабадом же стоял Вашингтон, и хотя Масуд не говорил об этом вслух, помнил он об этом всегда. Значит ли это, что США в то время не были заинтересованы в разгроме талибов?
Дать однозначный ответ на этот вопрос едва ли возможно. Фактом, однако, являются многочисленные попытки американской дипломатии «приручить» талибов. Контакты вашингтонских эмиссаров с представителями движения «Талибан» были отмечены сразу после прихода «исламских студентов» к власти в Кабуле в 1996 году. Чуть позже важным для США фактором, стимулировавшим интерес к новому режиму, стали крайне враждебные отношения, сложившиеся на религиозной почве между талибским Кабулом и Тегераном. Это произошло после убийства талибами (суннитами) одного из лидеров афганских шиитов – шейха Абделя Али Мазари. «Враг врага» не обязательно должен быть «другом», но игнорировать появление дополнительного фактора сдерживания по отношению к иранским аятоллам в Вашингтоне не собирались.
Следует отметить и еще один аспект афганской ситуации, оказывавший влияние на политику США. С самого начала основным внутренним противником талибов, которые представляли пуштунское большинство Афганистана, был Северный альянс – коалиция афганских этнических меньшинств: таджиков, узбеков и хазарейцев. Их лидеры, в первую очередь Ахмад Шах Масуд, пользовались негласной поддержкой Москвы, которая направляла серьезную военно-техническую помощь «северянам», в том числе через Таджикистан и Узбекистан, своих союзников по СНГ. По этой причине Америка не была заинтересована в том, чтобы Северный альянс доминировал в Афганистане.
И только гораздо позже, когда вожди движения «Талибан», отчаявшись добиться международного признания, позволили Усаме бен Ладену развернуть базы на афганской территории, а «Аль-Каида» стала основной головной болью США, антитеррористическое сотрудничество Москвы и Вашингтона на афганском направлении стало приобретать реальные очертания.
Операция «Несокрушимая свобода», начавшаяся 7 октября 2001-го, привела к быстрому свержению режима талибов. Не умаляя значимости «большой победы Вашингтона», замечу: отряды движения «Талибан» не были разгромлены, они просто ушли из Кабула. Точно так же, как пятью годами раньше под напором талибов столицу покинули подразделения моджахедов во главе с Масудом. Осенью 1996 года таджики-масудовцы вернулись в свою вотчину – Панджшерскую долину, осенью 2001-го пуштуны-талибы возвратились в свою – южные и юго-восточные провинции Афганистана (близ пакистанской границы). В результате и те, и другие сохранили свой потенциал. Такие договорные победы-поражения типичны для афганской междоусобицы. Активное сопротивление пуштунских племен было сломлено миллионами долларов, которые их вожди получили в качестве отступного от американцев. Но вспомним: «афганцев нельзя купить, их можно только арендовать».
Не подходит ли к концу срок очередной «аренды»?
БЕЗГРЕШНЫХ НЕТ
Весьма спорно мнение Кэти Гэннон о том, что «демократизаторами» Афганистана при поддержке американцев могут и должны стать представители пуштунской интеллигенции, прошедшие западную «огранку». Действительно, люди, подобные Хамиду Карзаю или министру финансов Ашрафу Гани, не участвовали в гражданской войне, не замешаны в кровавых расправах над мирными жителями. Но они, как и сами американцы, несут свою долю ответственности за установление режима талибов.
Карзай не скрывает, что был одним из тех, кто стоял в свое время у истоков создания движения «Талибан», но затем, разочаровавшись в талибах, ушел от них. Об этом говорит Хазрат Вахриз, бывший главный редактор самой популярной кабульской газеты «Седаи мардом». 35-летний хазареец Вахриз представляет новое поколение афганских политиков, вынужденных скрываться при талибах, но весьма критически настроенных и по отношению к моджахедам. Безгрешных, говорит он, в Афганистане сегодня нет, это касается и тех, кто жил за границей. Ашраф Гани, будучи в США высокопоставленным сотрудником Всемирного банка, убеждал Вашингтон в необходимости договариваться с талибами. А председатель Центрального банка Афганистана Анваруль Хак Ахади, который преподавал в США, прислал талибам поздравительную телеграмму в связи с взятием ими северных провинций и назвал их лучшими сыновьями Афганистана...
Многие в этой стране уверены: попытки пуштунской элиты «назначить» главными виновниками трагических событий последнего десятилетия только лидеров этнических меньшинств – таджиков, узбеков или хазарейцев – чрезвычайно опасны. Они приведут к очередному расколу, новому витку конфронтации между афганцами. И как доказывает советский, а ранее и британский опыт, справиться с внутриафганскими распрями не в состоянии никакая внешняя сила.
Но именно подобный подход – удаление из политики преступных полевых командиров Дустума, Сайяфа, Раббани и пр. поможет вывести Афганистан на путь демократии, – Кэти Гэннон считает правильным. Даже если ее оценка этих людей справедлива, надо помнить о том, что для многих афганцев, разделенных по этническому и региональному признаку, лидеры моджахедов остаются единственными авторитетами и даже, возможно, просто кормильцами, гарантами их физического выживания, защитниками от притеснения пуштунов. На севере Афганистана хорошо помнят, как арабские наемники, воевавшие на стороне пуштунов-талибов, вырезЗли целые узбекские семьи. Но это происходило до 11 сентября 2001 года и мало кого интересовало.
Впрочем, многие предпочитают не вспоминать событий, происходивших в Афганистане и после этой даты. Таких, как восстание талибов в крепости Калай-джанги под Мазари-Шарифом в ноябре 2001-го, куда их доставили после добровольной сдачи оружия в провинции Кундуз. Мне пришлось быть свидетелем кровавой бойни, в которую превратилось подавление этого восстания дустумовскими солдатами. Однако решающую роль сыграла срочно вызванная Дустумом американская авиация, которая превратила восставшую крепость в подобие «Герники» Пабло Пикассо.
Спустя несколько месяцев стали известны подробности массовых убийств пленных талибов, совершенных дустумовцами в тюрьме города Шибарган. Действительно, Дустум не понес наказания за эти преступления. Но не было и расследования правомерности чудовищных ковровых бомбардировок. Да, на войне бывает все, тем более на афганской. Но в таком случае справедливо ли обличать злодеяния одних и умалчивать о других?
И стоит ли так уж ополчаться на политику западных стран, как это делает американская журналистка, за то, что в Афганистане «они снова наделили властью людей, причинивших народу так много страданий»? Где в этой стране найти других вождей, которые были бы одновременно безупречны в моральном плане и способны осуществлять реальную власть?
Предположим, что Хамид Карзай – это именно такой человек. Но ставка на него как на лидера, способного консолидировать пуштунов, тоже весьма иллюзорна. Не далее как в апреле Карзай обратился к бывшим талибам с призывом забыть прежние распри и влиться в ряды строителей нового Афганистана. За исключением 150 человек, которых считают виновными в преступлениях, остальным членам движения «Талибан» была обещана полная амнистия. Ответ поступил незамедлительно. Представители талибов, находящиеся в пограничных районах Пакистана, заявили, что о сотрудничестве не может быть и речи до тех пор, пока на афганской земле находятся иностранные оккупанты. Особо было сказано о попытках демократизации: талибы пригрозили смертью всем женщинам, которые отважатся принять участие в выборах. Ответственность за кровь ляжет на их мужей, которые допустили подобное безобразие, заявили пуштунские вожди.
ДЕНЬГИ НА ДЕМОКРАТИЮ
Возможно, Кэти Гэннон не так сокрушалась бы по поводу «упущенных Америкой возможностей», если бы понаблюдала за Лойей джиргой, созванной в Кабуле весной 2004 года для принятия новой афганской Конституции. Там она бы увидела, каких усилий, а главное денег, стоило американцам обеспечить одобрение демократических норм Основного закона участниками большого совета старейшин. Сколько обид пережили многие уважаемые депутаты Лойи джирги, обнаружив, что их коллеги получали от американских спонсоров бЧльшие, чем они, «гонорары» за правильное голосование по отдельным статьям. Но на это Америка потратила все же меньше денег, чем в 2001 году на отказ афганцев воевать.
Сколько же еще понадобится денег и миротворческих контингентов, чтобы поддерживать в Афганистане хотя бы внешнее спокойствие? С одной стороны, в мире, к счастью, зреет понимание того, что потребуется много и того и другого. Но средства Афганистану пока что выделяются несоизмеримо более скромные по сравнению с другими регионами, несущими куда меньше угроз международной стабильности. С другой стороны, даже из этих средств афганцам достается немного. Западные компании осваивают западные же пакеты помощи. Западные менеджеры получают западную зарплату и обеспечивают себе западные условия жизни, предоставляя небольшой части афганцев возможность питаться «крохами с их стола».
Характерно, что в статье Кэти Гэннон нет ни одного упоминания о России. Когда она пишет о помощи Афганистану со стороны мирового сообщества, то под ним подразумевается исключительно Запад. Не правда ли, странно, особенно если вспомнить помощь России в свержении талибов, а также то, как много построили «шурави» в Афганистане с 1960-х годов и сколько афганцев они обучили? Разумеется, демократия – вещь дорогая, ее строительство, тем более в Афганистане, стоит больших денег, а у России их и на свою-то демократию не хватает. К тому же стать официальным донором Афганистана Москва не имеет права: российское законодательство не разрешает оказывать финансовую помощь стране, которая не урегулировала проблему своей задолженности, а Кабул, по самым скромным подсчетам, должен России 10 миллиардов долларов.
Тем не менее в Москве не без основания полагают, что привлечение российских специалистов для работ по восстановлению Афганистана в рамках международной помощи было бы реальным и очень быстрым подспорьем афганскому народу. БЧльшая часть разрушенной инфраструктуры страны базируется на советских технологиях, а природные ресурсы Афганистана досконально исследованы советскими геологами. В российском участии очень заинтересованы и сами афганцы: они-то точно знают, что сотрудничество с Москвой для них гораздо эффективнее и выгоднее. Однако ни один подряд в Афганистане россиянам пока даже не предложен.
Можно не соглашаться со многими выводами Кэти Гэннон, вытекающими из ее либерально-идеалистических взглядов на афганские реалии, однако нельзя не согласиться с ее позитивной оценкой опыта движения «Талибан» в борьбе с наркобизнесом. Она совершенно права, советуя Вашингтону использовать этот опыт. Автор, правда, не объясняет, почему антинаркотическая практика талибов оказалась успешной. Просто талибы разбирались в особенностях афганского национального характера и знали, как на него воздействовать. Хорошо бы изучить этот характер и всем тем, кто учит афганцев демократии.

Новая карта Пентагона
© "Россия в глобальной политике". № 3, Май - Июнь 2004
Томас Барнет – профессор Колледжа военно-морских сил США, неоднократно приглашался в Пентагон и американские разведслужбы в качестве консультанта по стратегическим вопросам. Данная статья была впервые опубликована в журнале Esquire в марте 2003 года, в апреле 2004-го ее расширенная версия вышла в свет в виде отдельной книги под названием The Pentagon's New Map: War and Peace in the Twenty-First Century в издательстве G.P. Putnam's Sons.
Резюме Проанализировав географию американских интервенций за последнее десятилетие, легко вывести основное правило безопасности. Вероятность того, что какая-либо страна спровоцирует США на военное вторжение, обратно пропорциональна ее вовлеченности в процессы глобализации.
Война Соединенных Штатов против режима Саддама Хусейна ознаменовала собой поворотный пункт истории. С этого момента Вашингтон взял на себя всю полноту ответственности за стратегическую безопасность в эпоху глобализации. Вот почему публичная дискуссия вокруг этой войны так важна. Она заставит американцев согласиться с тем, что я называю новой парадигмой в области безопасности, смысл которой передает фраза: разобщенность таит в себе опасность. Под знаком этой парадигмы будет протекать нынешний век. Незаконный режим Саддама Хусейна находился в опасной изоляции в глобализирующемся мире, пренебрегал его нормами и связями, обеспечивающими всеобщую взаимозависимость.
Когда эксперты спорят о глобализации, то, как правило, звучат две крайние точки зрения на то, чтЧ она собой представляет: грандиозный процесс планетарного масштаба или нечто ужасное, обрекающее человечество на гибель. Оба мнения явно несостоятельны, поскольку глобализация, как исторический процесс, – это слишком широкое и сложное явление, чтобы быть втиснутой в узкие рамки простых обобщений. Вместо этого необходим принципиально иной подход к оценке нового мира, в котором мы живем: есть регионы, где глобализация по-настоящему пустила корни, и регионы, куда она, по сути, еще не проникла.
Посмотрите на страны, куда глобализация добралась в виде развитых телекоммуникационных сетей, финансовых потоков, либеральных средств массовой информации и коллективной безопасности, и вы увидите регионы со стабильным правительством, растущим уровнем благосостояния, где люди скорее погибают от самоубийств, чем становятся жертвами преступлений. Эти регионы я называю «Функционирующим ядром» или просто «Ядром». Но взгляните на страны, которые пока слабо вовлечены в процессы глобализации или вообще в них не участвуют, — там господствуют авторитарные режимы, пышным цветом расцветают политические репрессии, царит тотальная нищета и отмечается высокий уровень заболеваемости. Массовые убийства стали в этих регионах обыденным явлением, и, что самое главное, там постоянно тлеют очаги конфликтов, в которых, как в инкубаторе, рождаются новые поколения мировых террористов. Эти регионы я называю «Неинтегрированным провалом» или просто «Провалом».
«Озоновая дыра» глобализации, возможно, не попадала в поле зрения до 11 сентября 2001 года, но после этого дня ее уже нельзя было не замечать. Так где же мы запланируем следующий раунд военных учений армии США в реальных полевых условиях? Ответ достаточно прост, и он основывается на опыте последних лет со времени окончания холодной войны: в зоне «Провала».
Я поддерживаю войну в Ираке не просто потому, что Саддам — это сталинист, готовый перерезать глотку любому ради того, чтобы остаться у власти, и не потому, что в последние годы его режим явно содержал тех, кто стремился раскинуть сети терроризма. На самом деле я сторонник этой войны, потому что длительное участие в военных действиях заставит Америку заняться всем «Провалом», видя в нем стратегически опасное пространство.
ПОДВИЖНАЯ ГРАНИЦА
Для большинства стран, находящихся в стадии формирования, принять глобальный набор правил, которые связаны с общей демократизацией, прозрачностью и свободной торговлей, — значит совершить беспримерный подвиг. Это очень непросто понять большинству американцев. Мы склонны забывать о том, с какими трудностями было на протяжении всей истории связано сохранение единства Соединенных Штатов и непрерывное согласование наших внутренних, подчас противоречивых правил в годы Гражданской войны, Великой депрессии и длительной борьбы за равноправие рас и полов, которая продолжается и по сей день. Что касается большинства государств, то с нашей стороны было бы нереалистично ожидать от них того, что они быстро приспособятся к правилам глобализации, которые выглядят уж очень по-американски. Но не нужно слишком увлекаться дарвиновским пессимизмом. Ведь, начав извиняться за глобализацию как навязывание американских ценностей или американизацию, легко перейти к намекам на то, что «эти люди никогда не станут такими, как мы, в силу расовых или цивилизационных различий». Всего десять лет тому назад большинство специалистов охотно списывали со счетов неблагополучную Россию, заявляя, что славяне по своей генетической природе не способны перейти к демократии и капитализму. Подобные аргументы звучали и в большинстве критических высказываний в адрес Китая в 1990-е годы, да и до сих пор их можно услышать в дебатах о возможности демократизации общества в постсаддамовском Ираке по западному образцу. Мол, «мусульмане — это все равно что марсиане».
Так как же отличить тех, кто по праву принадлежит к «Ядру» глобализации, от тех, кто остается во мраке «Провала»? И насколько постоянен и неизменен водораздел между ними? Понимая, что граница между «Ядром» и «Провалом» подвижна, выскажу предположение, что направление перемен важнее, чем их интенсивность. Да, можно сказать, что бразды правления в Пекине по-прежнему в руках Коммунистической партии, идеологи которой на 30 % руководствуются принципами марксизма-ленинизма и на 70 % — понятиями героев «Клана Сопрано» (название детективного сериала про итальянскую мафию в Америке. – Ред.). Однако Китай присоединился к Всемирной торговой организации, а в долгосрочной перспективе это гораздо важнее, чем перманентное вхождение страны в зону «Ядра». Почему? Потому что это вынуждает Китай приводить свои внутренние правила в соответствие с принципами глобализации в банковской сфере, в области таможенных пошлин, защиты авторских прав и окружающей среды. Конечно, простое приведение внутренних норм и правил в соответствие с формирующимися правилами глобализации еще не гарантирует успеха. Аргентина и Бразилия недавно на собственном горьком опыте испытали, что выполнение правил (в случае с Аргентиной весьма условное) автоматически не обеспечивает иммунитет против паники, пирамид в экономике и даже рецессии. Стремление приспособиться к глобализации само по себе не может служить гарантией от одолевающих страну невзгод. Это не значит, что беднейшие слои населения тут же превратятся в стабильный средний класс, – просто с течением времени уровень жизни людей будет расти. В итоге всегда есть опасность выпасть из фургона под названием «глобализация». Тогда кровопролитие неизбежно.
Какие же страны и регионы мира можно в настоящее время считать функционирующими? Это Северная Америка, бЧльшая часть Южной Америки, Европейский союз, Россия при Путине, Япония и формирующиеся азиатские экономики (в первую очередь Китай и Индия), Австралия и Новая Зеландия, а также ЮАР. По примерной оценке, в этих странах и регионах проживают четыре из шести миллиардов населения земного шара.
Кто же тогда остается в «Провале»? Было бы проще сказать, что «все остальные», но я хочу представить вам больше доказательств, чтобы аргументировать свою точку зрения о том, что «Провал» еще долго будет причинять беспокойство не только нашему бумажнику или совести.
Если мы отметим на карте те регионы, в которых США проводили военные операции после окончания холодной войны, то обнаружим, что именно там сосредоточены страны, не входящие в сферу разрастающгося «Ядра» глобализации. Эти регионы – Карибский перешеек, фактически вся Африка, Балканы, Кавказ, Центральная Азия, Ближний Восток и значительная часть Юго-Восточной Азии. Здесь проживают приблизительно два миллиарда человек. Как правило, на этих территориях отмечен демографический перекос в сторону молодого населения, доходы которого можно охарактеризовать как «низкие» или «ниже среднего» (по классификации Всемирного банка они составляют менее 3 тыс. долларов в год на душу населения).
Если обвести линией большинство тех районов, куда мы вводили свои войска, у нас, по сути, получится карта «Неинтегрированного провала». Конечно, некоторые страны, если принять во внимание их географическое положение, не укладываются в простые схемы. Они, как Израиль, окружены «Провалом», или, наоборот, как Северная Корея, волею случая оказались внутри «Ядра», или же, как Филиппины, расположились в пограничной зоне. Но, учитывая приведенные данные, трудно отрицать внутреннюю логику складывающейся картины: если та или иная страна выпадает из процесса глобализации, отвергает ее содержательную часть, резко возрастает вероятность того, что США рано или поздно отправят туда войска. И наоборот: если страна функционально связана с процессом глобализации и действует в основном по ее законам, нам нет нужды посылать свои войска, чтобы восстанавливать порядок и ликвидировать угрозы.
НОВОЕ ПОНИМАНИЕ УГРОЗЫ
Со времени окончания Второй мировой войны в нашей стране бытовало представление о том, что реальная угроза безопасности исходит от стран с сопоставимыми размерами, развитием и уровнем достатка, — иными словами, от таких же великих держав, как Соединенные Штаты. В годы холодной войны такой супердержавой был Советский Союз. Когда в начале 1990-х произошло крушение «большой красной машины», у нас высказывались опасения относительно объединенной Европы, могущественной Японии, а в последнее время — в связи с усилением Китая.
Любопытно, что все эти сценарии объединяло одно предположение: по-настоящему угрожать нам способно только развитое государство. А как насчет остального мира? В военных документах менее развитые страны и регионы проходили как «малые включенные». Это означало: достаточно располагать военной мощью, способной отвести угрозу, исходящую от великой державы, чтобы всегда быть готовыми к действиям в менее развитом регионе.
События 11 сентября заставили усомниться в этом предположении. В конце концов, мы подверглись нападению даже не со стороны государства или армии, а всего лишь группы террористов, которых Томас Фридмен на своем профессиональном жаргоне назвал «сверхоснащенными одиночками, готовыми умереть за свое дело». Их нападение на Америку повлекло за собой системную перестройку нашего государственного аппарата (было создано новое Министерство внутренней безопасности), нашей экономики (теперь мы платим де-факто налог на безопасность) и даже нашего общества. Более того, эти события послужили сигналом к началу войны с терроризмом, и именно через их призму наше правительство теперь рассматривает любые двусторонние отношения в области безопасности, которые мы налаживаем во всем мире.
Во многих отношениях атаки 11 сентября оказали огромную услугу американскому истеблишменту, отвечающему за национальную безопасность: они избавили нас от необходимости заниматься абстрактным планированием и искать себе «ровню» для будущих высокотехнологичных войн, заставив обратить внимание на присутствующие «здесь и сейчас» угрозы мировому порядку. Таким образом высветилась линия водораздела между «Ядром» и «Провалом» и, что еще важнее, приобрела рельефные очертания та среда, в которой зарождается сама угроза. Усама бен Ладен и «Аль-Каида» представляют собой продукты большого «Провала» в чистом виде — по сути дела, его наиболее жесткую ответную реакцию на посыл, исходящий от «Ядра». Они показывают, насколько хорошо мы справляемся с задачей экспорта безопасности в регионы беззакония (не очень-то хорошо) и какие государства они хотели бы «отлучить» от глобализации и вернуть к «хорошей жизни», как ее представляли себе в VII веке (их цель — все государства большого «Провала» с преобладающим мусульманским населением, особенно Саудовская Аравия).
Если принять во внимание эти намерения Усамы и сопоставить их с хроникой наших военных интервенций последнего десятилетия, то вырисовывается простое правило безопасности: вероятность того, что та или иная страна спровоцирует США на военное вторжение, обратно пропорциональна ее вовлеченности в процессы глобализации. Понятно, почему «Аль-Каида» сначала базировалась в Судане, а потом в Афганистане: они находятся в ряду стран, наиболее удаленных от процессов глобализации. Взгляните на другие государства, в которых в последнее время появлялись силы быстрого развертывания США: Пакистан (северо-западная часть), Сомали, Йемен. Эти страны и глобализация находятся на разных полюсах.
Деятельность данной сети терроризма важно пресечь на корню «на ее собственной территории», но столь же важно отрезать террористам доступ к «Ядру» через «промежуточные государства», расположенные вдоль политых кровью границ большого «Провала». В качестве примера на память тут же приходят такие страны, как Мексика, Бразилия, ЮАР, Марокко, Алжир, Греция, Турция, Пакистан, Таиланд, Малайзия, Филиппины и Индонезия. Но США работают над этой проблемой не в одиночку. Например, Россия ведет свою войну с терроризмом на Кавказе, Китай с удвоенной энергией взялся за укрепление своей западной границы, а всю Австралию взбудоражили взрывы на острове Бали.
Если мы отвлечемся на минуту и поразмышляем о значении складывающейся ныне новой карты мира в более широком смысле, то стратегию США в области национальной безопасности можно представить себе следующим образом: (1) добиться более широких возможностей защитных структур «Ядра» адекватно реагировать на события типа 11 сентября — например, осуществить системную перестройку; (2) работать с промежуточными государствами с целью расширения их возможности защищать «Ядро» от экспорта терроризма, наркотиков и пандемических болезней из стран большого «Провала»; (3), самое важное, сократить размеры большого «Провала». Обратите внимание: я не сказал, что надо отгородиться от «Провала». Первую нервную реакцию многих американцев на события 11 сентября можно выразить следующим образом: «Давайте покончим с нашей зависимостью от иностранной нефти, и тогда нам не придется иметь дело с теми людьми». В основе этой мечты лежит крайне наивное представление, будто сокращение того небольшого числа контактов, что существуют между «Ядром» и большим «Провалом», сделает последний менее опасным для нас в долгосрочной перспективе. Из-за того что Ближний Восток превратится в Центральную Африку, мир не станет более безопасным для моих детей. Мы не сможем просто взять и отмахнуться от тех людей.
Ближний Восток — это идеальная стартовая площадка. Дипломатия бессильна в регионе, где главный источник нестабильности – внутреннее положение в самих странах, а не взаимоотношения между ними. Хуже всего то, что на Ближнем Востоке отсутствует личная свобода, а это приводит к возникновению тупиковых ситуаций в жизни большинства здешнего населения — в первую очередь молодежи. Некоторые государства, такие, как Катар и Иордания, созрели для своего рода «перестройки» и рывка в более светлое политическое будущее благодаря молодым лидерам, осознающим неизбежность перемен. Иран также ждет прихода своего Горбачёва, если он уже не пришел.
Что мешает преобразованиям? Страх. Это боязнь отказа от традиций и боязнь осуждения муллы. Это и опасение мусульманских государств быть помеченными позорным клеймом «вероломных предателей» своей веры, и боязнь стать мишенью для радикальных группировок и террористических сетей. Но прежде всего это страх быть не такими, как все, и оказаться под огнем со всех сторон — разделить участь Израиля.
Ближний Восток давно уже превратился в некую дворовую кодлу, всегда готовую обидеть слабого. Израиль еще держится на плаву лишь потому, что стал, как это ни прискорбно, одним из самых «крутых» в квартале. Изменить эту гнетущую обстановку и открыть шлюзы для перемен способно только одно – вмешательство внешней силы, которая в полном объеме возьмет на себя функцию Левиафана. Свержение Саддама, главного хулигана во всей округе, заставит США играть роль Левиафана более последовательно и решительно, чем они это делали в последние десятилетия. В первую очередь потому, что Ирак — это Югославия Ближнего Востока, перекресток цивилизаций, которые исторически всегда нуждались в диктатуре для поддержания порядка. Когда надобность в приходящих «няньках» отпадет, за этим регионом так или иначе придется присматривать, так что наши длительные усилия в послевоенных Германии и Японии покажутся легкой прогулкой в сравнении с тем, что предстоит нам на Ближнем Востоке.
Дело это верное, и сейчас самое время им заняться, да к тому же мы единственная страна, которой это по плечу. Дерево свободы не зацветет на Ближнем Востоке, пока там нет безопасности, а безопасность занимает самое важное место в экспорте нашего государственного сектора. При этом я имею в виду не экспорт вооружений, а то внимание, которое наши вооруженные силы уделяют любому региону, где сохраняется опасность массового насилия. Мы единственное государство на планете, способное экспортировать безопасность на постоянной основе, и у нас имеется достойный послужной список в этом деле.
Назовите мне страну, в которой царят мир и спокойствие, и я укажу вам на прочные или укрепляющиеся связи между местными военными и американскими военнослужащими. Покажите мне регионы, где большая война немыслима, и я продемонстрирую вам постоянно находящиеся там американские военные базы и имеющиеся долгосрочные альянсы в области безопасности. Перечислите мне крупнейшие инвестиционные проекты мировой экономики, и я укажу вам на два примера военной оккупации, преобразившей Европу и Японию после Второй мировой войны. В течение полувека наша страна успешно экспортировала безопасность в регион старого «Ядра» глобализации (Западная Европа и Северо-Восточная Азия), а в последние 25 лет, после неудачи во Вьетнаме, и в формирующееся новое «Ядро» (развивающиеся страны Азии). Но наши усилия на Ближнем Востоке были несущественны, а в Африке почти ничего не предпринималось. Пока мы не начнем систематический, долгосрочный экспорт безопасности в большой «Провал», он будет все настойчивее экспортировать свои недуги в «Ядро» в виде терроризма и других факторов нестабильности.
Чтобы сократить размеры «Провала», потребуется нечто большее, чем только американский экспорт безопасности. Например, Африке придется оказать гораздо более существенную помощь, чем предполагалось в прошлом, и в конечном итоге интеграция большого «Ядра» будет скорее зависеть от частных инвестиций, нежели от усилий государственного сектора «Ядра». Но все должно начинаться с безопасности, потому что свободные рынки и демократия не могут процветать в условиях непрекращающегося конфликта.
Придется перестроить наш военный истеблишмент так, чтобы он мог соответствовать стоящим перед ним задачам. В обозримом будущем нам не грозит мировая война — прежде всего потому, что наш колоссальный ядерный потенциал делает такую войну бессмысленной для кого бы то ни было. Одновременно классические войны «государство против государства» становятся довольно редким явлением, и если Соединенные Штаты находятся в процессе преобразования своего военного ведомства, то возникает естественный вопрос: каким оно должно стать, чтобы успешно справляться с будущими угрозами? По-моему, клин выбивают клином. Если в мире растет число «сверхоснащенных одиночек», то и наша армия должна состоять из таких же «сверхоснащенных одиночек».
Это звучит, вероятно, как стремление возложить дополнительное бремя ответственности на и так уже перегруженных военных. Но именно непрерывный успех Америки в сдерживании глобальной войны и исключении войн в отношениях между отдельными государствами позволяет нам совать свой нос в более сложные межэтнические конфликты и предотвращать возникновение порождаемых ими опасных транснациональных сил. Мне известно, что большинство американцев не желают и слышать об этом, но реальное поле боя в глобальной войне с терроризмом по-прежнему находится именно там. Если бы все ворота были на замке и было бы достаточно «охранников», то 11 сентября никогда не стало бы реальностью.
В истории много поворотных моментов, подобных тому страшному дню, но вспять она не поворачивает никогда. Мы рискуем многим, игнорируя существование большого «Провала», потому что он никуда не исчезнет до тех пор, пока мы, как нация, не ответим на брошенный нам вызов и не сделаем глобализацию по-настоящему глобальной.
СДЕЛАТЬ «ПРОВАЛ» БЕЗОПАСНЫМ
Вот какие регионы являлись мировой проблемой в 1990-е годы и угрожают сегодня и завтра реальными бедствиями, способными застигнуть нас во дворе собственного дома.
1. Гаити. Усилия по строительству государства в 1990-е принесли разочарование. На протяжении без малого ста лет мы вводили сюда войска и, несомненно, вернемся в эту страну в случае кризиса.
2. Колумбия. Страна разбита на несколько незаконных территорий со своими армиями, повстанцами, наркобаронами и настоящими правительствами, которые заняты переделом территории. Наркотики по-прежнему текут рекой. На протяжении последнего десятилетия укреплялись связи между наркокартелями и повстанцами, а теперь стало известно о наличии связей с международным терроризмом. Мы вмешиваемся в этот конфликт, раздаем обещания, но так ничего и не достигли. Приложение с нашей стороны частичных, разрозненных усилий и постепенное их наращивание ни к чему не приводят.
3. Бразилия и Аргентина. Обе страны дрейфуют между большим «Провалом» и функционирующим «Ядром». В 90-е годы прошлого века обе вволю наигрались в игру под названием «глобализация» и чувствуют себя обманутыми. Им угрожает реальная опасность вывалиться из фургона и встать на путь саморазрушения, проводя политику крайне левого или крайне правого толка. Ни о какой военной угрозе говорить не приходится, разве что об угрозе их собственным демократическим завоеваниям (возможное возвращение военных к власти). Южноамериканский общий рынок МЕРКОСУР пытается создать собственную реальность, в то время как Вашингтон настаивает на свободной торговле между двумя Америками. Но, возможно, нам придется довольствоваться соглашениями с Чили или тем, что только Чили войдет в расширенную ассоциацию НАФТА (Североамериканское соглашение о свободной торговле). Неужели Бразилия и Аргентина доведут дело до самоизоляции и будут потом жалеть об этом? Бассейн реки Амазонка остается большой неуправляемой территорией Бразилии. Кроме того, окружающей среде наносится все более серьезный урон. Проявит ли мировое сообщество достаточную озабоченность в связи со сложившейся ситуацией, чтобы вмешаться и попытаться исправить положение?
4. Бывшая Югославия. В течение большей части последнего десятилетия Европа демонстрировала свою неспособность действовать сплоченно и согласованно даже на собственных задворках. Западу теперь долго придется выполнять в этом регионе роль приходящей няньки.
5. Конго и Руанда/Бурунди. В результате военных действий, длившихся на протяжении всего десятилетия, в Центральной Африке погибло от двух до трех миллионов человек. Насколько еще должно ухудшиться положение, прежде чем мы попытаемся хоть что-то предпринять? Должны погибнуть еще три миллиона? Конго — это государство в стадии деградации, ни живое, ни мертвое, и все стремятся поживиться за его счет. Кроме того, в этом регионе свирепствует СПИД.
6. Ангола. В стране так и не предпринято серьезных попыток остановить непрекращающуюся гражданскую войну, которая за прошедшие четверть века унесла полтора миллиона жизней. По сути дела, внутренние междоусобицы продолжаются здесь с середины 1970-х годов, когда рухнула португальская колониальная империя. Ожидаемая продолжительность жизни в этой стране менее сорока лет!
7. Южная Африка. ЮАР – единственная африканская страна, входящая в состав функционирующего «Ядра». Тем не менее она находится на перепутье. Существует множество опасений по поводу того, что ЮАР служит своего рода шлюзом для террористических сетей, стремящихся получить доступ к «Ядру» через заднюю дверь. Самая большая угроза безопасности — преступность, принявшая характер эпидемии. В этой стране также свирепствует СПИД.
8. Израиль — Палестина. Террор не утихает — каждое новое поколение на Западном берегу спит и видит продолжение эскалации насилия. Защитная стена, которая возводится в настоящее время, будет своего рода Берлинской стеной XXI века. В конце концов внешним державам придется разводить обе враждующие стороны, чтобы обеспечить безопасность (это разведение обещает быть очень болезненным). Всегда существует вероятность того, что кто-либо попытается нанести по Израилю удар с помощью оружия массового уничтожения (ОМУ) и тем самым спровоцирует ответный удар, на который, как нам кажется, Израиль способен, что тоже не может не вызывать тревогу.
9. Саудовская Аравия. Менталитет монаршей мафии, действующей по принципу «надо дать им кусок пирога», в конечном счете спровоцирует внутреннюю нестабильность и насилие. Политика выплаты отступных террористам, чтобы держались подальше от этой страны, рано или поздно приведет к краху, а поэтому следует ожидать опасностей и извне. Значительную часть населения составляет молодежь, у которой практически нет надежд на будущее, немногим лучше и перспективы правящей элиты, основной источник доходов которой — тающие на глазах долгосрочные активы. Вместе с тем нефть еще достаточно долго будет значить слишком много для Соединенных Штатов, и они не постоят за ценой, чтобы обеспечить стабильность в этой стране.
10. Ирак. После вторжения нас ожидает гигантская восстановительная работа. Нам придется выстраивать режим безопасности во всем регионе.
11. Сомали. Хроническое отсутствие дееспособного правительства. Хроническая проблема с продовольствием. Хроническая проблема подготовки в стране террористов. Мы ввели туда морских пехотинцев, а также специальный воинский контингент, но ушли разочарованными — это своего рода маленький Вьетнам 1990-х. Будет сделано все возможное, чтобы он не повторился.
12. Иран. Контрреволюция уже началась: на этот раз студентов не устраивают захватившие власть муллы, от которых они хотят избавиться. Иран стремится дружить с США, но возрождение фундаментализма — это та цена, которую нам, возможно, придется заплатить за вторжение в Ирак. Муллы поддерживают терроризм и реально стремятся заполучить ОМУ. Значит ли это, что они станут следующей мишенью после того, как мы разберемся с Ираком и Северной Кореей?
13. Афганистан. Эта страна попирала законы и была рассадником насилия еще до того, как на мировую арену вышел режим «Талибан», тянувший ее в прошлое, в VII век (что было не так трудно сделать). Правительство продалось «Аль-Каиде» за гроши. Это крупный центр производства наркотиков (героин). В настоящее время США увязли там надолго, пытаясь уничтожить наиболее отъявленных террористов/мятежников, которые предпочли остаться.
14. Пакистан. Всегда существует опасность того, что эта страна применит атомное оружие в конфликте с Индией по причине своей слабости (последний тревожный звонок прозвучал 13 декабря 2001 года, когда прогремели взрывы в Дели). Опасаясь, что Пакистан может пасть жертвой радикальных мусульман, мы решили поддержать приверженные твердой линии военные группировки, которым в действительности не доверяем. Страна кишит боевиками «Аль-Каиды». США намеревались объявить Пакистан государством-изгоем, пока 11 сентября не вынудило нас снова перейти к сотрудничеству. Попросту говоря, Пакистан, похоже, не контролирует большуЂю часть своей территории.
15. Северная Корея. Усиленными темпами продвигается к созданию ОМУ. Эксцентричное поведение Пхеньяна в последние годы (признание в похищениях людей; нарушение обещаний, связанных с ядерным оружием; открытая поставка вооружений в те страны, куда мы не рекомендуем поставлять оружие; подписание соглашений с Японией, которые как будто указывают на наступление новой эры; восхваление идеи новой экономической зоны) указывает на то, что он намерен провоцировать кризис. Такое поведение характерно для некоторых случаев психических заболеваний. Мы опасаемся, что Ким может пойти ва-банк (мало ли чего можно ждать от умалишенного). Численность населения сокращается — как долго люди там еще продержатся? После Ирака эта страна может стать нашей следующей целью.
16. Индонезия. Привычные опасения по поводу раскола страны «с самым многочисленным в мире мусульманским населением». Страна сильно пострадала от азиатского кризиса, буквально уничтожившего ее экономику. Как выяснилось, это район активных боевых действий террористических сетей.
Есть опасения, что новые/интегрирующиеся части «Ядра» в ближайшие годы могут быть потеряны. Речь идет о нижеследующих странах.
17. Китай. Страна во многом соревнуется сама с собой, пытаясь сократить число нерентабельных государственных предприятий, почти не снижая при этом уровня занятости. Кроме того, предпринимаются усилия, чтобы решить проблему роста потребностей в энергоносителях и сопутствующего загрязнения окружающей среды, а также предотвратить грядущий кризис с выплатами пенсий. Новое поколение лидеров подозрительно напоминает лишенных воображения технократов. И еще не известно, справятся ли они со стоящими перед страной задачами. Если ни один из этих макроэкономических факторов не спровоцирует внутреннюю нестабильность, то вряд ли Коммунистическая партия Китая (КПК) тихо растворится в ночи, предоставив массам бЧльшие политические и экономические свободы, которые на каком-то этапе могут показаться людям недостаточными. В настоящее время КПК чрезвычайно коррумпирована и фактически является паразитом на теле нации, но все еще верховодит в Пекине. Армия, похоже, все дальше уходит от общества и от реальности, более близоруко сосредоточиваясь на противодействии «угрозам» со стороны США, которые не дают Китаю возможности угрожать Тайваню, остающемуся еще одной взрывоопасной точкой. Кроме того, в Китае огромные масштабы приобрела эпидемия СПИДа.
18. Россия. Путину еще предстоит проделать большой путь в утверждении диктатуры закона; в руках мафии и баронов преступного мира все еще сосредоточено слишком много власти и влияния. Чечня и ближнее зарубежье в целом будут втягивать Москву в насилие, которое, тем не менее, вряд ли выплеснется за границы Российской Федерации. Продвижение США в Центральную Азию само по себе вызывает нервозность в Москве и может, если не действовать аккуратно, привести к ухудшению взаимотношений. У России слишком много внутренних проблем (слабость финансовой системы, деградация окружающей среды и пр.), слишком сильна ее зависимость от экспорта энергоресурсов, и она не ощущает себя в безопасности (не получится ли так, что восстановление экономики Ирака убьет курицу, несущую золотые яйца для России?). СПИД тоже распространяется здесь быстрыми темпами.
19. Индия. Постоянно сохраняется опасность ядерного противостояния с Пакистаном. Мало того, проблема Кашмира также не способствует улаживанию конфликта с Пакистаном, и война с терроризмом вызвала рост степени вовлеченности США. Индия наглядно демонстрирует все плюсы и минусы глобализации в миниатюре: высокие технологии, массовая бедность, островки бурного развития, трения между разными культурами/религиями/цивилизациями и т. д. Индия слишком велика, чтобы преуспевать, и одновременно она слишком велика, чтобы можно было допустить ее крах. Индия хочет быть могучим и ответственным военным игроком в регионе, надежным другом США и отчаянно стремится догнать по развитию Китай (сама себя убеждая в том, что нужно непременно добиться успеха). Кроме того, в стране быстро распространяется СПИД.

Пакистан против международной «мантры»
Резюме Пока Вашингтон обличал «ось зла» за ее попытки разрушить режим нераспространения, этот режим циничным образом нарушал его ближайший союзник – Исламабад. Тем не менее взаимоотношениям США и Пакистана, похоже, ничего не угрожает.
© "Россия в глобальной политике". № 2, Март - Апрель 2004
Тайное стало явным. Подозрения относительно того, что пакистанские ученые, реализующие свои программы в области ядерного оружия (ЯО), поделились своими разработками с другими странами, полностью подтвердились. Раскрытая сеть распространителей претендует на звание «самого большого черного рынка ядерных технологий» за всю историю. А глава МАГАТЭ Мохамед Эль-Барадеи и вовсе напугал: странно, мол, что где-нибудь в мире при таких масштабах теневого распространения до сих пор не разразилась ядерная война.
Еще в январе 2004 года режим нераспространения ядерного оружия находился в состоянии хотя и шаткого, но равновесия, с которым все либо согласились, либо так или иначе смирились. Скандал грянул в последних числах января, когда доктор Абдул Кадир Хан, отец пакистанской атомной бомбы, был взят под домашний арест и уволен с поста советника президента Пакистана по науке и технологиям. Национальное телевидение показало встречу Кадир Хана с Первезом Мушаррафом, на которой доктор публично признался, что участвовал в передаче ядерных технологий в Северную Корею, Ливию и Иран. Несколько ученых, принимавших участие в незаконной торговле, были также задержаны.
По сообщениям западной прессы, США призывали пакистанского лидера арестовать доктора Хана еще в 2002-м, когда госсекретарь Колин Пауэлл якобы передал Исламабаду доказательства незаконной ядерной торговли. На снимке, сделанном со спутника-шпиона, пакистанский транспортный самолет в КНДР был запечатлен в момент загрузки в него ракет. По предположению спецслужб, имела место сделка, в рамках которой Пакистан получал северокорейские ракетные технологии в обмен на свои ядерные. Позже, однако, генерал Мушарраф в одном из интервью заявил, что никаких американских «улик» не видел, иначе незамедлительно принял бы меры. Тем не менее дата ареста советника президента, скорее всего, была согласована с Вашингтоном: на следующий же день после признания Хана президент Буш выступил с масштабной инициативой по безопасности в области распространения ЯО. Детально проработанный план не был похож на экспромт.
Неопровержимые свидетельства вины Кадир Хана, национального героя Пакистана, были обнаружены в начале года благодаря ливийскому лидеру Муамару Каддафи. В декабре 2003 года тот решил прекратить разработку военной ядерной программы и предоставил инспекторам МАГАТЭ всю документацию. Там и обнаружился компромат на пакистанских ядерщиков.
По уровню скандальности история сравнима разве что с историей 1986-го, когда израильский физик Мордехай Вануну поведал британской прессе о военной ядерной программе Израиля. Однако тогда речь шла лишь об обнародовании факта, и без того известного всему миру. К тому же Израиль никому не передавал своих технологий. «Пожалуй, разоблачение Кадир Хана – это самый серьезный кризис режима нераспространения», — говорит чрезвычайный и полномочный посол (в отставке), старший советник ПИР-Центра политических исследований Роланд Тимербаев. Эту оценку разделяет и ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Владимир Новиков.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), подписанный в 1968 году, сроком действия в 25 лет и бессрочно продленный в 1995-м, зафиксировал двойные стандарты в отношении обладания ядерным оружием. С одной стороны, арсеналы стран ядерной «пятерки» были легитимизированы, с другой – все прочие страны, подписав документ, лишались права получить каким-либо образом оружие массового уничтожения (ОМУ), при том что государства – члены ядерного клуба обязались не передавать ядерных технологий не обладающим ЯО странам. Как считает глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов, «данный дефект Договора, легализующий изначальное неравенство между разными категориями его участников, является слабым звеном всей конструкции режима нераспространения, объектом как справедливой критики, так и спекулятивных нападок неядерных стран или стран, не участвующих в ДНЯО».
Понятны политические обстоятельства, заставившие страны-отказники, такие, как Индия, Пакистан, Израиль или Ливия, разрабатывать (в том числе и при содействии стран «пятерки») собственные ядерные программы. Но тот факт, что одно из государств, получивших ядерное оружие в обход режима нераспространения, занималось к тому же и его последующим распространением, представляет ситуацию в ином свете.
«Информация о распространении Пакистаном ядерных технологий в очередной раз подтвердила недостаточную устойчивость режимов нераспространения, — считает главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, советник ПИР-Центра политических исследований генерал-майор запаса Владимир Дворкин. — Безусловно, они сыграли свою роль, иначе число новых ядерных государств превысило бы десяток. Но издержки режима нераспространения очевидны».
«Режим находится в такой глубокой коме, что пинком больше, пинком меньше – для него не критично, так что разоблачения Пакистана ни на что не повлияют. Произошедшее демонстрирует разницу между дипломатическим паркетным ДНЯО и реальным непролазным бездорожьем в области нераспространения», — полагает директор московского представительства американского Центра оборонной информации Иван Сафранчук.
Поскольку главный механизм режима нераспространения оказывается неэффективным, нужны другие пути решения проблемы. Так, президент США Джордж Буш обнародовал в начале февраля план, направленный на сдерживание процесса распространения ЯО.
Документ обязывает все страны – вне зависимости от их участия в ДНЯО – подписать в течение года Дополнительный протокол к ранее взятым гарантиям МАГАТЭ, что позволит инспекторам осуществлять инспекции ядерных объектов. Если страна отказывается от подписания, Группа ядерных поставщиков (ГЯП) откажет ей в передаче каких-либо ядерных материалов, в том числе и мирного характера (что означает остановку атомных станций страны, если у нее нет возможности нарабатывать ядерное топливо собственными силами). Одна из предложенных инициатив предполагает перехват и обыск судов, подозреваемых в перевозке запрещенных материалов. Эту идею уже поддерживают 11 стран, и еще три готовы присоединиться.
По словам Дворкина, «решение администрации США о проверке подозрительных транспортных средств укладываются в принятую Америкой стратегию контрраспространения. Согласованные действия в рамках этой концепции отвечают интересам России».
«В реальности бороться с распространением можно, заключая секретные сделки с традиционными распространителями, – уверен Сафранчук. – Надо вырвать тех, кто обладает этими технологиями, из круга тех, кто стремится их получить. Открытые договоренности заключить невозможно, потому что тогда придется пересматривать Договор. Но открыть этот ящик Пандоры никто не решится. В реальности параллельный режим нераспространения будет строиться на основе двусторонних соглашений».
Вместе с тем не исключено, что по отношению к злостным нарушителям потребуются не только дипломатические меры. Как считает Владимир Дворкин, в этом случае «первый шаг – экономические санкции. Второй – частичная или полная блокада. Следующим шагом могли бы стать консолидированные решения о принудительных инспекциях. Далее – выборочные точечные удары по объектам инфраструктуры, связанным с производством оружия массового уничтожения и средств его доставки (при условии, что это не приведет к радиоактивному, химическому или бактериологическому заражению). Наконец, последний шаг – операции наподобие проведенных в Афганистане и Ираке. Каждый последующий шаг предпринимается только в случае отсутствия результатов предыдущего. Безусловно, эффект от таких мер будет выше, если их принимать в рамках Совета Безопасности ООН или хотя бы “большой восьмерки”. Если же это не удастся, нельзя исключать того, что США и их союзники будут действовать в одностороннем порядке».
Между тем после операций в Афганистане и Ираке наметились некоторые позитивные сдвиги. По-мнению Дворкина, «прежде чем продолжать свои программы создания или приобретения ОМУ и средств доставки, диктаторы в других странах с обостренным вниманием всматривались в фотографии пойманного Хусейна, примеряли на себя его последнее убежище, представляли себя с фонарем во рту. И, по-видимому, размышляли о том, что лучше лишиться ОМУ и ракет, чем своих роскошных дворцов. Есть основания полагать, что Каддафи принял решение прекратить работы над ОМУ и средствами доставки большой дальности по итогам именно таких размышлений».
Впрочем, основному виновнику скандала, Исламабаду, похоже, ничто не угрожает. Вашингтон демонстрирует завидное понимание пакистанской линии, хотя, казалось бы, у него есть повод занять весьма жесткую позицию. Ведь практически нет сомнений в том, что руководство Пакистана было, как минимум, осведомлено о незаконной торговле ядерными материалами. Кроме того, Абдул Кадир Хан, главный нарушитель режима нераспространения ЯО, по сути, прощен Мушаррафом. Да и госсекретарь Пауэлл неоднократно заявлял, что США не настаивают на выдаче Кадир Хана или предании его суду. «Возможно, Хан и был самым большим распространителем в истории. Но теперь он уже им не является. Президент Мушарраф допросил доктора Хана, получил полную информацию, и мы теперь имеем всю информацию об этой сети распространителей», — сказал Колин Пауэлл.
Таким образом, судя по всему, взаимоотношения США и Пакистана выдержат испытание ядерным скандалом.
«События декабря – января показали, что правящая верхушка, возглавляемая генералом Мушаррафом, определилась в приоритетах и внешнеполитических предпочтениях... Военные власти решили пойти навстречу настоятельным просьбам США и начать реальную энергичную борьбу с экстремистами внутри страны... Это качественный сдвиг, первый показатель того, что Пакистан встал на путь полного и безоговорочного сотрудничества с США в борьбе с терроризмом», — говорит заведующий отделом Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Вячеслав Белокреницкий.
Как полагает эксперт, именно антитеррористическая составляющая будет играть решающую роль на пакистанском направлении внешней политики США. Арбатов уточняет, что, «помимо нераспространения, у государств имеются другие, зачастую более приоритетные внешнеполитические интересы. Для России, к примеру, экономические и политические выгоды от сотрудничества с Индией и Ираном в целом более ощутимы, чем результаты процесса нераспространения; то же самое можно сказать о политике США в отношении Пакистана».
«Вашингтон, на мой взгляд, высоко оценивает позицию Пакистана как в ядерной области, так и в области борьбы с терроризмом, — считает Белокреницкий. — Вряд ли США пошли бы на установление какого-то режима контроля за пакистанским ЯО: это вызвало бы очень большое недовольство в обществе, особенно в политически мобилизуемой его части. Другое дело — скрытый контроль... Но прямого контроля быть не должно. Думаю, США будут это иметь в виду, так или иначе опасаясь и прихода к власти других людей, и реальной потери контроля за ядерным оружием».
«В явной форме контроль за пакистанским ядерным арсеналом невозможен, — соглашается Иван Сафранчук. — Посредством конфиденциальных договоренностей — вполне».
Нынешнее взаимопонимание обеих стран не снимает вопроса о том, как станут развиваться события в дальнейшем. Пакистан едва ли согласится подписывать Дополнительный протокол без того, чтобы подпись под таким же документом поставила Индия. Если США не уговорят Дели, между Вашингтоном и Исламабадом возникнет конфликт. Пойдет ли Пакистан навстречу Америке в этом и других возможных спорных вопросах, будет во многом зависеть еще и от других факторов. В частности, до какой степени Исламабад доверяет сегодня Вашингтону и не опасается ли он, что в случае изменения внешнеполитической конъюнктуры США изменят свое отношение к Пакистану. Подобное уже случалось в истории двусторонних связей: в 1990 году, вскоре после вывода советских войск из Афганистана, Вашингтон свернул программы экономической и военной помощи своему еще недавно ключевому союзнику в регионе.
«Опасения такого рода могут быть, — полагает Вячеслав Белокреницкий. — Но Пакистан заручился долгосрочной программой военной и экономической помощи у США: в течение 5 лет те предоставят помощь в размере 3 млрд долларов… Руководство страны может рассчитывать на то, что Америка не бросит Исламабад Первые серьезные трения между Пакистаном и США появились в 1965 году, потом — в 1990-м… Но в обоих случаях провоцировал Пакистан. В 1965 году Исламабад ввязался в войну с Индией, в 1990-м попытался проводить собственную, не устраивавшую Вашингтон политическую линию в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, продолжал осуществлять военную ядерную программу. Но ситуация никогда не выглядела так: мол, мы получили от вас всё, что хотели, и теперь бросаем. Действуйте, как обещаете, — получите всё, что хотите, а будете нарушать — получите ответ».
В ситуации, когда существующие механизмы контроля за ядерным нераспространением все чаще дают сбой, инициатива в урегулировании проблемы переходит к тем, у кого есть реальная власть для воздействия на ситуацию, — Соединенным Штатам. Правда, США ведут свою политику со значительной оглядкой на собственные интересы и политические обстоятельства. Но других сил, способных установить какие-то правила игры, на международной арене сегодня нет. Остальным странам остается лишь смириться с нынешними обстоятельствами, которые все же позволяют надеяться на то, что режим нераспространения будет соблюдаться лучше, чем в условиях, когда есть один лишь ДНЯО. Тем более что сам международный договор продолжает действовать и, по мнению экспертов, сохранится в будущем.
«ДНЯО нужен, это правовая база, — говорит Тимербаев. — С помощью этого договора можно влиять на многие страны, на весь Запад. Индия и сейчас фактически уже ведет себя, как подписант договора. Так что за договор будут держаться руками и ногами… На протяжении всех этих 35 лет были разные сбои. Но все равно договор стоит как колосс, все игры ведутся вокруг него. Через год в Нью-Йорке состоится конференция по рассмотрению действия договора. И вот увидите — там мы забудем все взаимные обиды и вместе с американцами сделаем всё, чтобы было принято какое-то совместное заявление. Момент истины настаёт, когда разногласия забываются».
«Договор никуда не денется, — полагает Иван Сафранчук. — Это почти “мантра” международного права. Но ДНЯО перестанет быть синонимом понятия “режим нераспространения”. В реальности этот договор станет гораздо менее значимой составляющей режима».

Какая армия нам нужна?
© "Россия в глобальной политике". № 1, Январь - Март 2003
А.Г. Арбатов – д. и. н., заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по обороне, заведующий Центром международной безопасности ИМЭМО РАН, член редакционного совета журнала «Россия в глобальной политике».
Резюме После трагедии «Норд-Оста» потребность в принципиально другой военной организации нашего государства стала очевидной как никогда. Необходимость борьбы с международным терроризмом и сопутствующими ему угрозами требует глубокого реформирования российской военной доктрины, материальной части армии и других «силовых» структур.
На величайшей сложности вопрос, поставленный в заголовке, можно дать или очень короткий, или очень длинный ответ. Короткий ответ состоит в том, что России нужна армия, которая была бы антиподом той, что имеется сейчас. А именно: менее многочисленная, но гораздо лучше подготовленная и технически оснащенная, обладающая высоким моральным духом, обеспечивающая достойный материальный уровень и социальный статус военнослужащих, способная эффективно выполнить разумно и четко поставленные военные задачи как на ближайшую, так и на отдаленную перспективу.
Как никогда ранее, потребность в принципиально другой военной организации государства стала очевидна после трагедии «Норд-Оста». Российский президент в этой связи заявил о необходимости глубокого реформирования военной доктрины, материальной части армии и других «силовых» структур для борьбы с международным терроризмом и сопутствующими ему угрозами.
Впрочем, любые рассуждения на эту тему останутся чистой схоластикой, если не учитывать, с одной стороны, реальные военные потребности, а с другой – необходимые для их удовлетворения доступные материальные ресурсы (прежде всего финансовые и людские). Собственно говоря, военная доктрина, стратегия, план развития Вооруженных сил (ВС) и программа вооружения суть, по логике вещей, не что иное, как связующие звенья между потребностями и ресурсами, или разумный компромисс между желаемым и достижимым.
Какая армия нам по карману?
В условиях всеобъемлющего режима секретности, распространенного на достоверную военную и военно-экономическую информацию, в публичных дебатах высказываются самые разные оценки военных потребностей России на перспективу 10 лет – минимальный срок для существенного реформирования крупных ВС. Весьма широк и диапазон представлений относительно того, что формирует эти потребности. Попробуем подойти к проблеме с другого конца, взяв в качестве отправных точек два положения, с которыми согласятся большинство специалистов независимо от их идеологических убеждений и военно-политических оценок.
В последние годы в стране сложился довольно устойчивый консенсус стратегического сообщества (включая специалистов как на государственной службе, так и вне ее) относительно того, что усредненный по российским и мировым стандартам приемлемый уровень расходов на оборону составляет примерно 3,5 % ВВП. Этот уровень был определен как оптимальный в нескольких указах президента Ельцина и подтвержден президентом Путиным. Тем не менее он ни разу не был реализован в предлагавшихся правительством федеральных бюджетах 1998–2003 годов (колебался в пределах 2,4–2,7 % ВВП).
В проекте федерального бюджета на 2003-й правительством по разделу «Национальная оборона» предусматривается выделить около 350 млрд рублей, или 2,7 % ВВП (не включая затрат на другие войска и военные органы, имеющие отношение к внутренней и внешней безопасности и финансируемые по разделу «Правоохранительная деятельность» в объеме примерно 1,5 % ВВП, а на 2003 год –1,9 % ВВП). Судя по всему, максимально достижимый в нормальных условиях предел финансирования обороны составляет теперь не 3,5 %, а примерно 3 % ВВП. Если бы в бюджете-2003 на оборону было отпущено 3 % ВВП, это означало бы прибавку в 40 с лишним млрд рублей – до общего объема в 390 млрд. Это первая точка отсчета для последующего анализа.
Вторая бесспорная предпосылка состоит в том, что военнослужащие Российской армии должны иметь достойный хотя бы по меркам своей страны уровень жизни. Представляется, что по состоянию цен на сегодняшний день совокупное месячное денежное довольствие младшего офицера должно быть порядка, как минимум, 10 тыс. рублей при отмене жилищно-коммунальных и иных льгот (на деле сейчас денежное довольствие младших офицеров составляет около 5 тыс.). Такой уровень тоже весьма скромен, но позволил бы офицеру и его молодой семье по приезде в первый гарнизон обеспечить минимальный достаток и мотивацию к хорошей службе.
В этом случае, как показывают расчеты, при пропорциональном изменении размеров довольствия всему офицерству и с учетом других расходов на содержание Вооруженных сил Россия в упомянутых бюджетных рамках (3 % ВВП) могла бы позволить себе иметь армию общей численностью 800–850 тыс. военнослужащих. И это при условии, что комплектование рядового состава по-прежнему будет осуществляться преимущественно на основе призыва, а на инвестиционные статьи – НИОКР, закупки и ремонт вооружений и военной техники (ВиВТ), капитальное строительство – останется хотя бы 30 % бюджета, как это было в конце 1990-х годов и в начале этого десятилетия.
Размер денежного довольствия – не единственный фактор, влияющий на качество личного состава. Важную роль здесь играет прежде всего обеспечение жильем (сейчас около 160 тыс. офицеров только в ВС нуждаются в жилье или его улучшении), а также боевая подготовка, уровень профессионализма, условия жизни и службы рядового состава. В этой связи, опять-таки независимо от различия в оценках угроз и военных потребностей, необходимо увеличить ассигнования на жилищное строительство и совершенствование боевой подготовки. Последнее предполагает главным образом дополнительные расходы на горюче-смазочные материалы (ГСМ), ремонт, запчасти (ЗИП) и боеприпасы.
Но этим вопрос не исчерпывается. В российском стратегическом сообществе общепризнано, что выделяемых на техническое оснащение ВС 30 % бюджетных средств недопустимо мало. Это ведет к детехнизации армии, сокращению доли новых вооружений и техники, окончательному развалу оборонно-промышленного комплекса (или его переориентации на экспорт). В результате Россия перестает существовать как передовая военная держава. Провозглашена цель: довести финансирование инвестиционных статей, как минимум, до 40 % военного бюджета. В этом случае в 2003-м при прочих названных предпосылках численность Российской армии составила бы порядка 700–750 тыс. человек. Таковы выводы из двух общепринятых предпосылок. Третья является предметом острейших разногласий как среди экспертов, так и в обществе в целом.
Для освоения новой техники и новых методов ведения боевых действий, для искоренения дедовщины и других социальных пороков армии требуется качественное улучшение рядового состава. По мнению автора и многих его единомышленников, это недостижимо без перехода комплектования рядового и сержантского состава ВС на контрактную основу. С учетом приведенных выше расчетов (принимая минимально привлекательный для рядового состава уровень месячного денежного довольствия в 5 тыс. рублей) Россия могла бы иметь армию общей численностью 550–600 тыс. военнослужащих [1].
Контрактная армия при грамотном использовании имеет огромные преимущества перед призывной, воюет с минимальными собственными потерями и ограниченным ущербом для местного населения. Достоинства контрактных ВС продемонстрировали операции США в Персидском заливе и Афганистане, действия НАТО в Югославии. В свою очередь, недостатки призывной армии наглядно подтверждает американский опыт во Вьетнаме, советский – в Афганистане и российский – в двух чеченских кампаниях последнего десятилетия. Тем более что на профессионализм и качественные параметры – взамен массовости личного состава и вооружений – должны ориентировать стратегов доктринальные нововведения после трагедии «Норд-Оста».
Таким образом, в практически заданных финансовых параметрах численность Российской армии колеблется в пределах 550–700 тыс. военнослужащих – в зависимости от принципа комплектования рядового состава.
Полагая, что это недопустимо мало, кое-кто выступает против перехода на контракт и за всемерное ужесточение условий призыва (отмена отсрочек, усиление уголовной ответственности, драконовский закон «Об альтернативной гражданской службе» и пр.). Но такой подход сколь архаичен, столь и непрактичен. Дело в том, что уже в ближайшие годы демографический «провал» сократит призывной контингент более чем на 60 %. Сохранение призыва как основного принципа комплектования рядового состава приведет лишь к незначительной прибавке в численности ВС и мизерной экономии по статье «Содержание Вооруженных сил». Ведь большая численность рядового состава предполагает увеличение и офицерских кадров, а значит, и затрат на их денежное довольствие и жилье. Недаром все передовые армии мира, включая континентальные европейские, одна за другой – вслед за США и Великобританией – переходят на контракт. По существу, контрактная армия становится неотъемлемым, знаковым атрибутом передовых в военном отношении государств (исключением является Израиль с его совершенно особым геостратегическим положением).
Вместе с тем при сохранении призыва выигрыш в численности порядка 150 тыс. человек не окупается потерей в качестве личного состава. И он в любом случае не принципиален по сравнению с другими факторами безопасности (степень защищенности границ, острота национальных конфликтов внутри и по периферии, характер отношений с соседними странами, состояние режимов разоружения и нераспространения в мире и пр.).
Невозможность поддерживать достаточный по численности боеготовый резерв (контингент запаса) на случай всеобщей мобилизации – это еще один довод против контрактной армии. Данная концепция, в традициях царской российской и Советской армий, глубоко укоренилась в сознании офицерского корпуса. Для анализа этого вопроса недостаточно только бюджетно-технических оценок. Дополнительно нужны некоторые оперативно-стратегические соображения.
Мобилизация для «большой» войны?
Понятно, что в обозримый период «большая» война по типу Второй мировой или той, к которой готовились в 60–80-е годы прошлого века, у России гипотетически могла бы возникнуть только с НАТО или Китаем. В обоих случаях, вероятнее всего, имела бы место быстрая эскалация военных действий – вплоть до применения оружия массового уничтожения (ОМУ), что и предусматривает российская военная доктрина. Она недвусмысленно предполагает применение ядерного оружия первыми «в ответ на крупномасштабную агрессию с применением обычного оружия в критических для национальной безопасности РФ ситуациях». Понятно, что мобилизация в этом случае была бы невозможна и бессмысленна.
Но даже некоторая отсрочка применения ядерного оружия в такой войне за счет ведения обычных боевых действий все равно не оставляет шансов всеобщей мобилизации. Опыт недавних конфликтов показал, что в войне с НАТО не существовало бы непоражаемого тыла, как в Первую или Вторую мировые войны. Современные ракетные и авиационные высокоточные неядерные средства большой дальности способны быстро разрушить военную промышленность, инфраструктуру складских хранилищ, транспорта и тылового обеспечения на всей территории, прежде чем удастся мобилизовать, вооружить, обучить и переправить на фронт миллионы военнослужащих запаса. Впрочем, для них у России нет и не предвидится достаточных запасов исправных ВиВТ, разве что легкого оружия, не много значащего в «большой» войне.
Даже при полной предвоенной мобилизации промышленности производство современного тяжелого оружия – это слишком длительный и сложный процесс, чтобы развернуть его в условиях интенсивных и глубоких ракетно-авиационных ударов и постоянной угрозы применения ядерного оружия. Максимум, что могла бы обеспечить промышленность в военное время, – пополнение боеприпасов, ЗИП и ГСМ.
Гипотетическая «большая» война с Китаем имела бы иной характер. В обозримом будущем эта страна вряд ли создаст сопоставимые с натовскими силы общего назначения (СОН), особенно по части высокоточного оружия (ВТО) большой дальности. Но соревноваться с Китаем в деле мобилизации резервистов в предвоенный или военный период – дело совершенно безнадежное, учитывая практически неограниченные людские резервы и геостратегические преимущества КНР в зоне возможного конфликта (Забайкалье и Дальний Восток).
Что касается региональных или локальных конфликтов, миротворческих и антитеррористических операций, то тут всеобщая мобилизация не нужна по определению. Во всяком случае, мобилизация, аналогичная той, что проводилась в Великую Отечественную войну и до сих пор планируется российским Министерством обороны (несколько миллионов человек). Конечно, отказ от традиционной концепции большого воинского запаса – это крайне трудный и болезненный шаг для любой крупной военной организации, тем более российской. Никакие логические доводы на военное ведомство не подействуют, тут требуется волевое и недвусмысленное решение высшего политического руководства.
Надо отметить, что в самых крупных локальных конфликтах последнего времени США и некоторые их союзники использовали наряду с контрактной армией и резервистов (национальную гвардию). Но такой ограниченный резерв вполне совместим с контрактной армией. России также может понадобиться дополнительный контингент для усиления группировки регулярных войск или их замещения при переброске в отдаленные районы. Подобный контингент (дополнительно 50–70 % к личному составу регулярной армии) вовсе не исключается, а, напротив, предполагается при контрактном комплектовании ВС. В эту категорию военнослужащих могут войти, во-первых, отслужившие контрактники (при этом в контракте должно быть зафиксировано их обязательство оставаться в боеготовом резерве до определенного возраста). Во-вторых, личный состав других войск и военных органов, который по численности сейчас сравним с собственно Вооруженными силами и должен быть соответствующим образом подготовлен для усиления рядов ВС.
Понятно, что в профессиональном отношении эти военнослужащие будут значительно превосходить нынешних запасников, привлекаемых на военные сборы (не случайно их называют в армии «партизанами»). Главное, чтобы для резерва контрактной армии хватило складированных вооружений и боевой техники и чтобы резерв регулярно освежал навыки обращения с ними. Наконец, следует напомнить и про то обстоятельство, что отслуживших по призыву до 2003 года военнослужащих запаса 1-го разряда будет порядка 4 млн через пять лет и около 2 млн через десять лет, что достаточно для отлаживания всех вопросов резерва при наличии контрактной армии.
Итак, с точки зрения ресурсной базы именно контрактная армия численностью 550–600 тыс. человек могла бы обеспечить на ближайшие 10–15 лет самое высокое качество Вооруженных сил России. Но будет ли такая армия отвечать интересам безопасности РФ?
Векторы угроз и конфликтов
После трагедии «черного сентября» руководство России взяло курс на всемерное политическое и экономическое сближение с США и их союзниками в Европе и на Дальнем Востоке. После трагедии «Норд-Оста» Российская армия и другие силовые структуры переориентируются на задачи нового типа. Но внешняя политика страны и новые доктринальные воззрения оказались в разительном несоответствии с ее военной политикой и военным строительством. Можно без преувеличения сказать, что Российская армия с планируемой численностью свыше 1 млн военнослужащих (на 2004 год) и системой всеобщей мобилизации, так же как и долгосрочная программа вооружения, условно говоря, на 70–80 % ориентированы на войну с Западом (включая Турцию и Японию).
Справедливости ради следует отметить, что курс США и НАТО в сфере военного строительства, разоружения и применения силы не способствует глубокому пересмотру военной политики России, а, наоборот, существенно его затрудняет. Но это отдельная тема. А поскольку здесь речь идет именно о российской военной политике и военной реформе и для России эта проблема стоит намного острее, чем для всех других стран, преодоление названной инерции является непреложным условием создания современной и сильной армии Российской Федерации.
По существу, разрубить гордиев узел бед российской военной политики и проблем военной реформы невозможно, если на уровне высшего политического руководства не принять исторического по своим масштабам решения и не добиться проведения его в жизнь. Суть таких действий – твердо и недвусмысленно дать руководящее указание военным исключить из военной доктрины, стратегии и оперативного планирования, системы дислокации и боевой подготовки, программы оснащения ВС РФ все сценарии широкомасштабной обычной войны с НАТО в Европе, а также с США и Японией на Дальнем Востоке. Европейские военные округа и флоты, опирающиеся на развитую тыловую инфраструктуру, должны рассматриваться в основном как зона базирования войск и сил, предназначенных для использования на других театрах военных действий, для миротворческих операций в СНГ и иных регионах мира, для антитеррористических функций и акций где бы то ни было.
Вероятность войны с НАТО на все обозримое будущее исчезающе мала как в свете объективных интересов сторон, так и ввиду катастрофических последствий такого конфликта. Но пока НАТО функционирует как военно-политический союз, имеет мощные коллективные вооруженные силы, расширяется на Восток и не приглашает Россию в свои ряды, прагматичный военный взгляд на вещи не позволяет просто сделать вид, что НАТО не существует, или слепо положиться лишь на декларативные заверения нынешних западных лидеров в дружелюбии. До тех пор пока материальный военный базис альянса качественно не трансформирован (односторонним путем или посредством новых договоров), нужда в некотором военном потенциале России на европейских стратегических направлениях будет сохраняться даже при последовательном экономическом и политическом сближении с Западом.
Допустимая ничтожная вероятность конфликта РФ – НАТО вполне может быть блокирована за счет оптимального потенциала ядерного сдерживания на стратегическом и оперативно-тактическом уровне. Силы общего назначения в этом районе нужны лишь постольку, поскольку они обеспечивают и прикрывают стратегические ядерные силы (СЯС), а оперативно-тактические ядерные средства в основном применяют носители двойного назначения из состава Сухопутных войск, ВВС и ВМФ. Кроме того, обладающая высокой боеспособностью и мобильностью группировка СОН, ориентированная на другие театры военных действий, физически будет размещаться главным образом в европейской части страны. Само собой разумеется, что системы ПВО, ПРО театра военных действий, а впоследствии, возможно, и дополнительные элементы стратегической ПРО будут развернуты в названой зоне, защищая ее от ударов с южных и восточных азимутов.
В российском стратегическом сообществе практически единодушно признано, что главная прямая угроза безопасности страны сегодня исходит с южных направлений по протяженной дуге нестабильности от Приднестровья и Крыма до Памира и Тянь-Шаня. Однако эта угроза не выражается в традиционной форме агрессии организованных вооруженных сил. Она имеет характер экстремистских националистических и религиозных движений, использующих партизанские методы ведения войны трансграничного типа (т. е. со слиянием внутреннего и внешнего конфликта) в отношении самой России на Кавказе и ее союзников в Центральной Азии. Речь также идет об угрозах нового типа, как о следствии или причине конфликтов: терроризм, торговля оружием и наркотиками, незаконная миграция и организованная трансграничная преступность, браконьерство и контрабанда.
Перед лицом таких угроз вооруженным силам приходится выступать в необычной для них роли и действовать совместно с внутренними и пограничными войсками, правоохранительными органами и спецслужбами. Именно в расчете на эти операции России необходима новая, не слишком многочисленная, но высокомобильная, хорошо подготовленная и оснащенная профессиональная армия. В самой успешной и крупномасштабной региональной операции такого типа – «Буре в пустыне» 1991 года – действовала полумиллионная группировка войск США при поддержке около тысячи боевых самолетов и порядка 5 тыс. единиц бронетехники. Сопостовимой же по размеру российской группировки — при должном качественном уровне войск и сил — было бы достаточно для защиты интересов РФ от самой крупной мыслимой угрозы на Кавказе и в Центральной Азии. Примерно такую по величине группировку смогла бы развернуть Российская армия общей численностью 550–600 тыс. человек при условии мобилизации резервистов из числа бывших контрактников и из состава других войск.
Те или иные элементы такой армии будут способны эффективно действовать в условиях локальных конфликтов низкой интенсивности, поддерживать внутренние войска и пограничников, участвовать в миротворческих и антитеррористических операциях, в том числе коллективных. Группировка подобного масштаба может в перспективе понадобиться на другом театре военных действий – на восточных рубежах страны.
В настоящее время трудно представить себе реалистический сценарий угрозы прямой агрессии Китая против России даже в долгосрочной перспективе (10–15 лет). Экономические, политические и военные отношения между обеими державами сейчас развиваются весьма успешно. КНР является главным покупателем самых современных обычных вооружений России (в которых крайне нуждается даже собственно Российская армия) и лицензий на их производство. Но некоторые общеизвестные факторы и тенденции на Дальнем Востоке могут в будущем создать предпосылки для конфликта интересов этих двух держав.
Воссоздать на востоке мощную войсковую группировку, как в 1970–80-е годы, Россия не готова по экономическим, политическим и договорно-правовым причинам. Рассчитывать на усиление восточной группировки путем передислокации войск из Европейского региона тоже не приходится. Для транспортировки одной мотострелковой или бронетанковой дивизии потребовалось бы полтысячи железнодорожных эшелонов и два месяца сроку [2].
Единственный выход – в случае неблагоприятных тенденций на восточных рубежах заблаговременно создавать там хорошо охраняемые и прикрытые зенитными средствами и средствами ВВС военные припасы и хранилища тяжелого оружия в пределах договорных ограничений. В условиях военной угрозы личный состав можно будет перебросить туда по воздуху и по суше (в том числе с использованием гражданского транспорта), чтобы за несколько месяцев удвоить или утроить численность группировки и выдвинуть ее на угрожаемые направления. Имея армию общей численностью 550–600 тыс. человек, можно быстро создать на востоке хорошо подготовленную и оснащенную 200–250-тысячную группу войск, а в европейской части этих военнослужащих заместили бы резервисты.
Учитывая геостратегические проблемы России на данном театре военных действий, тем более необходимо бесспорное ядерное превосходство на стратегическом и оперативно-тактическом уровне. Это позволит силам общего назначения – при условии превосходства в воздухе – защищать интересы страны в течение, как минимум, нескольких недель, пока не будет восстановлен мир или принято решение о применении ядерного оружия.
С учетом ограничений, которые ресурсная база накладывает на численность СОН при значительном повышении их качественного уровня, оптимальный потенциал ядерного сдерживания в перспективе приобретает особую важность. Безусловно, и на глобальном, и на региональном уровне ядерное оружие – самое действенное средство сдерживания от нападения с применением аналогичного оружия и, возможно, других видов ОМУ. Что касается сдерживающего эффекта ядерных средств против сил общего назначения, то это вопрос спорный и неоднозначный, особенно если противник в дополнение к превосходству по СОН будет иметь собственные стратегические силы и тактическое ядерное оружие (ТЯО).
С уверенностью можно говорить только об одном: в названных условиях сами по себе оперативно-тактические средства даже в большом количестве будут немногого стоить без «прикрытия» в виде неуязвимых, эффективных и мощных стратегических ядерных сил. Без них ТЯО станет играть скорее провокационную роль, побуждая противника к нанесению упреждающего удара по тактическим и стратегическим силам России.
При численности 550–600 тыс. человек около 200 тысяч приходилось бы на рода войск с наивысшим уровнем технизации, наибольшей пропорцией офицеров и рядовых-контрактников и (или) на войска, находящиеся в повышенной боевой готовности: Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) и другие составляющие СЯС, Военно-космические силы (ВКС), Ракетно-космическую оборону (РКО), части ПВО в составе ВВС, Ядерно-технические и Воздушно-десантные войска (ВДВ). Эти рода войск следует первыми и полностью переводить на контракт, что было бы относительно недорого: дополнительно 3 % к военному бюджету 2003 года.
Остальные 350–400 тыс. военнослужащих распределялись бы между СОН Сухопутных войск, ВВС и ВМФ, а также централизованными военными структурами. Их перевод на контрактную основу с увеличением денежного довольствия обошелся бы примерно в 10 % сверх военного бюджета 2003-го. Примерно столько же стоило бы в сумме соответствующее сокращение численности ВС, увеличение военных пенсий и переход на контракт других войск. Если решительно и последовательно осуществить всю эту реформу за три года, то расходы на нее не превысят 10–15 % ежегодных дополнительных ассигнований на «национальную оборону» и «правоохранительную деятельность» (по объему финансирования-2003).
Нынешний официальный план Министерства обороны по переводу на контракт половины войск к 2011 году является типично бюрократическим затягиванием процесса (видимо, в расчете на его «естественное умирание»), что не даст ни положительного военного эффекта, ни экономии средств, ни решения насущных проблем армии и оборонного комплекса. Усилиями Генштаба и командования видов ВС сокращение численности войск практически сошло на нет и остановилось на уровне 1,1–1,2 млн человек. Тем самым аннулируется потенциальная внутренняя экономия по статье «Содержание», необходимая для существенного улучшения качества личного состава, оснащения и боевой подготовки. Все это теперь планируется только за счет дополнительных ассигнований, которые не превысят уровня инфляции более чем на 5–10 %, а возможно (при падении мировых цен на нефть), и сравняются с ним.
Другие выдвигаемые «непропеченные» идеи вроде перехода на 6-месячный срок службы по призыву только запутывают вопрос и отвлекают рассмотрение проблем на побочные темы. Такой срок службы не позволяет подготовить рядовой состав на должном уровне, а для поддержания разумно необходимого боеготового запаса есть более эффективные пути, отмеченные выше.
«Эксперимент» Минобороны с переводом на контракт одной линейной дивизии (вернее, еще одной, наряду с 201-й дивизией, дислоцированной в Таджикистане) имеет мало смысла и в военном отношении, и как «опытный образец». Весьма произвольна и необоснованна практика Генштаба по выделению во всех видах ВС отдельных частей и соединений постоянной боевой готовности. Эта практика не более чем дань традициям холодной войны, поскольку, помимо упомянутых выше родов войск (РВСН, РКО, ПВО и пр.), полки и дивизии общего назначения из состава Сухопутных войск, ВВС и ВМФ больше нет нужды держать в повышенной готовности в расчете на «внезапное нападение» Запада.
Приоритеты программы вооружений
Принятая на настоящий момент и тщательно скрываемая под завесой секретности российская программа вооружений предполагает, по сути, «размазывание» ресурсов тонким слоем, чтобы удовлетворить ведомственные интересы видов ВС и поддерживать максимальное число военно-промышленных предприятий на минимальном уровне госзаказа (в «коматозном состоянии»). Инвестиционные статьи военного бюджета, в которых отсутствуют ясные и обоснованные приоритеты, подавляются статьями «содержания» (более 70 % бюджета). Более или менее уверенно чувствуют себя только фирмы, работающие на экспорт, то есть вооружающие чужие армии.
Исправить положение помогло бы не только изменение в соотношении «содержание-инвестиции» с 70 : 30 на 60 : 40 (за счет сокращения численности ВС), но и четкое определение приоритетов в свете новых потребностей безопасности. Прежде всего необходимо круто изменить программу в сфере стратегических вооружений. В частности, для обеспечения стратегической достаточности и стабильности необходимо пересмотреть принятые российским руководством в середине 2000 года и начале 2001-го решения по развитию СЯС. Следовало бы сосредоточить ресурсы на ракетных силах наземного базирования. Расширение производства ракет «Тополь-М» дало бы через 10–15 лет группировку в составе 300–400 межконтинентальных баллистических ракет шахтного и мобильного базирования.
При оснащении системами разделяющихся головных частей (РГЧ) такая группировка способна нести 1 000–2 000 боеголовок и, в отличие от морских и авиационных средств, обеспечить потенциал стабильного сдерживания по всем азимутам. Это нужно в свете прогнозируемого распространения ОМУ и его носителей по южному поясу Евразии. Морскую и авиационную составляющие СЯС надо поддерживать, по возможности продлевая срок службы существующих систем и постепенно переключая ВМФ и ВВС на выполнение региональных задач. В условиях острого дефицита ресурсов целесообразно возобновить политику интегрирования отдельных составляющих СЯС, а также СЯС с Военно-космическими силами и Ракетно-космической обороной.
Нужно особо подчеркнуть, что речь не идет о наращивании российского ядерного потенциала. В обозримый период стратегические силы РФ в любом случае будут сокращаться. Но их оптимальная структура обеспечит военную стабильность при любых условиях развития отношений с США вокруг проблем ПРО и СНВ. Стратегическая заинтересованность Вашингтона в решении этих вопросов на договорной основе, скорее всего, ощутимо возрастет.
Как показывают оценки, это наименее затратное направление обеспечения достаточных СЯС позволяет ориентировать остальные средства на повышение боеспособности ослабленных сил общего назначения или на системы стратегической обороны. Напротив, намеченный сейчас курс на «сбалансированную модернизацию» всех составляющих триады при жестком дефиците финансирования развалит все компоненты СЯС или повлечет за собой огромный перерасход средств, но с весьма низкой отдачей. Отказ от наследия холодной войны в виде концепции «паритета» – это в первую очередь отказ не от сопоставимости по числу носителей и боезарядов, а от крайне дорогостоящей концепции триады, которая впредь и не нужна, и не по средствам Российской Федерации.
Благодаря такому ядерному потенциалу (вместе с ограниченными, но гибкими в применении, высокоживучими и сохранными средствами ТЯО), России будет легче обеспечивать безопасность на западе в условиях продвижения НАТО на Восток и выстраивать отношения сотрудничества с альянсом, не опасаясь его превосходства в СОН и их наступательного потенциала вне зоны ответственности блока. Тем более это важно на азиатских направлениях, поскольку там ни одна из держав в обозримом будущем не сможет сравняться с Россией по стратегическому потенциалу, если он будет поддерживаться оптимальным образом.
России также следует уделить гораздо больше внимания развитию нестратегической противоракетной обороны и для Европы, и для Азии. Причем ПРО театра военных действий не обязательно должна быть альтернативой стратегической противоракетной системе. Она может быть первой фазой внедрения эшелонированных антиракетных систем России, США и их союзников и опытным полигоном взаимодействия держав на этом поприще. Кроме того, нужно поддерживать передовой уровень систем предупреждения, управления, разведки для СЯС и СОН, включая их космическую составляющую, без чего немыслима современная армия.
Если условно взять за ориентир 2003 год, то при военном бюджете в 390 млрд рублей (3 % ВВП) и при выделении на содержание ВС 60 % этих средств на инвестиционные статьи приходилось бы более 150 млрд рублей (сейчас около 100 млрд). Порядка 35–40 % этих ресурсов обеспечили бы эффективный потенциал ядерного сдерживания на стратегическом и тактическом уровне, совершенную систему предупреждения и боевого управления, а также постепенное наращивание современных систем ПВО и ПРО театра военных действий. Это позволило бы одновременно разрабатывать новейшие системы стратегической ПРО и космических систем.
Остальное можно было бы использовать для оснащения качественно новых СОН. Главным приоритетом для них должны быть не танки, пушки, самолеты и корабли, а резкое повышение уровня информационного обеспечения, управления и связи (включая, например, разветвленную наземную сеть приемников для уже развернутой космической навигационной системы ГЛОНАСС). Без этого нет современной армии и современных способов ведения военных действий, сколь велика ни была бы ее совокупная огневая мощь. От результатов деятельности в этом направлении зависят перспективы массового развертывания и применения высокоточного оружия большой дальности, пример эффективности которого был наглядно продемонстрирован в операции НАТО против Югославии в 1999 году и в Афганистане в 2001–2002 годах. Этого требует и отработка взаимодействия армии с другими войсками и частями спецназначения, которая должна стать одним из главных направлений боевой подготовки после трагедии «Норд-Оста».
Ежегодные инвестиции в СОН в указанном объеме помогут в течение 10–15 лет обеспечить Российскую армию (в зависимости от выбора типов и роста стоимости ВиВТ) средствами для закупки примерно 3 000 единиц бронетехники, 2 000 единиц артиллерии разных систем, 1 000 пусковых установок зенитных управляемых ракет войсковой ПВО, 100 военно-транспортных и 1 000 боевых самолетов и вертолетов. Такие вливания позволят также ремонтировать самые современные корабли и подводные лодки, обновлять их ракетно-торпедное вооружение и радиоэлектронные системы. Удельный вес новейшей техники при оптимально сокращенной численности ВС достигнет 30–40 %, что соответствует мировым стандартам.
Заключение
Разумеется, даже самые эффективные Вооруженные силы в новых условиях не обеспечат безопасность и политические интересы страны без взаимодействия с другими войсками, военными и правоохранительными органами и службами. Кроме того, разумная военная политика должна согласовываться с правильной внешней политикой и надлежащими дипломатическими усилиями. В настоящее время у России нет такого взаимодействия и согласования. Взяв курс на свертывание главного и лучшего компонента СЯС – наземно-мобильных ракетных сил, Москва «вышибла стул» из-под своих дипломатов на переговорах с Вашингтоном по наступательным и оборонительным стратегическим вооружениям. А значит, она не только потеряла Договор по ПРО и новое полномасштабное соглашение по СНВ, но и лишилась важнейшего рычага влияния на американскую политику в целом (в том числе по расширению НАТО, силовому воздействию на Ирак и пр.).
Вяло сопротивляясь продвижению НАТО на Восток, Россия ничего не сделала для нейтрализации негативных последствий этого процесса, а именно: для включения стран Балтии в Договор об обычных вооруженных силах в Европе, для нового радикального сокращения сил общего назначения, для запрещения ядерного оружия в Центральной и Восточной Европе. Тут сочетание «сонной» дипломатии и несуразной военной политики и военной реформы дало хрестоматийно жалкие результаты.
В не меньшей степени это относится к восточному региону, где обеспечение безопасности России зависит не только от достаточной обороны, но и еще более от развития сбалансированных экономических и политических отношений с двумя главными соседями – Китаем и Японией. Между тем за прошедшее десятилетие российская дипломатия не сумела найти взаимоприемлемый выход из тупика территориального спора с Токио, что делает российские позиции в отношениях с КНР все более слабыми.
Все это, однако, тема для отдельного разговора. Суммируя высказанные выше соображения, можно обозначить основные параметры армии, военной политики и военной реформы, которые нужны на ближайшую перспективу:
J максимальная открытость военного бюджета, включая программу вооружения, широкое обсуждение его обоснованности и отраженной в нем военной политики, расширение роли и участия в этом процессе парламента, независимых научных и общественных организаций;
- увеличение военных расходов до 3 % ВВП;
- сокращение численности Вооруженных сил за 2–3 года до 800 тыс., а за 5–6 лет до 550–600 тыс. военнослужащих;
- за этот период перевод комплектования ВС и других войск полностью на добровольно-контрактную основу;
- параллельное повышение денежного довольствия военнослужащих в 2003–2004 годах примерно вдвое по сравнению с нынешним (помимо инфляции);
- увеличение инвестиционной составляющей военного бюджета до 40 %;
- пересмотр программы СЯС с приданием приоритета ракетным силам наземно-мобильного базирования и совершенствованию систем управления, системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), а также развитию новых систем ПРО и ПВО театра военных действий, космических систем;
- создание компактных, мобильных и технически хорошо оснащенных сил общего назначения с акцентом на резкое улучшение их систем управления и связи, информационного обеспечения, на массовое оснащение высокоточным оружием большой дальности;
- переориентация СОН на локальные конфликты и региональные войны, а также операции нового типа на юго-западных, южных и восточных стратегических направлениях и создание складов ВиВТ и запасов материального обеспечения вблизи районов, находящихся под угрозой.
[1] Автор благодарен эксперту П.Б. Ромашкину за помощь в произведенных расчетах.
[2] О. Одноколенко. Десант генерала Шпака. Итоги. № 26. 2002. 2 июля. С. 20–21.

Глобализация и неравенство: что – причина, что – следствие?
© "Россия в глобальной политике". № 1, Январь - Март 2003
В.Л. Иноземцев – д. э. н., научный руководитель Центра исследований постиндустриального общества, председатель научно-консультативного совета журнала «Россия в глобальной политике», заместитель главного редактора журнала «Свободная мысль–XXI».
Резюме Современное неравенство – результат не столько внешней экспансии западного мира, сколько его внутреннего прогресса. Впервые в истории оно порождается личными усилиями и успехами представителей одной части общества или цивилизации – потому «новое неравенство» нельзя признать несправедливым.
Рассуждения о глобализации стали приметой нашего времени. Этот не вполне четкий термин, появившийся в литературе в начале 1980-х годов, распространился по страницам научных работ и публицистических статей не менее стремительно, чем в свое время «постиндустриальное общество» или эпоха «модернити». Прошедшие двадцать лет дискуссий о глобализации резко поляризовали отношение исследователей к феномену, скрывающемуся за этим словом. Оказалось, что многие фундаментальные проблемы теории глобализации (если можно говорить о наличии таковой) остались нерешенными. Так, например, до сих пор остается вопросом, не представляет ли собой понятие «глобализация» лишь более «политкорректную» версию термина «вестернизация». Следует ли считать феномен глобализации новым явлением международной и социальной жизни? Ведь общественные науки доказывают, что сегодняшние процессы могут рассматриваться, по меньшей мере, как третья волна глобализации, что масштабы взаимодействия крупнейших национальных экономик в конце XIX столетия по большинству параметров были солиднее, чем в канун XXI века. Наконец, вопрос о связи глобализационных процессов и углубления неравенства в мире не только не имеет вразумительного ответа, но и, как я полагаю, даже не сформулирован пока адекватным образом.
Современная глобализация представляется мне процессом преобразования региональных социально-экономических систем, уже достигших высокой степени взаимозависимости, в единую всемирную систему, развивающуюся на базе относительно унифицированных закономерностей. Используя термины, введенные в научный оборот Фернаном Броделем, можно сказать, что глобализация представляет собой превращение ряда обособленных мирохозяйств (l’Economie-monde) в мировую экономику (l’Economie mondiale).
В то же время следует иметь в виду, что сами по себе различия между l’Economie-monde и l’Economie mondiale не слишком очевидны; любое l’Economie-monde потому и выступает в качестве такового, что границы самого мира (monde) представляются совсем не такими, какими они кажутся нам сегодня. Становление Римской империи, проникновение венецианской торговли на Восток и утверждение европейских позиций на американском континенте были для современников не менее «глобальными» процессами, чем опутывание земного шара сетями Интернета. Рассматривая динамику глобализации, необходимо не упускать из виду два важнейших обстоятельства.
Во-первых, каждый из ее этапов – начиная с развития средиземноморской торговли и до наших дней – был непосредственно обусловлен технологическими достижениями и поступательной сменой доминирующих социальных укладов. Каждое из великих технических новшеств – от косого паруса до паровой машины, от электричества до современных информационных технологий – открывало новую страницу в летописи глобализации. Не менее важно и то, что все эти новшества могли реально повлиять на динамику общемировых процессов лишь в том случае, если они оказывались востребованными обществом. Ни для кого не секрет, что вплоть до начала XIX века Китай оставался наиболее могущественной державой, чей хозяйственный потенциал превосходил суммарную экономическую мощь всех стран Европы [1] и где наука достигала невиданных успехов. Между тем специфика социальной структуры стран Востока, которую можно отчасти охарактеризовать как закоснелую, препятствовала их активной экспансии, как политической, так и культурной. Напротив, склонная к постоянной модернизации западная модель социального устройства способствовала беспредельному расширению границ monde, что в конечном счете и превратило европейское l’Economie-monde в l’Economie mondiale.
Во-вторых, процессы глобализации были четко направлены от «центра» – наиболее динамично развивающегося региона мира – к его «периферии». Тем, кто пытается, используя понятие глобализации, завуалировать «вестернизаторский» аспект нынешних социальных процессов, не следует забывать об этом очевидном обстоятельстве. Историческая правда не должна приноситься в жертву политической корректности; говоря словами Дайнеша Д’Сузы, полезно помнить, что «именно Колумб и его корабли пустились в опасный путь и достигли побережья Америки, а не американские индейцы высадились на берегах Европы» [2]. Выдающийся исследователь экономической истории Энгас Мэддисон имеет все основания называть страны, возникшие за пределами Европы и первоначально населенные европейскими колонистами, – США, Канаду, Австралию и Новую Зеландию – «боковыми ветвями Запада» (Western offshoots) [3]. Элементарные подсчеты свидетельствуют, что из 188 стран, в начале 2000 года входивших в ООН, 36 представляли европейский континент, а еще 125 – территории, в то или иное время находившиеся под управлением европейцев [4].
Таким образом, оценивая глобализацию в историческом контексте, можно без преувеличения рассматривать ее как продолжительный процесс установления европейского доминирования над миром. Даже соглашаясь с критикой сегодняшней ее стадии, проходящей «по сценарию Соединенных Штатов», нужно учитывать, что, хотя «сегодня много говорится об “американском мире”, словосочетание “европейский мир” более подходит для описания двух предшествующих mondialisations, поскольку именно Европа рассеяла по всем континентам свои капиталы, свою технику, свои языки и своих жителей» [5].
Рассматривая глобализацию в историческом контексте, нельзя не заметить, что одной из ее особенностей было формирование новой социальной и хозяйственной культуры в отдаленных регионах мира. Этот процесс способствовал, как правило, ускоренному развитию населявших эти регионы народов. Среди современных антиглобалистов распространено мнение, что отсталость большинства стран Третьего мира порождена в первую очередь разрушительными последствиями европейского колониального господства и варварской эксплуатацией европейцами материальных и людских ресурсов целых континентов. На мой взгляд, этот тезис в значительной степени ошибочен.
Колониализм и его последствия остаются сегодня одной из наиболее спорных проблем мировой истории. Что принесла европейская колонизация народам Африки, Латинской Америки и Азии? Безусловно, во многих своих проявлениях она обернулась позором для европейцев. В колониальных войнах гибли массы коренного населения; введенная колонизаторами в практику работорговля привела в XVI–XIX веках к сокращению населения африканского континента на 16 млн человек [6]. В Европу в гигантских объемах экспортировались золото и драгоценные камни, редкие породы дерева, полезные ископаемые и т. д. Но именно колонизаторы положили начало тем отраслям промышленности и сельского хозяйства, которые подчас и сегодня остаются важнейшими для экономики стран «периферии». Разработка алмазов в Африке, металлов в Латинской Америке, даже возделывание чая на Цейлоне и выращивание каучуковых деревьев в Малайзии – все это было бы невозможно без вмешательства европейцев. Накануне Первой мировой войны хозяйственным лидером планеты стали США, объединившие, как известно, бывшие британские, французские и испанские колониальные владения, а Аргентина, также бывшая испанская колония, заняла седьмую строку в списке крупнейших экономик.
История не знает сослагательного наклонения. Поэтому успехи и неудачи одних стран приходится сравнивать с успехами и неудачами других, а не с тем, какими могли бы быть их собственные успехи и неудачи при ином повороте событий. В таком свете современное положение Третьего мира выглядит удручающим. Но многие ужасы этого положения следует поставить «в заслугу» правительствам и народам самих этих стран. Людские потери в колониальных войнах были огромны, но лишь с 1988 по 2001 год в семи основных конфликтах в Африке было убито не менее 6,3 млн человек [7]. Начиная с 1973-го население континента растет быстрее валового национального продукта (ВНП) составляющих его стран; как следствие, уровень жизни и даже ее продолжительность, считавшаяся главным завоеванием постколониальной эпохи, начинают снижаться [8]. При этом потери природных ресурсов несопоставимы с любыми грабежами, на которые были способны колонизаторы.
Мы далеки от того, чтобы рассматривать европейскую колонизацию как благо для народов стран мировой «периферии», но остается фактом, что именно после того как распались европейские колониальные империи, разрыв в благосостоянии граждан «первого» и Третьего мира стал расти особенно быстрыми темпами. Если в начале XIX века средние доходы в расчете на душу населения в развитом мире превосходили показатели стран, ныне относящихся к развивающимся, в 1,5–3 раза, а в середине ХХ – в 7–9 раз, то существующий в наши дни разрыв составляет 50–75 раз [9]. В какой мере новый виток глобализации ускорил данный процесс? Вызвано ли нарастание разрыва обнищанием населения периферийных регионов? Отличается ли современная глобализация от ее предшествующих стадий?
Начавшийся в 60-е годы прошлого века новый этап развития глобализационных процессов не только не опроверг закономерности, обнаруживаемые на более ранних этапах, но и подтвердил их.
Во-первых, современная глобализация со всей очевидностью продемонстрировала, что экономическое развитие «периферии» в еще большей степени, нежели прежде, зависит от хозяйственных потребностей (и возможностей) великих держав. Нуждаясь в сокращении издержек производства и будучи заинтересованы в импорте дешевых качественных товаров, западные предприниматели обратили взоры к периферийным экономикам, способным освоить значительные инвестиции и обеспечить высокую эффективность производства. В результате выявились новые «точки роста», прежде всего в Юго-Восточной Азии, где, однако, темпы роста ВНП всегда оставались ниже темпов роста внешних инвестиций (которые увеличились в 1987–1992 годах в Малайзии в 9 раз, в Таиланде – в 12, а в Индонезии – в 16 раз [10]); большинство технологий импортировалось, а устойчивость экономического развития целиком определялась возможностями экспорта производимой продукции в развитые страны (так, в 1980-е экономический рост Южной Кореи и Тайваня соответственно на 42 % и 74 % был обусловлен закупками их продукции со стороны одних только США [11]; доля экспорта в ВНП составляла в Южной Корее 26,8 %, на Тайване – 42,5, в Малайзии – 78,8, а в Гонконге и Сингапуре – соответственно 117,3 и 132,9 % [12]). Напротив, в странах Африки, расположенных к югу от Сахары, где совокупные инвестиции в 90-е годы не превосходили объема безвозмездной помощи, предоставляемой по линии гуманитарных программ, хозяйственный рост практически остановился.
Во-вторых, как прежде, так и во второй половине ХХ века неучастие той или иной страны в процессе глобализации представляло собой серьезное препятствие для развития. Согласно данным Всемирного банка, 24 развивающиеся страны, в которых отношение объема экспорта к ВНП в 1960–90-х в среднем удвоилось, повысили темпы роста среднедушевого ВНП с 1 до 5 % в год. В то же время, согласно тем же данным, в 30 странах, наименее активно вовлеченных в международное разделение труда, показатель ВНП на душу населения снизился по сравнению с серединой 1970-х [13]. Последние десятилетия продемонстрировали, что даже мощные экономики не способны обеспечить устойчивое развитие, оставаясь обособленными от мирового хозяйства. Доказательством этого тезиса может служить банкротство советской хозяйственной модели, приведшее к тому, что в 1999–2000 годах Россия, занимая 11,47 % площади на карте мира, обладала лишь 1,63 % мирового ВНП и обеспечивала 1,37 % мирового экспорта, представленного в основном сырьевыми товарами. О негативных последствиях обособленности от мирового хозяйства свидетельствует и затяжной экономический кризис в Японии, долгое время отгороженной от остального мира высокими таможенными барьерами. В этой стране вот уже десять лет темпы роста производства балансируют около нулевой отметки, государственный долг приближается к 170 % ВНП, а дефицит бюджета достигает почти 40 % его доходной части.
В-третьих, как и на более ранних этапах, глобализация остается однонаправленным процессом: иллюзорное единение мира определяется усилиями развитых стран, в то время как активность Третьего мира проявляется лишь в том, что известный американский социолог Сейла Бенхабиб удачно назвала «обратной глобализацией» [14], – в банальной миграции населения «периферии» в страны «центра», принимающей угрожающие масштабы. Так, с 1846 по 1924 год из Великобритании, Италии, Австро-Венгрии (до 1918-го), Германии, Португалии, Испании и Швеции эмигрировали не менее 43 млн человек [15]. Ныне же Европа сама становится прибежищем иммигрантов (8–11 % населения Великобритании, Франции, Голландии, Бельгии и Австрии [16]). В США в середине 1990-х наибольшее число иммигрантов прибывало из 10 стран, среди которых не было ни одной европейской и ни одного государства с продолжительной демократической традицией. Интерес к культурным и социальным традициям стран «периферии» сегодня, как и прежде, носит в развитых странах подчеркнуто антропологический характер. Такие традиции не воспринимаются в качестве значимого источника общецивилизационного прогресса [17].
Итак, процессы, называемые глобализацией, на поверку оказываются естественным результатом освоения сначала европейцами, а затем и представителями Western offshoots все новых регионов планеты. По сути, единственной особенностью современного этапа глобализации является то, что границы «периферии», осваиваемой западным миром, простираются в наши дни на весь земной шар. Постоянно расширявшаяся в прошлом «зона интересов» западной цивилизации достигла естественного предела.
В то же время существенно изменились механизмы глобализации. Во-первых, с каждым новым столетием снижалась и продолжает снижаться роль военной силы в обеспечении позиций западных стран в периферийных регионах. Глобализация, носившая первоначально преимущественно политический характер, сейчас охватывает главным образом экономическую и финансовую сферы. Во-вторых, усилия стран Запада по поддержанию своих доминирующих позиций в мире постоянно сокращаются. Эффективность использования западными странами политического и экономического влияния на периферийные регионы сегодня намного выше, чем двести, сто или даже пятьдесят лет тому назад. Затрачивая минимальные усилия, Запад весьма уверенно контролирует ситуацию в масштабе всей планеты.
Однако установление контроля над остальным миром, достигаемое в ходе нынешнего этапа глобализации, не предполагает включения всей «периферии» в состав единой цивилизации, строящейся на западных принципах демократии и экономического либерализма. Как мы уже отмечали, собственно Western offshoots возникли там, где выходцы из Европы не просто серьезно видоизменили те или иные общества, а скорее создали их с нуля, составив абсолютное большинство населения. Ныне подобная перспектива не кажется сколько-нибудь реалистичной. Более того, любой этап глобализации предполагал наличие центра и провинций, метрополии и колоний, экономического ядра и периферии. Единый и унифицированный мир не был, не является и не может быть целью глобализационного процесса, хотя, как это ни парадоксально, именно против этой угрожающей унификации и направлены наиболее пафосные выступления противников глобализации.
Таким образом, глобализация вполне допускает неравенство и даже предполагает разделение мира на «центр» и «периферию». Однако является ли глобализация причиной неравенства? Основывается ли хозяйственное могущество «центра» на эксплуатации «периферии», или же оно обусловлено внутренними закономерностями развития экономик ведущих стран? Этот вопрос оказался своего рода центральной идеологической проблемой нашего времени, ибо тот или иной ответ на него определяет позиции ученого и политика даже более отчетливо, чем тот или иной ответ на пресловутый основной вопрос философии. Так чем же, если не глобализацией, обусловлено то неравенство, современные масштабы которого представляют собой главную угрозу стабильности существующего мирового порядка?
Глубокий анализ проблемы неравенства объективно затрудняется двумя особенностями субъективного восприятия этого феномена. Во-первых, абсолютное большинство исследователей, глубоко убежденных в несправедливости неравенства, как такового, обходят стороной вопрос о том, какое неравенство может считаться несправедливым и почему. Во-вторых, говоря о материальном неравенстве, обществоведы считают самым очевидным его проявлением бедность, и потому борьба с неравенством сплошь и рядом сводится к борьбе с бедностью.
Западная философская традиция считает неравенство чуть ли не противоестественным – идет ли речь о неравенстве моральном, политическом, экономическом или социальном. Само возникновение христианской религии стало в определенной мере реакцией на несовершенство общества, а идея равенства («человек создан Господом одним и единственным для того, чтобы показать, как приятно Ему единство среди множества» [18]) заняла в ней центральное место. Уже в эпоху Средневековья распространились представления о равенстве людей с точки зрения морали, в XVI–XVIII веках с формированием гражданского общества утвердились принципы политического равенства граждан, к концу XIX – началу ХХ столетия относятся первые радикальные шаги, направленные на преодоление экономического неравенства. В наши дни приверженцы идей мультикультурализма утверждают равную ценность различных существующих в современном мире культурных и мировоззренческих традиций.
Хотя на протяжении большей части ХХ века имущественное неравенство в пределах западного мира уверенно сокращалось (с начала 30-х до середины 70-х доля национального богатства, принадлежавшая одному проценту наиболее состоятельных семей, снизилась в США с 30 до 18 %, в Великобритании – с 60 до 29 %, во Франции – с 58 до 24 % и т. д. [19]), в последние 30 лет тенденция сменилась на противоположную во всех без исключения странах Запада. В 1989–1997 годах доходы одного процента граждан США, составляющего самую богатую часть общества, росли в среднем на 10 % ежегодно. В этот же период доходы наименее обеспеченных [20] процентов росли не более чем на 0,1 % в год 20. К 1981-му упомянутый один процент американского населения увеличил свою долю в национальном богатстве до 24 %, к 1984-му – до 30, а к середине 90-х годов – до 39 %, вернув ее к уровню начала ХХ века [21]. Исходя из представлений о ведущей роли Запада в глобализирующейся экономике, я полагаю, что именно эти тенденции нарастания неравенства в развитых странах и являются основной предпосылкой роста неравенства во всемирном масштабе.
Проблема неравномерности распределения богатства ставилась в социологической литературе крайне редко; вплоть до XIX столетия причину этой несправедливости усматривали в принуждении, основанном на силе. В XIX веке сначала Анри Сен-Симон, а затем Карл Маркс показали соответственно, что предприниматели, новый поднимающийся класс, имеют реальное право претендовать на значительную часть общественного продукта и что капиталистическое производство базируется на непривычном для предшествующих эпох принципе эквивалентного обмена. Таким образом, вот уже более ста лет признается, что имущественное неравенство основано на объективных законах общественного развития, а не порождено чьей-то злой волей.
Чем же обусловливается неравенство в ту или иную эпоху? На мой взгляд, ответ на этот вопрос достаточно прост, но выглядит весьма неожиданным.
Неравенство (и в этом сходятся все его исследователи) определяется тем, что одна социальная группа обретает в обществе особые позиции, позволяющие ей перераспределять в свою пользу непропорционально большую часть общественного богатства. Такую возможность открывает перед ней контроль над наиболее редким ресурсом того или иного общества, наиболее редким фактором производства. На ранних этапах социального прогресса важнейшим ресурсом служила военная сила, монополия на нее определяла доминирующий класс общества. Вся история Древнего мира свидетельствует, что контроль над армией обеспечивал все необходимые рычаги управления. В более поздний период, когда прямое принуждение было дополнено некоторыми элементами экономического, важнейшим ресурсом стали земля и другие условия сельскохозяйственного производства, а собственность на землю определяла принадлежность к доминирующему феодальному классу. По мере того как возникала возможность аккумулировать значительные богатства методами, отличными от эксплуатации крестьянства, роль земли как основного фактора производства снижалась – вплоть до того, что претензии ее собственников на государственную власть стали восприниматься как совершенно безосновательные. Буржуазный строй, при котором все элементы общественного богатства стали товаром, предопределил превращение капитала в решающий фактор производства, а владение им – в главную предпосылку социальной поляризации.
Чего же можно было ожидать дальше? Маркс и его последователи заявили, что новым доминирующим классом должны стать пролетарии, но этот вывод радикально противоречил всей логике предшествующего развития. Труд – то единственное, чем владели представители рабочего класса, – никогда не был редким ресурсом в отличие от военной силы, земли или капитала. А поскольку именно редкость ресурса определяла его ценность и ограничивала численность контролировавшей его социальной группы, труд не мог стать новым доминирующим фактором производства.
В то же время гипотеза Маркса была в целом правильна, так как предполагала, что новый основной фактор производства будет заключен в самих людях и в их способностях. Таковым стали знания – способность человека усваивать информацию и применять полученные навыки и умения в различных сферах своей деятельности.
Переход от индустриальной экономики к экономике знаний считается главной чертой той постиндустриальной трансформации, начало которой относится к 70-м годам ХХ века. Масштаб перемен, порожденных этим процессом, долгое время не представлялся достаточно отчетливо. В 70–80-е многие с восторгом говорили, что информационное общество станет самым свободным и демократическим, так как «информация есть наиболее демократичный источник власти» [22] и открывает возможность участия в общественном производстве без существенного накопления первоначального капитала. Однако вскоре стало ясно, что приобретение и потеря знаний, в отличие от иерархических статусов или денежных богатств, – процесс гораздо более длительный и сложный. Хотя информация и становится все более доступной, но она оказывается наименее демократичным фактором производства, ибо доступность отнюдь не то же самое, что обладание. Знания превращаются в одну из наиболее настоятельных потребностей современного общества (доля американцев, поступающих в колледж после окончания школы, выросла с 15 до 62 % только за последние 50 лет [23]), что определяется в том числе и открывающимися в результате их получения экономическими преимуществами. Так, начиная с середины 1980-х годов в США устойчивый рост доходов прослеживался только у высокообразованных групп населения; в 1998 году 96 % наиболее обеспеченных граждан имели высшее образование. Как отмечал Фрэнсис Фукуяма, «существующие в наше время в Соединенных Штатах классовые различия объясняются главным образом разницей в полученном образовании; социальное неравенство возникает в результате неравного доступа к образованию, а необразованность становится вечным спутником граждан второго сорта» [24].
Неравенство доходов, порождаемое в конечном счете неравенством интеллекта и знаний, гораздо труднее осуждать, нежели определяемое любыми иными факторами. По сравнению с прошлыми историческими эпохами углубление неравенства имеет в наши дни качественно иную природу, и едва ли возможно остановить этот процесс. Но если тенденции, прослеживающиеся в западных странах, определяют облик глобализирующегося мира, то логично предположить, что именно информационное неравенство, не имеющее к пресловутой глобализации прямого отношения, и определяет современный раскол мира на «золотой миллиард» и остальное человечество.
Информационная революция в странах Запада, с одной стороны, резко ослабила их заинтересованность в природных и трудовых ресурсах государств «периферии», а с другой – создала ресурс, практически бесплатное тиражирование которого позволяет западным корпорациям получать многомиллиардные прибыли. В последние десятилетия усиливается не «эксплуатация» «центром» «периферии», а его безразличие к ней. Это иллюстрируется тем, что в начале 90-х годов индустриально развитые государства направляли в страны того же уровня развития 76 % общего объема экспорта и импортировали из развивающихся стран товаров и услуг на сумму, не превышавшую 1,2 % своего суммарного ВНП [25]; суммарные инвестиции Соединенных Штатов, европейских стран и Японии друг в друга, а также в быстро развивающиеся индустриальные страны Азии составляли 94 % общемирового объема прямых иностранных инвестиций [26].
Ситуация в странах «периферии» становится все более катастрофической еще и потому, что выработка новых знаний, в отличие от накопления капиталов, не только не боится конкуренции и общения, но и предполагает их. Поэтому если собственники капитала объективно стремятся расширить сферу своего влияния, то носители знаний, напротив, тяготеют к концентрации и консолидации. Если потоки капиталов и сегодня остаются разнонаправленными, то потенциальные создатели знаний мигрируют исключительно из «периферии» к «центру». Процесс социальной поляризации во всемирном масштабе становится поэтому неконтролируемым и необратимым.
Таким образом, современное углубление мирового неравенства не вызывается изменением интенсивности и направленности финансовых и торговых потоков, которые обычно ассоциируются с инструментами глобализации, а сопровождается таковым. Оно представляется результатом не столько внешней экспансии западного мира, сколько его внутреннего прогресса. Впервые в истории неравенство порождается личными усилиями и успехами представителей одной части общества или одной части цивилизации, и потому в соответствии с традиционными представлениями о справедливости «новое неравенство» нельзя признать несправедливым. Возможно, что по мере осознания этого обстоятельства желание реформировать складывающийся мировой порядок будет угасать. В этом контексте мы хотим еще раз подчеркнуть, что глобализация не является причиной роста неравномерности мирового развития, – скорее она как раз не способна стать значимым фактором его преодоления.
Этим и объясняется изменение ориентиров, которые ставят перед собой современные политики и экономисты. Если в 70-е и в начале 80-х сторонники теорий «догоняющего» развития выступали с позиций необходимости сокращения экономического неравенства между «первым» и Третьим миром, то сегодня акцент ставится на искоренение бедности в странах «периферии». Между тем преодоление неравенства и борьба с бедностью – это далеко не одно и то же. Преодоление неравенства предполагает обеспечение условий для самостоятельного развития периферийных стран, сокращение масштабов бедности – увеличение размеров гуманитарной и иных видов помощи. За изменением акцента стоит важнейшая проблема: в современных условиях даже ускоренное развитие отсталых стран не способно обеспечить сокращение мирового неравенства.
Этот тезис нуждается в конкретизации. Речь идет прежде всего о том, что быстрый экономический рост в отдельных регионах, когда бы он ни инициировался, начинается, как правило, в условиях крайне низкого уровня ВНП (около 300 — 400 дол. на душу населения). Так, в Малайзии он составлял не более 300 дол. в начале 50-х годов, в разрушенной войной Корее – около 100 дол. в конце 50-х, на Тайване – 160 дол. в начале 60-х, в Китае, двинувшемся по пути преобразований в 1978 году, – 280 дол., а во Вьетнаме уровень в 220 дол. был достигнут лишь к середине 80-х [27]. Даже если исходить из того, что ВНП на душу населения в успешно развивающихся странах «периферии» достигает сегодня 3–4 тыс. дол., приходится признать, что для реального сокращения имущественного разрыва с гражданами ведущих западных стран, где этот показатель составляет 20–25 тыс. дол., новым индустриальным странам необходимо обеспечить его рост на 15–20 % в год при 2–3-процентном росте в развитых странах. Неудивительно, что итогом блестящих 80-х годов для Таиланда, Малайзии и Индонезии стало нарастание разрыва в показателе роста ВНП на душу населения по сравнению с показателем, рассчитанным для стран «большой семерки». Этот рост составлял соответственно 7, 23 и 34 % [28]. Таким образом, даже если в относительном выражении сокращение неравенства и может иметь место, разрыв в объеме потребляемых благ между гражданами «первого» и Третьего мира будет лишь увеличиваться.
Более того. Перенос акцента с проблемы неравенства на проблему бедности вызван также и тем, что 1990-е – один из наиболее успешных в ХХ веке периодов развития мировой экономики – ознаменовались дальнейшим ростом численности населения, живущего в условиях крайней бедности (менее чем на 1 дол. в день). Несмотря на то, что его доля в совокупном населении планеты снизилась в 1987–1998 годах с 28,3 до 24,0 %, абсолютная численность увеличилась с 1,18 до 1,2 млрд человек. При этом прирост численности населения, живущего за гранью бедности, составил за эти годы в Южной Азии 10,1 %, а в регионах Африки, прилегающих к Сахаре, – 33,9 % [29]. На протяжении второй половины 90-х среднегодовой объем помощи африканским странам, расположенным к югу от Сахары, составлял 18,36 млрд дол., в то время как суммарные иностранные инвестиции в экономику этих государств не превышали 2 млрд дол. в год [30]. Сегодня в США и странах Западной Европы действуют более 8 тысяч неправительственных организаций, деятельность которых целиком связана с реализацией программ содействия повышению уровня жизни в Третьем мире. При этом безвозмездные поставки обеспечивают до 18 % продовольствия и до 60 % лекарственных препаратов, потребляемых в 60 беднейших странах планеты [31]. Подобная практика становится самовоспроизводящейся, и, таким образом, период надежд на «развитие» завершился, а перспективы многих развивающихся стран связаны лишь с благотворительностью западного мира.
Международный аспект проблемы бедности до известной степени воспроизводит ситуацию, имевшую место в самих развитых странах. Возьмем пример самой богатой из них – Соединенных Штатов Америки. В 1959 году 23,2 % американцев находились за чертой бедности, а беспорядки и насилие достигали уровней, не виданных со времен Гражданской войны 1861–1865 годов [32]. Правительство вынуждено было принять беспрецедентную программу увеличения социальных расходов. Так, в период с 1960 по 1975 год суммы прямых денежных трансфертов и пособий малоимущим выросли более чем вдвое, ассигнования на социальное страхование – в 3,5 раза, средства, направляемые на выделение бесплатного питания и медицинских услуг, – в 4 раза [33]. Как следствие, в 1976-м, когда суммарный объем средств, направляемых на реализацию социальных программ, достиг 18,7 % ВНП, доля бедных американцев снизилась более чем вдвое – до 10,5 % населения [34]. Масштабы предпринятого перераспределения средств поражают воображение: только с 1992 по 1996 год доля расходов на субсидирование малоимущих увеличилась в США с 290 до 420 млрд долларов. Данные пособия довели суммарные доходы 20 % наименее обеспеченных американцев до 5,2 % национального дохода, в то время как без их учета соответствующий показатель не превышал бы 0,9 % [35]. При этом сегодня совершенно очевидно, что социальные программы не приводят к росту экономической самостоятельности и социальной активности наименее обеспеченных групп населения, а лишь консервируют сложившуюся ситуацию.
Подводя итоги, мы можем отметить, что, несмотря на очевидные экономические причины, наиболее существенной из которых оказывается развертывание технологической революции, неравенство, как и прежде, воспринимается как сугубо социальная, а чаще даже морально-этическая проблема. Однако (и это следует подчеркнуть) в начале XXI века, в отличие от предшествующих эпох, неравенство порождается принципиально новыми обстоятельствами, которые оказываются общими для всей цивилизации.
Основанием современных форм неравенства является неравное участие отдельных групп населения и отдельных стран в развертывании технологической революции. Нынешняя глобализация не порождает неравенства между «первым» и Третьим миром, а лишь распространяет на весь мир действие тех механизмов, которые вот уже несколько десятилетий обусловливают углубление неравенства в рамках самой западной цивилизации. При этом, если ведущие западные страны, как мы показали выше, имеют в своем распоряжении существенные ресурсы, позволяющие смягчить наиболее вопиющие последствия имущественной поляризации общества, в мировом масштабе соответствующие механизмы отсутствуют, и это приводит к резкому обострению проблемы.
Концепции глобализации, в рамках которых предпринимаются попытки осмыслить современный мир, в основных своих чертах сформировались во второй половине 80-х и в 90-е годы ХХ века. Характеризуя этот период, можно прибегнуть к аналогии с часто используемым историками приемом выделения так называемых «длинных столетий» (the long centuries) [36], границы которых определяются не формальным наступлением нового века, а событиями, отграничивающими его от предшествующего и последующего. При таком подходе началом «длинных 90-х годов» следует назвать вечер 9 ноября 1989-го, когда была разрушена Берлинская стена, а моментом завершения – утро 11 сентября 2001 года, когда рухнули небоскребы в Нью-Йорке. Между этими событиями заключен самый благополучный, а потому и самый наивный период истории ХХ века. Тогда казалось, что глобализация обусловлена экспансией общечеловеческих ценностей, что неравенство является проблемой нравственного прогресса цивилизации, что информационная революция приведет к распространению демократии, а экономическое развитие обретет бескризисный характер.
Сегодня «длинные 90-е» суть достояние истории. И поэтому становятся все более актуальными задача пересмотра многих социологических концепций, казавшихся фундаментальными, отказ от поверхностных объяснений реальности и попытка глубже понять, почему все более глобализирующийся мир был, есть и остается «расколотой цивилизацией».
1 Рассчитано по: Kennedy P. The Rise and Fall of Great Powers. Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. London: Fontana Press, 1988, p. 190.
2 D’Souza D. What’s So Great About America. Washington (DC): Regnery Publishing Inc., 2002, p. 39.
3 См.: Maddison A. Monitoring the World Economy 1820-1992. Paris: OECD, 1995, pp. 19-21.
4 Abernethy D. B. The Dynamics of Global Dominance. European Overseas Empires, 1415-1980. New Haven (Ct.), London: Yale University Press, 2000, p. 12.
5 Revel J-F. L'obsession anti-amПricaine. Son fonctionnement, ses causes, ses incon-sПquences. Paris: Plon, 2002, р. 80.
6 См.: Braudel F. Civilisation matПrielle, Пconomie et capitalisme, XVe – XVIIIe siПcle, t. 3, рр. 377-378.
7 См.: SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Disarmament and International Security. Oxford: Oxford University Press, 2002, pp. 24, 27, 33, 36, 64 и др.
8 См.: Lancaster C. Aid to Africa: So Much to Do, So Little Done. Chicago, London: University of Chicago Press, 1999, p. 19; Human Development Report 2001. New York: United Nations, 2001, p. 169.
9 См.: Сohen D. The Wealth of the World and the Poverty of Nations. Cambridge (Ma.): MIT Press, p. 17.
10 См.: McLeod R. H. and Garnaut R. East Asia in Crisis. From Being a Miracle to Needing One? London, New York: Routledge, 1998, p. 50.
11 См.: Thurow L. Head to Head. The Coming Economic Battle Among Japan, Europe, and America. New York: Warner Books, 1993, p. 62.
12 См.: Goldstein M. The Asian Financial Crisis: Causes, Cures and Systemic Implications. Washington (DC): Institute for International Economics, 1998, p. 27.
13 См.: Globalization, Growth and Poverty. Building an Inclusive World Economy. Washington (DC): The World Bank, 2002, рр. 4-5.
14 См.: Benhabib S. The Claims of Culture. Equality and Diversity in the Global Era. Princeton (NJ), Oxford: Princeton University Press, 2002, р. 182.
15 См.: Nugent W. Crossings. The Great Transatlantic Migrations, 1870-1914, table 8, p. 30; table 9, p. 43.
16 См.: Sassen S. Guests and Aliens. New York: New Press, 1999, table 1, p. 161.
17 См.: Wallerstein I. The End of the World as We Know It. Social Science for the Twenty-First Century. Minneapolis (Mn.), London: University of Minnesota Press, 1999, pр. 171-176.
18 St. Augustinus. De civitate Dei, XII, 21.
19 См.: Pakulski J. and Waters M. The Death of Class. London: Sage Publications, 1996, p. 78.
20 См.: Gephardt R. with Wessel M. An Even Better Place. America in the 21st Century. New York: Public Affairs, 1999, p. 33.
21 См.: Nelson J. I. Post-Industrial Capitalism. Exploring Economic Inequality in America. Thousand Oaks (Ca.), London: Sage Publications, 1995, pp. 8-9.
22 Toffler A. Powershift: Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of the 21st Century. New York: Bantam Books, 1991, p. 12.
23 См.: Bell D. Sociological Journeys: Essays 1960-1980. New Brunswick (NJ), London: Transaction Books, 1982, p. 153; Mandel M. J. The High-Risk Society. Peril and Promise in the New Economy. New York: Random House, 1996, p. 43.
24 Fukuyama F. The End of History and the Last Man. London: Penguin, 1992, p. 116.
25 См.: Krugman P. Peddling Prosperity. Economic Sense and Nonsense in the Age of Diminishing Expectations. New York, London: W. W. Norton, 1994, p. 231; George Kenwood, and Alan Lougheed. The Growth of the International Economy 1820-1990. An Introductory Text. London, New York: Routledge, 1992, p. 288; Krugman P. ‘Does Third World Growth Hurt First World Prosperity?’ in Kenichi Ohmae (ed.). The Evolving Global Economy: Making Sense of the New World Order. Boston: Harvard Business School Press, 1995, p. 117.
26 См.: Heilbroner R. and Milberg W. The Making of Economic Society. 10th ed. Upper Saddle River (NJ): Prentice Hall, 1998, p. 159.
27 См.: Mahathir bin Mohammad. The Way Forward. London: Weidenfeld & Nicolson, 1998, p. 19; Yergin D. and Stanislaw J. The Commanding Heights. New York: Simon & Schuster, 1998, p. 169; Robinson R. and Goodman D. S. G. (eds.). The New Rich in Asia. London, New York: Routledge, 1996, p. 207; Murray G. Vietnam: Dawn of a New Market. New York: St. Martin's Press, 1997, p. 2.
28 См.: Рalat R. A. (ed.) Pacific-Asia and the Future of the World System. Westport (Ct.): Avon, 1993, pp. 77-78.
29 Рассчитано по: World Development Report 2000/2001. Attacking Poverty. Washington (DC): World Bank, 2001, table 1.1, р. 23.
30 Рассчитано по: Lancaster C. Aid to Africa. So Much to Do, So Little Done. Chicago, London: Univ. of Chicago Press, 1999, table 5, p. 70.
31 См.: Gardner G. ‘Food Aid Falls Sharply’ in Brown L. R., Renner M., Flavin Ch. (eds.). Vital Signs. The Environmental Trends that are Shaping Our Future 1997-1998. London: Earthscan Publications Ltd., 1997, p. 110.
32 См.: Lind M. The Next American Nation. The New Nationalism and the Fourth American Revolution. New York: Free Press, 1995, p. 111.
33 См.: Burtless G. ‘Public Spending on the Poor: Historical Trends and Economic Limits’ in Seldon Danziger. Sandefur G., and Weinberg D. (eds.). Confronting Poverty: Prescription for Change. Cambridge (Ma.): Harvard Univ. Press, 1994, pp. 57, 63-64.
34 См.: Pierson Ch. Beyond the Welfare State? The New Political Economy of Welfare. Cambridge: Polity Press, 1995, p. 128; Jencks Ch. ‘Is the American Underclass Growing?’ in Jencks Ch., Peterson P. E. (eds.) The Urban Underclass. Washington (DC): Brookings Institution, 1991, p. 34; Madrick J. The End of Affluence. The Causes and Consequences of America’s Economic Dilemma. New York: Random House, 1995, p. 152.
35 См.: Fischer C. S., Hout M., Jankowski M. S., Lucas S., Swidler A. and Voss K. Inequality by Design. Cracking the Bell Curve Myth. Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 1996, p. 132; Luttwak E. Turbo-Capitalism. Winners and Losers in the Global Economy. London: Weidenfeld & Nicolson, 1998, pp. 86-87.
36 См., напр.: Briggs A. and Snowman D. (eds.). Fins de SiПcle: How Centuries End 1400-2000. New Haven (Ct.), London: Yale Univ. Press, 1996; Arrighi G. The Long Twentieth Century. London: Verso, 1994, и др.

XXI век: расходящиеся дороги развития
© "Россия в глобальной политике". № 1, Ноябрь - Декабрь 2002
Л.М. Григорьев — к.э.н., ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, член Научно-консультативного совета журнала "Россия в глобальной политике".
Резюме Развивающийся мир, к которому сегодня относится и Россия, не догонит мир развитой. На рубеже тысячелетий темпы роста основных групп государств выровнялись. Это означает, что разрыв между ними не преодолевается, а консервируется, сближение уровней развития практически невозможно. Шанс совершить прорыв, направив на цели развития средства, освободившиеся после окончания холодной войны, был упущен.
Насколько устойчива экономическая ситуация в мире? Отвечая на этот вопрос в середине 1990-х годов, большинство политиков и аналитиков были настроены оптимистически: развитые и развивающиеся страны демонстрировали высокие темпы роста, к тому же большая группа государств перешла от планового хозяйства к рыночному. Сегодня процессы, происходящие в мировой экономике, дают серьезные основания для тревоги. На рубеже тысячелетий темпы роста основных групп стран (развитые, развивающиеся и переходные) сблизились и стабилизировались (см. график 1). Это означает, что разрыв между ними не преодолевается, а консервируется, сближение уровней развития практически невозможно. Напротив, эти группы будут следовать по расходящимся дорогам, постепенно отдаляясь друг от друга.
График 1. Динамика реального ВВП развитых, развивающихся и переходных стран за 1990–2003 гг. (в процентах)
Источник: МВФ (сентябрь 2002 г.), МБРР.
Развитые страны — нервный рост
Что происходит в развитом мире и есть ли основания для панических предсказаний, которыми обывателя исправно пугают газеты? В целом можно констатировать, что группа развитых стран находится в “хорошей форме”. К концу 2002-го стало ясно, что США преодолели прошлогоднюю рецессию. Американский подъем 1991–2000 годов был одним из самых мощных и самым продолжительным в истории — без обычного спада посредине десятилетия. В основе его лежали огромные капиталовложения и “дивиденд от мира” (результат окончания холодной войны), который наряду с другими факторами позволил в течение трех лет сводить бюджет с профицитом. Биржевой крах “проколол” спекулятивный “шарик”, но вложенные ресурсы никуда не исчезли и будут давать растущий эффект. Промышленное производство выросло в полтора раза. Несмотря на экономические проблемы 2001-го, США ощутимо увеличили военные расходы и расходы на безопасность. (Причем эти траты являются не столько финансовыми потерями бюджета, сколько стимулом роста спроса.) Теперь же, когда кризис в основном миновал, США получат новые материальные возможности для укрепления своей роли в мире.
В принципе, весь развитой мир начинает выходить из застоя прошедших двух лет (хронические проблемы испытывает только Япония). В 2002–2003 годах впереди, видимо, останутся США, зона евро будет двигаться медленнее. Согласно прогнозу МВФ на 2002–2003 годы, реальный ВВП в развитом мире вырастет на 2,7–2,8 %. Реальные цены на импортируемые развитыми странами первичные товары из развивающихся стран ниже уровня 1990-го. Бюджеты развитого мира сбалансированы лучше, чем когда-либо. Так что 29 стран, представляющих примерно 56 % мирового ВВП по оценкам МВФ [1], могут ожидать возврата к циклическому росту.
Конечно, темпы роста ниже, чем предполагалось, но какой-либо непосредственной угрозы развитию нет. Как и всегда на выходе из кризиса, нет полной ясности, какая отрасль возьмет на себя функцию очередного локомотива роста и что станет основой подъема. Важно, однако, что постиндустриальное общество уже не зависит от ограниченного набора отраслей.
При этом в развитом мире ощущается нервозность, которой не было в 1990-е годы. Обусловлена она главным образом внешними, а не внутренними факторами. В экономике это вопрос устойчивости поставок нефти, цены на нефть и газ, а также корпоративные скандалы и затянувшиеся биржевые потрясения, которые, как правило, предшествуют кризису, а не происходят на стадии перехода к росту. Инстинктивное желание инвесторов уйти в безопасные регионы, по сути дела домой, подкрепляется ощущением конфликтности в политической сфере (Ближний Восток, Ирак, Балканы, общая угроза терроризма). Дискомфорт создают также нерешенные глобальные проблемы: загрязнение окружающей среды, изменения климата, бедность, рост наркотрафика.
Среди внутренних проблем развитого мира отметим главную — ослабление позиций среднего класса. В Европе это подогрело правые, расистские и антииммигрантские настроения, особенно ярко проявившиеся во время недавних парламентских выборов во Франции и Нидерландах. Нервозность усугубляется сложными процессами интеграции, которые заставляют европейцев интенсивно искать способы адаптации к новым условиям существования. Совокупность всех этих факторов вынуждает ведущие державы в большей степени концентрироваться на собственных проблемах, тогда как их интерес к общемировому развитию снижается. Попытки совместить жесткую бюджетную дисциплину (особенно в ЕС) с социальной поддержкой собственных “бедных и обиженных”, растущая вовлеченность европейцев в операции США и НАТО по поддержанию стабильности (Балканы, Азия и пр.) также не стимулируют притока ресурсов в развивающийся мир. После 11 сентября 2001-го все отчетливее проявляется “синдром осторожности” в отношении других стран, особенно в том, что касается долгосрочных инвестиций в зоны военного риска. В нынешней ситуации Запад, похоже, больше озабочен защитой собственного образа жизни и развивается сам по себе, продолжая отдаляться от остального мира.
Нефть — дело деликатное
Особняком стоят страны-экспортеры нефти, особенно члены ОПЕК, сочетающие ряд признаков развитых и множество признаков развивающихся стран. Их отличают относительно высокий уровень дохода на душу населения (в арабском мире) и вообще наличие собственных стабильных источников дохода. В то же время для них характерны монокультура производства и экспорта, низкий уровень развития обрабатывающей промышленности и услуг, часто архаичные политические системы, большие госрасходы, экспорт (в ряде случаев бегство) капитала и ограниченные возможности развития. Колебания доходов настолько велики, что условия роста весьма своеобразны и отличаются как от развитых, так и развивающихся стран [2]. Эти страны, как правило, почти не заимствуют у международных финансовых организаций, но обременены частными долгами.
Развитым странам на фазе выхода из кризиса нужна стабильность нефтяных цен, при этом чем они ниже, тем лучше. В 1990-е годы доходы стран ОПЕК составляли примерно 120–160 млрд долларов в год. За падением до 104 млрд в 1998-м последовал взлет до 250 млрд в 2000 году с постепенным снижением до 175 млрд в 2002-м [3].
Колебания цен и доходов приводят к серьезной неравномерности в торговых и платежных балансах не только стран-экспортеров нефти в том числе например России, но и импортеров. Они затрагивают циклические процессы в развитых странах, но одновременно могут усугубить кризисы, например, в Аргентине и Бразилии, которые испытывают трудности с платежным балансом и выплатами по долгам. Каждый взлет нефтяных цен отражается и на беднейших странах. Это лишний раз указывает на недостатки спотового рынка нефти с точки зрения развития. Очевидно также, что внутренняя стабильность (через бюджеты и внешнеторговые балансы и т. п.) в ряде больших групп важнейших стран мира зиждется на хрупком равновесии между интересами экспортеров, основных импортеров (и их компаний), а также трейдеров. В процесс глобального роста как бы встроен сложный раскачивающий механизм со случайной функцией — ценой на нефть.
Периоды высоких цен на нефть непродолжительны, роль нефти как фактора развития (раньше эту функцию выполняли каучук, медь и т. п.) не вечна. В 1991–2000 годах, когда среднеарифметическая цена барреля нефти “Брент” составляла примерно 19 долларов, экономический рост в мире достигал порядка 3 % от реального объема ВВП. В этот же период рост потребления нефти увеличивался примерно на 1 % в год и составил в общей сложности 12 %. Прогнозируя будущее, следует исходить из того, что цены на нефть более 25 долларов за баррель будут стимулировать процессы энергосбережения. Уменьшения роста добычи и потребления нефти в мире можно ожидать как на основании естественных ценовых факторов, так и в силу специальных мероприятий в странах ОЭСР, цель которых — снизить зависимость от импорта нефти. Таким образом, прогноз роста на 1,5–2 % мирового спроса на нефть, скорее всего, чересчур оптимистичен [4]. Шанс стран-экспортеров на развитие и модернизацию будет упущен, если высокие доходы уйдут не на накопление, а на потребление, вывоз капитала и тому подобные цели.
Устойчивое развитие — ускользающая цель
За сорок лет, прошедших с момента массового обретения независимости бывшими колониями, эксперименты по развитию беднейших стран принесли весьма ограниченные результаты. Каждые десять лет мировое сообщество вынуждено списывать долги и изобретать новые формы помощи. В 90-е также не удалось достичь устойчивости развития бедных и беднейших стран [5].
В Декларации Тысячелетия 2000 года содержалось обещание к 2015-му снизить вдвое число абсолютно бедных, но не были указаны средства решения этой задачи. Усилия по восстановлению объема и уровня помощи, предпринятые со стороны ООН и развивающихся стран на конференциях 2002 года, привели к неоднозначным результатам. Международная конференция по финансированию развития, проходившая под эгидой ООН с 18 по 22 марта 2002-го в Монтеррее (Мексика), завершилась обещанием США и ЕС увеличить официальную помощь развивающимся странам в предстоящее десятилетие еще на 50 млрд долларов. Это важный результат, но тем самым фактическая помощь всего лишь восстанавливается до уровня предыдущих лет. Пока недостижимой целью ООН остается предоставление развитыми странами помощи в размере 0,7 % от их ВВП.
Саммит в Йоханнесбурге (ЮАР) в августе — сентябре 2002 года можно считать успешным, особенно в том, что касается ряда намерений, связанных с экологией. Но в организационном и финансовом отношении его результаты не меняют ситуацию в мире, новой модели развития пока не просматривается [6]. Декларация конференции в Йоханнесбурге констатировала: “Постоянно возрастающий разрыв между развитым и развивающимся миром представляет главную угрозу глобальному процветанию, безопасности и стабильности” [7].
В 1990-е была упущена уникальная возможность обратить средства, сэкономленные от противостояния двух идеологических лагерей, на цели развития. Эти деньги способствовали дальнейшему прогрессу развитых рыночных демократий, как таковых. Целый ряд стран (прежде всего Африки и Азии), которые переживали периоды роста, в минувшее десятилетие понесли огромные потери накопленного человеческого и управленческого капитала в локальных вооруженных конфликтах. Вопиющим примером того, как нация своими руками разрушает предпосылки собственного развития, стала политически мотивированная ликвидация белого фермерства в Зимбабве. “Черный передел”, затеянный Робертом Мугабе, отбросил на десятилетия назад не только страну, но и весь регион (Зимбабве была главным производителем продовольствия для всех соседей). К тому же и без того ограниченные ресурсы международного сообщества отвлекаются от целей развития на постконфликтное восстановление (Босния, Руанда).
Районы “бедствий” оказывают депрессивное воздействие на соседей: неурегулированность многих конфликтов препятствует долгосрочному деловому планированию. Крупные инфраструктурные проекты практически неосуществимы в условиях угрозы терроризма, наличия территориальных споров или неопределенности с правами собственности.
В 1990-е официальная помощь развитию (ОПР) со стороны развитых стран заметно сокращалась. Наблюдается “усталость” от предыдущих попыток содействовать развитию. Они не приводили к успеху в силу коррупции на местах и неспособности ряда стран должным образом использовать помощь (самый яркий пример — масштабные выплаты Палестине, которые попросту оказались пущены на ветер, поскольку там возобновился разрушительный конфликт). Если в 1990–1998 годах (за исключением 1996-го — см. график 2) официальная помощь развитию (практически это гранты) составляла 45–60 млрд долларов, то в 2000–2001 годах она упала ниже уровня 1985-го — порядка 35 млрд долларов. (В отношении к ВВП стран-доноров ОПР сократилась с 0,35 % до 0,22 %.)
Поиск моделей участия иностранной помощи и капитала в экономическом развитии стран с нарождающимися рынками продолжается. Упор делался на снижение долгов, развитие рыночной экономики, призывы увеличить помощь. Однако любая помощь окажется бессмысленной, если не будут отлажены эффективные механизмы ее использования.
График 2. Динамика официальной помощи развитию, прямых и портфельных инвестиций в развивающиеся страны, млрд долларов в ценах 2001 г. (млрд дол., 1985–2002 гг.).
Источник: Всемирный банк.
Частный капитал и рост в 90-х
В середине минувшего десятилетия на какой-то период создалось впечатление, что увеличившийся приток частного капитала из стран ОЭСР в развивающиеся страны поможет им совершить качественный скачок. По темпам роста в 1991–1997 годах развивающиеся страны заметно опережали развитые. На этих данных основывались оптимистические оценки положительного влияния глобализации, в частности либерализации финансовой деятельности, информационной революции и т. д., на динамику развития.
На самом деле общий экономический подъем опирался на быстрый рост ограниченного числа ведущих развивающихся стран, в которые шел основной поток прямых инвестиций и которые в период до 1997-го сумели использовать их для развития и ускорения. Это латиноамериканские (Аргентина, Бразилия, Мексика, Чили), центрально- и восточноевропейские (Польша, Венгрия, Чехия) и азиатские (Корея, Малайзия, Таиланд, Сингапур) страны, а также Китай и Гонконг [8].
Некоторые компоненты этих потоков отличались неустойчивостью. Например, частные займы колебались от 90 млрд долларов до –0,7 млрд в год (см. график 3). Общий валовой приток частных ресурсов увеличился с уровня 30–45 млрд долларов в год в конце 1980-х до почти 290 млрд в 1997–1998 годах. Правда рост частных вложений в 1990-х отражал три важных дополнительных фактора по сравнению с 1980-ми годами: резкий рост инвестиций в Китай, приватизацию в Бразилии и Аргентине, появление как объекта инвестирования большой группы государств с переходной экономикой Центральной и Восточной Европы и СНГ (27 стран).
График 3. Динамика притока валового и чистого (валовой минус проценты по кредитам и прибыль по иностранным инвестициям) частного капитала в развивающиеся страны (млрд. дол., 1985–2002 гг.).
Источник: Всемирный банк, 2002 г.
Графики 2 и 3 показывают, что приток чистых ресурсов в развивающиеся страны резко сократился одновременно с официальной помощью в разгар азиатского кризиса конца 1990-х [9]. В то же время наблюдается большой параллельный “увод” сбережений из развивающихся стран, причем не столько международными компаниями, сколько в большой степени местными политическими и деловыми элитами. Наиболее подвижный портфельный и банковский капитал на время создает возможность серьезного роста финансирования, но при оттоке может стать инструментом эскалации кризисов, что и наблюдалось в прошлое десятилетие. Всем стало ясно, насколько опасна опора на портфельные инвестиции, и прямые инвестиции превратились наконец в основной инструмент переноса развития в развивающиеся страны. Следует, однако, учитывать, что частный капитал крайне чувствителен к реальным или потенциальным рискам и не может компенсировать нехватку собственных усилий правительств и бизнеса развивающихся стран.
Исследования показывают, что укрепление прав собственности, ограничение черного рынка, расширение политических свобод и борьба с коррупцией способствуют экономическому развитию. Мир бедности по-прежнему характеризуется ограниченным притоком внешних ресурсов, не слишком эффективным использованием ресурсов собственных, а также непрекращающимися конфликтами, которые подрывают успехи, достигнутые в периоды стабильности. Согласно данным ЮНКТАД, обнародованным в конце октября 2002-го, объем прямых инвестиций в мире снизился в текущем году на 27 %. В частности, инвестиции в Африку снизились с 17 млрд долларов до 6 миллиардов.
Ведущие лидеры регионов — насколько они устойчивы?
Опыт последнего десятилетия показал, что мало добиться роста на какое-то время, гораздо важнее поддерживать его в длительной перспективе. Развитые страны тем и отличаются, что способны удерживать высокий уровень развития, несмотря на войны и кризисы. В этой связи необходимо проанализировать группу ведущих стран — развивающихся, переходных и даже развитых, лидирующих в своих регионах. Как локомотивы роста, они устанавливают де-факто стандарты стабильности, их банки выступают в роли надежного “ближнего зарубежья” для соседей и т. п. Если прогресс и рост тормозятся в странах-лидерах регионов, это ведет к общему замедлению, потере момента движения в направлении реформ и социально-политической устойчивости.
Например, экономический крах и трудноразрешимые политические проблемы в Индонезии серьезно повлияли на развитие Юго-Восточной Азии, кризис затронул “тигров”, рост которых был столь впечатляющим в прошлом: Таиланд, Малайзию, Южную Корею, Сингапур. Тяжелейшие кризисы поразили Аргентину, Бразилию и Турцию — государства-лидеры роста в 1990-х годах. Драма конца 1990-х заключается в том, что жертвами кризисов и конфликтов стали страны, обладавшие солидным потенциалом роста, включая накопленный управленческий и человеческий капитал (например, балканские государства).
Для этих среднеразвитых стран — соседей России по рейтингам — характерен размер ВВП на душу населения в пределах 4–12 тысяч долларов. Создается новая угроза мировому экономическому прогрессу — потеря надежды догнать первый эшелон. При анализе 15 государств, играющих важную роль в регионах (помимо Северной Америки, Западной Европы и Японии) становится очевидно, что если нет роста даже в таких странах, на которые приходится около 33 % мирового ВВП, то вряд ли стоит говорить об общем масштабном прогрессе в мире. Среднегодовые темпы прироста ВВП в этих странах сократились в 1998–2001 годах по сравнению с 1994–1997 годами с 6,3 до 4,6 %. Но отчасти речь идет о лукавстве статистики: за вычетом России, Индии и Китая в 12 оставшихся ведущих государствах разных континентов темпы прироста ВВП снизились гораздо резче — с 4,8 до 1,85 %. С 1998 по 2001 год лишь Россия ускорила свое развитие (даже включая год дефолта). В Китае и некоторых других странах наблюдается замедление роста. Индия и Египет сохранили темпы. Сочетая концентрацию ресурсов с постепенной либерализацией коммерческой деятельности, Китай, вес которого в экономике развивающегося мира огромен, укрепляет иллюзию общего значительного прогресса.
Многие ключевые страны, прежде всего Аргентина, Турция и, возможно, Бразилия, испытали или испытывают острейший кризис. В Израиле и Мексике наблюдается спад.
Именно у среднеразвитых стран имелась возможность масштабного внешнего заимствования, теперь же они испытывают все трудности долговых потрясений. Как недавно отметил нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц, “мы до сих пор не умеем управлять кризисами” [10]. От позитивной динамики этих стран зависят среди прочего также региональная торговля, миграция рабочей силы, уверенность инвесторов. Региональные и гражданские конфликты, перемежаемые экономическими потрясениями, создают пеструю картину, отчасти напоминающую ситуацию столетней давности.
Модернизация по жестким правилам
Постепенная стабилизация в странах с переходной экономикой (28 стран Европы и Азии без Китая и Вьетнама, по критериям МВФ), особенно четырехлетний подъем в России, отодвинула их проблемы на второй план. Анализ, специально проведенный Международным валютным фондом в 2000 году, показал, что в течение XX века не произошло радикального изменения в соотношении государств на международной арене [11]. В частности, социалистическая индустриализация в бывшем СССР не повлияла на положение России относительно большинства развитых стран мира в 2000-м по сравнению с 1900 годом. Правда, увеличилось отставание от ведущих стран по размерам реального ВВП на душу населения.
Страны Восточной и Центральной Европы реинтегрируются с Западом примерно с тех же относительных стартовых позиций (40–45 % ВВП на душу населения по сравнению с Западной Европой), которые они занимали в первой половине XX века [12]. По итогам прошлого столетия развитые страны росли в целом быстрее и все больше отрывались не только от беднейших стран, но и от “второго эшелона”. Чемпионами в классе перемещений вверх по относительной шкале оказались Китай и Тайвань, заметно продвинулись вверх Япония и Корея. Все эти государства отличались на этапе ускорения концентрацией ресурсов, высокой (30 % и более) нормой накопления в ВВП, экспортной ориентацией и “реформами сверху”.
В России вопросы модернизации стали обсуждаться все более активно по мере преодоления затяжного кризиса переходного периода и ликвидации прямых последствий финансового краха 1998 года. Пожалуй, впервые в истории страна и на востоке, и на западе граничит с государствами, которые демонстрируют ощутимо более высокие темпы роста и для которых характерны устойчивое управление и осознанные экономические стратегии (вроде интеграции в ЕС). Список негативных последствий краха 1998-го возглавляют огромный внешний долг, дефицит доверия населения и предприятий к финансовым институтам, низкая норма накопления (18 % при среднемировых 23 %), низкая капитализация даже ведущих российских компаний. А главное — низкий уровень формирования среднего класса, доступ к ресурсам и рентоориентированное поведение участников процесса накопления. В этом контексте возникли дискуссии вокруг проблем догоняющего развития, вреда или пользы промышленной политики и т. п.
1990-е годы определили характер экономических и политических систем, возникших в переходных странах. Переходные государства можно разделить на несколько групп, находящихся на разных стадиях развития. Европейскими лидерами по формированию рыночных институтов и темпам экономического роста являются Словения, Польша, Чехия и Венгрия, ближе к ним — страны Балтии. Но целая группа стран в результате внешних и гражданских конфликтов, неудачной экономической политики и т. п. оказывается во все более трудном положении. По одному из критериев ООН (ВВП меньше 800 долларов на душу населения и др.), многие постсоциалистические страны попали в группу наименее развитых: Албания, Босния, Молдавия, Азербайджан, Армения, Грузия, Таджикистан и Киргизия; к этой группе примыкает даже Украина.
Россия, Казахстан и некоторые другие страны выделяются тем, что, несмотря на наличие огромных проблем, неравномерность предшествующего развития и неадекватность институционального базиса, они все же перешли к росту. Теперь перед Россией и более продвинутой группой стран стоят сходные проблемы: рост наметился, рынок есть и признан ЕС, установилась социально-политическая стабильность — осталось обзавестись эффективным рыночным хозяйством и модернизировать экономику, приблизив ее к уровню стран Западной Европы (от 5–10 тыс. долларов ВВП на душу населения до 15–20 в обозримом будущем). Вступление центрально- и восточноевропейских стран в Европейский союз даст им пространство для сбыта, жесткие правила финансового поведения (по бюджетным дефицитам и т. п.) и гранты на региональное развитие.
Фактически помощь международных финансовых организаций (МФО) постепенно становится для России скорее страховкой, нежели опорой. Упор на роль частного капитала в программах МФО и (несколько запоздалое) институциональное развитие как раз показывают, что с точки зрения развитого мира переход к рынку на востоке Европы, в сущности, завершен. Это означает, что переходные страны будут все больше рассматриваться как обычные среднеразвитые (или развивающиеся). Обедневшие государства также постепенно растворяются в обычных международных категориях. Специальный “переходный” статус все более утрачивает общее для этих стран содержание. Что же касается конкуренции на товарных рынках, то новые переходные экономики и в 1990-х не имели особых поблажек в качестве “награды” за отказ от планового хозяйства.
Нет ничего предосудительного в “догоняющей” экономике или в использовании естественных или накопленных страной преимуществ в целях ускорения своего развития. К тому же страна сама определяет способ развития исходя из характера ресурсов, интересов держателей основных активов и политической и финансовой элиты. И если страна развивается в направлении интеграции на базе иностранного капитала (венгерский вариант), то это в конечном итоге тоже выбор. Если окажется, что в России победил вариант развития на базе интегрированных бизнес-групп, то это будет наш выбор. Правда, этот вариант также не гарантирует быстрой и масштабной модернизации, поскольку любые инвестиции в нем должны в первую очередь отвечать корпоративным интересам. Заметим, что роль новых международных требований по финансовой отчетности, правил ВТО по конкуренции, в частности возможное появление экологических и трудовых стандартов, могут вести к закреплению фактического разделения труда в мире. Ведь разрушение окружающей среды и сверхэксплуатация труда — это “марксистское” прошлое промышленно развитых стран, которого они не стесняются, но не рекомендуют другим, прежде всего по этическим соображениям. Но тем самым ужесточение правил конкуренции в мире ведет к новой ситуации, в которой экономический рост и развитие, в отличие от времен “дикого” капитализма, будут осуществляться в рамках сложной (и недешевой) системы правил. Понятно, насколько это ужесточит требования к ведению бизнеса по сравнению с нынешней ситуацией.
Модернизация по новым правилам для стран переходного периода возможна, но это — нелегкое дело. Рассчитывать на иностранную помощь или капиталовложения как на основной фактор роста не приходится. Модернизация всегда была результатом огромной внутренней активности, использования внутренних ресурсов и удачных внешних обстоятельств.
Экономическое развитие мира в начале XXI века осложняется в условиях общей политической нестабильности, локальных и гражданских конфликтов, разрушающих плоды предшествующего развития. Многие ключевые страны регионов охвачены кризисами, и соответственно осложнились процессы выравнивания. Способность стран к опережающему развитию, которую в недавнем прошлом демонстрировали, например, Тайвань и Южная Корея, сегодня значительно ограничены. Сложившаяся парадигма развития не решает важнейших проблем мирового развития, но пока у нее нет альтернативы. Перед различными по уровню и типу развития группами стран стоят свои проблемы, они решают их собственными методами, идут во многом своими дорогами. Конвергенция мира в процессах глобализации была, пожалуй, переоценена в период подъема 90-х годов и информационной революции. Гармоничное устойчивое развитие пока ускользает. Миру не грозит катастрофа, но нет твердой надежды на то, что серьезные проблемы удастся решить в короткие сроки. Решение этих проблем придет с осознанием глобальной взаимозависимости и ответственности. Общие правила игры в мире установлены на ближайший период, и возможность модернизации реализуется у той страны, которая найдет нетривиальные пути использования собственных национальных ресурсов.
1. См .: World Economic Outlook, IMF, April 2002, Washington.
2. Л.М. Григорьев, А.В. Чаплыгина. Саудовская Аравия — нефть и развитие // Международная энергетическая политика, 2002 (сент.). № 7.
3. См. расчеты: Global Oil Market Analysis, A.G. Edwards, August 19, 2002, p. 15.
4. См.: В. Алекперов. Нефтяной потенциал // Нефть России. 2002. № 9. С . 12.
5. William Easterly. The Elusive Quest for Growth: Economists’ Adventures and Misadventures in the Tropics. MIT Press, 2001.
6. Highlights of commitments and implementation initiatives. UN Johannesburg Summit, September 12, 2002.
7. The Johannesburg Declaration on Sustainable Development, September 4, 2002.
8. Л. М. Григорьев.Трансформация без иностранного капитала: десять лет спустя // Вопросы экономики. 2001. № 6.
9. Отток ресурсов рассчитан условно: прибыли и проценты могли быть реинвестированы.
10. Дж. Стиглиц. Преодоление нестабильности // Ведомости. 2002. 25 сент.
11. The World Economy in the Twentieth Century: Striking Developments and Policy Lessons. Сh. 5. In: World Economic Outlook, IMF, April 2000, Washington.
12. I. Berend. From Regime Change to Sustained Growth in Central and Eastern Europe // Economic Survey of Europe, 2000, № 2/3, p. 49.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter