Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
Провокации не должны лежать в основе внешней политики США
Виктор Михин
Чем дальше от нас уходит Великая история, тем больше документов, проливающих свет на истинные события в мире, появляются. Некогда темные пятна уступают место четкому и ясному анализу и прояснению того, что происходило на самом деле. Кроме того, проясняется настоящий курс ряда держав, которые в те времена смогли в какой-то мере спрятать свои истинные алчные планы в отношении более слабых государств в различных регионах мира.
Ярким таким примером служат скрытые ранее события на Ближнем Востоке, а точнее — что же в действительности скрывалось за политикой Великобритании и Соединенных Штатов в отношении Ирака и Кувейта, тем более что есть повод все это рассмотреть более пристально и детально. 17 января исполнилось 26 лет, как вооруженные силы США и стран Международной коалиции ООН начали военную истерию под названием «Буря в пустыне» (Operation Desert Storm), направленную на истребление иракских войск и «освобождение» Кувейта. В отличие от большинства других военных интервенций США, на этот раз все было сделано якобы согласно международному законодательству — решение было принято Советом Безопасности ООН. Это решение, ставшее смертным приговором для Ирака и, как показали дальнейшие события, запустившее кризис и хаос в интересах Соединенных Штатов в регионе Ближнего Востока.
Сама операция «Буря в пустыне» стала частью Войны в Персидском заливе 1990-1991-х годов. Началась она с ведением иракских войск в Кувейт, на который с самого начала получения Кувейтом независимости Багдад претендовал. Перед тем как это произошло, президент Ирака Саддам Хусейн справедливо обвинил правительство кувейтцев в воровстве иракской нефти (использовались технологии бурения наклонных скважин) и взамен требовал списать немалые долги (более $14 млрд), которые образовались у Багдада за годы ирано-иракской войны, заплатить компенсацию размером $2,5 млрд и передать как минимум в аренду стратегически важные острова Варба и Бубиян, контролирующие устье иракского Шатт-эль-Араб. Ко всему прочему, Кувейт не придерживался квот ОПЕК по добыче нефти, что привело к резкому снижению мировых цен на нефть – до 11 долл./барр., что само собой наносило вред не только обнищавшему после войны Ираку (кстати, Ирак в той войне воевал за интересы, свободу и независимость Кувейта), но в том числе и Советскому Союзу. Кроме того, Багдад все время настаивал на том, что исторически кувейтская территория относится к Ираку.
Саддам Хусейн ввел войска в Кувейт лишь после получения негласной санкции на войну от США, которые не первый раз выступили обычным провокатором в данном вопросе. Достаточно вспомнить 25 июля 1990 года, когда президент Ирака встретился с американским послом Эйприл Глэспи для обсуждения «кувейтского вопроса». «У меня есть прямая инструкция президента — добиваться улучшения отношений с Ираком. У нас нет точки зрения на межарабские конфликты, такие, как ваш пограничный спор с Кувейтом… Эта тема не связана с Америкой», — заявила тогда Э. Глэспи.
Автор данных строк, который в то время неоднократно встречался в Багдаде на дипломатических приемах с американским послом, часто слышал от нее именно такое мнение. Но почему Вашингтон подталкивал Багдад в споре со своим соседом? Ситуация прояснится по итогам военных действий, когда окажется, что были взорваны 100 нефтяных скважин на месторождении в Румайле, которые тогда разрабатывались британской компанией ВР. То, что принадлежало американцам в эмирате, было не тронуто: ради «приличия», да и то по ошибке, была подорвана только одна вышка, принадлежащая конкуренту британцев — Standart Oil. Другими словами, иракцы по просьбе американцев устранили британского конкурента из Кувейта, который с тех времен полностью попал в американскую орбиту.
Однако первая провокация США в данном вопросе была продемонстрирована американцами в ныне далеком 1957 году прошлого столетия. В 1955 году, как известно, по инициативе Великобритании и США на Ближнем Востоке был создан военный блок СЕНТО или Багдадский пакт, направленный своим острием против Советского Союза и других стран социалистического лагеря. Тогдашний премьер-министр Ирака Нури Саид обратился с довольно жестким требованием к Вашингтону предоставить безвозвратный заем в 15 миллионов долларов на перевооружение отсталой иракской армии. Вашингтонские провокаторы не нашли ничего лучшего, как «посоветовать» Багдаду захватить Кувейт, внешнюю политику и оборону которого тогда осуществлял Лондон, согласно секретному соглашению 1899 года. Тем самым, советовали американские дипломаты, вы решите свои финансовые дела, перевооружите армию и укрепите свое стратегическое положение в регионе. Но основной целью этого совета было натравить Ирак на Великобританию и тем самым подорвать прочные позиции англичан в этом маленьком, но весьма богатом арабском эмирате. Интересно, что на международном уровне, в частности в ООН, американцы секретно обещали свою поддержку иракским притязаниям на Кувейт.
Нури Саид, который был весьма опытным дипломатом, начинавшим свою карьеру в Великом Арабском восстании в Хиджазе против Османской империи совместно с так называемым Лоуренсом Аравийским, почему-то не заметил подвох и американских подводных мин. Он составил подробнейший документ о правах Ирака на Кувейт и отправил его в Лондон, который тогда определял все позиции в эмирате. В нем иракский премьер-министр приводил исторические факты и давал гарантию британским компаниям и дальше свободно выкачивать нефть из кувейтских недр. Итог этой американской провокации хорошо известен: в Ираке «срочно» произошла революция, а сам Нури Саид был показательно растерзан багдадской толпой. Кстати, перед этим многие багдадцы заметили интенсивные контакты между послами США и Великобритании. Но и здесь американские «профессионалы» провалились: новое руководство заняло националистические позиции против империализма, в том числе против США. Произошло сближение Ирака с Советским Союзом.
Но, пожалуй, апофеозом американских провокаций в этом вопросе стали события на Капитолийском холме в 2003 году перед неспровоцированным нападением на Ирак. В то время «ястребы» американского политического истеблишмента предприняли огромные и лживые усилия для того, чтобы доказать, что режим Саддама Хусейна якобы представляет опасность для международного сообщества. Ирак обвинялся в возобновлении разработки оружия массового поражения и в сотрудничестве с международными террористическими организациями, прежде всего с Аль-Каидой. Но данные американской разведки говорили о прямо противоположном факте, однако намеренно игнорировались Вашингтонской администрацией. Обвинения о связях с Аль-Каидой вызывают сомнения в свете того, что её бойцы воевали в составе антииракской коалиции в войне 1991 года и уж никак поэтому не могли сотрудничать с саддамовским режимом. К тому же, ещё в 80-х годах Саддам Хусейн вёл войну с радикальными исламистскими группировками на своей территории и на территории Ирана.
Кульминация этих событий наступила 5 февраля 2003 года, когда тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл выступил на специальном заседании Совета Безопасности ООН, превратив этот влиятельный международный форум в цирк, а себя представив в роли обычного шута, провокатора и предоставив многочисленные «доказательства того», что Ирак якобы скрывает от международных инспекторов оружие массового поражения. До сих пор, когда весь мир вспоминает, как этот «политик» демонстрировал пробирку якобы с сибирской язвой и другим биологическим оружием, громкий хохот раздается от Нью-Йорка, через Токио, Пекин, Дели, Стамбул, Каир, переходя Атлантический океан. Сегодня это стало наглядной демонстрацией использования звания госсекретаря США, чтобы утверждать заведомо лживые факты, которые понимает даже первоклассник.
Ошибочность американского вторжения и тех бедствий, которые США принесли иракскому народу, вызвало настолько резкое осуждение во всем мире, что даже Вашингтонская администрация в лице бывшего президента США Б. Обамы признала этот непреложный факт. В самом Ираке премьер-министр Хайдер аль-Абади призвал расследовать вторжение США в страну в 2003 году в связи с позицией нынешнего президента Дональда Трампа, считающего его ошибкой. Иракец отметил, что вторжение в конечном счете «дало возможность террористам со всего мира прийти в Ирак».
Ныне в мире появилась надежда, что вновь пришедший к власти президент Дональд Трамп будет более компетентен в международных вопросах и не допустит подобного его предшественникам подхода к решению мировых проблем, в ходе которых была уничтожена государственность в ряде государств Ближнего Востока, были убиты сотни тысяч невинных граждан, а еще большинство лишились элементарных средств к существованию. По крайней мере, в это вселяет его инаугурационная речь, в которой он дал трезвые оценки, и довольно низкие, предыдущей Вашингтонской администрации. Вполне понятно, что могущество США, о восстановлении которой говорил Д. Трамп, не может опираться на провокации, военную силу и безвинно пролитую кровь мирных граждан.
ФРС обречена на заклание
Трампу нужен стабильный доллар
Олег Щукин
Пока мир "переваривает" инаугурацию и первые дни президентства Дональда Трампа, за спиной "рыжего" почти неприметно, медленно, но верно разворачиваются куда более важные для человечества финансово-экономические процессы, которые на поверхности проявляются колебаниями обменного курса доллара, динамикой фондовых рынков и цен на энергоносители, нефть — прежде всего.
31 января — 1 февраля пройдёт заседание Федеральной резервной системы США, на котором будет решаться вопрос по учётной ставке. Предыдущее заседание, которое прошло ещё до инаугурации 45-го президента США, завершилось её повышением до уровня 0,5-0,75% годовых, что должно было привести к усилению доллара и падению фондовых рынков. Усиление доллара произошло, а вот падение не состоялось — более того, индекс Dow Jones 30 взял 25 января рекордную отметку в 20000 пунктов и с тех пор устойчиво находится выше неё. Что может объясняться одной-единственной причиной: победа Трампа сама по себе, без каких-либо действий с его стороны, заставила "горячие капиталы" со всех мировых финансовых рынков (прежде всего — из Европы, Китая и Японии) бежать в США даже без дальнейшего повышения учётной ставки ФРС и усиления доллара. В этом смысле нью-йоркский миллиардер "сэкономил" своей стране уже несколько сотен миллиардов долларов, а если начнёт по-настоящему "ёжиков кошмарить", то сэкономит уже триллионы. Собственно, затем его, наверное, и выбирали, и выбрали — в противном случае человек с таким "бэкграундом" был бы отсеян американской политической машиной ещё до стадии праймериз.
Задним числом, конечно, хорошо было бы сказать, что "это, рыжий, всё на публику", что его соперничество с Клинтон было не более чем "борьбой нанайских (юсэйских?) мальчиков", вернее — мальчика и девочки. Но всё развитие событий говорит, что это не так — причем категорически не так. И ФРС, скорее всего, "обречена на заклание", то есть на банкротство. Пусть не сегодня и не завтра, но уже в очень близкой перспективе, то есть ещё при президенте Трампе. Наверняка многих в составе Федрезерва, включая нынешнего председателя Джанет Йеллен, подобная перспектива, мягко говоря, не вдохновляет. Поэтому по результату предстоящего заседания можно будет судить о том, в каком режиме находятся отношения между Белым домом и главным эмиссионным центром "империи доллара".
Если Йеллен и её сторонникам удастся "продавить" изменение нынешней ставки — даже не важно, в какую именно сторону, — можно будет говорить о жёстком конфликте, который может развиваться в двух видимо противоположных, но по существу однонаправленных сценариях развала США как государства. Если же ставка останется на нынешнем уровне — значит, пойдёт "игра в четыре руки", и привычные нам "баксы" очень скоро могут утратить статус мировой валюты и валюты вообще, превратившись в то, чем они на самом деле являются, — фиатные "фантики", долговые расписки частных финансовых структур, не обеспеченные никакими реальными активами (см. историю британской "Компании Южных морей" образца 1720 года, только в усиленном на порядки размере). Во всяком случае объём всех номинированных в долларах ФРС финансовых инструментов (агрегат L) зашкаливает уже за 2000 трлн., более чем в двадцать раз превосходя мировой ВВП.
С той же перспективой связаны и получившие в последнее время широкое распространение прогнозы о "долларе за 40 рублей и ниже". Как говорил в "Белом солнце пустыни" боец Сухов, "это вряд ли". Прежде всего — потому, что нынешний Банк России устроен и действует как местный филиал ФРС, удерживая национальную российскую валюту к доллару на уровне примерно в 40-50% от паритета покупательной способности, а в "нужные моменты" доводя это соотношение до 20-25%, как было в конце 2014 — начале 2015 года. Хорошо для экспорта, плохо для остальных секторов экономики. Зато США, и это уже не секрет, благодаря такому механизму получили возможность потреблять вдвое больше, чем производят.
Новый "хозяин Белого дома", в отличие от своих предшественников, решавших эту проблему исключительно за счёт увеличения госдолга, намерен усилить и производство. Поэтому в его интересах — во всяком случае, на нынешнем этапе — стабильный доллар и поэтапное повышение стоимости кредитов и их обслуживания. Поэтому можно предположить, что, несмотря на предполагаемое увеличение доходов от экспорта энергоносителей и ослабление санкций, российская валюта будет какое-то время — скорее всего, до осени 2017 года — находиться в интервале 58–63 рубля за доллар.
Цены на нефть и газ, похоже, новое "ралли на понижение" тоже не ждёт. "Команда Обамы", обвалив эти рынки, по сути, проспонсировала экономику крупнейших импортёров "чёрного" и "голубого золота", прежде всего — Китая, ЕС и Японии, на сотни миллиардов долларов. Трамп, снимая все ограничения на добычу "сланцевых" углеводородов внутри США, намерен эти деньги получить обратно. Поэтому поток "нефтедолларов" в Россию будет расти — ещё один повод "дружить" с 45-м президентом США — разумеется, не за счёт сдачи нашего стратегического потенциала.
В 2016 году 37% российских туристов (4,8 млн человек) и 10% иностранных (1,3 млн) прибыли в столицу России по железной дороге. Всего железнодорожным транспортом воспользовались 6,1 млн человек или 35% туристов, сообщается в материале, размещенном на портале правительства Москвы.
Больше всего туристов воспользовались воздушным транспортом - 35% россиян и 88% иностранцев. На автобусах приезжали 28% россиян и 2% иностранцев.
Всего в 2016 году Москву посетили 17,5 млн человек, в том числе 12,96 млн россиян, 2,55 млн жителей Содружества Независимых Государств и 1,99 млн жителей дальнего зарубежья. Больше всего иностранцев было из Китая - 520 тыс., Германии - 280 тыс., Турции - 240 тыс., Израиля - 130 тыс., Италии - 120 тыс., Франции - 120 тыс., Великобритании - 100 тыс., США - 100 тыс. и Испании - 80 тыс.
При этом организатором исследования были учтены люди, прибывшие в Москву не только с культурно-познавательными целями (таковых 33,3%), но и для встречи с друзьями и родственниками (32,2%), с деловыми целями (28,5%) и с прочими целями (6%) - паломнический и событийный туризм, покупки, лечение и оздоровление.
Проезд до Москвы в случае делового туризма стоил в среднем 1,9 тыс. руб., в случае культурно-познавательного туризма - 1,6 тыс. руб.
Николай Логинов
Станция Улак готова пропускать тяжеловесные поезда
Компания «Мечел» сможет нарастить поток груза с Эльгинского угольного месторождения, разработка которого ранее сдерживалась из-за отсутствия надёжного транспортного сообщения
На Дальневосточной железной дороге завершилась модернизация станции Улак. Это главное связующее звено между широтным БАМом и железной дорогой, которая ведёт к уникальному Эльгинскому месторождению угля на юге Якутии. Через Улак гигантский грузопоток пойдёт в дальневосточные порты.
Станция эта находится на 2677-м километре БАМа. От неё на север уходит 320-километровая железнодорожная линия Улак – Эльга, она построена для освоения крупнейшего в мире Эльгинского угольного месторождения коксующегося угля. Его запасы оцениваются в 2,2 млрд тонн.
В этом году отсюда будут отправлять в Китай 250 тыс. тонн угля ежемесячно. А в перспективе объём перевозок достигнет 12 млн тонн в год. Поэтому и потребовалась модернизация станции Улак. Целесообразность её реконструкции продиктована и ростом объёмов перевозок на Дальневосточной железной дороге. До реконструкции на станции Улак было всего четыре пути – два станционных и два вытяжных.
В рамках инвестиционной программы развития Восточного полигона, которую реализует ОАО «РЖД», строительный подрядчик – компания «Бамстроймеханизация» (входит в Группу компаний 1520) построила четыре новых приёмоотправочных пути общей протяжённостью более 4,5 км, удлинила два существующих – в среднем на 250 м, до унифицированной длины 1050 м, а также возвела путепровод на пересечении с автодорогой. «Благодаря этому, – сообщил генеральный директор «Бамстроймеханизации» Александр Мискарян, – станция Улак теперь может принимать длинносоставные и тяжеловесные поезда. Увеличилась в целом провозная способность станции».
В ходе строительства на станции Улак было переработано более 220 тыс. куб. м грунта, проложено почти 50 км кабеля, смонтировано 38 светофоров. В модернизации станции участвовали специалисты Февральской дистанции сигнализации, централизации и блокировки. А помогали им коллеги из Тындинской и Ургальской дистанций. В реконструкции были задействованы работники 25-й дистанции пути и регионального центра связи. Курировали ход работы заместитель главного инженера Дальневосточной железной дороги по Тындинскому территориальному управлению Александр Бугера и Тындинский центр организации работы железнодорожных станций.
«Переключение станции проходило очень слаженно, наши смежники всё сделали профессионально. Несмотря на длительное технологическое «окно», задержек поездов допущено не было, – отметил первый заместитель начальника Тындинского центра организации работы железнодорожных станций Сергей Липень. – Ввод дополнительных приёмоотправочных путей позволит существенно увеличить ёмкость станции Улак. Тем самым грузоотправитель – компания «Мечел» – сможет нарастить поток груза с крупнейшего Эльгинского месторождения, разработка которого ранее сдерживалась из-за отсутствия надёжного транспортного сообщения. Теперь обмен гружёными и порожними поездами между грузоотправителем и ОАО «РЖД» станет более ритмичным».
Карен Агабабян

Табачные войны
Курить вредно. Спорить с этим утверждением бессмысленно. Существует огромное количество исследований, подтверждающих негативное влияние табачного дыма на человеческий организм. Но огромное количество людей по всему миру не бросают эту пагубную привычку, а крупнейшие табачные корпорации продолжают наращивать свои производства.
В 1999 году в окружном суде Вашингтона начался процесс, взбудораживший всю мировую общественность - «США против табачных компаний». Ответчиками на нем выступали мировые гранды табачной отрасли British American Tobacco PLC, Liggett Group Inc., Lorillard Tobacco Co, Philip Morris USA и Reynolds American Inc. Судебные слушания длились 7 лет. Было доказано, что все эти корпорации участвовали в сговоре, дезинформировали своих потребителей о вреде курения и по сути создали преступный картель.
В постановлении суда было зафиксировано, что вышеуказанные компании в обязательном порядке обязаны открывать и представлять общественности документы своей рекламной деятельности, исследований в научной сфере, политического лоббизма и многое другое, непосредственно касающееся производства и реализации табачной продукции. В процессе разбирательств всплывали и имена российских чиновников. Так, например, было отмечено, что в 1997 году одна из «дочек» табачной компании Reynolds American Inc оплатила поездку представительной делегации из России на конференцию в американский Университет Дьюка, посвященной совершенствованию налоговой политики. В ее состав, в том числе, входили зам. главы Минфина РФ Сергей Шаталов и депутат Госдумы Александра Починок. Вряд ли это было сделано для того, чтобы вернувшись на родину, они стали резко повышать акциз на табачные изделия. В принципе, это не произошло в те годы, нет активности в данном направлении у российских чиновников и сейчас. Более того, на суде в Вашингтоне было четко прослежены контакты господина Шаталова с компанией International Tax and Investment Center, спонсором которой являются табачные корпорации. Эта организация активно лоббировала по всему миру интересы своих «хозяев». При ее посредничестве проходили форумы, на которые приглашались министры финансов многих стран мира, в том числе Российской Федерации.
В чем же состояла истинная причина подобных встреч и конференций? Какие мысли ведущие экономисты мира «вталкивали» в головы глав Минфина? Очевидно, что все это происходило исключительно в интересах крупнейших табачных корпораций. Участникам представлялись передовые технологии развития и совершенствования налоговых систем, где резкое и значительное повышение акцизов на табак не являлось серьезной мерой улучшения финансового состояния государств.
Табачный бизнес в России
Мировой табачный бизнес начал активно приходить в Россию в начале 90-х. и крупнейшие иностранные корпорации моментально скупил все знаменитые советские производства. Это были Фабрика имени Урицкого в Санкт-Петербурге, московская фабрика «Ява» в Москве, Краснодарская табачная фабрика и др. Пришли BAT, Philip Morris, JTI и RJR.
Главная проблема бизнеса на табаке – увеличение акцизов на продукцию. Чем выше налог, тем ниже потребление, от которого напрямую зависит прибыль табачных корпораций. Американские эксперты посчитали: если увеличить стоимость пачки сигарет в США на 10%, то объем потребления табачных изделий снизится на 4%. В странах с меньшим доходом, например в Китае, этот показатель будет значительно выше – 6-10%.
Именно в период судебных слушаний по иску к табачным корпорациям, политика России в отношении акцизов была следующей: данный вид налога необходимо повышать постепенно, но никак не резко. Иначе на рынке увеличится огромное количество контрабанды. В этом случае, потребление не уменьшится, а государству будет нанесен огромный урон. При этом здоровье нации снизится. Очень спорное утверждение. Но Шаталов, отстаивающий эту позицию, утверждал, что потребление табака в России и, например, в той же Европе, значительно отличается.
Но независимые специалисты и аналитики, профессионально занимающиеся данной проблемой, абсолютно не согласны с такой трактовкой. По их мнению, она является классическим проявлением табачного лобби. Нет ни одного подтверждения, когда увеличение акцизных сборов на сигареты и табачные изделия привело бы к росту контрафакта. В таких странах, как Австралия, Канада и Румыния этого, например, не произошло. Анализ количества контрабанды табака на территории Российской Федерации, несмотря на постепенный рост акцизов, показал, что ее уровень стабильно находится в пределах от 0,7 до 2%.
После ухода с поста зам. главы Минфина Сергея Шаталова его должность в 2003 году занял Илья Трунин. При нем (в 2007 году) розничная цена на сигареты достигла (на радость табачным компаниям) своего максимального уровня и к тому же был отменен НДС на акцизные марки.
Табачное лобби
Табачные компании, расположенные на территории России, в плане лоббирования и отстаивания собственных интересов были всегда солидарны и выступали единым фронтом. Но и у них возникали разногласия, причем достаточно серьезные. Один из подобных внутриотраслевых конфликтов был связан с порядком взимания акциза. Дело в том, что 2003 году в России действовала фиксированная ставка, выгодная компаниям, работающим в высоком ценовом сегменте - Philip Morris и JTI. Но вот ВАТ проигрывал от такого подхода. Доля этого налога в продукции компании, например «Ява», была существенно выше, чем у Winston . Именно поэтому она ратовала за смешанный принцип взимания акциза. Представители «Бат-Ява» защищая свою позицию, считали единый подход в этой части налогов на табачный бизнес несправедливым. Они настаивали на следующей акцизной системе: фиксированная плата за одну тысячу сигарет и к ней прибавляется определенный процент, напрямую зависимый от стоимости пачки.
«Война» длилась почти 2 года. Победили компании, отстаивающие смешанный акцизный принцип. Philip Morris болезненно отреагировал на проигрыш и даже пытался выйти из состава профильного отраслевого объединения «Табакпром». Но перспектива изоляции и многочисленных проверок охладило пыл корпорации, и она перешла в стан бывших «врагов», оставив в одиночество своего партнера по борьбе JTI.
Минздрав России, призванный осуществлять государственную политику исключительно в интересах здоровья российских граждан, в 2010 году обнародовал свою Концепцию по противодействию потребления табачных изделий с 2010 по 2015 гг. В этом документе сумма акциза была в 6 раз меньше, чем в странах ЕС. На конец пошлого года разница незначительно снизилась до пятикратного значения.
В принципе, российские власти абсолютно согласны с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в части величины акциза. ВОЗ предлагает довести этот показатель до70%. В России он зафиксирован на уровне 41%.
Автор: Кононов Игорь
Valmet ввела в эксплуатацию четыре бумагоделательные машины на комбинате Lee & Man Manufacturing в Китае
Специалисты компании Valmet за три месяца успешно ввели в эксплуатацию четыре бумагоделательные машины на предприятии Lee & Man Manufacturing в китайском Чунцине.
Линии предназначены для производства высококачественной санитарно-гигиенической продукции, их совокупная мощность — 240 тыс. т в год, ширина полотна — 5,6 м, расчетная скорость — 2 тыс. м/мин.
Ранее, в 2015 г., Valmet установила на этом заводе машину Advantage DCT 200.
Китай задумал реформу рыболовства.
Власти Китая намерены ввести новую систему управления морскими биоресурсами. Планируется сократить объемы добычи до 10 млн тонн, а для поддержки рыбаков, которые потеряют работу, выделить средства из бюджета страны.
Заместитель министра сельского хозяйства КНР Юй Кан Джень на встрече с журналистами заявил, что правительство обеспокоено сокращением морских биоресурсов у берегов страны и решило вводить новую систему управления рыбным хозяйством. Согласно информации, опубликованной на сайте министерства, власти планируют реализовать ряд мер, направленных на защиту биоресурсного комплекса. Будет усилен контроль за управлением рыбным промыслом, а также проведены широкомасштабные научные исследования для формирования общей системы управления морскими биоресурсами. Изменить предполагается и систему рыбоохранных зон и запретов на промысел, сообщает корреспондент Fishnews.
Наметил замминистра и две конкретные цели, которых будет добиваться ведомство до 2020 г., – это ограничение промысла морских биоресурсов до 10 млн тонн и сокращение рыболовного флота страны на 20 тыс. единиц, при этом 8,3 тыс. из них будут судами средних и больших размеров.
Замминистра отметил, что правительство страны намерено и впредь предпринимать меры, направленные не только на борьбу с переловом, но и на поддержание количества рыболовных судов на приемлемом уровне в соответствии с обычной международной практикой управления водными биоресурсами.
Сокращение флота будет означать уход части рыбаков из отрасли. Для них правительство выделит около 7,5 млрд юаней (около 1,1 млрд долларов) из бюджета страны – эти средства должны помочь людям найти новую работу в сельскохозяйственном секторе или спортивном (туристическом) рыболовстве.
Компания «Тойота Мотор» уступила лидирующие позиции по продажам автомобилей немецкой «Фольксваген ЭйДжи» по итогам прошлого года.
Результаты продаж «Тойота Мотор», которая включает в себя также «Дайхацу Мотор» и «Хино Мотор», составили в 2016 г. 10 млн. 175 тыс. единиц, что на 0,2% превосходит показатели 2015 г., в то время как у «Фольксваген» этот показатель составил 10 млн. 312 тыс. единиц (рост на 3,8% ).
Стоит отметить, что продажи немецкого автогиганта значительно выросли в КНР, тогда как продажи «Тойоты» снизились в США – их основном рынке сбыта.
«Киодо»
31 января 2017 г. во Всероссийском научно-исследовательском геологическом институте им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ) состоится совещание по реализации международных проектов «Атлас геологических карт Циркумполярной Арктики» и «Атлас геологических карт Северной, Центральной и Восточной Азии», посвященное 135-летию Геологического комитета России.
В совещании примут участие руководители и представители Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федерального агентства по недропользованию, ведущих геологических научно-исследовательских институтов и предприятий России, руководители и представители геологических служб Великобритании, Германии, Франции, Италии, Китая, Кореи, Норвегии, США, Ассоциации геологических служб Европы и Комиссии по геологической карте Мира.
Проведение международного совещания позволит провести сравнительный анализ развития и современного состояния геологических служб различных стран Мира, а также будет способствовать дальнейшей интеграции российской геологии в мировую геологическую науку и практику в рамках международных проектов по изучению геологического строения и оценке минерально-сырьевого потенциала крупнейших регионов Мира.

Трамп ударил по Кремниевой долине
Facebook, Google и Twitter резко протестуют против указа Трампа
Отдел «Технологии»
Указ Дональда Трампа о запрете на въезд иммигрантов из нескольких стран мира в США всколыхнул Кремниевую долину. Главы крупных IT-компаний выразили опасения о негативном влиянии данного закона на развитие отрасли. Зачем Тим Кук цитирует Мартина Лютера Кинга, почему Илон Маск вступился за инициативу президента и как от этого пострадал престиж Uber — в материале «Газеты.Ru».
Руководители сразу нескольких крупнейших технологических компаний Кремниевой долины осудили указ президента США Дональда Трампа, запрещающий беженцам и гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением въезд на территорию страны.
В течение как минимум 90 ближайших дней жители Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена не смогут въехать в США.
Трамп объяснил указ намерением не пускать в страну «радикальных террористов-мусульман».
Apple, Facebook, Google (принадлежащий Alphabet Inc.), Microsoft, Twitter, Uber и другие компании высказали опасения в связи с негативными последствиями, которые сулит этот указ работникам-иммигрантам. Некоторые руководители даже заявили, что запрет на въезд нарушает их личные принципы и принципы работы в компании.
Разгневанная долина
Генеральный директор Google Сундар Пичаи заявил, что новый закон затронул по меньшей мере 187 сотрудников компании. Один из них уже экстренно выехал обратно в США, так как испугался, что его не пустят обратно.
«Печально видеть, что этот указ каким-то образом ограничит жизнь работников Google и их семей, а кроме того, создаст барьеры на пути следования талантов в нашу страну», — подчеркнул Пичаи.
Сооснователь поискового гиганта Сергей Брин и вовсе принял участие как частное лицо в митинге в аэропорту Сан-Франциско против указа Трампа. «Я здесь, потому что я беженец», — заявил он. Брин также сделал несколько фотографий вместе с участниками митинга.
Глава Apple Тим Кук разослал своим сотрудникам e-mail, в котором весьма категорично высказался против политики нового президента.
«Apple не выживет без работников из других стран, не говоря уже о развитии и процветании, каким мы всегда славились», — сообщил Кук в письме.
«Я слышал, что многие из вас серьезно обеспокоены указом о запрете въезда иммигрантов на территорию США. Я разделяю ваше беспокойство. Такую политику мы поддержать не можем», — добавил глава Apple. Кроме того, он подчеркнул, что уже направил прошение в Белый дом, в котором разъяснил, какие последствия будет иметь вышеобозначенный указ.
В конце сообщения Кук процитировал слова политического деятеля и проповедника Мартина Лютера Кинга: «Мы все прибыли на разных кораблях, но теперь находимся в одной лодке».
Генеральный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла, который родился в Индии, также обратился к сотрудникам компании: «Будучи иммигрантом и руководителем, я самолично наблюдал позитивное влияние иммиграции на развитие Microsoft, страны и всего мира». Наделла добавил, что продолжит ходатайствовать об отмене указа Трампа.
Создатель Facebook Марк Цукерберг разразился гневной записью касательно проблемы, которая всколыхнула всю Кремниевую долину: «Мои предки были из Германии, Австрии и Польши. Родители Присциллы (жена Марка. — «Газета.Ru») — беженцы из Китая и Вьетнама. Соединенные Штаты — это нация иммигрантов, и мы должны этим гордиться».
Цукерберг заявил, что одобряет желание обезопасить страну, но считает, что для этого нужно сосредоточиться на людях, «которые реально представляют угрозу».
Не остался в стороне и Джек Дорси, глава Twitter, который так любит нынешний президент США и который он избрал площадкой для своих политических заявлений. Дорси сообщил, что экономические последствия нового указа будут крайне неприятными. «Беженцы и иммигранты приносят США ощутимую пользу», — добавил он в своем твиттере.
В поисках компромисса
А вот гендиректор Tesla Motors и Space X Илон Маск, который был назначен советником по бизнес-вопросам в администрации Трампа, решил попытаться наладить диалог между рассерженными резидентами Долины и президентом США. Он обратился к гражданам США через Twitter, попросив высказать свое мнение и предложить поправки к указу о запрете иммиграции.
Все предложения Маск пообещал отправить президенту напрямую, но неожиданно столкнулся с негативной реакцией пользователей.
Некоторые были неприятно удивлены готовностью космопромышленника выполнить все требования по указу, который подвергает сомнению юридический статус граждан семи мусульманских стран.
«Как только ты идешь на уступки касательно закона, который изначально нарушает моральные нормы, ты уже соглашаешься с его необходимостью», — ответил Маску пользователь с никнеймом @z0mgItsHutch. @tomcoates поддержал возмущенного американца: «Это не та ситуация, в которой можно отделаться поправками».
И это не первый раз, когда Маску пришлось поступиться своими принципами.
Ранее он одобрил назначение экс-главы нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря, несмотря на то что всегда выступал за использование возобновляемых источников энергии.
Но Илон Маск не единственный, кто пытается найти золотую середину между своими интересами и лояльностью к новому президенту. Глава Uber Трэвис Каланик, который тоже вошел в состав трамповского совета по вопросам бизнеса, все минувшие выходные отбивался от критики в свой адрес после того, как его компания не поддержала часовую забастовку таксистов против запрета на въезд для мигрантов.
В социальных сетях появился хэштег #DeleteUber (#УдалиUber), который стал популярным даже среди тех, кто никогда не пользовался услугами такси.
После протеста Каланик выпустил официальное заявление, согласно которому Uber обеспечит денежную компенсацию на 90 суток тем водителям, которые попадают под действие указа.
Кроме того, глава Uber пообещал в твиттере воспользоваться своим влиянием как члена совета при Трампе, чтобы донести до него народное возмущение на совещании 3 февраля.
Высокотехнологичные компании из Кремниевой долины часто нанимают иммигрантов на позиции ведущих инженеров. Согласно исследованию Национального фонда американской политики, неправительственной организации, специализирующейся на проблемах иммиграции, иностранцы основали более половины всех стартапов США общей стоимостью свыше $1 млрд.
Кроме того, индустрия технологий обеспокоена возможными изменениями в процессе получения рабочих виз для квалифицированных иммигрантов, что тоже имеет огромное значение для развития Кремниевой долины.
Например, 77% студентов, занимающихся электротехникой, и 71% студентов-программистов в вузах США являются иностранцами.
Летом 2016 года сразу несколько глав крупных IT-компаний с опасением восприняли новость об избрании Дональда Трампа на пост президента США, заявив, что он погубит развитие инноваций и новых технологий.
После выборов многие из них попытались наладить отношения с новой администрацией и даже посетили встречу лидеров в индустрии технологий, на которой Трамп пообещал, что поможет «достичь успеха в ваших делах». Похоже, до полной гармонии в отношениях между президентом США и Кремниевой долиной еще далеко.
Американская разведка ищет «бункеры Путина»
В США изучают способность России и Китая пережить ядерный удар
Михаил Ходаренок, Михаил Иванов
Американская разведка по заданию конгресса исследует возможности Китая и России по нанесению ответного ядерного удара. В частности, предполагается подробно изучить существующие бункеры для лидеров двух стран, а также их коммуникации, предусмотренные на случай глобальной войны. По оценкам российских специалистов, Россия в состоянии гарантировать ответный удар даже в условиях массированной атаки США.
Спецслужбы США и стратегическое командование Пентагона (STRATCOM) работают над новой оценкой способности властей России и Китая «пережить ядерный удар», сообщил в понедельник Bloomberg.
По данным издания, анализ должен включать «местонахождение и описание подземных коммуникаций, важных для политического и военного руководства», в том числе объектов, в которых во время кризиса будут работать высшие органы власти Москвы и Пекина.
Новое исследование проводится по заказу конгресса и еще до инаугурации нового президента США Дональда Трампа было одобрено и республиканцами, и демократами, у которых глубокую озабоченность вызывают растущая военная дерзость Китая и политика президента России Владимира Путина.
«Наши специалисты разрабатывают соответствующий ответ», — подтвердил Bloomberg информацию представитель стратегического командования США капитан военно-морского флота Брук Девольт, отказавшись делиться подробностями.
Кроме того, издание пишет, что идею активно поддерживает республиканец из Огайо Майкл Тернер, член группы стратегических сил комитета по обороне палаты представителей. США должны понять, как Китай и Россия намерены вести войну и как их руководство будет командовать и контролировать потенциальный конфликт, считает конгрессмен. «Это знание имеет решающее значение для нашей способности сдерживать угрозы», — заявил Тернер.
По его словам, Россия и Китай «инвестировали значительные средства и ресурсы в понимание того, как мы будем сражаться, в том числе как нарушить коммуникации нашего руководства». «Мы не должны игнорировать пробелы в нашем понимании ключевых возможностей противника», — настаивает республиканец.
Намекнуть лидерам своих потенциальных противников, что они не смогут выиграть ядерную войну, — часть давней американской стратегии, объяснил Bloomberg экс-чиновник Пентагона Франклин Миллер, служивший при семи министрах обороны США.
Власти России и Китая «планируют управлять ядерными силами из командных бункеров, находящихся глубоко под землей или глубоко в горах», — рассказал Брюс Блэр, исследователь политики ядерной безопасности из Принстонского университета и соучредитель группы Global Zero, посвященной ликвидации ядерного оружия.
По его мнению, ликвидация таких сооружений требует от стратегических крылатых ракет США умения маневрировать в горах, чтобы ударить по укреплениям под любым нужным углом. Одно из таких убежищ — ЗАТО «Межгорье» возле южноуральской горы Ямантау, созданное еще в разгар «холодной войны», часто фигурирует в СМИ как «бункер Путина».
В пятницу Трамп приказал министру обороны Джеймсу Мэттису подготовить новый Обзор ядерной политики, чтобы гарантировать состояние сил ядерного сдерживания США на надлежащем уровне, а также успокоить союзников Америки.
Сторонники контроля над вооружениями утверждают, что модернизация американской «ядерной триады» может обойтись правительству в триллион долларов в ближайшие 30 лет, главным образом в середине 2020-х годов. Соответствующие планы были утверждены еще во время президентства Барака Обамы, уточняет Bloomberg.
Трамп и его команда силовиков обещали также противостоять Китаю по всем вопросам: от торговли до территориальных споров в Южно-Китайском море. В декабре ведущая шоу MSNBC «Morning Joe» Мика Бжезинская утверждала, что Трамп сказал ей в телефонном разговоре: «Пусть это будет гонка вооружений. Мы превзойдем их на каждом шагу и переживем их всех».
Экс-начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Виктор Есин полагает, что уточнение списка объектов, предназначенных для поражения в ходе ракетно-ядерной войны, увязано с планами Трампа по модернизации ядерного арсенала США.
Такие оценки стратегического потенциала сторон — рутинные мероприятия, считает экс-начальник 4-го ЦНИИ Минобороны России генерал-майор Владимир Дворкин. По его словам, за десятилетия взаимного ядерного сдерживания все ответы на вопросы конгрессменов хорошо известны.
«Американцы хотят знать, способно ли высшее руководство России отдать приказ на ответный или ответно-встречный удар и довести его до стратегических ядерных сил в случае массированного разоружающего удара США? А если у руководства России есть сомнения осуществить это, то не примет ли оно решение в критической обстановке нанести упреждающий удар, что приведет к концу человечества? — объясняет Дворкин. — Однако в страткоме и в разведке США давно известно о существовании в России системы высокозащищенных командных пунктов высшего звена управления, о многократно резервированных каналах боевого управления и связи, о высоком уровне живучести наземной группировки и части морских стратегических сил. Поэтому после ядерной атаки США будет гарантированно нанесен массированный ответный удар. Повторяю, все это хорошо известно, но, возможно, происходит обновление кадров на всех уровнях, которые имеют плохое представление обо всем этом, их надо вразумить. Это касается не только США, но и России».
Ранее Трамп пообещал «значительно укрепить и расширить» ядерный потенциал США, а также предположил, что сможет договорится с Путиным о сделке по отмене санкций в обмен на взаимное сокращение ядерного арсенала, напоминает издание.
Тогда российские эксперты высказывали «Газете.Ru» мнение, что с учетом отставания российского ядерного арсенала в качестве взаимное количественное сокращение носителей и боезарядов приведет к усилению позиций США.
В апреле 2010 года Россия и США подписали договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), вступивший в силу в феврале 2011 года. Документ предусматривает сокращение числа ядерных боезарядов у каждой стороны до 1550 единиц, а их развернутых носителей — до 700. Договор рассчитан на десять лет с возможным продлением еще на пять лет по взаимной договоренности.
В субботу лидеры России и США говорили по телефону около часа. Обсуждали ли они сценарий ядерного разоружения, не сообщалось, однако глава МИД России Сергей Лавров в понедельник заявил, что разговор президентов России и США был «хорошим и в политическом, и в человеческом смысле». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что обсуждать сделки с США в обмен на снятие санкций преждевременно. «Сначала надо определиться с датой и местом встречи двух президентов», — сказал Песков.
В свою очередь Bloomberg напоминает, что на прошлой неделе проект «Часы Судного дня» журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков» увеличил вероятность ядерной катастрофы, переместив символические стрелки часов на 30 секунд до двух с половиной минут до полуночи, как в 1953 году.

«Легкий патриотический оргазм от гражданского авиапрома»
Эксперт: МС-21 — это «черный ящик» по эксплуатационным характеристикам
Елена Платонова
Стратегия развития авиапрома предполагает как развитие экспорта, так и увеличение поставок на внутренний рынок. Но для экспорта нужен конкурентоспособный продукт, которого пока нет, а внутренний рынок для развития гражданского авиапрома слишком мал, пояснил в интервью «Газете.Ru» ведущий эксперт ВШЭ Андрей Крамаренко.
— Одним из барьеров на пути развития отечественного авиапрома в Стратегии развития до 2030 года, которую в ноябре прошлого года опубликовал Минпромторг, указан «недостаточный для конкурентоспособной экономики производства масштаб внутреннего рынка». Предлагается создавать технику не только для внутреннего рынка, но и на экспорт. Но пока результаты неутешительны. С чем это связано?
— Сначала о внутреннем рынке. На российские авиакомпании приходится всего 3% мирового пассажиропотока, и даже в лучшие годы объем поставок — с учетом вторичного рынка — немногим превышал 100 самолетов в год. Получается, что даже если в припадке патриотизма полностью запретить импорт зарубежной авиатехники, мы не можем обеспечить достаточную серийность производства в каждом из рыночных сегментов, которых вообще-то не менее четырех.
Если производить самолеты по 15–25 штук в год, то мы никогда не достигнем того уровня издержек, как у иностранных производителей.
В результате пассажир будет вынужден больше платить за билеты, а поскольку ценовую эластичность спроса еще никто не отменял, рынок будет сужаться. Получится замкнутый круг, требующий бесконечных субсидий.
Без экспорта российский авиапром будет болтаться в своем неглубоком болоте.
Для экспорта требуются конкурентоспособный продукт и адекватно выстроенная система послепродажной поддержки, а не принцип: «Не будете брать — отключим газ».
Надо отдать должное ОАК и ГСС, сформировавшим отличный финансовый пакет для получателей SSJ как на внутреннем, так и на внешних рынках.
Поддержка отечественного авиапроизводителя и экспорта есть или была во многих странах. Крупнейшие авиакомпании вроде Emirates или Ryanair умело пользуются механизмом экспортных гарантий, с которыми покупать самолеты в кредит выгоднее, чем брать в финансовый лизинг. В этом отношении Россия выглядит ничуть не хуже, а то и лучше. Но ключевой вопрос в качестве продукта, а не в его финансовой «обертке».
— В Стратегии развития говорится о необходимости дополнительных мер поддержки для продвижения российских самолетов на внутреннем рынке, пусть даже это небольшой рынок в мировом масштабе. Недавно вице-премьер Дмитрий Рогозин предложил отдавать авиакомпаниям, эксплуатирующим российские самолеты, допуски на самые доходные направления. Каковы возможные последствия от внедрения такой инициативы? Нужны ли еще какие-то дополнительные меры поддержки?
— Сперва хочу отметить, что Стратегия развития авиапрома и смелые идеи вице-премьера не имеют между собой никакой связи. Стратегию писали грамотные авторы, хотя, вероятно, она так и останется на бумаге.
С мерами поддержки гражданского авиапрома у нас все в порядке. Бюджетные субсидии выделяются на всех этапах жизненного цикла продукта: от его проектирования до эксплуатации. С административными мерами дела тоже обстоят неплохо, к примеру, лишь относительно недавно обнулили ввозные таможенные пошлины на иностранные самолеты в сегментах, где отечественная промышленность или отродясь ничего не производила, или производит «штучную» продукцию.
Предложение вице-премьера само по себе прозвучало абсурдно, поскольку «выгодные» маршруты не существуют объективно. На одном направлении кто-то может получать прибыль, кто-то убыток, и со стороны понять это невозможно из-за большого количества трансферных и прорейтовых тарифов. К тому же SSJ100 не предназначен ни для полетов на Дальний Восток, ни для туристических направлений, о которых говорил вице-премьер.
Может быть, он имел в виду Ту-204СМ, но припоминаю, что в свое время мы считали прямые операционные затраты на этот тип, и его эксплуатация выходила дороже Airbus A321 и Boeing 737-900ER при нулевой лизинговой ставке. Проще говоря, такой самолет и даром не нужен.
В Канаде и Бразилии, с которыми мы пытаемся конкурировать на рынке региональных джетов, местные авиакомпании отнюдь не делают погоду в заказах и поставках.
К примеру, бразильская компания Embraer ежегодно производит более 200 коммерческих самолетов, включая бизнес-джеты. При этом крупнейшие бразильские авиакомпании — TAM и GOL — не эксплуатируют отечественную технику. Стартовыми эксплуатантами Bombardier CSeries стали европейские SWISS и AirBaltic.
— Доля России на мировом рынке гражданской продукции оценивается в 1%. Есть ли предпосылки для ее увеличения?
— Единственная более-менее конкурентоспособная модель — SSJ100 — имеет ограниченную рыночную нишу, поскольку представлена в единственной размерности примерно на 100 кресел. При этом всеми путями за десять лет на внутреннем рынке коммерческим эксплуатантам удалось «пристроить» чуть более 50 SSJ, а всего остального — в количестве менее десяти единиц каждой модели.
Проект SSJ100NG на 130 кресел, вероятно, не будет реализован. В текущем виде на внутреннем рынке ниша SSJ100, во-первых, невелика, во-вторых, уже почти закрыта поставленными или законтрактованными самолетами.
Внутренний рынок не сможет поглотить больше 40–60 самолетов МС-21 в год.
Если мы планируем выйти на масштаб производства, позволяющий конкурировать по издержкам с Airbus и Boeing, объем экспортных поставок должен в разы превышать внутренние продажи. К тому времени, как МС-21 пойдет в серию, оба конкурента будут выпускать более 40 среднемагистральных самолетов в месяц.
— Как стимулировать потребителей покупать российские самолеты? Стоит ли увеличивать субсидирование из бюджета?
— Вариантов мотивации всего два: позитивная (сделать наилучшее соотношение цены и характеристик) и отрицательная («возьмите наш самолет, а то…»).
С нынешним модельным рядом возможности позитивной мотивации ограниченны. Можно надеяться, что МС-21 окажется совершеннее SSJ и его продажи пойдут веселее. Но обойдемся без эйфории: современный гражданский самолет — чудовищно сложный технический продукт, и полностью новая модель, даже если окажется удачной, без предыдущего опыта проектирования и послепродажной поддержки потребует многолетней «доработки напильником».
Можно увеличить объемы субсидирования производства и лизинга отечественной авиатехники, но появляется резонный вопрос, в чем, собственно, профит правительства и налогоплательщиков?
Нам действительно нужно иметь гражданское самолетостроение любой ценой и во всех рыночных сегментах, как утверждает Минпромторг в стратегии, о которой шла речь выше? Такое удовольствие стоит дорого, а будет стоить еще дороже. К слову, ни в США, ни в ЕС, ни в Китае не производится весь спектр гражданской авиатехники. Международное разделение труда для того и существует, чтобы сосредоточиться на том, что мы умеем делать хорошо, а не делать все сразу и плохо.
Сама по себе идея отрицательной мотивации абсурдна в рыночной экономике, поскольку увеличивает издержки пользователей. Мы помним, к чему привели продуктовые санкции: российский сыр подорожал и превратился в «сырный продукт». Ограничивая конкуренцию и предложение на рынке, мы получим ухудшение качества и рост равновесной цены. Базовые законы экономики не может отменить даже вице-премьер.
Даже если удельные издержки на российских самолетах будут всего на несколько процентов выше иностранной техники, в масштабах отрасли авиаперевозок это будет означать несколько десятков миллиардов рублей дополнительных эксплуатационных затрат. Это, кстати, превышает всю годовую выручку ОАК от продукции коммерческого назначения.
Как следствие — несколько миллионов пассажиров, пересевших на поезда, автобусы и диваны, сокращение транспортной мобильности, внутреннего туризма, экспорта авиатранспортных услуг.
С точки зрения возможных преференций… Из четырех крупнейших авиакомпаний страны отечественные самолеты есть только у одной, которая и так имеет все возможные преференции. К тому же — формально — в алгоритме рейтингования заявок при выдаче назначений на международные воздушные линии уже много лет есть критерий наличия в парке российских самолетов.
— Если сравнить с другими авиапроизводителями, например Бразилией или Канадой, то там тоже оказывается поддержка авиапрому?
— Все страны в той или иной мере использовали и используют меры поддержки авиастроения. Но с апелляцией к здравому смыслу: бюджетный эффект должен быть положительным.
Многие страны прямо или косвенно субсидируют разработку и производство авиатехники, почти все предлагают механизмы экспортного кредитования или экспортных гарантий. Bombardier, кстати, из-за проекта CSeries попала в финансовое болото и получила в прошлом году солидную помощь от правительства.
Но, разумеется, никому и в голову не приходило запрещать канадским или бразильским авиакомпаниям пользоваться иностранной техникой. Отрицательная мотивация уже давно не в моде.
— Возможно, речь идет прежде всего о поддержке проекта МС-21, а не SuperJet?
— В этом году обещают первый полет МС-21, через пару лет можно ожидать серийного производства. С этим самолетом, вероятно, тоже не все будет просто. Поэтому идея «поощрить и запретить» могла пойти и в превентивном порядке.
Чем ближе к началу коммерческих поставок МС-21, тем чаще будут звучать заявления, что нужно заставить российские авиакомпании брать отечественные самолеты.
— Почему при всех уникальных характеристиках МС-21 пока не пользуется большой популярностью на мировом рынке?
— Авиакомпанию интересуют операционные издержки самолета, а не уникально сложные инновационные инженерно-технические решения при его проектировании и производстве. Она смотрит на самолет как на «Газель»: он должен быть низкозатратным в эксплуатации, надежным, желательно недорогим, и — опционально — обеспечивать пассажирам известный уровень комфорта. В недавней истории в имиджевых целях брали только один самолет – Airbus A380, но проект фактически закрыт.
Сейчас МС-21 представляет собой «черный ящик» по эксплуатационным характеристикам, в первую очередь расходу топлива, готовности к вылету (т.е. надежности) и организации поддержания летной годности.
В ходе летных испытаний они подтвердятся (или не подтвердятся), но многие статьи издержек раскроются только в коммерческой эксплуатации.
В отрасли, где средняя рентабельность по чистой прибыли за 50 лет составляет 0,3%, отклонение, скажем, по расходу топлива на 1% от «маркетинговых» характеристик – катастрофа. К тому же за МС-21 будет тянуться негативный имидж SSJ100 в части организации поддержания летной годности и уровня издержек на него и ПМЗ (Пермский моторный завод, АО «ОДК-Пермские моторы». — «Газета.Ru») в части надежности и организации техобслуживания двигателей предыдущего поколения ПС-90. Отечественный гражданский авиапром еще не получил положительную репутацию ни внутри страны, ни тем более за ее пределами.
— В программе предлагается активно привлекать частный бизнес в авиапром и провести частичную приватизацию поставщиков второго-четвертого уровней, в том числе продать их действующему менеджменту. А почему сейчас частный бизнес не привлекается?
— Согласно предыдущей стратегии, мы частный бизнес из авиапрома выдавили и консолидировали в вертикально интегрированные холдинги все, что можно было консолидировать.
Но авиапром денег «жрет» много, бюджет не резиновый, и в какой-то момент встанет выбор: или шашечки, или пенсии.
Бесконечно вливать бюджетные субсидии в эту «черную дыру» невозможно, даже если кто-то испытывает легкий патриотический оргазм от того, что у нас есть подобие гражданского авиапрома. Нынешняя стратегия пытается ответить на вопрос, как сделать так, чтобы бюджетных денег в авиапроме стало меньше. Поэтому появилась идея разукрупнить кое-что из того, что в предыдущие годы героически наукрупняли.
Продажа менеджменту — это не приватизация как зарабатывание денег, а способ повысить эффективность управления этими активами. Но пока комплектаторы почти целиком и полностью завязаны на поставки ОАК и ОДК, качественных изменений ожидать не стоит. А для развития международной производственной кооперации и встраивания в мировое разделение труда сейчас политический фон, откровенно говоря, так себе.
Нефть угрожает рублю
Рост добычи в США приведет к падению цен на нефть ниже $50
Алексей Топалов
Снижение добычи нефти, о котором ОПЕК и независимые производители договорились в прошлом году, при росте спроса способно инициировать возникновение дефицита на нефтяном рынке. Но результаты усилий ОПЕК и других нефтяных стран могут быть уничтожены растущей добычей в США. В совокупности с рисками, связанными с Китаем и Ливией, давление на нефтяные цены опустит их ниже уровня в $50 за баррель.
В первом квартале 2017 года на мировом нефтяном рынке может возникнуть дефицит. Такой прогноз сделало Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). По мнению экспертов АКРА, рост нефтедобычи в странах, не поддержавших соглашение об ограничении производства нефти, окажет на рыночный баланс минимальное влияние. При этом растущий спрос поддержит благоприятную для производителей конъюнктуру.
В конце прошлого года ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель (в том числе Россия), договорились о снижении суточной добычи в первом полугодии 2017 года. Это помогло стабилизировать цену барреля на уровне $54–56. «Если действие соглашения будет продлено до конца года (такой сценарий предусмотрен договоренностями. — «Газета.Ru»), это принесет еще более ощутимый результат», — говорится в материале АКРА.
Эксперты агентства указывают, что основным риском для рынка считается взрывной рост добычи в США. Но, по их мнению, этого не произойдет, пока цена на американский сорт WTI не достигнет $65 за баррель.
Кроме того, как отмечает АКРА, для стабилизации добычи на материковой части США необходимо нарастить бурение в 1,6 раза.
В то же время на фоне сокращения добычи ОПЕК и другими производителями оптимизм инвесторов вырос до максимума за последние 10 лет, пишет Bloomberg.
По данным издания, чистая длинная позиция на нефть марки WTI за семь дней по 24 января увеличилась на 6,1% — примерно до 371 тыс. фьючерсов и опционов, что стало максимумом с 2006 года. Это привело к росту цен на WTI за отчетный период на 1,3%, до $53,18 за баррель.
«На нефтяном рынке есть сдерживающий фактор — это рост сланцевой добычи в США, — цитирует издание Джея Хатфилда из InfraCap MLP. — В 2017 году добыча в США вырастет на 1 млн баррель в сравнении с прошлым годом».
Глава отдела исследований сырьевых рынков в нью-йоркском офисе Societe Generale Майкл Уиттнер не исключает, что в ближайшем будущем эффект от сделки ОПЕК нивелируется из-за увеличения американской сланцевой добычи. И когда это произойдет, настроение инвесторов «сильно изменится».
Ожидания, основанные на сокращении добычи, вообще реалистичны до тех пор, пока крупнейшие мировые державы придерживаются такого курса, а снижение производства и повышение цен на нефть не мешают развиваться другим секторам экономики, предполагает руководитель аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов.
«Например, в мире несколько тысяч нефтяных танкеров, и вдвое больше тех, которые перевозят нефтепродукты, естественно, они будут стремиться держаться на плаву и не допустят существенного подорожания нефти, отбивающего желание ее приобретать», — говорит Крылов, уточняя, что речь идет об искусственном повышении цены барреля, которое вызывается как раз сокращением добычи при отсутствии роста спроса.
Сейчас Америка добывает порядка 9 млн баррелей нефти в сутки, что является максимальным показателем с апреля 2016 года. По данным одного из лидеров мирового нефтесервиса компании Baker Hughes, за неделю, завершившуюся 27 января, количество нефтяных буровых установок в Штатах выросло на 15 единиц, до 566 штук. Еще в начале января их было 529 единиц. Впрочем, до исторического максимума, который пришелся на октябрь 2014 года, пока далеко. Тогда количество нефтяных буровых составляло более 1,6 тыс.
Аналитик банка «Уралсиб» Алексей Кокин отмечает, что для того, чтобы выйти на максимальные показатели по объемам бурения, США уже не нужно наращивать число установок до тех же 1,6 тыс., так как эффективность добычи значительно возросла. «Для этого будет достаточно увеличить число активных буровых до 700–800 единиц», — оценивает эксперт. При этом количество буровых последовательно растет уже больше десяти недель.
По мнению Кокина, оптимизм инвесторов сейчас связан с оценками скорости исчерпания накопленных запасов нефти в хранилищах стран Запада, а также Китая и Индии. «Предполагается, что запасы будут иссякать быстрыми темпами, что сократит предложение, именно эти ожидания пока и поддерживают нефтяные цены», — говорит Кокин.
В понедельник на межконтинентальной бирже ICE в Лондоне мартовские фьючерсы на нефть Brent торговались по $55,52 (–1,28%, данные на 18.30 мск), WTI — по $52,79 (–0,71%) за баррель.
«Но американская добыча действительно остается главной угрозой для нефтяного рынка, — предупреждает Кокин. — Это огромная индустрия, которая способна быстро развернуться и задавить его».
Кроме того, в перспективе на рынок будут оказывать влияние сокращение спроса в Китае (кстати, и в самих США спрос растет почти нулевыми темпами) и планы Ливии по наращиванию добычи. Снижение спроса в КНР связано с прогнозами по замедлению экономического роста, в 2017 году он составит 6–6,5%, что ниже, чем было в 2016 году. Ливия же, исключенная из соглашения ОПЕК в связи тем, что она пострадала от войны, намерена до конца года поднять производство с 0,7 млн до 1,25 млн баррелей в сутки.
По прогнозам Кокина, все эти факторы в совокупности способны оказать давление на нефтяные котировки, опустив их до уровня $50 и даже ниже.
Sberbank CIB в обзоре «Валютный рынок, нефть и процентные ставки» также отмечает, что признаки того, что участники соглашения ОПЕК строго исполняют взятые на себя обязательства, нивелируются ростом числа действующих буровых установок в США. Эксперты Sberbank CIB сомневаются, что ОПЕК и другие производители продлят соглашение об ограничении добычи на вторую половину 2017 года. По прогнозам Sberbank CIB, цена барреля до конца года не превысит $56.
Онлайн-магазины растеряли покупателей
У россиян упал интерес к онлайн-покупкам в 2016 году
Елена Малышева
Популярность интернет-шопинга в России в 2016 году упала. В то же время целый ряд торговых сетей сообщили о быстром росте своих продаж онлайн, а больше трети потребителей планируют все же попробовать онлайн-покупки. В противоречивых настроениях россиян разбиралась «Газета.Ru».
Меньше доходов — меньше и покупателей
Число россиян, покупавших товары онлайн, заметно снизилось в прошлом году по сравнению с 2015-м, причем это касается как самых популярных позиций, таких как одежда, так и плохо продающихся через интернет продуктов питания. По мнению экспертов, снижение лишь частично обусловлено падением реальных доходов граждан, так как в денежном выражении рынок растет.
На 12 процентных пунктов, с 65% в 2015 году до 53% в 2016-м, снизилась доля россиян, которые приобретали в сети одежду и аксессуары. Заметное падение интернет-продаж, зафиксированное исследовательской компанией Nielsen, распространяется на все крупные категории товаров, такие как электроника, книги, музыка, косметика, путевки, билеты, продукты питания.
Число покупателей малопопулярной в сегменте онлайн свежей продукции, по данным компании, снизилось вдвое — с 6 до 3% в 2016 году, а упакованных продуктов питания — более чем вдвое: с 12 до 5% соответственно.
В то же время, согласно исследованию, в России более трети потребителей, приобретающих свежие продукты и товары для дома в магазинах, готовы попробовать онлайн-шопинг в ближайшее время. Потенциал, судя по мировой статистике, здесь большой: в среднем в мире 14% респондентов являются покупателями интернет-магазинов продуктов и товаров для дома, а в России только 4%.
Эксперты полагают, что тренд на снижение тяги к интернет-покупкам во многом связан с уменьшением доходов россиян. С общим снижением покупательной активности в 2016 году по сравнению с предыдущим это связали и в самой компании Nielsen.
По последним данным Росстата, опубликованным на этой неделе, реальные доходы россиян за прошлый год снизились почти на 6%. В четвертом квартале прошлого года около 40% жителей России заявили об ухудшении личного материального положения, выяснил Центр конъюнктурных исследований Института НИУ ВШЭ.
«За несколько лет, накопленным итогом, можно говорить о том, что доходы россиян вернулись примерно на уровень 2007 года, а товары, которые покупаются в зарубежных интернет-магазинах, — это, как правило, предметы не первой необходимости.
Поэтому в кризисное время спрос на них резко сокращается», — согласен аналитик ГК «Алор» Кирилл Яковенко.
В ближайшие два года он ожидает дальнейшего падения спроса на товары зарубежных интернет-площадок, занимающих львиную долю рынка, из-за планируемого введения НДС на покупки. По мнению эксперта, это может сжать рынок в несколько раз и способствовать созданию «серого» и «черного» потоков закупок из зарубежных интернет-магазинов.
Офлайн быстрее и безопаснее
Покупатели часто совмещают онлайн- и офлайн-сегменты, отмечает Дмитрий Швецов, директор по работе с предприятиями розничной торговли «Nielsen Россия». «Все больше потребителей обращаются к интернету, чтобы получить информацию о товаре, а затем отправляются в магазин, чтобы приобрести его. Другие же поступают наоборот: изучают офлайн, а заказывают на сайте», — говорит эксперт. Вместе с тем при покупке товаров повседневного спроса россияне по-прежнему в большей степени склонны обращаться к офлайн-каналам, добавляет Швецов.
Смене тренда способствовало также некоторое насыщение, которое пришло после нескольких лет увлечения покупками на Aliexpress, Ebay и других площадках, говорит Яковенко из ГК «Алор». Например, российский рынок электроники наводнен недорогими товарами из Китая по ценам, сопоставимым с предлагаемыми для заказов по почте. «Приходя на рынок электроники, вы экономите на времени доставки, не берете на себя риски работы с зарубежным продавцом, не стоите в очереди на почте — вместо этого просто покупаете товар «здесь и сейчас», — объясняет аналитик предпочтения россиян.
Покупки офлайн, по данным исследования, сейчас уверенно доминируют над онлайн-сегментом в России по всем категориям товаров, за исключением путевок, оплаты за услуги отелей и билетов на транспорт, а также билетов на мероприятия. Косметику покупают в обычных магазинах чаще 46% россиян, детские товары — 42%, средства для дома — 55%.
Наращивание популярности интернет-рынка в индустрии повседневных товаров требует серьезной работы со стороны ритейлера, в том числе по обеспечению покупателя максимально полной информацией о товаре и условиях покупки, чтобы повысить доверие. Кроме того, сложность состоит в том, чтобы предложить привлекательные цены и более широкий ассортимент, чем в офлайне.
Но пока, например, по продуктам питания ситуация обратная — цены в онлайне зачастую выше.
Покупателей меньше, зато денег больше
Рынок интернет-торговли, несмотря на снижение его популярности, все равно растет в денежном выражении, и рост этот весьма существенный, сообщили «Газете.Ru» в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). По результатам 2016 года прогнозируется рост оборота интернет-торговли на 18%, до 900 млрд руб., в 2017 году АКИТ прогнозирует ускорение роста до 23% и преодоление отметки в 1,1 трлн руб.
Большинство покупок (51,1%) россияне по-прежнему делают в Китае, и 95,6% заказов не превышает по стоимости €150. В целом рост зарубежных отправлений в Россию только за три квартала прошлого года составил 87%, по результатам года их число достигло 230 млн штук.
Объем трансграничной торговли в деньгах вырос примерно на 45% по сравнению с 2015 годом и составит около 320 млрд руб.
Одна из самых успешных групп товаров в интернете — бытовая техника и электроника, этот рынок продолжает восстанавливаться после падения в 2015 году, указывают в АКИТ. По данным Nielsen, 29% покупателей преимущественно делают такие покупки в интернете, еще 36% — в онлайн- и офлайн-магазинах с одинаковой периодичностью.
Крупнейшая сеть электроники и бытовой техники «М.Видео» отмечает рост интернет-продаж на 27% в 2016 году, это более чем двукратное ускорение по сравнению с показателями 2015 года (12,5% роста).
«Все больше клиентов делают выбор в пользу «бесшовного» перехода между традиционными магазинами и онлайн, совмещая поиск информации и оценку техники «вживую», — отмечает руководитель департамента «М.Видео» по связям с общественностью Валерия Андреева.
Общая тенденция снижения спроса на интернет-покупки может быть связана с тем, что сегодня интернет-торговля прочно вошла в жизнь потребителей, и большинство, попробовав онлайн-шопинг, определилось, подходит он для них или нет, отмечают в АКИТ. Таким образом, те, кому удобнее покупать в интернете, делают там все больше и больше покупок, те же, кому такой способ приобретения товаров не подходит, продолжают делать покупки офлайн. Поэтому объем продаж в интернете увеличивается, а популярность при этом снижается.
Китай слабеет от старости
Китаю грозит дефицит рабочей силы к 2030 году
Оксана Решетова
Население Китая стремительно стареет, следует из плана демографического развития государства. Через 10 лет страна может столкнуться с дефицитом рабочей силы, а также сокращением внутреннего потребления. Дополнительной нагрузкой на бюджет станут расходы на страхование, коммунальные услуги и медицину.
Китай на пороге демографического кризиса
Около четверти населения Китая к 2030 году будут составлять люди 60 лет и старше, сообщается в плане демографического развития, подготовленном Государственным советом.
Согласно последней переписи населения, в 2010 году число таких граждан было 13,3%. Это означает, что за двадцать лет количество пожилых людей в Китае увеличится примерно вдвое.
Граждане в возрасте от 45 до 59 лет, по подсчетам экспертов, к этому времени будут составлять около 36% китайского населения. Для сравнения: в 2010 году их было 20%. При этом доля детей младше 14 лет к 2030 году составит всего 17%.
Одна семья — один ребенок
На демографию Китая значительно повлияла государственная политика, запрещавшая родителям заводить более одного ребенка. Правительство было вынуждено законодательно ограничить размер семьи в 1970-х годах, когда стало ясно, что материальные ресурсы страны не рассчитаны на такое огромное количество людей.
Пары, заводившие второго ребенка, должны были выплачивать штраф в размере 6–8 годовых доходов. Кроме того, родителей могли уволить и исключить из партии.
Однако в 2013 году некоторым китайским парам разрешили иметь двоих детей, если хотя бы один из родителей сам является единственным ребенком в семье. Причиной этому стала реальная угроза сокращения трудоспособного населения. В 2015 году правило «одна семья — один ребенок» было полностью отменено.
«Партия хочет принять меры как можно скорее, так как Китаю надо срочно менять свою политику демографии, — цитирует Bloomberg Ван Юкая, профессора Китайской академии управления. — Они не могут ждать изменений законодательства до следующего года. Лидеры хотят новую политику уже сейчас».
Рождаемость не по плану
Улучшение демографии является частью пятилетнего плана председателя КНР Си Цзиньпина по развитию экономики. Страна должна перейти от экспортозависимой развивающейся экономики к «умеренно процветающему обществу», ориентированному на внутреннее потребление, основу экономики которого составляют доходы от услуг и инноваций.
По данным Национальной службы статистики Китая, в 2016 году ВВП страны увеличился на 6,7%, составив $10,85 трлн. При этом дефицит бюджета был равен $425 млрд (3,9% от ВВП).
По расчетам китайского правительства, прирост населения должен составлять 4 млн ежегодно вплоть до 2020 года. Общее число граждан к этому времени должно возрасти до 1,42 млрд, а к 2030 году — до 1,45 млрд. При этом объем ВВП и доход на душу населения (сейчас — около $14 тыс. на человека) должны увеличиться к 2020 году в два раза.
Несмотря на отмену политики «одного ребенка», уровень рождаемости существенно отстает от официальных прогнозов, отмечает Национальная комиссия здоровья и планирования семьи Китая. В 2016 году в стране родились 17,86 млн человек, прирост населения составил всего 1,91 млн.
Многие китайские пары по-прежнему не заводят второго ребенка, опасаясь дополнительных финансовых затрат. В 2013 году только одна из десяти семей обратилась за разрешением на второго ребенка, отмечает Bloomberg.
Пары, имеющие разрешение на второго ребенка, но не использующие эту возможность, могли бы увеличить прирост населения Китая до 3–8 млн человек в год, считают экономисты.
Китайцы снимают «синие воротнички»
Старение населения в будущем может привести к серьезной нехватке рабочей силы. Количество трудоспособных граждан, согласно оценкам китайских экспертов, ощутимо сократится уже к 2030 году. Дефицит рабочей силы к этому времени может составить 24,5 млн человек.
При этом экономическое развитие Китая за последние шесть лет существенно замедлилось. В 2010 году рост ВВП составил 10,4%, в 2011-м — 9,2%, а в 2016-м — 6,7%. По расчетам экономистов, в текущем году этот показатель снизится до 6,5%.
Сокращение трудоспособного населения может подорвать конкурентоспособность Китая. Страна привлекает иностранных производителей в промышленный сектор именно за счет большого количества дешевой рабочей силы. По информации Bloomberg, с 1979 по 2012 год китайский экспорт увеличился с $14 млрд до $2,1 трлн. В 2011 году предприятия с иностранными инвестициями обеспечивали 53,4% китайского экспорта.
Усугубляет ситуацию нежелание молодых людей работать на фабриках.
«Молодое поколение не хочет работать на заводах — они хотят работать в сфере услуг или в интернете, или на любой более легкой и непринужденной работе, — заявил глава пресс-службы Foxconn Терри Гоу на последнем форуме Тихоокеанского экономического сотрудничества на Бали. — В секторе обрабатывающей промышленности общий спрос [на рабочих] теперь выше, чем предложение».
Кроме того, демография может существенно отразиться на объемах потребления и совокупном спросе. Если потребление товаров и услуг резко снизится, экономика страны может оказаться под угрозой.
В свою очередь спад китайской экономики больше всего отразится на Бразилии, Австралии и странах Юго-Восточной Азии, которые являются главными сырьевыми экспортерами Пекина.
Рынок «серебряных волос»
Китайская промышленность уже начала перестраиваться под новую структуру населения.
В стране получил развитие так называемый рынок «серебряных волос», который в 2014 году принес экономике страны 4 трлн юаней ($652 млрд), или 8% от ВВП.
Известные китайские компании, такие как Alibaba и JD.com, уже выстраивают маркетинг с учетом интересов пожилых граждан. «Индустрия «серебряных волос» вступила в фазу своего расцвета, что делает ее новой перспективной отраслью в Китае», — пишет China Daily.
Отрасль будет развиваться в четырех основных направлениях. Это специализированные товары для пожилых людей (например, для граждан с ограниченной мобильностью), услуги (уход по дому, перевозки), недвижимость (специализированные центры для пенсионеров) и финансовая помощь.
К 2050 году, согласно докладу, подготовленному Национальным комитетом по проблемам старения, эта отрасль будет составлять треть китайской экономики и принесет в казну примерно 106 трлн юаней ($17 трлн).
Число потенциальных потребителей (людей от 60 лет и старше) к этому времени может возрасти до 480 млн человек. Это означает, в Китае будет представлен самый крупный рынок для пожилых людей во всем мире.
Как пишет The Wall Street Journal, многие китайские компании сейчас пересматривают стратегию производства, ориентируясь на пожилых потребителей.
«Что нас интересует… так это то, что полмиллиарда людей в возрасте от 60 лет будут жить в Китае в ближайшие 35 лет», — цитирует издание Скотта Уайта, президента международного подразделения питания компании Abbott.
Особенно востребованными у пожилых являются услуги по страхованию и управлению капиталом. Однако в Китае таких специалистов пока недостаточно. Как отмечает Bloomberg, в США количество работников финансового сектора составляет 6,21 млн человек, при этом половина компаний специализируется на пожилых людях. В Китае насчитывается около 5,27 млн таких специалистов, при этом работа с гражданами пенсионного возраста развита слабо. В основном это связано с недостаточным финансированием секторов экономики, ориентированных на пожилых людей.
Рынок «серебряных волос» уже является одной из приоритетных отраслей в ЕС, где наблюдается высокая продолжительность жизни и низкая рождаемость. Ежегодно Европа тратит на содержание пожилых людей около 25% от ВВП.
В ЕС активно разрабатываются технологии, помогающие пожилым людям вести более независимый образ жизни. К ним относятся медицинские консультации на расстоянии, аварийные сигналы по уходу в домашних условиях, автоматизация приборов и т.д.
В 2015 году покупательная способность пожилых граждан (от 60 лет), проживающих в ЕС, оценивалась примерно в €3 трлн. Согласно прогнозу Euromonitor, к 2020 году она вырастет до €15 трлн.
Старение населения открыло большие возможности для технологических компаний и в США. По прогнозам Лори Орлова, аналитика по вопросам старения в Place Technology Watch, рынок технологических товаров для пожилых людей к 2020 году в США составит до $20 млрд.
Один из ведущих фондов по продвижению стартапов Y Combinator уже поддержал несколько американских компаний, разрабатывающих технологии для пожилых людей. Среди них Techmate (техническая поддержка) и GoGoGrandparen (вызов автомобиля без использования смартфона).

Кризис мировой власти и тройственные отношения
Как преодолеть кризис мировой власти
Збигнев Бжезинский – помощник президента США по национальной безопасности в 1977–1981 годах.
Резюме Идеальным геополитическим ответом стал бы треугольник США, Китая и России. В этом контексте у России не будет другого выбора, как только принять реальность и необходимость улучшения отношений как с Китаем, так и с Соединенными Штатами.
После окончания последней мировой войны 70 с лишним лет назад мир на планете удавалось сохранять благодаря угрозе ядерной бомбы. Из-за ее уникальной способности разрушить мир она в корне изменила реалии международной политики. Однако ее воздействие на стабильность снижалось, по мере того как все больше стран обзаводились такими же возможностями разрушения.
Монополия Америки на ядерное оружие длилась менее десяти лет. Внушающая страх сила США несколько уменьшилась к середине 1950-х гг., но реальность американского ядерного оружия все еще была достаточно грозной, чтобы в конце 1940-х гг. убедить Советы воздержаться от наземной блокады для выдавливания американцев из Западного Берлина, а в 1960-е гг. Соединенным Штатам удалось добиться отвода советских ядерных вооружений с Кубы. Однако окончательное разрешение Кубинского ракетного кризиса было не односторонней победой, а скорее сочетанием угроз и компромиссов, позволившим обеим сверхдержавам сохранить лицо. США пришлось не только дать публичное обещание никогда не вторгаться на Кубу; они также втайне согласились вывести из Турции свои ракеты «Юпитер».
Начальные этапы холодной войны, которая велась исключительно между двумя крупнейшими державами, сделали их ответственными за безопасность в мире. По сути, через два десятилетия после появления фактора этого смертоносного оружия Америке пришлось все больше и больше учитывать озабоченность Советов. Да, ядерное оружие способствовало сохранению мира, особенно в условиях потенциального паритета, когда стало понятно, что победителей в ядерной войне не будет. В любом случае фактическая исключительность в обладании ядерным оружием на первых этапах холодной войны давала двум соперничавшим державам особый статус. Они чувствовали уникальную ответственность за судьбы всего мира, хорошо понимали друг друга и не были склонны скатываться к конфронтации, способной привести к взаимной катастрофе.
В последнее время стабильность в мире была поставлена под угрозу из-за упрямого соперничества крупных держав, которые тем не менее не обосновывают возможное применение ядерного оружия. Лишившись стратегической ядерной монополии, Соединенные Штаты попытались добиться преимуществ на других фронтах – прежде всего наладив мирное сотрудничество между США и коммунистическим Китаем при Дэн Сяопине. В 1980-е гг. две державы даже неформально сотрудничали, стремясь сделать российское вторжение в Афганистан все более дорогостоящей и в конечном итоге бесполезной авантюрой, но всячески избегая угроз развязывания ядерной войны.
Хотя американо-китайские отношения не вылились во всеобъемлющий союз, одной из определяющих особенностей стало избирательное и иногда тайное сотрудничество между двумя государствами. К концу последнего десятилетия ХХ и в начале XXI века изменилась конфигурация мировой силы и власти. Америка и Россия остались принципиальными соперниками, но Китай, имея на вооружении более скромный ядерный арсенал, становился все более грозной силой на Дальнем Востоке. Следовательно, три главных полюса мировой силы менее склонны прибегать к ядерным провокациям, но ради того, чтобы избежать глобального столкновения, США, Китаю и России необходимо соблюдать меры предосторожности и стремиться к сотрудничеству.
Для России ситуация в регионе стала особенно трудной. Нерусские республики, некогда входившие в состав Советского Союза, сегодня открыто утверждаются в своей национальной независимости и отказываются от участия в каких-либо структурах, напоминающих распавшийся СССР. Государства Центральной Азии, в большинстве из которых исповедуется ислам, решительно настроены претворить первоначально формальную независимость в развитие полноценной государственности. Это устремление также разделяют славянские православные страны, такие как Украина и Беларусь. Обе они твердо намерены стать суверенными государствами с собственным флагом, вооруженными силами и развивать более тесные связи с Европой.
Тем временем стратегическое проникновение Китая в Центральную Азию с целью получения прямого торгового доступа к Европе уже приводит к существенному ослаблению экономического господства России в восточной части бывшего Советского Союза. Отношения Китая с Россией, похоже, сулят Пекину еще более привлекательную краткосрочную альтернативу, хотя у обеих сторон имеются исторические обиды, заставляющие их с подозрением относиться к намерениям друг друга. Вот почему честолюбивая китайская инициатива «Один пояс – один путь» поставила Москву в неловкое положение, и теперь она старается притормозить и замедлить запланированное Китаем выстраивание торговых путей до самой Европы.
Население Амурской области в России – 830 тыс. человек. Во всем огромном по площади Дальневосточном регионе России проживает всего 6 млн человек. По другую сторону реки Амур, которая служит естественной границей между Россией и Китаем, находится китайская провинция Хэйлунцзян с населением 40 млн человек.
Этот контраст может спровоцировать геополитическое напряжение между Китаем и Россией в не слишком отдаленном будущем. В более долгосрочной перспективе самым зловещим предзнаменованием может быть крепнущая среди китайских военачальников надежда на то, что Китай в конце концов отвоюет огромные просторы Восточной Сибири, которые царская Россия захватила силой в середине XIX века. Таким образом, далекие и, по сути, незаселенные просторы Восточной Азии могли бы стать долговременной стратегической целью Китая в процессе геополитического восстановления этой усиливающейся азиатской державы.
В любом случае России приходится выстраивать все более сложные отношения с КНР и США, которые неизбежно будут сдерживать ее далеко простирающиеся амбиции. России удастся реализовать свои стремления, только если она освободится от иллюзии о возможности достижения превосходства на всем континенте и станет ведущим игроком в самой Европе.
В то же время приходится признать, что Америка стала проводить более двусмысленную политику в отношении Китая, в которой нет общего стратегического плана, столь характерного для все более любезных и добросердечных связей, складывавшихся между Вашингтоном и Пекином одно-два десятилетия тому назад. Соединенные Штаты должны помнить о серьезной опасности заключения стратегического альянса между Китаем и Россией, к которому их может отчасти подтолкнуть внутренняя политическая и идеологическая инерция, а отчасти непродуманная внешняя политика США. Соединенным Штатам не следует вести себя в отношении Китая так, как если бы он уже был врагом; важно также не отдавать явного предпочтения Индии как главному союзнику США в Азии, поскольку в этом случае более тесная связь между Китаем и Россией будет практически гарантирована. Для Соединенных Штатов не может быть ничего опаснее тесного союза этих двух держав.
Неудивительно, что США занимают в большей степени оборонительную позицию в политически пробуждающейся Евразии. Америка сохраняет присутствие в регионе благодаря находящимся под ее контролем островам Тихого океана, ее нахождение там свидетельствует о том, что Вашингтон заинтересован в поддержании безопасности в Евразии, и США открыто заявляют о намерении защищать Японию и Южную Корею. Но такая приверженность зависит от стратегической осторожности и решительности.
Соединенным Штатам также следует подтвердить готовность защитить Западную и Центральную Европу. Они должны быть способны реагировать военными средствами, вопреки сомнениям мирового сообщества в том, что Америка, если понадобится, перейдет к решительным действиям, и, быть может, даже тем более по причине подобных сомнений. Поэтому важно, чтобы США недвусмысленно донесли до Кремля, что не останутся в Европе пассивным наблюдателем. Соединенные Штаты не планируют создавать серьезные политические или военные контругрозы с целью изоляции России, но Кремль должен понимать, что если он посягнет на независимость Латвии или Эстонии, последует массированная блокада доступа России к Западу по Балтийскому морю. Перекрытие жизненно важных для России портов в Санкт-Петербурге и черноморского порта Новороссийск через пролив Дарданеллы пагубно скажется почти на двух третях всей российской торговли по морю.
Решительная реакция Соединенных Штатов не только резко ограничит способность России заниматься выгодной международной торговлей, но и даст необходимое время для ввода более серьезного американского и западноевропейского воинского контингента в Центральную Европу, дабы успокоить союзников США. При возможном нейтралитете Китая руководству России пришлось бы сделать не слишком приятный выбор между экономически губительной изоляцией и видимым, явным отводом войск.
Тем временем привлекательная более долгосрочная программа укрепления Китая может включать план Пекина по постепенной инфильтрации и поселению китайских рабочих на гигантских, но пустующих просторах северо-восточной Евразии. Не так давно Россия и Китай осуществили официальную демаркацию границ. Через эти границы в Россию постоянно перетекает немалый поток рабочей силы из КНР, тогда как мы не видим серьезных попыток российского правительства развивать существующие города или создавать новые поселения на пустующих просторах северо-восточной Азии (которые были присоединены к царской империи в середине 1850-х гг.).
В течение следующих нескольких десятилетий нынешние территориальные договоренности по северо-восточной Азии могут стать нестабильными в геополитическом смысле, временами даже взрывоопасными. В конечном итоге это способно ускорить начало самого длительного пересмотра критических водоразделов на огромном евразийском континенте. Очевидно, что Америка будет лишь удаленным наблюдателем, хотя может благоразумно расширять двусторонние связи и с Японией, и с Южной Кореей.
Проблема, которую представляет Северная Корея, потребует углубленного сотрудничества в сфере безопасности между США и Китаем, а также между Соединенными Штатами и Россией, которая, будем надеяться, станет страной, более ориентированной на Европу. И Китай, и Россия, вероятно, окажут большее влияние на политические перемены, возможные в Северной Корее, нежели США, предпринимающие поверхностные и разрозненные усилия в этом регионе.
Длительный период относительной стабильности и отсутствие большой войны может постепенно оказать совокупный позитивный эффект, способствуя медленной эволюции Северной Кореи в направлении примирения с мировым сообществом на основании гарантий более могущественных непосредственных соседей (Китая, США, Японии и, возможно, России).
Последний, но не менее важный фактор – продолжающиеся гражданские войны на Ближнем Востоке, подпитываемые религиозной ненавистью; потенциальные ядерные конфликты, которые способны развязать экстремисты в Иране, не говоря уже о геополитических амбициях пламенных турецких националистов, возможно, при поддержке российских военных. Любой из этих конфликтов может взорвать регион.
Идеальным геополитическим ответом стали бы тройственные отношения между США, Китаем и Россией. В этом контексте у России не будет другого выбора, как только принять реальность и необходимость улучшения отношений как с Китаем, так и с Соединенными Штатами. По мере усугубления неопределенности с потенциально разрушительными последствиями для всех трех крупных ядерных держав время размышлять о том, что могло бы случиться и все еще может произойти. В этом контексте Китаю пора задуматься, сможет ли он позволить себе избежать ответственности за то, что происходит в соседних странах. Могло бы это угрожать интересам Китая и подтолкнуть его к чрезмерно тесной военной связи с Россией, которая чревата угрозой их совместного противостояния США?
Будет ли Россия пользоваться большим уважением в мире, где три самые могущественные в военном отношении государства (Америка, Китай, Россия) углубят сотрудничество в вопросах, касающихся безопасности на Ближнем Востоке в краткосрочной перспективе? А в более длительной перспективе – в Восточном Тихоокеанском регионе, где амбиции Китая пока пребывают в сонном состоянии, хотя в будущем они могут быстро проснуться.
Все вышесказанное осложнится растущей вероятностью того, что серьезные климатические проблемы в мировом масштабе усугубят политические проблемы. Глобальное потепление уже оказывает более зловещее влияние, поскольку перспектива таяния льдов на обширной территории ставит под угрозу существование многих нынешних поселений. В совокупности все это может вызвать более сильную общественную тревогу и озабоченность, чем стратегическая неопределенность, ставшая сегодня фактом жизни в таких масштабах, с которыми наше все более уязвимое человечество никогда еще не сталкивалось.
Таким образом, региональное сотрудничество потребует общего мозгового штурма и политической воли для совместной работы, невзирая на исторические конфликты и присутствие ядерного оружия, всегда потенциально разрушительного, но не способного привести к односторонней политической победе даже по истечении 70 лет.
Данный материал представляет собой изложение речи, которую Бжезинский произнес в декабре на форуме, посвященном вручению Нобелевской премии мира в Осло. Опубликовано в издании Huffington Post.

«Тайваньская премьера» Трампа – предпосылки и последствия
«Новая политика» в отношении КНР может раздуть угли регионального конфликта
Евгений Мищин – специалист по Азиатско-Тихоокеанскому региону.
Резюме Неуклюжие маневры Трампа, если только он и правда не собирается признавать Тайбэй вместо Пекина, могут самым негативным образом сказаться на политической ситуации на острове, перечеркнуть процесс примирения двух берегов Тайваньского пролива.
Еще не вступив в должность, избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал заявления, растревожившие международную общественность. В частности, на передний план мировой политики на несколько декабрьских дней вдруг вышел небольшой остров Тайвань, который нечасто попадает в ленты новостей. Однако благодаря телефонному разговору Трампа с тайваньским лидером Цай Инвэнь миру напомнили, что у Тайваня есть, оказывается, президент и что это не совсем Китай. Более того, в эфире телеканала Fox избранный президент США пригрозил отказаться от политики «одного Китая», если Пекин не проявит гибкости в торговых вопросах. Чтобы оценить высказывания Трампа и их потенциальные последствия, необходимо устроить небольшой экскурс в историю.
От Гоминьдана до «подсолнухов»
Многие ошибочно полагают, что Тайвань – это еще одно непризнанное (или частично признанное) мировым сообществом государство, однако это не так. Остров никогда не объявлял независимости. Тайваньцы считают себя преемниками основанной в 1911 г. Китайской Республики, в состав которой входила большая часть материкового Китая. С 1895 по 1945 гг. Тайвань входил в состав Японской империи. Капитуляция Японии, казалось бы, устранила препятствия для воссоединения страны, однако все оказалось не так просто. В 1949 г. после победы коммунистов в гражданской войне сторонники партии Гоминьдан во главе с генералиссимусом Чан Кайши бежали на Тайвань (всего около 2 млн человек).
Естественно, китайские коммунисты считали возвращение острова делом чести, чаша весов в военном противостоянии постепенно склонялась в их пользу, однако вмешались американцы. В декабре 1954 г. был подписан и в марте 1955 г. вступил в силу американо-тайваньский Договор о взаимной обороне (Sino-American Mutual Defense Treaty), в соответствии с которым стороны обязались «сохранять и развивать индивидуальную и коллективную способность противостоять вооруженному нападению и подрывным коммунистическим действиям». Тайвань предоставил американцам право использовать в этих целях свою территорию, воздушное и морское пространство.
В январе 1955 г. Конгресс США принял так называемую «формозскую резолюцию», которая содержала обязательство защищать «территорию Китайской Республики» в случае вторжения войск КНР. Пекину подобную пилюлю пришлось проглотить, однако с потерей Тайваня он не смирился и в 1958 г. предпринял еще одну попытку вернуть остров военным путем. Американцы вновь вмешались, правда, не напрямую, а предоставив острову некоторые виды вооружений. В течение почти 20 лет значительное большинство государств считали Китайскую Республику, существовавшую на Тайване, единственным легитимным представителем китайского народа. Тайвань, в частности, заседал в ООН и обладал правом вето в Совете Безопасности. Однако в начале 1970-х гг. начался постепенный, весьма болезненный для руководства острова процесс нормализации отношений между Вашингтоном и Пекином. Американцы уже не могли игнорировать растущий вес материкового Китая. 1 января 1979 г. США признали КНР, однако от поддержки Тайваня не отказались, хотя и приняли к сведению в Шанхайском коммюнике 1972 г. с Пекином «стремление всех китайцев к единому и неразделенному Китаю».
В апреле 1979 г. президент Джимми Картер взамен потерявшего смысл Договора о взаимной обороне подписал во многом перекликающийся с ним Акт об отношениях с Тайванем (Taiwan Relations Act). В этом документе речь идет уже не о Китайской Республике, а о «управляющих властях Тайваня». В соответствии с ним были сформированы фактические посольства двух стран в Тайбэе и Вашингтоне, Соединенные Штаты взяли на себя обязательство предоставить Тайваню в необходимых количествах средства для поддержания «самодостаточной обороны». Любые попытки определить будущее Тайваня иными, кроме мирных, средствами, включая бойкоты и эмбарго, станут предметом «крайней озабоченности» для США.
В 1982 г. Рональд Рейган согласился поддержать сформулированные тайваньцами «шесть гарантий», которые предусматривали, что американцы не прекратят поставки вооружений и не будут консультироваться об этом с КНР; не изменят положений Акта об отношениях с Тайванем; не будут посредничать между Пекином и Тайбэем; не изменят позиции о том, что вопрос о суверенитете Тайваня может быть решен самими китайцами мирными средствами; не станут побуждать Тайвань к переговорам с КНР и, наконец, самое важное – формально не признают суверенитет КНР над Тайванем.
Было бы ошибкой полагать, что остров и материк не имеют никаких отношений. Долгое время Тайвань принципиально не общался с Китайской Народной Республикой. В частности, в 1979 г., после того как Тайвань потерял признание международного сообщества в качестве «правильного Китая», Чан Кайши отверг предложение Дэн Сяопина установить прямое почтовое и авиационное сообщение между двумя берегами Тайваньского пролива, а также развивать торговые связи. Однако в 1986 г. Тайваню пришлось вступить в диалог с материком для решения вопроса о возврате угнанного в Гуанчжоу грузового самолета и его экипажа. После этого возглавлявший остров в то время сын Чан Кайши Цзян Цзинго пошел навстречу многочисленным просьбам жителей острова и разрешил общение членов семей, разделенных гражданской войной. Такая ситуация создала предпосылки для появления в 1990 г. на Тайване неправительственного Фонда обменов через Тайваньский пролив, курируемого правительственным Советом по делам материкового Китая. КНР ответила симметрично, и после нескольких раундов встреч было сформулировано рубежное, с точки зрения Пекина, представление о том, что существует только один Китай, и каждый из берегов пролива волен интерпретировать это так, как ему захочется. Данное понимание закрепилось под названием «Консенсус 1992 года». Однако после избрания в 1996 г. первого демократически избранного лидера острова Ли Дэнхуэя (формально он находился у власти с 1988 г. после смерти Цзян Цзинго) и особенно первого президента от оппозиционной Демократической Прогрессивной партии (ДПП) Чэн Шуйбяня, продвигавшего тезис о независимости Тайваня, контакты (прежде всего политические) между Пекином и Тайбэем практически прекратились.
Ренессанс пришелся на период нахождения у власти в 2008–2016 гг. следующего президента от партии Гоминьдан – Ма Инцзю, который вместо независимости начал продвигать тезис о «тайваньской идентичности». «Консенсус 1992 года» вновь стал краеугольным камнем отношений. Тайваньский Фонд обменов через Тайваньский пролив и его аналог в КНР, Ассоциация по развитию связей между сторонами Тайваньского пролива, де-факто выполняли роль посольств. Последовали договоренности о допуске китайских туристов на остров, взаимных инвестициях, торговле, интенсифицировались политические контакты, повышался их уровень. В 2010 г. между Тайванем и КНР подписано Рамочное соглашение об экономическом сотрудничестве, взаимная торговля достигла почти 200 млрд долларов США.
Однако столь быстрое сближение с Пекином вызвало неприятие значительной части тайваньского общества, опасавшейся, что Китай экономическими рычагами хочет вернуть себе мятежный остров. Накануне подписания Рамочного соглашения возникло весьма активное гражданское движение, поддерживаемое оппозиционной ДПП, в пользу проведения референдума о целесообразности заключения каких-либо торгово-экономических договоренностей с КНР. Опросы общественного мнения указывали на то, что чаша весов склонилась бы не в пользу Гоминьдана и Ма Инцзю не дал провести плебисцит. По острову прокатились протесты, в парламенте развернулись настоящие бои, однако сторонники действующей власти выстояли. Весной 2014 г., когда на голосование было поставлено соглашение с КНР о торговле услугами, в парламент ворвались участники студенческого «движения подсолнухов» и их сторонники. Они не покидали здание до тех пор, пока рассмотрение соответствующего законопроекта не было отменено.
С тех пор популярность действующей администрации острова стала неуклонно снижаться. Действия «подсолнухов» получили позитивный резонанс и поддержку в тайваньском обществе, президента Ма Инцзю стали обвинять чуть ли не в работе на Пекин. В КНР серьезно занервничали. В ноябре 2015 г. состоялась историческая встреча председателя КНР Си Цзиньпина и Ма Инцзю, призванная, по мнению наблюдателей, повлиять на результат президентских выборов на Тайване в январе 2016 года. Однако этот шаг Пекина возымел обратный эффект, и к власти на острове при поддержке почти 60% избирателей пришла лидер оппозиционной ДПП Цай Инвэнь, которая еще на предвыборном этапе высказывалась против пресловутого «консенсуса 1992 года».
Эквилибристика на «красной линии»
В Пекине приход к власти политика, поддерживавшего «подсолнухов» и выступавшего против торговых соглашений с материком, расценили как прелюдию к независимости острова. Такой сценарий – «красная линия» для КНР, перейти которую Пекин не позволит ни при каких обстоятельствах. И чтобы было понятнее, китайские власти предприняли ряд рестриктивных шагов, демонстрирующих острову, что ругаться с «большой землей» совсем не следует. Прежде всего очень быстро, почти на треть, сократилось число прибывающих с материка туристов, которых к моменту начала межкитайских «разборок» ежегодно приезжало около трех миллионов. Казалось бы, заменить их не составит труда. Но не тут-то было: континентальные китайцы в среднем проводят на Тайване 10 дней и ездят по самым разным его уголкам, где туристу, не владеющему китайским и не интересующемуся китайской историей и культурой, делать практически нечего. Как следствие начали разоряться мелкие гостиницы, особенно на юге и востоке острова, и транспортные компании, перевозившие в основном соседей через Тайваньский пролив. Осенью Тайбэй сотрясли массовые акции протеста занятых в этих сферах тайваньцев, рейтинг поддержки президента Цай Инвэнь упал с 60% до 40%. Кроме того, Пекин стал закупать меньше тайваньских сельхозпродуктов, что на острове также быстро прочувствовали.
Может возникнуть вопрос, а чего, собственно, хотят сейчас китайские власти от Тайваня? Вроде бы ультиматумов о воссоединении Пекин в последние годы не выдвигал, да и понятно, что тайваньское общество на схемы, подобные гонконгской (одна страна – две системы), добровольно не пойдет. Пока власти КНР лишь настаивают на формальном подтверждении Цай Инвэнь приверженности «консенсусу 1992 года». С точки зрения Пекина, главное, что из него вытекало – невозможность существования Тайваня как независимого государства, а то, что остров при этом продолжал претендовать на легитимность исключительно Китайской Республики (не путать с Китайской Народной Республикой), пекинские власти сильно не задевало.
Цай Инвэнь при любом удобном случае заявляет, что не приемлет требований КНР, в лучшем случае она готова ссылаться на «консенсус» как на исторический факт. При этом она обещает действовать в соответствии с волей тайваньских избирателей и на основе «Конституции Китайской Республики». Ситуация складывается весьма запутанная – ни независимости, ни «консенсуса». Молодые же тайваньцы зачастую воспринимают существование Китайской Республики лишь как дань историческим традициям, многие открыто говорят, что китайцами себя не считают. Тем более что прибывающие на остров туристами собратья с материка, сознание которых формировалось в принципиально иных идеологических и экономических условиях, весьма сильно от них отличаются с точки зрения культуры, воспитания, образования. Язык вроде бы один, но отличия все равно есть, в частности, традиционные иероглифы, которые тайваньцы в свое время не стали упрощать вслед за Пекином. Плохо понимают тайваньцы и идеологические штампы и сокращения, укоренившиеся в лексиконе жителей КНР. Раздается все больше призывов называть остров не Китайской Республикой, не Китайским Тайбэем (под такой вывеской он был принят в ряд международных организаций и форматов), а исключительно Тайванем. А от таких настроений до независимости, опасаются в Пекине, всего один шаг. Тем более что все признаки независимого государства у Тайваня и так налицо, включая экономическую стабильность, которая не снилась многим «настоящим» государствам.
Председатель КНР Си Цзиньпин и другие официальные лица не раз давали понять, что за объявлением независимости последует неминуемый военный ответ. Трудно, конечно, сказать, пойдет ли здесь Пекин до конца, и самое главное – как на это отреагирует главный гарант нынешнего статуса Тайваня – США. С учетом возросшей в последние годы военной мощи КНР остров вряд ли продержится долго – как признаются сами тайваньские военные, максимум пару недель, до прибытия «защитников из Вашингтона». Только вот прибудут ли они? Сомнений в этом в последнее время возникало все больше, слишком уж нежелательным выглядит военное столкновение Пекина и Вашингтона.
И вот в этих условиях избранный президент США Трамп не только нарушает рамки сложившегося в последние десятилетия в американо-тайваньских отношениях «этикета», но и недвусмысленно намекает, что Соединенные Штаты могут отказаться от политики «одного Китая». Что может стоять за подобным «дипломатическим прорывом» и чем это грозит региону и миру в целом?
Вашингтон на распутье
Если принять все сказанное Трампом за чистую монету, то картина вырисовывается не самая радужная. Отказ от политики «одного Китая» подразумевает фактическое признание независимости Тайваня, если власти острова, возбужденные такой перспективой, решатся ее объявить. Не нужно быть экспертом в региональных делах, чтобы представить себе, что Пекин не будет сидеть сложа руки, военный сценарий решения тайваньской проблемы при этом практически неизбежен. В итоге – острейший региональный, а возможно и общемировой, кризис, новый раскол мирового сообщества (рискну предположить, что сторонников у Пекина, пусть даже и не преисполненных чрезмерным энтузиазмом, будет большинство). Тайвань вряд ли от этого выиграет, ведь остров очень зависит от экспорта своей продукции, да и туристов военный конфликт или его перспектива, разумеется, отпугнет. А назад потом не отыграешь – мол, погорячились, Китай мы, Китай, просто «не материковый».
Вряд ли будущий хозяин Белого дома настолько несведущ в мировых делах или ему совсем не с кем посоветоваться по этому вопросу. Значит, дело в другом. Трамп угрозой нарушить сложившийся в Тайваньском проливе статус-кво сознательно хочет спровоцировать Пекин, заставить его нервничать. Только вот сработает ли этот расчет? Нельзя исключать, что Си Цзиньпин как раз уцепится за этот повод, чтобы перейти, наконец, к практическому решению тайваньского вопроса. В случае успеха его авторитет в китайском обществе, сталкивающемся со все более серьезными экономическими проблемами и внутренними вызовами, заметно укрепится.
А что же тайваньцы? Как они отнеслись к заявлениям Трампа? Есть те, кому перспектива американо-китайских разборок, изменения политики Вашингтона в отношении острова действительно вскружила голову. Наконец-то, рассуждают они, Вашингтон, да и весь «прогрессивный мир», перейдет от вербальной поддержки тайваньской демократии к реальным шагам. Подобных мечтателей, надо признать, не очень много. Но они есть. Как минимум, считают они, Тайвань должен сегодня заняться более активным самопиаром в США, чтобы усилить позитивное впечатление будущего главы Белого дома. Однако большинство тайваньских экспертов сложившаяся ситуация серьезно насторожила и натолкнула на мысль о том, что Трамп, скорее всего, решил попугать Китай в надежде на уступки Пекина в торговых вопросах. Тайвань же в этой игре двух сверхдержав сыграет роль разменной монеты и в итоге окажется один на один с Китаем без американской поддержки.
В общем, ситуация парадоксальная – у островитян вроде бы есть все основания для радости, но на деле все для них лишь осложнилось. Неуклюжие маневры Трампа, если только он и правда собирается признавать Тайбэй вместо Пекина, могут самым негативным образом сказаться на политической ситуации на острове, перечеркнуть или по крайней мере очень существенно осложнить и без того вставший на паузу процесс примирения двух берегов Тайваньского пролива.
Много вопросов возникает и в связи с линией Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. Сохранится ли его значение в качестве жизненно важного региона США? Пойдет ли Трамп на жесткие шаги для обеспечения свободы мореплавания в Южно-Китайском море, которое КНР недвусмысленно считает своей территорией? Какова будет торговая повестка новой администрации, уже почти отказавшейся от Транстихоокеанского партнерства?
С тревогой за нарождающейся азиатской политикой Трампа следят и в Японии – еще одном важнейшем региональном государстве. У Токио были свои причины поволноваться, ведь новоизбранный американский президент в ходе предвыборной кампании обещал оставить японцев без военной поддержки, если те не покроют все расходы по содержанию на островах американских войск, расквартированных там после поражения милитаристской Японии во Второй мировой войне. Сама тема иностранного военного присутствия крайне чувствительна для японцев. Как проигравшие они были вынуждены конституционно ограничить свою армию компетенцией «сил самообороны». В этих условиях фактически только Армия США, имеющая базу на острове Окинава, гарантирует безопасность Токио. С базой за последние десятилетия было связано много неприятных для американских военнослужащих инцидентов, японское общество, мягко говоря, не в восторге от сложившейся ситуации, однако приспособилось к ней. Кроме того, присутствие США на японских островах стало своего рода психологической гарантией для пострадавших от японского милитаризма государств региона, что Токио больше не будет агрессором.
Если американцы решат уйти, этот статус-кво в регионе может вообще перекроиться. Отдельные силы в Токио, скорее всего, обрадуются и воспримут происходящее как конец «азиатского Версаля». Премьер-министр Синдзо Абэ явно настроен изменить сдерживающую развитие японской армии Статью 9 Конституции страны, для этого потребуется провести референдум, и нужная ему общественная поддержка, похоже, постепенно вызревает. В том, что у японцев на это есть и средства, и технологии, сомневаться не приходится. Таким образом, у Китая уже через несколько лет вполне может появиться весьма мощный военный противник в регионе помимо США.
Но это пока более отдаленная перспектива. Тайвань, выживание которого во многом зависит от американской политической и военной поддержки, смотрит на все происходящее с нескрываемым беспокойством. Наверное, более бдительными следует быть и другим членам мирового сообщества, включая Россию, чтобы избежать риска военного конфликта в столь непростом с геополитической точки зрения регионе.
Пекин явно будет стараться заручиться нашей поддержкой любых мер по «воссоединению Родины», однако в тайваньском вопросе слишком много нюансов и исторических наслоений, чтобы до конца считать его внутренним делом КНР. Да и «класть все яйца в одну корзину», во всем потакая китайскому соседу, наверное, было бы неправильно. Курс на развитие взаимовыгодных российско-японских связей, декларируемый президентом Путиным к плохо скрываемому раздражению Пекина, подтверждает, что в Москве это понимают.
Отдельная тема – территориальные споры в Южно-Китайском море, которое КНР, игнорируя мнение соседей, считает своим внутренним водоемом. Если бы не американские военные корабли, китайцы явно действовали бы еще более нахраписто и риски военных столкновений с такими странами, как Вьетнам или Филиппины, существенно возросли бы.
Гипотетический уход США из региона отвечал бы нашим интересам и стратегически стал бы большим шагом вперед, однако этот сценарий должен сопровождаться серьезными международными гарантиями Тайваню в том, что существующие противоречия острова с материком не будут решаться военным путем. В противном случае мы рискуем получить еще одну горячую точку, которая вместе с северокорейской ядерной проблемой может превратить регион в пороховую бочку.

Узбекский транзит для Центральной Азии
Смена поколений продолжается
Станислав Притчин – кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН, руководитель аналитического центра ECED.
Резюме В условиях неразвитости политических институтов, отсутствия опыта передачи власти стабильность государства в период транзита всецело зависит от способности элиты поставить общественные интересы выше собственных и найти консолидированное решение.
4 декабря 2016 года в Узбекистане состоялись досрочные президентские выборы. Впервые в истории независимого Узбекистана кампания проходила без бессменного президента Ислама Абдуганиевича Каримова, который скоропостижно скончался 2 сентября. В выборах приняли участие четыре кандидата, от каждой из зарегистрированных и действующих политических партий. Но безусловным фаворитом с самого начала считался Шавкат Мирзиёев, опытный и авторитетный в республике политик, который с 2003 г. занимал пост премьер-министра. В итоге он набрал наибольшее количество голосов – 88,61%. Официально победив на выборах, Мирзиёев обозначил приоритеты своего пятилетнего срока, и некоторые из них выглядят совершенно революционными, например, введение прямых выборов хогимов (глав областей), реформирование госслужбы. Таким образом, Узбекистан действительно вступил в совершенно новую для себя эпоху, а принимая во внимание его вес в Центральной Азии, соседи по региону не смогут не учитывать ход узбекского транзита.
Особенности транзита власти в Центральной Азии
Процесс транзита власти в постсоветских государствах Центральной Азии является одним из самых серьезных вызовов для их стабильности. Все дело в особенностях политической культуры, сложившейся под влиянием исторического наследия (советский период с отстроенной вертикалью власти, патерналистский подход населения к государству), а также местных традиций (сакральность власти). Практически для всех государств региона характерна суперпрезидентская политическая модель, в которой глава государства выступает в качестве единственного и важнейшего центра власти. С некоторыми оговорками это относится и к Киргизии с ее формально парламентско-президентской системой.
Данная модель позволяет обеспечивать, во-первых, внутриполитическую стабильность, когда глава государства выступает арбитром в противостоянии политических, региональных и экономических групп влияния. Во-вторых, в условиях неразвитости гражданского общества и институтов контроля власти она является основным условием управляемости и эффективности государственного аппарата, когда все члены правительства отвечают перед главой государства за проделанную работу. В-третьих, именно глава государства выступает в качестве и формального, и номинального гаранта суверенитета и выразителя национальных интересов на международной арене. Слабой стороной президентской модели является ее зависимость от личности главы государства.
В условиях неразвитости политических институтов, отсутствия опыта передачи власти стабильность государства в период транзита всецело зависит от способности политической элиты поставить общественные интересы выше собственных и найти консолидированное решение при выборе следующего президента.
Важно отметить, что для России смена персоналий, стоящих у руководства в странах региона, является принципиальным вопросом. Личный контакт Владимира Путина с главами государств, и не только в Центральной Азии, является важнейшим элементом российской внешней политики. Не были исключением и отношения с Исламом Каримовым. Поэтому остановку Владимира Путина в Самарканде на обратном пути из Китая и посещение могилы первого президента Узбекистана можно расценивать не только как эффектный внешнеполитический шаг, но и возможность для российского лидера попрощаться с многолетним партнером и личным другом.
За четверть века в странах Центральной Азии произошло всего несколько случаев передачи власти. В 1994 г. в Таджикистане после гражданской войны в качестве компромиссной фигуры к власти пришел Эмомали Рахмонов (Рахмон с 2007 года). В марте 2005 г. народные волнения в Киргизии привели к бегству Аскара Акаева и приходу оппозиционеров к управлению государством, которое возглавил Курманбек Бакиев. Новый глава Киргизии не только быстро переиграл вчерашних партнеров по оппозиции, но и сумел в короткие сроки сконцентрировать в своих руках и руках своей семьи власти и полномочий больше, чем было у его предшественника. Уже в 2010 г. Бакиев был вынужден бежать из республики в ответ на массовые акции протеста. Временное правительство инициировало Конституционную реформу по переформатированию республики в парламентскую. Однако реализация идей парламентаризма на фоне ослабления всех государственных институтов привела к перенесению в парламент политической борьбы и параличу работы госорганов. Только после того как в 2011 г. президентом был избран Алмазбек Атамбаев, коалиции во главе с пропрезидентской Социал-демократической партией удалось создать единый центр принятия решений, позволивший республике выйти из управленческого кризиса.
В Туркмении смена высшей власти была связана со смертью в декабре 2006 г. Сапармурата Ниязова – первого из плеяды первых секретарей республиканских комитетов партии, кто стал президентом. Транзит власти прошел очень быстро, путем закулисных переговоров. При этом должность временно исполняющего обязанности президента по Конституции должен был занять спикер сената, но вместо него временным главой республики стал заместитель председателя правительства Гурбангулы Бердымухамедов. В феврале 2007 г. он уверенно выиграл досрочные президентские выборы, набрав 89% голосов избирателей.
Особенности узбекского транзита
На протяжении последних лет среди возможных преемников Ислама Каримова числились несколько политических тяжеловесов узбекской политики. Занимающий с 2003 г. пост премьер-министра уроженец Джизака Шавкат Мирзиёев, вице-премьер, министр финансов уроженец Ташкента Рустам Азимов, старшая дочь президента Гульнара Каримова и занимающий пост главы СНБ с 1995 г., влиятельный 72-летний Рустам Инноятов. Очевидно, что список был достаточно условным, не отражал реалии узбекской политики и не учитывал неформальные властные расклады и альянсы, играющие первостепенную роль.
К моменту старта транзита власти даже в этом условном списке не оказалось дочери президента Гульнары Каримовой, которая еще при жизни отца потеряла шансы претендовать на власть. Также с трудом верилось, что непубличный Рустам Инноятов вдруг решит выйти из тени и официально возглавить республику. Появление же «темных лошадок» выглядело маловероятным, так как любой кандидат должен был не только пройти процедуру согласования внутри элиты, а значит иметь авторитет и высокий уровень влияния, но и быть избранным на всенародном голосовании. Поэтому наиболее вероятными кандидатами в преемники считались Мирзиёев и Азимов.
Вопрос о том, кто заменит Каримова, был решен в результате закрытых переговоров. Об этом мы можем судить по единой, логичной цепочке решений. Сначала постановлением парламента премьер-министр Шавкат Мирзиёев был утвержден главой комиссии по организации похорон первого президента. Спустя несколько дней во время совместного заседания двух палат парламента утвердили самоотвод спикера сената Нигматилла Юлдашева с поста временного главы республики, который он должен был занять по Конституции 2011 г. в случае смерти президента или потери им дееспособности до момента избрания нового главы. Вместо спикера единогласным решением депутатов временно исполняющим обязанности президента был избран Шавкат Мирзиёев. Досрочные выборы назначили на 4 декабря 2016 года.
У зарубежных экспертов вызвало критику решение о самоотводе спикера сената и утверждение премьера на должность врио президента. Статьи 95 и 96 Конституции, регламентирующие процедуру объявления досрочных выборов и назначения временного главы государства на случай смерти или недееспособности действующего, не прописывают подобного рода нюансы. Вместе с тем премьер-министр в узбекской политической иерархии является третьим лицом, и в такой ситуации логично и формально обоснованно, что именно он заменил Юлдашева после его самоотвода. Необходимо понимать и особенность политической культуры и традиций Узбекистана. Сакральность позиции главы государства настолько высока, что сложно представить себе два центра власти даже на короткий период – врио президента и наиболее вероятный кандидат. Это, с одной стороны, могло бы привести к опасным закулисным играм, а с другой – создать в общественном сознании, пусть и на время, двоевластие. Вспоминается пример из новейшей истории Киргизии, считающейся наиболее демократичным государством в регионе. В 2005 г., сразу после свержения Аскара Акаева, лидер оппозиции Курманбек Бакиев совмещал аж две ведущие позиции – и.о. президента и премьера – и в итоге вышел победителем в противостоянии со своим политическим оппонентом Феликсом Куловым.
Особенностью узбекского транзита стала его максимальная консолидированность. К стабилизирующим факторам можно отнести следующие. Никто из игроков, претендующих на высший пост, не стремился расшатывать ситуацию и дестабилизировать общественно-политическую обстановку – в таком случае проигравшей была бы любая группа, пришедшая к власти. Более того, все претенденты были заинтересованы в сохранении строгой вертикали, максимальной монолитности политического класса. В такой ситуации основные конкурирующие группы предпочли закулисные переговоры, выдвижение единого кандидата вместо публичных разборок. Вторым важным стабилизирующим фактором, без сомнения, выступил глава СНБ Рустам Иноятов, который в силу возраста не имел личных президентских амбиций и, вероятнее всего, сыграл роль ключевого модератора процесса выбора кандидатуры нового президента Узбекистана и ее согласования с основными политическими игроками.
Узбекистан после Каримова
Каким будет Узбекистан после Ислама Каримова? Вопрос не праздный не только для 32-миллионного населения республики, но и в целом для Центральной Азии. Это единственное государство, граничащее со всеми центральноазиатскими республиками и с Афганистаном, при этом географически оно занимает центральную часть региона. Узбекские диаспоры есть во всех соседних странах, более того, в некоторых являются вторыми по численности, например в Киргизии. Узбекская армия считается самой крупной и боеспособной в Центральной Азии в том числе и потому, что значительная часть инфраструктуры и военной техники советского Туркестанского военного округа осталась на территории республики. Экономически Узбекистан в регионе уступает только Казахстану. Республике удалось в основном сохранить существовавший на момент распада СССР промышленный потенциал, создать новые отрасли, такие как автомобилестроение, а также диверсифицировать сельское хозяйство и снизить зависимость от производства водоемкого хлопка. Не все, конечно, радужно. Высокая рождаемость, достаточно закрытая для иностранных инвесторов модель экономики, удаленность от рынков сбыта, слабая развитость транспортной инфраструктуры, дефицит ресурсов не позволили создать необходимое количество рабочих мест. В итоге Узбекистан является главным поставщиком трудовых мигрантов в Казахстан и Россию. Неудивительно, что, выступая в парламенте перед утверждением в качестве врио главы государства, Шавкат Мирзиёев заявил, что в ближайший год нужно будет создать как минимум миллион новых рабочих мест, 480 тыс. из них – для выпускников профтехучилищ.
Обозначенные в ходе кампании и после ее успешного завершения реформы должны коснуться всех сфер жизни. Новый президент предложил несколько важных инициатив, нацеленных на улучшение инвестиционной среды: вводятся ограничения на внеплановые проверки бизнеса госорганами, предложен пакет мер по облегчению процедуры конвертации местной валюты – ключевой проблемы для иностранных инвесторов. Мирзиёев призвал рассмотреть возможность избрания хокимов (руководителей областей) через всенародные выборы. Если инициатива будет реализована, это станет прецедентом для региона, так как во всех странах Центральной Азии главы местных образований назначаются и снимаются президентами. Также заявлена серьезная административная реформа. В настоящее время разрабатывается Концепция реформы административного управления, рассчитанная на 2017−2021 годы.
При этом сохраняется жесткая вертикаль власти, продолжен курс на строгую секуляризацию общественной и политической жизни и недопущение распространения идей радикального ислама.
На нынешнем этапе не стоит ожидать серьезных изменений внешнеполитических приоритетов Узбекистана. Только после того как все внутриполитические вопросы будут решены, сформируется новый баланс сил, возможна определенная корректировка приоритетов на внешней арене. Для нового президента первоочередной задачей будет получить поддержку и признание своей легитимности у ключевых игроков – России, Китая и США.
Если говорить о долгосрочных интересах, то для Узбекистана важно развивать сотрудничество с Москвой, так как более 2 млн граждан республики работают в России, она также является важным экономическим партнером и крупнейшим инвестором, в первую очередь в нефтегазовую сферу. Не исключается определенное движение в сторону ЕАЭС, но пока не на уровне полноценного членства. С Пекином продолжится тесное сотрудничество, так как Китай – важный инвестор в первую очередь в транспортный сектор, крупный покупатель газа, добываемого в республике. Но осторожность в отношении такого мощного регионального игрока, как Китай, скорее всего, сохранится, так что, вероятно, предложенная Пекином зона свободной торговли с Узбекистаном так и останется проектом. С западными странами ситуация несколько иная – здесь нет серьезной экономической базы сотрудничества. Многое будет зависеть от оценок выборов в Узбекистане и готовности к диалогу с новым главой республики.
О предпочтениях и приоритетах второго президента во внешней политике мы можем судить по программному выступлению Шавката Мирзиёева во время утверждения его врио главы государства. Интересно, что на первом месте в списке партнеров обозначены страны – соседи по Центральной Азии, а уже только затем Россия, Китай, США, Япония и Южная Корея. Что это может означать? С Астаной у Ташкента сложился прагматичный стратегический союз. Это подтвердил и состоявшийся спустя несколько дней после похорон визит президента Нурсултана Назарбаева в Самарканд на могилу к своему многолетнему партнеру и его встреча с Мирзиёевым.
Как будут развиваться связи с Киргизией и Таджикистаном, с которыми, как известно, у Ташкента достаточно напряженные отношения? Основные причины такого положения вещей – нерешенный пограничный вопрос, что особенно остро проявляется в перенаселенной Ферганской долине, а также предельно конфликтная водно-энергетическая тема. Эти проблемы никуда не уйдут. Вместе с тем в условиях, когда внешнюю политику определяют президенты, их личный контакт имеет большое значение. Так, например, Эмомали Рахмон прилетел на похороны Каримова, несмотря на то что имел с ним не самые простые личные отношения. Более того, он провел встречу с будущим вероятным главой соседней республики, что дает надежду на создание более конструктивной атмосферы для переговоров по болезненным вопросам. Президент Киргизии не присутствовал на траурной церемонии, но отправил письмо с соболезнованиями, республику же на похоронах представлял премьер-министр. Интересно, что подготовка к выборам в Узбекистане не повлияла на проведение запланированных узбекско-киргизских консультаций по делимитации границы, которые состоялись 16–20 сентября в Джалал-Абаде и Оше и закончились подписанием предварительного протокола. Это лишний раз показало, что работа по решению спорных вопросов продолжена. Шавкат Мирзиёев постарается в качестве нового главы Узбекистана разрешить часть проблем и противоречий, затруднявших полноценное сотрудничество с соседями, и вывести его на новый уровень.
Если же говорить о рисках, связанных с переходом власти, то они в первую очередь связаны с внутриполитической ситуацией. Ислам Каримов был ключевой фигурой системы и, находясь над схваткой, обеспечивал стабильность за счет баланса основных политических и региональных групп влияния. Сейчас в качестве ключевого игрока выступает Шавкат Мирзиёев, представитель одной из таких групп. Это означает, что в ближайшей перспективе будет происходить усиление его группы, а значит можно прогнозировать перераспределение сфер влияния в политике и экономике. Под ударом может оказаться вице-премьер, министр финансов Рустам Азимов. Хотя по итогам первых кадровых решений, предпринятых врио президента, его полномочия были даже несколько расширены. В любом случае обострение внутриэлитной борьбы после избрания президента вряд ли приведет к дестабилизации в республике, а будет ограничено перераспределением влияния между властными группами.
Узбекский прецедент и регион Центральной Азии
Все без исключения соседи внимательно следят за происходящим в республике. Спустя всего две недели после смерти Ислама Каримова в Туркменистане и Казахстане произошли заметные изменения. Так, руководство Туркменистана на фоне узбекских событий завершило, наконец, реформирование Конституции, которое началось еще в мае 2014 года. В обновленном основном законе отменен возрастной ценз для кандидатов на пост президента, а президентский срок увеличен с 5 до 7 лет. Таким образом, для нынешнего главы республики Гурбангулы Бердымухаммедова сняты любые ограничения на занятие поста главы республики.
Возможно ли повторение узбекского опыта в Казахстане? Объективно это был бы оптимальный сценарий, когда политическая элита вырабатывает консолидированное решение и находит компромиссную фигуру, устраивающую основные группы влияния. Но реализовать такой сценарий будет сложнее по нескольким причинам. Во-первых, Казахстан более открытое, чем Узбекистан, государство, в котором фактор публичной политики, медиа, в том числе оппозиционных, имеет серьезное значение. Во-вторых, элита Казахстана менее консолидирована, по крайней мере внешне. Есть конкурирующие бизнес-группы со своим представительством в руководстве республики и медиа-активами. В-третьих, у Казахстана, по моему субъективному мнению, нет таких стабилизирующих фигур, как Рустам Иноятов, с реальными полномочиями, с огромным авторитетом и без личных политических амбиций. Есть Нуртай Абыкаев, ближайший соратник президента республики, но он покинул пост главы КНБ. Вместе с тем последние перестановки, проведенные Нурсултаном Назарбаевым спустя неделю после похорон Каримова, говорят о том, что узбекский опыт тщательно изучен. Так, на пост главы КНБ назначен тяжеловес казахстанской политики, премьер-министр Карим Масимов, который в течение последних лет считался человеком номер два в республике. Казахстанским политическим и экспертным сообществом он не рассматривается в качестве кандидата на пост следующего президента ввиду его национальности (считается, что Масимов наполовину уйгур), поэтому назначение его руководителем главной спецслужбы воспринимается как желание президента Назарбаева политически усилить КНБ на период смены власти. Параллельно проведены несколько перестановок, которые скорее запутали наблюдателей. Так, дочь президента Дарига Назарбаева неожиданно отправлена с поста вице-премьера в сенат, зато в правительство из Министерства обороны перешел Имангали Тасмагамбетов. Оба политика рассматриваются в качестве возможных преемников Назарбаева. Таким образом, узбекский транзит как минимум ускорил подготовку к предстоящему переходу власти в Казахстане и задал позитивный сценарий для этого процесса.

Трения или столкновение?
Запад и Восток: как говорить и о чем договариваться
Алексей Малашенко – доктор исторических наук, профессор, член научного совета Московского Центра Карнеги, председатель программы «Религия, общество и безопасность».
Резюме Диалог – вечный процесс, начавшийся тысячелетия назад. С его помощью невозможно прийти к окончательному решению глобальных проблем, добиться установления «мира во всем мире». Но он обязательное условие для сосуществования цивилизаций, культур, народов и стран, Запада и востоков.
Однажды Джозеф Редьярд Киплинг написал: «О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный Господень суд». Цитируется обычно первая часть, «Страшный Господень суд» не упоминается, а он имеет немаловажное значение. Почему – скажем ниже.
В советском кинохите 1970-х гг. «Белое солнце пустыни» свое понимание Запада и Востока предложил юный боец Красной армии Петруха: «Восток – дело тонкое». Киплинговский и петрухин подход преобладают в общественном сознании, что в Европе, что в Америке, что в нашем отечестве. В свою очередь на Востоке, где английского писателя и русского красноармейца мало кто знает, также уверены, что их Востоку незачем «сходиться» с Западом. Их Восток – тоньше и лучше.
Вроде все ясно. Но остаются вопросы. Первый – что такое Запад, второй – что такое Восток? Насколько внутренне гомогенны эти феномены?
Единый Запад, многообразный Восток
С Западом более или менее понятно, он един – географически, религиозно и культурно. Безусловно, внутри он разнообразен. Европа от Америки отделена Атлантическим океаном. Есть американский и европейский менталитеты. Есть «большая» (Западная) и «малая» (Восточная) Европы. Есть католические Италия, Испания и Португалия, есть протестантские Германия и Скандинавия, есть православные Сербия, Болгария и Греция… Но при всей широчайшей многоцветной парадигме вечно существует цивилизационное ядро. Ныне оно выглядит рыхло, и некоторые политики и эксперты даже сомневаются в его будущем. Но пока оно сохраняется и вряд ли исчезнет при жизни нынешних поколений.
Общность Запада зиждется на его успешности по сравнению с остальным миром – экономической, политической и военно-политической. Запад «переиграл» Восток, выйдя победителем в соревновании с ним. Западная модель и в американской, и в европейской ее версии оказалась эффективнее и жизнеспособнее восточной. Более эффективной показала себя политическая культура, веками обеспечивавшая развитие Запада, хотя она и имела разного рода «издержки» от инквизиции до фашизма. Наконец, Запад объединен одной религией, пусть и поделенной на несколько конфессий, – христианством. Одним словом, произнося «Запад», мы подразумеваем конкретный субъект с очерченными цивилизационными границами.
А что такое Восток? Изначально к Востоку относилось все то, что географически располагалось в восточном направлении от Запада. Там же восходило Солнце, путь которого по небосводу завершался на западе. Восток, все его ареалы – от дальневосточного до исламского – изначально воспринимался как антитеза Западу, так сказать по-«ориенталистски».
Такой подход неоднократно подвергался критике и был разгромлен выдающимся философом Эдвардом Саидом. И все же ориентализм феноменально живуч. Доказательство тому – существование профессии «востоковед», а «западоведов» не существует. Автор этих строк учился в Институте восточных языков. Эти языки – разные миры. Китайские иероглифы, арабская вязь, бирманские буквы, хинди в отличие от схожего для всех европейских стран алфавита отрицают целостность Востока, который только в лингвистическом контексте есть сложная совокупность культурных сегментов.
Дивергентность восточных культур и религий свидетельствует, что Запад имеет дело не с Востоком, но с востоками, которые разнятся между собой не меньше, если не больше, чем каждый из них с Западом. Только один пример: Китай и Индия с точки зрения религии с Западом несопоставимы. А вот мусульманский мир с его монотеизмом, следованием аврамической традиции далек от двух других востоков – индуистского буддийского и конфуцианского, и стоит ближе к христианскому Западу.
Но вот парадокс, именно из-за онтологического и, если угодно, экзистенциального их сходства отношения между Западом и мусульманским востоком оказываются наиболее напряженными, как между родными братьями, разошедшимися во взглядах и оспаривающими общее монотеистическое наследство. Исламское богословие, как и в Средние века, считает христианство несовершенным, даже неполноценным монотеизмом, так и не преодолевшим рудименты язычества. Главным проявлением этого исламские теологи называют Троицу и «очеловечение» Бога. Примечательно, что сегодня Запад обвиняется мусульманами не столько в искажении монотеизма, но вообще в забвении религии.
В общем получается, что самое простое и понятное для западного человека определение Востока – «Не-Запад», с чем, пожалуй, скрепя сердце согласятся многие политики.
И вот еще что: в нынешней обстановке Восток географически ассоциируется также с Югом, который наиболее конфликтогенен и где формируются вызовы остальному миру. Несколько лет назад мы с коллегой Дмитрием Трениным написали книгу, посвященную Северному Кавказу. Книгу озаглавили «Время Юга». В англоязычной версии она получила название «Russia’s Restless Frontiers. The Chechnya Factor in Post-Soviet Russia». Возможно, для зарубежного читателя второе, англоязычное название понятнее, но первое, русскоязычное, все же глубже и более адекватно отображает ситуацию: «время Юга» для России есть «время мусульманского востока». Для России (для Советского Союза) это время наступило давно и тянется по сей день – достаточно посмотреть российскую политику на Ближнем Востоке и вообще в мусульманском мире.
Вечная самоидентификация России
Коль речь зашла о России, то нельзя не сказать несколько слов о ее месте в полифонии Запад–Восток (востоки). Это место четко не детерминировано и вряд ли может быть определено однозначно. Россия является частью Запада, но его восточной частью. Это проистекает из ее религии, культуры, языка (у кириллицы и латиницы одни и те же буквы, пусть и прописанные разной графикой).
С другой стороны, Россия может считаться одним из востоков. Этому способствует ее географическое положение, ее тысячекилометровое восточное пограничье, некоторая схожесть традиций и, наконец, ее полиэтничность. Традиции большинства проживающих в России этнических меньшинств отличаются от славянского большинства. Более того, во времена Российской империи и СССР принадлежность нашей страны к Востоку не оспаривалась хотя бы в силу того, что значительные ее территории оставались чисто мусульманскими. К тому же Россия, как и Запад, колонизировала восток. Более того, она присоединяла его к себе. Российская империя и Советский Союз были своего рода «западо-восточным» государством.
Можно долго рассуждать, на сколько процентов Россия является частью Запада, – ведущиеся ныне рьяные споры на эту тему бесконечны. Здесь уместно отметить, что большинство российских граждан соотносят себя с Западом, точнее с Европой, а отнюдь не с востоками. Кстати, в недавнее время в разговоре нередко доводилось услышать и такое – «мы (русские) – как американцы, мы с ними очень похожи». И уж совсем неожиданное мнение автор этих строк недавно услышал в Чечне от одного образованного молодого человека: «Мы, чеченцы, – сказал он, – все больше становимся европейцами». Волей-неволей здесь вспоминаются сразу и «Восток – дело тонкое», и знаменитая строфа из поэта позапрошлого века Федора Тютчева «Умом Россию не понять…» (Чечню – тоже).
Не хочется повторять банальности и в очередной раз спекулировать на тему о специфике России, о том, что она представляет собой некую отдельную «цивилизацию» (уместнее говорить о «субцивилизации», хотя кому-то это может показаться обидным). Однако факт остается фактом – Россия занимает особое место между Западом и востоками, что описывается расхожей теорией и одновременно идеологемой возрожденного в 1990-е гг. (нео)евразийства. Его появление было во многом конъюнктурным и обусловленным политическими обстоятельствами.
Одно время в России также было популярно сравнивать ее с мостом, в частности, между Западом и мусульманским востоком. В 2005 г. Россия в качестве наблюдателя вступила в Организацию Исламская конференция (с 2011 г. – Организация Исламского сотрудничества), рассчитывая, что тем самым поспособствует большему взаимопониманию между мусульманским миром и Западом и укрепит свой авторитет как мировой державы. Концепт «моста» напоминает неоевразийство, ибо зиждется на культурной (цивилизационной) промежуточности. Вопрос, однако, в том, насколько промежуточное положение способствует развитию общества, обеспечивает его благополучие. Как долго можно и нужно (нужно ли?) занимать «евразийское место», сказать сложно.
Российское «раздвоение» – между Европой и Азией – нашло отражение в русской классической литературе. Антон Чехов, Максим Горький, Иван Бунин признавали схожесть своей родины с Востоком, но в то же время считали, что присущая ей «азиатчина» крайне негативно влияет на общество и сдерживает развитие страны, которая должна ориентироваться на Запад. Бунин писал, что «азиатчина и пыль засасывает Русь», а Чехов однажды заметил, что «самолюбие и самомнение у нас европейские, а развитие и поступки азиатские».
То, что Россия занимает промежуточное положение, создает проблемы для общения с ней Запада, где так и не могут определить, является ли она «своей», сегментом, пусть и специфическим, европейской традиции или она нечто качественно иное, чуждое этой традиции. Иными словами, с кем Запад разговаривает – со своим «родственником» или с кем-то далеким и совершенно ему чуждым. Этой отстраненности Запада от России способствуют развивающиеся в российском обществе и поощряемые правящим классом антизападнические настроения.
Как частный, но важный пример отметим проблемы гражданского общества, демократии, прав человека. Запад настаивает на следовании принятым им образцам в первую очередь в России, поскольку сопоставляет ее с самим собой. В то же время ущемления прав человека на любом другом востоке (в Китае, в арабском мире, в Центральной Азии) воспринимаются им спокойно и «с пониманием».
С Востоком у России подобного рода проблем куда меньше. Для Востока Россия – чужак, и ее принимают такой, какая она есть, со всеми ее плюсами и минусами и не высказывают к ней претензий. Впрочем, и на Западе Россия все чаще воспринимается такой, как она есть, а не такой, какой бы ее хотелось видеть. Возможно, это в какой-то степени может облегчить общение с ней.
Высечь искру
Теперь собственно о диалоге. Классический или привычный двусторонний диалог на глобальном уровне девальвирован. Он устарел (хотя сам этот термин мы будет иногда по привычке использовать в нашем материале). Само это понятие логично заключить в кавычки. Требуется максимально широкая коммуникативность, многостороннее общение, систематические контакты между носителями нескольких традиций, культур, религий.
Общение, как правило, сдерживается политическими обстоятельствами, поскольку субъектами диалога чаще всего являются государства, точнее правящие элиты, которые исходят не из отвлеченных понятий «Запад» и «Восток», но руководствуются в первую очередь национальными интересами своих стран, правильнее сказать, собственным пониманием этих интересов. Здесь присутствует «национальный эгоизм», имманентно присущий как Западу, так и востокам.
Для прагматиков-политиков апелляция к традиции, культуре, «цивилизационной идентичности» инструментальна. Однако вместе с тем игнорировать их приверженность к идентичности нельзя, хотя бы потому что она составляет ландшафт, на котором разворачиваются все социально-политические перипетии. В этом контексте немцы, французы, скандинавы, американцы при всех различиях между собой остаются «командой Запада», также как монархи и президенты Ближнего и Среднего Востока остаются «мусульманской командой», лидер Компартии Китая – носителем своей традиции. Данное обстоятельство не следует ни гипертрофировать, ни игнорировать, но исходить из гармонии единства и различий в упомянутых выше «командах».
Экономические и политические связи формируются изначально на двусторонней основе. Каждое государство выстраивает свои отношения с конкретным партнером, таким же государством. Но не учитывать цивилизационную принадлежность своего vis-à-vis оно не может. Более того, иногда мы наблюдаем попытки легитимировать отношения с цивилизационным ареалом. Так, Барак Обама в известной речи 2009 г. в Каирском университете говорил об отношениях между США и мусульманским миром, существует понятие «российско-мусульманские отношения».
Проще и «человечнее» складывается общение между Западом и востоками на встречах представителей гражданского общества, культуры, науки. Конечно, и здесь не обходится без политического и идеологического флера, однако преобладает взаимный искренний интерес, желание понять друг друга. Это объясняется «безответственностью» участников, свободных от принятия политических решений. Однако именно «безответственность», неформальность и есть основа для продуктивного диалога. По выражению директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, «культура – лекарство от взаимной вражды».
Сейчас много говорится о значении межрелигиозного общения. В этом вопросе существуют немалые сложности, которые носители конфессии зачастую отказываются публично признавать. Разумеется, на всех встречах религиозных деятелей красной нитью проходит мысль об их общем стремлении к миру. Однако большинство подобного рода мероприятий носит скорее формальный характер, и возможность откровенного разговора часто сводится к минимуму. Я бы не стал в этом никого обвинять. В каждой религии изначально заложена незыблемая убежденность в собственной правоте, в обладании конечной истиной, не говоря уже о том, что многие локальные верования (хотя бы язычество) монотеизмом вообще отрицаются. Религии, в отличие от искусства, литературы, развернуты на состязательность. Религии все более политизируются, предлагая собственные, наилучшие по их логике, рецепты, модели общества, государства, даже бизнеса. Все это безусловно девальвирует их взаимное общение.
Мы живем в постсекулярную эпоху.
Востребованность в общении (в диалогах) приобретает особую важность в условиях возросшей на рубеже XX–XXI веков общей конфликтности, в том числе носящей в ряде случаев религиозную окраску. Человечество всегда существовало и развивалось в условиях общения Запада и Востока, зачастую жесткого, конфликтного. Но американец Самуэль Хантингтон, которого не критикует только самый ленивый, предложил термин «столкновение цивилизаций» (clash of civilizations). Этот «клэш» порожден историей. Он суть объективная закономерность, он неизбежен. Цивилизации, в нашем случае Запад и востоки, сталкивались и будут сталкиваться. По этому поводу их носителям, нам с вами, не надо стыдиться, оправдываться и, погружаясь в конспирологию, искать виновников – хоть на Западе, хоть на востоках.
Попробуем внести в хантингтоновское определение некоторую стилистическую коррекцию. Заменим «столкновение» на «трение», которое порой действительно может «высекать искры». Однако трение цивилизаций, как следствие их вечного взаимодействия, «отменить» никто не может. Это трение даже полезно (из физики известно, что без трения нет движения).
Запад и востоки сражаются друг с другом с античных времен. Войны между ними, увы, являются одним из основных трендов мировой политики. Зато, как ни цинично это звучит, одним из результатов походов Александра Македонского было взаимообогащение культур, что можно сказать и о нашествиях кочевников, и о вторжении мусульман в Европу, и даже о колониальных завоеваниях.
Постепенно взаимодействие Запада и востоков становилось однонаправленным. Побеждая соперников в научно-техническом, экономическом, военном состязании, Запад повел диалог с позиции собственного превосходства. Де-факто это превратилось в диалог победителя и побежденного, который, заметим, отнюдь не считает себя таковым. Запад начинает предлагать (навязывать) свои ценности как осознанно (политики), так и неосознанно (ученые, деятели культуры). Кто-то на востоках их принимает, но кто-то и отвергает. Глобализация, которая также пришла с Запада, рассматривается на востоках как форма экспансии, и их обитатели оставляют за собой право ее сдерживать и даже отвергать.
Межцивилизационное общение всегда приводило к размежеванию и расколам внутри самих востоков. Россия не исключение – ее разделение на «западников» и «традиционалистов» (условно назовем так их оппонентов) обнаружилось еще в XVI столетии и нарастало с каждым веком. Однако мировая практика показывает, что большинство в обществе придерживается традиционалистских взглядов. Убежденные традиционалисты терпеть не могут поучений, даже тех, которые идут им на пользу. Они брезгливо морщатся, сталкиваясь с вторгающимися извне новациями, если, конечно, последние не носят сугубо утилитарного характера.
Парадокс в том, что однажды, в 1917 г., Россия приняла инновационную западную модель в марксистском варианте и попыталась адаптировать ее под себя. Получилась утопия – марксизм-ленинизм. Синтез своего и чужого оказался несостоятельным и завершился распадом государства.
Возможно ли сегодня крайнее, милитаризованное, проще – военное противостояние Запада и его оппонентов? На всякий случай выведем за скобки пресловутую «третью мировую», на которую с недавних пор намекают некоторые западные и российские пропагандисты и политики. Наш ответ – «почти невозможно». Но тогда откуда это «почти», сводящееся всего-то к сотым долям процента?
Во-первых, мир в принципе непредсказуем. Невозможно наверняка предвидеть ни очередной астероид, ни Всемирный потоп, ни каким станет климат хоть на Северном, хоть на Южном полюсах. Во-вторых, изменение климата окажет огромное, если не решающее, влияние на перераспределение ресурсов – земли и воды, на движение народов, развитие цивилизаций и регионов, следовательно, на диалог Запада с востоками. Отсюда вероятность обострения борьбы за пространство. В-третьих, на мусульманском востоке заявило о себе радикальное религиозно-политическое направление – исламизм. Сам по себе этот феномен не следует считать чем-то исключительным. В основе его лежит стремление к реализации собственной исламской альтернативы, «перестройки» государства и общества на основе исламской традиции. Однако в исламизме сложилось экстремистское крыло, представители которого хотят решить свою задачу в максимально короткие сроки и любой ценой. Экстремисты пользуются определенным пониманием у части мировой мусульманской уммы. Дополнительное уважение вызывает их готовность к самопожертвованию ради достижения своих целей. Готовые принять смерть во имя своих идеалов шахиды являют собой реальную угрозу. Они убивают священников, случайных прохожих, взрывают самолеты, берут заложников в школах и в театрах. Террористы не бандиты. Будь они уголовниками, борьба с терроризмом была бы не столь сложной, длительной. По признанию многих специалистов, она далека от завершения. Что будет, если завтра эти люди доберутся до химического, а послезавтра – до ядерного оружия? А это уже что-то вроде киплинговского «Страшного Господнего суда» после схождения Запада и Востока.
Выводы
Сегодня как никогда востребован диалог, триалог и прочие формы общения. Однако любые встречи, как бы они ни именовались, продуктивны лишь в том случае, когда каждый их участник действительно стремится выслушать и понять собеседника. Если же главная цель состоит в стремлении доказать собственную правоту и исключительность, что часто случается, то разговор ведет лишь к усилению противостояния. Диалог неизбежно обретает политическую окраску.
Диалог – вечный процесс, начавшийся тысячелетия тому назад. Да, с его помощью невозможно прийти к окончательному решению глобальных проблем, добиться установления «мира во всем мире». Но он – обязательное условие для сосуществования цивилизаций, культур, народов и стран, Запада и востоков. Его конкретные достижения оказываются далеко не всегда очевидными, видимыми. Главный успех – в самом факте общения, его бесконечности, альтернативы которому нет и быть не может. Невозможно отчитаться перед спонсорами, которые имеются у каждой встречи, конференции, круглого стола, доложить о некоем абсолютном позитивном результате. Остается надеяться на их разум, желание на самом деле способствовать поддержанию нормальных отношений между Западом и востоками, между людьми, наконец.
В диалоге должны, не побоюсь сказать, обязаны участвовать все – гражданское общество, духовенство, политики и пр.
На обложке изданной Атлантическим советом и Институтом мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова брошюры “Global System on the Brink: Pathways toward a New Normal” изображен Атлант, держащий на своих плечах земной шар. Тело Атланта разрывают глубокие трещины. Атлант – это мы, человечество. Избавиться от этих ран-трещин мы можем только сами, своими силами.

Евразия: снятие печатей
Владимир Малявин – востоковед, философ, культуролог, писатель, переводчик, путешественник, знаток восточных практик личного совершенствования и общественный деятель. Российский китаевед, доктор исторических наук, профессор Института изучения Европы Тамканского университета на Тайване (ранее – Институт России Тамканского университета). В России В.В. Малявин является руководителем научной программы Института развивающихся рынков МШУ Сколково.
Преподавал в ИСАА при МГУ, работал в РАН.
Резюме Жители Евразии не нуждаются во внешних формах и способах сплочения общества. Они безупречно едины как раз в своей разделенности. Так считает востоковед Владимир Малявин, который в интервью нашему журналу размышляет о Востоке и Западе.
– Для начала – «разминочный» вопрос: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и им не сойтись никогда…». Насколько этот образ актуален?
– Ничего себе разминка! Это вопрос на все времена. Без оппозиций невозможно мыслить. Для начала их надо осознать. Но их можно и нужно преодолевать. Тем более что, на мой взгляд, какого-то онтологического противоречия между Востоком и Западом не существует.
– И в чем выражается этот разрыв?
– В характере человеческой самоидентификации. Есть то, что делает европейца европейцем, – идея формального тождества, что обуславливает привязанность к историческому бытию и рождает трагическое мироощущение. В реальной жизни Запад и Восток могут существовать параллельно, без войн. Ибо ни тот, ни другой не требуют той безусловной искренности, которая есть в русском человеке, чуждом обоим мирам.
– Россия и Китай – какие черты народа, государственного устройства, культуры, традиции нас сближают, какие – разъединяют?
– Не будем мелочиться, тем более что отбор и оценка «черт» жизни пугающе произвольны, стереотипны и легко поддаются манипуляциям. Я предлагаю вести разговор в категориях «метацивилизационных» укладов. В основе последних лежат определенные познавательные матрицы: для Запада – формальная идентичность, а для Восточной Азии – идея превращения, само-отличия, сингулярности, что делает главным вопросом восточной мысли общение, совместность вещей, не знание единства, а реальное пребывание в нем.
– То есть Запад делает Западом его идентичность и желание ее отстаивать?
– Фридрих Шлегель двести лет тому назад сказал, что только Европа – обособленный мир. Европейцы выстроили себе крепость, которую они не отдадут, даже несмотря на то что сегодняшняя западная мысль принимает посылки, очень близкие восточным традициям. Поиск единства в различиях сближает Евросоюз – даже помимо его желания – с нарождающимся евразийским содружеством, ведь ритуал на Востоке имеет такую же природу: утверждение единства через различие.
Современные общества одержимы поисками своей идентичности. Вероятно, потому, что торжество капитализма с небывалой силой утверждает анонимность, безличность всего, что причастно круговороту капитала. По той же причине образы идентичности невозможно найти в настоящем. Их приходится искать в недосягаемом прошлом. Ностальгия по культурным корням – фирменный знак модерна. «Чудо, которым была Индия»; «Россия, которую мы потеряли»; «возвышенная древность»… Оттого же обостренное национальное самосознание, как правило, приводит к результатам неожиданным для банального национализма: оно заставляет заново «открывать» свою страну.
– Можно ли, упрощая, сказать, что Евросоюз – это «Поднебесная без Мандата Неба»?
– Наверное, можно, так как постмодернистская идея «разделенного» или «грядущего» сообщества допускает бесконечное многообразие форм общественной жизни[1]. Существенное отличие в том, что европейцы по привычке пытаются придать неограниченному разнообразию вид закона. Мне эта процедура кажется внутренне противоречивой. Отсюда все их проблемы, источника которых они сами не понимают.
Евразийский мир представляет собой самый смелый и сильный вызов европейскому мировоззрению. Но, пожалуй, самое интересное состоит в том, что евразийская идея в известном смысле не отрицает европейское наследие, а, скорее, дополняет его и даже, можно сказать, придает ему подлинную основательность… Чтобы развязать восточноазиатский узел мировой политики, нужно обойти уровень нации-государства одновременно сверху и снизу, т. е. ввести в региональную политическую систему факторы как глобального, так и локального значения, а кроме того, обосновать их взаимную связь. Слово «глобальность» недаром так часто переиначивают в «глокальность»…
Из книги В. Малявина «Евразия и всемирность.
Новый взгляд на природу Евразии» (М., «РИПОЛ классик», 2015).
– На каком уровне возможен действенный диалог культур – на уровне гуру, на уровне государственных деятелей, экспертов, простых людей?
– Политики такого диалога не хотят. Простые люди не умеют его вести. Правда, у русских и китайцев есть опыт общения en masse. Но в нем самое ценное – даже не факты общественного сознания, а коллективное бессознательное. Эксперты не годятся – у них слишком узкий кругозор. В конечном счете нужны люди, сделавшие усилие понять, что такое понимание, и понимающие, по крайней мере, что сознание способно себя обманывать.
– Вы говорите о мудрецах, о гуру. Но кто будет их слушать? Кто воспримет их мысли, если эксперты ограниченны, а простые люди вообще не умеют вести диалог?
– Когда учителя есть, найдется кому их слушать. А те, кого вы назвали мудрецами, – это люди, которые на своей шкуре испытали и муки, и радости «восточно-западных ордалий». В своем роде раненые хирурги.
– То есть нужны те, кто воспитан в обеих традициях.
– Да, именно так: те, кто имеет длительный опыт бытования в разных традициях и притом умеет методически размышлять над увиденным и прочитанным. Таких людей надо готовить специально и профессионально, с неба они не свалятся.
– Университет, расписание, семинары, экзамены, пары?
– Можно и так, но не хочется об этом в таких унылых понятиях. Главное – пережить, испытать культуру на практике. Важнейшая особенность традиций Востока – примат ортопрактики, правильного действия над ортодоксией, правильным мнением. Нужно погрузить людей в образ жизни и мыслей «изучаемых» народов, погрузить, конечно, под руководством наставника. Они должны с кем-то обсуждать увиденное, услышанное. Это что-то вроде психоделических сеансов – без галлюциногенных грибов, правда. Без занятий духовными практиками и боевыми искусствами Китая я ничего бы не понял. С тоской смотрю на наших академиков – что они могут понять, придумывая себе Восток из книг?
– А есть вообще какой-то орган, которым понимают Восток?
– Наше тело! В союзе с умом, конечно. Надо иметь терпение и долго ползать на брюхе по Востоку, чтобы его понять. Должен быть собственный опыт прохождения Пути. Как можно рассуждать о тех, кто прошел Путь, если ты сам по нему шагу не сделал? И надо cтряхнуть наваждение созданной Европой хитрой диалектической машинки, которая учит «критическому взгляду» только для того, чтобы все было как прежде.
– А азиаты понимают европейцев?
– Думаю, очень плохо. Но у них и нет внутреннего задания понимать. Им достаточно формального исполнения ритуала, который хранит секрет сердечного общения между людьми. Ритуал на Востоке, разделяя людей, соединяет их в безмолвной сообщительности, и притом дает власть тому, кто уступчивее (чувствительнее, утонченнее) других. Сообщительность[2] бессознательна. Как только она становится понятной, коммуникация пропадает. Остается обмен информацией в стратегических целях, т.е. ради того, чтобы прижать ближнего своего к стене.
– Какую роль во взаимном понимании Востока и Запада играют традиции?
– Без традиций нельзя. Они задают условия культурного взаимопонимания. Но нужно идти от них к метакультурной реальности, к спонтанной встрече сердец, которая есть одновременно человечность и человечество в человеке. Правда, народ повсюду, не только у нас, ленив и нелюбопытен.
– Может быть, так получается потому, что на пути к «метакультурной реальности» у людей – даже, может быть, желающих к ней прийти – возникают опасения утратить свои традиции, свою привычную опору, не приобретя ничего взамен?
– Есть такие опасения, конечно. Но это как раз залог успеха. Желая что-то постичь, мы должны вернуться к «истоку всего», к первобытному хаосу и его ужасу. Надо выработать в человеке смелость пережить ужас. В конце концов, когда смотришь на этот Китай, порой цепенеешь от ужаса – насколько эта бездна велика и глубока. Но только так и можно стать «раненым хирургом», опаленным Востоком.
У нас же (и на Западе, и в России) полагают, приехав в тот же Китай, что могут попросту проецировать свой опыт на Восток. Вот приезжает, допустим, бизнесмен и исходит из того, что добудет там свой очередной миллион тем же способом, каким он его заработал у себя дома. Ибо другого решения у него нет, других мыслей нет. И начинаются мытарства – он выясняет, что его «проверенный» способ не работает, у него ничего не получается, а китайцам на его миллионы наплевать.
История прекрасно показывает, что проецировать свой опыт (неважно в каком масштабе) на Китай – бессмысленно. Мы думали, что китайцы – такие же коммунисты, как мы. Выяснилось, что нет. Американцы думали, что устроят китайцам капитализм, и те станут капиталистами, такими же, как американцы. Китайцы стали капиталистами, но совсем другими. Все это у нас на глазах происходит – надо только не лениться подмечать такие вещи и делать выводы.
– Можно ли масштабировать прохождение Пути, о котором шла речь, до общества, государства, нации?
– Можно и нужно. Государство – это люди, которые его представляют. Единственное условие – обучение таких людей должно быть практическим, реальным, жестким, должно вестись на моральной основе. Точнее, это должен быть этос, предваряющий мораль, ибо та, приобретая формальность, часто становится лицемерной. А нужно умение открыться, оставить себя. Это не так просто, но без этого Восток мы не поймем.
– Вы говорите о преодолении стереотипов. Но традиции и стереотипы – разные вещи…
– Традиция есть способ передачи истины, о которой мы можем только свидетельствовать. У традиции нет идентичности. Традиция – как бы это ни показалось странным (и это было известно, кстати, европейским герменевтикам – тому же Хайдеггеру) – есть способ передачи истины, которая не может быть доступной субъективному знанию. Вроде передачи невидимого жука в коробке. Вам дают коробку и говорят: «Внутри – жук». И вы всю жизнь живете с этой коробкой, передаете ее другому и повторяете: «Там – жук». Он соглашается и передает его дальше. Вокруг этого выстраивается жизнь многих поколений.
Что такое тот жук? Не что иное, как актуальная данность нашего существования, то, что есть «здесь и сейчас». Люди Востока знают, что переживаемое нами сейчас запечатано навек. Они – наивные люди – верят в то, что жук в коробке есть. А европеец не верит. Европа потому и претендует на роль всемирного образца, что смогла выработать – единственная из всех мировых цивилизаций – последовательно критическое, в сущности, надкультурное самосознание… Россия же, то ли зависшая между Западом и Востоком, то ли обнимающая, вмещающая в себя весь мир, критического самосознания не выработала. У нас вместо критики печалование, насмешка, гласность, брань, бунт и гражданская война.
– Культурные ценности – это нечто застывшее, зафиксированное или они меняются?
– На этот вопрос я бы ответил в духе Евангелия и Конфуция: не человек для культуры, а культура для человека.
– Как «конвертировать» культурные ценности в материальные воплощения?
– А здесь подойдет наставление св. Серафима Саровского: «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». По-китайски это звучит так: «Когда сердце искренно, будет духовная сила». Правда, искренность жители Азии понимают совсем не так, как русские. Для них она означает не откровенность самовыражения, а выверенное отношение к душевным порывам, в котором сходятся личное и общее.
Ритуал в Азии есть нечто гораздо большее, чем простая – и часто лицемерная – любезность. Он преображает индивидуальность в сверхвременной тип, суля в этом качестве бессмертие (таков смысл восточного понятия культуры как преображения). Даже театральные представления игрались в Азии не для зрителей, а для богов с их трансцендентным взглядом.
– Российский «поворот на Восток» сопровождается (или даже подстегивается) представлением о том, что мы, русские – природные консерваторы, поэтому на Востоке, где все дышит традиционализмом, нас лучше поймут. При этом консерваторами мы себя считаем (или называем), скорее, в западной парадигме – и продолжаем метаться между своими представлениями о Востоке (неполными, фрагментарными, изначально рационалистически-западными) и все же западной по своей сути системой мышления, оценок, ожиданий… Поймут ли на Востоке эти метания? Да и есть ли вообще тут предмет для обсуждения – на уровне ценностей, концепций, подходов?
– Розанов хорошо сказал по поводу «Истории» Карамзина: в ней Россия созидала, выстраивала себя, смотрясь в зеркало консервативного идеала. Об общности России и Китая на консервативной платформе писал Эспер Ухтомский. Последний ее приверженец – барон Роман Унгерн. Вот еще одна тема русско-китайских отношений, оставшаяся непродуманной. Тема важная: историю на самом деле движут силы, которые кажутся бессильными, непрактичными… Ну а Россию в мире никто не понимает, включая самих русских. Но я верю, что Россия как асистемный элемент нарождающейся глобальной системы еще скажет свое слово.
– Но желание, чтобы нас, Россию, понимали, с нами считались – по крайней мере на уровне мировой политики – едва ли не главный аспект «поворота на Восток»… Не может ли это реализоваться совершенно неожиданным способом – нас поймут, но совершенно не так, как нам хочется?
– В самой попытке непременно понять нет ничего дурного – как, впрочем, и хорошего. Но дело в том, что русские и китайцы могут понимать друг друга без понимания. Русский всегда готов увидеть родного в инородце. Китаец – совершенно нормальный член русского общества. Какой-нибудь китаец Коля в русском дворе – это совершенно нормально. Дело в том, что и китаец, и русский способны к непосредственному общению, отказываясь в чем-то от своей идентичности (разница в том, что у русского это основано на жертвенности, а у китайца это часть стратегии). Эта русская сверхкоммуникабельность и сделала Россию великой, позволив ей прирасти Сибирью, Дальним Востоком и чуть ли не Аляской. В русском есть эта открытость, готовность сбросить оковы цивилизации. Да он и не верит в них особо – ну, дикий человек. И в этом нет ничего плохого.
– А есть ли вообще китайская нация, как она формировалась, можно ли использовать этот опыт в России?
– В Китае всегда была империя и поэтому нет национального государства европейского типа. Как и в России. Империя стоит на тайне и лишена идентичности. Имперское начало потому и обнаружило такую незаурядную живучесть уже после исторической смерти империй, что оно воплощает особую метацивилизационную антропологическую матрицу, которая соответствует одной из двух исходных и в своем роде универсальных, метаисторических опций человеческого самопознания. Сущность этой матрицы – обращенность не к содержанию опыта, а к его пределу, т. е. чистому событию или сообщительности, предшествующей сообщениям (и следовательно, всяким суждениям).
Это не мистика, а антропологическая реальность, ибо, повторю, идеальная коммуникация бессознательна. Евразийская метацивилизация основана на принципе синергии, событийности событий. Оттого и политика в Евразии не предполагает блоков, ей подходит древнее китайское правило: «быть вместе без союзов». Синергийность несет в себе большой потенциал для глобального мироустройства.
– Что именно может дать Китай миру и придется ли миру для того, чтобы это взять, учить китайский?
– Истина превращения (есть и такая) учит коммуникабельности и прекрасно подходит информационной цивилизации. Китайский язык учить не обязательно, а вот понимать странные на европейский взгляд китайские принципы «держаться в тени», «в пустоте нет пустоты», «быть собой, всему соответствуя» и т.п., все равно придется. Европейцы часто считают такие формулы уловками. Идея «быть вместе, но не быть в союзе» европейскому дипломату и политику непонятна. А китайцу или даже японцу это понятно вполне, ибо они приучены к «сокровенной сообщительности». При всех раздорах между китайцами и тайваньцами пара миллионов тайваньцев постоянно живут на материке, где имеют свои заводы, магазины, школы, клубы, больницы и проч. Можно представить, чтобы в Россию на таких условиях вернулась Белая армия?
– Это все-таки локальный опыт, частные случаи. Способен ли Китай предложить что-то глобальное?
– Речь о том, что мы выходим на уровень предсуществования, который делает возможным разнообразие внутри неоформленной целостности. По-китайски это называется «центрированностью в согласии», «хаотическим всеединством», «великой совместностью» и т.д. Это все о традиции, которая всегда сокровенна, ибо не может быть объективированно выражена. И это метакультура, так как культура все-таки имеет определенную форму. Вот подлинный фундамент евразийского мира.
Речь идет не об истории, а о логической возможности. Поэтому она не имеет этнокультурных меток и может проявиться где-то в Европе. Философия Ницше – такой странный выплеск восточной философии, отчасти и немецкие романтики. Так же, как ничто не мешает азиатам брать европейские идеи. Некоторые говорят, что азиаты гонятся за Западом – да, гонятся кое за чем, но при этом не становятся европейцами.
– Как можно понять эти стратагемы, вычленяя их из контекста сначала китайской, а потом евразийской культуры, традиции? Как через внешнее (формулировки) постичь их суть?
– Для начала надо решиться понять. Понимать – это не значит просто после обеда, покуривая в кресле сигару, полистать какие-то странички. Понимание – это страшный опыт ожога. Требуются экзистенциальные переживания и очень сильные. Русскому это легче сделать, поскольку он находится вне культуры, вне Запада и Востока. Он ничему не верит (почти как европеец), но очень искренен (почти как азиат). Поэтому и стремится и на Восток, и на Запад, поэтому и берется за все что угодно. В отличие от европейца, который стремится отстоять свою «европейскость» и никогда не признается, что не прав.
– Но выживают ли какие-то другие культуры в китайском окружении? Насколько справедливы идеи о том, что Китай – яростный ассимилятор, который просто за поколение поглощает другие народы?
– В чисто этническом плане рассказы о великих ассимиляторских способностях Китая – европейский стереотип и миф. Китай за две тысячи лет не смог ассимилировать народы, проживающие на его юго-западных рубежах, и не только там. Да ассимиляция и не требуется Китаю, ведь Восточная Азия – и вся Евразия – стоит на принципе единства в разнообразии. Этот принцип подлинно всемирен. А вот ритуальность как организующий принцип культуры, притом связывающий имперский и доимперский типы организации, – великая сила, способная объединить Евразию в границах империи Чингисхана. Конфуцию принадлежит фраза: «Если ритуал утерян, ищите его среди дикарей». Запад архаику отталкивает.
Само название «Срединное государство» как бы предопределило отсутствие у Китая четких географических границ. Ведь середина, а точнее центр, одновременно везде и нигде, и притом остается невидимой, всегда пребывает внутри. А на практике Китай – геополитическая матрешка, состоящая из нескольких как бы вложенных друг в друга миров. Есть глубинный континентальный Китай. Есть прибрежный Китай с его «особыми экономическими зонами» и анклавами фактически иностранного управления. Есть частично независимые Гонконг и Макао. Есть полностью независимый Тайвань, уже готовый порвать исторические связи с материком. Есть общины китайских эмигрантов в странах ЮВА. Наконец, есть всемирная сеть «китайских кварталов» и массы китайских иммигрантов в Америке, Европе, Австралии.
Все эти Китаи очень непохожи друг на друга, причем китайская диаспора даже утрирует многие черты традиционной китайской цивилизации: маргиналам свойственно желание быть правее Папы Римского. Да и понятие «внутреннего» Китая нисколько не передает действительного многообразия его локальных миров и выбранных ими, притом вполне сознательно, разных стратегий развития. В то же время неурегулированные территориальные споры почти по всему периметру восточной и южной границы Китая напоминают о принципиальной неопределенности географического местоположения Срединного государства. Очень может быть, что китайские власти и не заинтересованы в их полном устранении.
Сопредельным с Китаем странам свойственно раздвоение идентичности, и чем теснее эти страны связаны с Китаем, тем острее и глубже эта раздвоенность. Корейцы и сегодня убеждены, что истоки китайской цивилизации надо искать в их стране, и одновременно резко противопоставляют себя реальному укладу жизни в Китае.
– Разговоры о Евразии и «общей судьбе» ее народов – предметный дискурс или не более чем интеллектуальная спекуляция? Разве может быть реальная «общая судьба» у столь разных народов, этносов, культур?
– Давайте не путать Евразию с составляющими ее народами. Это так же неверно, как считать организм суммой его органов. Евразийская общность – реальность иного порядка, нежели национальная политика, государственный суверенитет или даже хозяйственно-культурный тип… В условиях Евразии всякое движение, претендующее на утверждение формального единства, разделяет и все слабости такой претензии в масштабах евразийского мира. Одним словом, страны Евразии не могут быть ни вместе, ни врозь.
Вопрос надо ставит иначе: есть ли общее будущее у евразийских народов? Такой взгляд вполне может быть предметным. Я предвижу сосуществование двух глобальных систем: евро-американской и евро-азиатской. Скорее всего, они будут существовать параллельно, в некоем симбиозе, «разъединяющем синтезе».
Евразия есть скорее мир в мире, все в себя вмещающий и в пределе скрывающийся в самом себе: актуальность отсутствующего, не-сущее, все в себе несущее. Соответственно, о Евразии нельзя говорить в выработанных Европой понятиях соответствия мысли и бытия, национальной идентичности, исторических формаций, общественности и ее институтов и т. п.
– Будет ли в этом симбиозе место России?
– Россия – свое огромное пространство со своей диалектикой. И мы теряемся в этом большом пространстве, которое оборачивается медвежьим углом, то есть своей противоположностью. Вот так и разворачивается вся русская жизнь – простор и пустыня физическая и п?стынь, скрытая в лесу.
Россия – огромная метацивилизационная сила. Асистемный элемент двух мировых систем. Любая система стоит на системе, антисистеме и асистеме. Это всеобщий закон материи, в том числе и духовной. Когда эти две мировые системы – евро-американская и евро-азиатская – выкристаллизуются, сложатся окончательно, тогда и придет черед России разбираться с этой ситуацией. Россия не будет ни Западом, ни Востоком в этом смысле. Куда ей податься? Пока для начала заняться собой – прибрать в квартире, подмести пол… Русского человека затуркали. Его и «западники», и «восточники» дергают в разные стороны – ты, мол, дурак, ничего не знаешь – а он и сам, прищурив глаз, соглашается: да, мол, я – Иван-дурак. Что у него за душой? Доброта и искренность… В цивилизационные форматы это не упаковывается. А вот в метацивилизационные – вполне.
– Должно ли в Евразии произойти некое наднациональное, надгосударственное, трансграничное слияние наций и народов? Им не нужно будет государство в том виде, в котором оно сейчас существует?
– Я думаю, это будет желательно, но во избежание кривотолков стоит признать существующие границы, как в Европе. Как моральный акт «жизненной совместности». А дальше надо потихоньку работать над их устранением. Я много ездил по Востоку: Монголия, Тибет, Китай, Синьцзян – ну как их разделить? И соединить их в формальное целое тоже нельзя. Они могут очень друг с другом враждовать, но это не мешает их метакоммуникации. Русский мир, кстати, таков же.
История взаимоотношений Китая и Тибета – история общности на фоне розни, синергия. А синергия не требует союзов. Это основа основ восточноазиатской политики – «быть вместе, не имея союзов».
Есть и такая точка зрения – превратить всю Восточную Азию в коалицию, коагуляцию самостоятельных регионов. Такая концепция Поднебесной сама по себе – общеазиатский ресурс, потенциал. Но пока что нереализуемый, ведь Поднебесная горизонтальна, а сегодня без вертикали не обойтись. Антропологическая реальность Восточной Азии основана на вертикали, на иерархии: учитель – ученик, отец – сын, мать – дитя и так далее. Полностью убрать ее, «сплющить» нельзя, она всегда остается, даже в скрытом виде. Это естественная, глубокая антропологическая вертикаль, не насажденная какими-то диктаторами. И без нее не будет традиции.
Жители Евразии не нуждаются во внешних формах и способах сплочения общества. Они безупречно едины как раз в своей разделенности…
Политика в Евразии перехлестывает собственные рамки, не укладывается в прокрустово ложе идеологических схем, выстраивается сообразно невидимой оси, соединяющей два непрозрачных, всегда отсутствующих друг для друга полюса: «небесной» выси имперской власти и «земной» толщи повседневности. Пространство взаимной соотнесенности этих полюсов превосходит область публичной политики и должно быть названо скорее метаполитикой: стратегическим по сути искусством скрытого воздействия – одним словом, искусством «утонченных соответствий».
– «Новый Шелковый путь» – это пример такого структурного «метакоммуникационного» проекта? Как осмыслить его значение?
– Проект нового Шелкового пути – пробный шар в духе китайской стратегии. Китай обеспечивает себе стратегическую инициативу через «следование моменту». Чтобы двигаться дальше, ему нужно увидеть реакцию стран евразийского ареала. Ну а нам нужно, не поддаваясь предрассудкам, спокойно и последовательно продумывать основы будущего евразийского содружества. Это содружество не может быть плодом сиюминутных выгод. Оно появится только благодаря твердому политическому курсу, опирающемуся на знание природы евразийской общности. Но решимости выработать такой курс пока в России не видно. Политика России реактивна без стратегии.
– Откуда возьмется такое знание, если оно у нас в лучшем случае еще в зародыше? Надо его как-то получить, освоить, проникнуться им и только после этого вырабатывать твердый политический курс.
– Проблема евразийского взгляда на современную Россию состоит именно в неспособности его сторонников подняться над злобой дня и сиюминутными интересами. Нынешние официальные доклады и дискуссии о перспективах Евразийского союза убеждают в том, что наши властные и околовластные мужи попросту не представляют себе, о чем идет речь, и по разным, но всегда частным и случайным причинам ничего не хотят делать для сближения России с ее азиатскими соседями. Да и не интересна им Евразия по большому счету – они в Европу ездят с удовольствием, а в Китай или Казахстан – как на каторгу.
Разговоры вертятся вокруг трюизмов географии, таможенных пошлин, валютных расчетов, в лучшем случае культурных стереотипов и мертворожденного «диалога религий». Столичные интеллектуалы, называющие себя евразийцами, Азию знают плохо и, в сущности, остаются интеллигентами европейской выделки.
Ни один политический курс не может строиться через нагромождение трюизмов. Нужно иметь стратегию развития. Что такое Евразия и для чего она должна создаваться? Мне кажется, сейчас это совершенно неясно. Сейчас это стихийный порыв, как у тех же первых евразийцев. Как говорил о них Кизеветтер, «евразийство – это настроение, которое захотело стать философией». Евразия – это еще пустая рамка без портрета.
– Что конкретно стоило бы сделать?
– Стоило бы, пожалуй, для начала создать какой-то профилирующий научно-практический центр, набрать туда человек 10. Существующие структуры бесплодны именно из-за отсутствия целостного подхода. Нет государственной воли, которая постаралась бы все эти разрозненные структуры собрать воедино и получить максимум результата. Пока же вместо этой воли – столкновение амбиций, поиск личных выгод и преференций.
Все эти академии, институты, центры выполняют экспертно-служебные услуги; оправдывают, допустим, ту же таможенную политику. Вот когда появится цель – она, кстати, совершенно необязательно сразу будет абсолютно правильной и четкой, она вполне может быть, так сказать, открытой – вот тогда с ней можно будет выйти к Китаю. Ведь Китай ждет от нас каких-то предложений, а мы пока только надуваем щеки: мол, без России Шелкового пути не будет. Ну, не будет. Будет что-нибудь другое.
У нас есть политика развития Дальнего Востока, но мы не можем развивать Дальний Восток, не имея рамочной стратегии для всей Евразии. У нас нет даже курсов для бизнесменов китайских и русских, где бы желающим вести бизнес привили бы азы культуры делового общения – что надо и чего не надо делать в Китае. А потом удивляются, что это у нас с Китаем все получается не лучше, а как всегда.
Беседовал Александр Соловьев
[1] Поднебесная (Тянься). Название всего цивилизованного мира наподобие греческой ойкумены. Во многих отношениях это понятие дополняет термин «Срединное государство», а порой совпадает с ним. К настоящему времени понятие Поднебесной стало важнейшей категорией геополитической стратегии Китая, обозначая, в сущности, пространство его национальных интересов, хотя бы в потенции. – Прим. В.М.
[2] В китайской традиции бытие определяется как «сокровенная сообщительность» (сюань тун) или «свободное странствие», «игра» (ю). Речь идет о свободном со-общении в мировой «всеобщности», которая выражается то ли в игре ритуала, то ли в ритуале игры. – Прим. В.М.

Охота на «свободных агентов»
К вопросу о совершенствовании российской внешней политики
Павел Салин – кандидат юридических наук, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ.
Резюме Задачей должно стать построение комфортного для человека государства на классических консервативных ценностях, и в мире есть такой спрос, а невозможность его удовлетворить приводит к девиантным формам вроде радикального исламизма.
Неофициальное заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова в прошлом году о том, что «бизнес as usual» с Западом уже невозможен, стало запоздалой констатацией факта, отражающего лишь одну грань фундаментальных трансформаций, происходящих в мире. Российская внешняя политика, естественно, не может не реагировать на эти изменения, причем не только ad hoc, но и на доктринальном уровне. Предыдущая концепция российской внешней политики была утверждена за год до крымских событий – в феврале 2013 года. Естественно, она не отражала новых реалий, которые подспудно давали себя знать еще с конца «нулевых», но проявились и были осознаны лишь в последние 2–3 года. Соответственно, доктрина нуждалась в корректировке, на что и указал глава российского МИДа на заседании Совета по внешней и оборонной политике в начале апреля 2016 г. (поручение модернизировать Концепцию дал президент).
Прежняя концепция содержала некоторые положения, соответствующие новым мировым реалиям, в «спящем» виде. Новая, утвержденная президентом 30 ноября 2016 г., несколько развивает положения предыдущей, но их содержание все равно носит пунктирный характер. Целесообразно предложить инструментарий для реализации заложенных в новой Концепции установок, чему и посвящена данная статья.
«Мозаичность» мира как долговременный переходный этап
Характеризуя международную ситуацию, российский министр помимо «противоречивости» назвал еще и «мозаичность», что точно отражает ситуацию. Суть мозаики в том, что из отдельных элементов создается целостная картина – панно. При этом из одних и тех же элементов можно создать совсем разные изображения – все зависит от творца и качества материала, скрепляющего эти элементы.
Нельзя сказать, что исчезли какие-то принципиальные составляющие прежней мозаики либо появилось большое число новых. Камешки примерно те же, что десять, двадцать и более лет назад. Но исчез или утратил цементирующие качества раствор, скреплявший их в единое целое. Речь об идеологии, которая подавалась как универсальная – идеологии глобализации Pax Americana, основанной на универсалистских ценностях и идее «конца истории». Есть одна правильная модель, а все остальные находятся на различных этапах приближения к ней, причем если «прогресс» застопорился, его можно и нужно подтолкнуть мирным (soft power) или военным путем.
Для анализа ситуации важно остановиться на понятии политической субъектности. В последние столетия субъектность концентрировалась на национальном, а после Второй мировой войны – наднациональном уровне, но ядром все равно оставались национальные государства (СССР и США). После распада биполярного мира на короткий период носителем такой субъектности стали Соединенные Штаты.
Однако сейчас субъектность переходит к другим действующим лицам, но не строго вниз – от наднациональных структур к национальным государствам, а скорее вниз по диагонали. Носителями становятся не только национальные государства, но и различные организации и сообщества.
Упрощая, процессы полутора десятилетий можно назвать рефеодализацией. В феодальном мире (на который все больше похожа современная система международных отношений) связи между сеньором и вассалом носили гибкий характер, вассал мог часто менять сеньора, в национальном же государстве это воспринималось как измена, сепаратизм. Сейчас международные отношения даже более свободные, чем при развитом феодализме, устойчивые связи рушатся и сменяются ситуативными именно в силу обретения субъектности элементами бывшей мозаики. Игрокам, которые привыкли к устойчивым региональным или глобальным альянсам и воспринимают изменения как отклонение от нормы, придется приспособиться к «новой нормальности».
15–20 лет после холодной войны наглядным воплощением торжества «конца истории» был Запад в широком понимании. Политическим эталоном служили США, претендовавшие на совершенство и универсализм своей политической системы, а социально-экономическим – Европа, которая выстроила почти безупречное социальное государство и предлагала всем следовать своему примеру. Сопредельным странам – путем присоединения к ЕС, остальным – путем копирования модели.
Однако сейчас оба основания трещат по швам. Европа идет к пересмотру социальной системы в сторону либерализации, а «образцовая» демократия Соединенных Штатов обернулась неверием масс в «оторвавшуюся от народа» элиту.
По мере ослабления идеологических скреп международная система приходит в состояние, когда частицы прежнего миропорядка двигаются хаотично и свободно взаимодействуют друг с другом. Со временем они, вероятно, выстроятся и образуют новый порядок, но не в ближайшие годы. И в хаосе надо выживать, понимая, что на обозримый период «мозаичность» – не девиация, а норма. Альянсы теряют жесткость, которая была основным качеством союзов в холодную войну. Россия в полной мере ощущает это в отношениях с союзниками по ОДКБ и ЕАЭС, но иерархия пошатнулась даже в таком обязывающем и устойчивом военно-политическом блоке, как НАТО, и в связях США с их партнерами в Азии.
От многополярности к ситуативным альянсам «свободных агентов»
Все предыдущие российские внешнеполитические концепции (и во многом действующая) и – шире – дипломатическая практика построены на концепции многополярности, то есть наличии равных Соединенным Штатам держав в разных частях мира. Другими словами, российская дипломатия изначально настроена на действия «от противного», конституируется по отношению к тому миропорядку, который предлагает Вашингтон, пусть и с противоположным знаком. Отсюда теория исключительных зон влияния (для России это большая часть территории бывшего СССР), которые должны быть закреплены джентльменскими соглашениями между этими державами. И ставка на устойчивые международные организации и альянсы – ЕАЭС, ОДКБ и т.п. – больше декларируется на доктринальном уровне, на практике же все сводится к межгосударственным отношениям (тоже признак кризиса прежней парадигмы).
Между тем сейчас целесообразность подобной ставки вызывает все больше вопросов. СНГ (ему в предыдущей Концепции уделялось много внимания, в нынешней меньше, но оно по-прежнему присутствует как субъект политики) уже де-факто не существует, партнеры России по ЕАЭС в условиях конфронтации с Западом настроены на извлечение собственной выгоды, поддержка Москвы не подразумевается «по умолчанию». Эффективность функционирования ОДКБ – отдельный вопрос, но, например, принятие Белоруссией новой военной доктрины, запрещающей использование войск за рубежом, также вызывает сомнения относительно дееспособности организации. Все, кого Москва считала и считает (на уровне деклараций) стратегическими союзниками в рамках либо блоков (ОДКБ, ЕАЭС), либо конкретных процессов (режим Башара Асада), ведут собственную игру нередко в ущерб России, так что многополярный подход чреват дальнейшими потерями.
Между тем составляющие прежнего миропорядка никуда не делись, они лишь «выпали из мозаики» и теперь обладают гораздо большей степенью автономии, чем при прежнем однополярном (а ранее – биполярном) устройстве. Используя спортивную терминологию, можно сказать, что современный мир переполнен «свободными агентами». В хоккее, например, так называют игрока, чей контракт с командой истек и который имеет право заключить контракт с другой командой. При этом – в зависимости от конкретных условий – различают неограниченно и ограниченно свободных агентов, которые обладают разным пространством для маневра.
«Свободный агент» в современном мире – не только государство, в такой роли способен выступать любой актор, оказывающий заметное влияние на международные процессы. Он может даже не быть устойчивым образованием, а возникать применительно к конкретной проблеме. Чтобы эффективно использовать понятие «свободный агент», необходимо отказаться от концепции «игры с нулевой суммой», где выигрыш Запада обязательно воспринимается как проигрыш России и наоборот. То есть избавиться от концепта «конституирующего другого» (внешнего врага) или, что более инструментально, сделать его гораздо более обтекаемым. Например, международный терроризм в каждом конкретном случае может приобретать различные очертания.
Кроме того, отказ от «игры с нулевой суммой» позволяет трансформировать потенциально разрушительное столкновение интересов в позитивный синергетический эффект. В качестве примера можно привести сопряжение китайского и российского интеграционных проектов в Центральной Азии. Внешние игроки, руководствуясь как раз парадигмой «игры с нулевой суммой», ожидали, что две страны начнут конкурировать, взаимно ослабляя друг друга. Однако Москва и Пекин избрали другую стратегию – взаимного дополнения Экономического пояса Шелкового пути и ЕАЭС. По поводу функционирования и перспектив данного проекта вопросов пока больше, чем ответов, но обкатка новой модели взаимодействия налицо.
Этот пример сотрудничества отличается от того, который несколько лет назад Соединенные Штаты предлагали Китаю и который получил название «Кимерика». Вашингтон ожидал от Пекина согласия на игру вслепую – сначала договориться о стратегическом альянсе, а потом исходить из этой догмы при действиях в конкретной ситуации (то есть от общего к частному). Сотрудничество же России и Китая в Центральной Азии носит характер ad hoc, при этом далеко не факт, что оно перерастет в стратегическое партнерство, то есть страны будут выступать партнерами в других сферах и точках мира.
Следует отметить, что из крупных стран именно Китай является носителем нового подхода к конструированию международных отношений и практик. Страна, несмотря на серьезный экономический и растущий политический вес, а также обращенные на нее взгляды всего мира, не стремится выстраивать устойчивые блоки, предпочитая ситуативные двусторонние альянсы, что минимизирует издержки и обеспечивает успешность китайской экспансии. Эту стратегию условно можно назвать «капиллярной», основанной на точечном проникновении, в отличие от «фронтальной», которая присуща западной внешнеполитической традиции и которая исходит из раздела сфер влияния с географической точки зрения.
Сетевизация внешней политики: с кем и как
Упор в модернизации доктрины должен делаться на сетевизации внешнеполитических усилий, выстраивании гибких, но относительно постоянно действующих и устойчивых сетей, объединенных не общим руководством, а общими интересами для решения конкретной проблемы или их комплекса. При этом подобная возможность была предусмотрена в 2013 г., а в 2016 г. она несколько расширена. В качестве одной из целей российской внешней политики называется «Развертывание широкого и недискриминационного международного сотрудничества, содействие становлению гибких внеблоковых сетевых альянсов, активное участие в них России». Эта рамочная норма требует доктринального и практического наполнения. Другими словами, российская внешнеполитическая парадигма предусматривает сетевизацию усилий, вопрос с кем и как.
Прежде всего к важным игрокам следует отнести транснациональные корпорации. Сейчас последние находятся в принципиально иной ситуации, чем 10–20 лет назад. Раньше они в целом были продолжением национальных государств, постепенно приватизируя их функции. Сейчас же, как ни парадоксально, на фоне ренационализации международной политики (об этом будет сказано ниже) ТНК оказались в свободном плавании. А нарастающий бунт населения против элит, в адрес которых выдвигаются обоснованные обвинения в номадизации и «отрыве от корней», еще больше обособил корпорации.
При этом речь идет не только о классических ТНК, связанных с добычей ресурсов и производством. В последнее время в особую подгруппу выделились такие ставшие международными игроки, как частные военные компании (ЧВК), прежде действовавшие в рамках национальной политики, а сейчас становящиеся все более самодостаточными. Их роль на фоне множащихся военных конфликтов в различных частях мира и нежелания государств прямо принимать в них участие будет возрастать.
Еще одна важная группа – неправительственные организации (НПО). Возникшие в качестве инструмента «продолжения государственной политики иными средствами», они также во многом превратились в свободных игроков. Возникают их новые кластеры. На фоне «позеленения» мировой политики все большую роль играют экологические НПО, «Гринпис» в этом ряду первый, но далеко не единственный пример. Принято считать, что «позеленение» политики – это чисто западный, даже европейский тренд, однако это далеко не так. Например, серьезную роль экологические НПО, зачастую пользующиеся поддержкой единомышленников на Западе, играют в Индии, стране, имеющей потенциал мировой державы.
Следует отметить, что в новой доктрине список потенциальных контрагентов государства за счет двух вышеуказанных категорий расширен, но почему-то только применительно к решению такой задачи, как борьба с терроризмом.
Наконец, третьим, но по степени важности едва ли не первым типом свободных игроков являются различного рода профессиональные корпорации и сообщества по интересам. Они в полной мере воспользовались результатом информационной революции и могут рассматриваться в качестве субъектов мировой политики, полноценно функционирующих как на суб-, так и на наднациональном уровнях. Например, на фоне дерационализации политики вообще, возвращения ее на уровень массового манипулирования с помощью апелляции к эмоциям и инстинктам заметно возросла роль медийной корпорации. Журналистское сообщество критически относится к модели функционирования, построенной на парадигме «власть-подчинение», и приемлет как раз сетевую структуру.
Весьма высока роль научного и экспертного сообщества. Они, как и СМИ, еще до информационной революции сумели выстроить наднациональную систему взаимодействия, а последние изменения в коммуникационной среде лишь придали новый импульс и содержание этому процессу. При этом академическое сообщество может оказывать заметное влияние на международную политику, в том числе и на глобальные тенденции. Следует отметить, что это направление деятельности, в отличие от других вышеуказанных, в новой Концепции пунктирно прописано. Документ предусматривает развитие общественной дипломатии, а одним из ее инструментов является «расширение участия представителей научного и экспертного сообщества России в диалоге с иностранными специалистами по вопросам мировой политики и международной безопасности».
Существенным является и такой фактор, как сообщества по интересам в самом широком смысле слова. Например, объединения спортивных (прежде всего футбольных) болельщиков давно превратились в актора не только местной и национальной, но и международной политики. С точки зрения географического и демографического охвата, степени консолидированности и возможности мобилизовываться в короткие сроки важность этого типа игроков будет только возрастать.
С точки зрения классической теории международных отношений, перечисленные группы «свободных агентов» не являются субъектами, а скорее инструментами внешней политики. Однако в свете происходящих в мире изменений такие игроки, оставаясь по форме прежними (поэтому и кажется, что никаких новых акторов по сравнению с периодом полярного мира не появилось, что формально верно, а по сути – нет), обретают новые качества, основанные на субъектности.
Признаки изменений были заметны и раньше, что нашло выражение в трудах некоторых футурологов. Например, Элвин Тоффлер охарактеризовал подобное явление как революцию множеств. Правда, он имел в виду более обширные процессы, а не только и не столько происходящее в сфере международных отношений. В соответствии с данной гипотезой, количество игроков, принимающих самостоятельные решения (а значит, обладающих субъектностью), лавинообразно растет, и у желающих контролировать поток просто не хватит ресурсов. В итоге возникает ситуация «хвоста, виляющего собакой», что наглядно иллюстрирует Сирия, где странами, претендующими на статус лидеров альянсов, манипулируют те, кого они считают своими сателлитами.
Национальное государство в сетевой политике и создании «панно»
Может показаться, что сетевизация внешней политики опирается на концепцию отмирания национального государства как базового актора международных отношений, но это в корне неверно. Институт национального государства возвращает позиции, казалось бы, навсегда утраченные. Это обусловлено эрозией глобалистского проекта, который продвигался последние 20–25 лет. Правда, полный возврат к «доглобалистской» парадигме также невозможен. В проведении внешней, сетевой политики государство должно играть роль не «генерала», стремящегося максимально регламентировать деятельность подчиненных ему структур, а координатора, задающего правила игры.
Отдельные элементы сетевой политики на международном уровне реализуются российскими игроками, в частности, бизнес-структурами. Однако для получения синергетического эффекта необходима координация и стратегическое целеполагание на уровне государства. В целом такой подход прописан в законе о государственном стратегическом планировании, принятом несколько лет назад. Он не предусматривает международной компоненты, но методологический подход можно перенести и на внешнюю политику.
Также актуален вопрос о том, как России побудить свободных акторов кооперироваться в выгодные ей сетевые структуры. Ответ банален – только с помощью «мягкой силы». Как уже говорилось в начале, западная идеология и модель мироустройства находятся в упадке, выйти из которого в ближайшее время без кардинального их пересмотра невозможно. Запад стоит перед вызовом, по масштабу сопоставимым с внутренним ценностным кризисом конца 1960-х гг., и на его преодоление уйдет немало времени и сил. При этом не факт, что в результате появится новая эффективная модель. В мире заметна тяга к новому политическому идеализму, более справедливому мироустройству.
В такой ситуации создание сетевых альянсов невозможно без «мягкой силы», основанной на примере собственного успеха (success story). Поскольку базовый запрос мирового населения не меняется – эффективное повседневное государство (безопасность, образование, здравоохранение, комфортная окружающая среда) – Россия должна на собственном примере показать, как этого достичь. Просто с помощью пропаганды решить данную задачу нельзя, необходим социально-экономический базис.
Например, можно выдвинуть лозунг-мегацель, который будет способствовать и внутренней мобилизации, и консолидации вокруг власти: Россия как новая Европа – возвращение к истокам. Задачей должно стать построение комфортного для человека государства, основанного на классических консервативных ценностях, на что в мире имеется спрос, а невозможность его удовлетворить приводит к девиантным формам вроде радикального исламизма. В случае успеха достигнутые результаты могут стать «цементом», который скрепит существующие свободные элементы мозаики в новое «панно», созданное при активном участии России.
* * *
Несмотря на кризис глобалистского проекта и ренационализацию мировой политики, возврат в XX век невозможен. Существовавшее «панно» из-за эрозии скрепляющего его «цемента» в виде идеологии, основанной на позитивном примере, рассыпалось, при этом сами элементы мозаики никуда не делись. Для эффективного взаимодействия необходима сетевизация внешней политики, основанная на переходе от идеи многополярности к идее свободных агентов. Такая возможность предусмотрена Концепцией внешней политики России 2016 г., необходимо лишь наполнить ее деталями и реальным содержанием, а именно – доктринально расширить список потенциальных контрагентов, взаимодействие с которыми выстраивать по сетевому принципу. Это позволит не только существенно повысить эффективность внешнеполитических усилий, но и принять активное участие в формировании будущего «постсетевого» миропорядка, который неизбежно наступит. Однако для этого надо сосредоточиться на внутреннем развитии, так как только сила успешного примера, а не голая пропаганда или прямое принуждение способны создать притягательную силу для «свободных агентов».

От постмодернизма к неомодернизму, или Воспоминания о будущем
Андрей Кортунов - Генеральный директор и член Президиума Российского Совета по Международным Делам
Резюме В политической игре будущего наибольшие шансы на победу окажутся у тех, кто готов следовать по-прежнему актуальному совету Сократа: «Секрет перемен состоит в том, чтобы сосредоточиться на создании нового, а не на борьбе со старым».
Концепция постмодернизма пришла в международные отношения из французской философии 70–80-х гг. прошлого века. Тогда, на излете последнего великого подъема французского интеллектуального универсализма, усилиями Жака Деррида, Мишеля Фуко, Луи Альтюссера, Жака Лакана и других основоположников и оппонентов школы постструктурализма были сформулированы базовые характеристики постмодернизма как целостной социологической и исторической трактовки современного мира.
Из этих характеристик постиндустриального общества обычно выделяют четыре. Во-первых, агностицизм – истина условна, это не более чем общепринятое суждение, а не отражение объективной реальности. Во-вторых, прагматизм – единственной неоспоримой ценностью является успех, а успех измеряется исключительно материальными достижениями индивидуумов или групп. В-третьих, эклектизм – для достижения успеха личность и общество произвольно совмещают противоречащие друг другу принципы, стратегии, модели поведения. И, в-четвертых, анархо-демократизм – кумулятивный эффект агностицизма, прагматизма и эклектизма последовательно разрушает легитимность любой социальной и политической иерархии, противопоставляя ей тотально свободную «атомизированную» личность.
Наверное, многим перечисленные выше характеристики постмодернизма покажутся малопривлекательными и даже ущербными в сравнении с последовательным и прозрачным рационализмом классического модернизма. Собственно, многие основатели постмодернизма и рассматривали его как философию кризиса западного сознания. Тем не менее нельзя отрицать и сильные стороны концепции постмодернизма – в первую очередь ее инклюзивный характер, способность предложить некий «общий знаменатель» крайне сложному, неоднородному, разрозненному и противоречивому западному обществу конца XX – начала XXI века. Поэтому совсем неудивительно, что этот концептуальный подход нашел применение и в сфере международных отношений, где его объектом стало уже не западное общество, а крайне сложный, неоднородный, разрозненный и противоречивый мир в целом.
Недолгий век постмодернизма
Перекочевав из философии и социологии в практику международных отношений, четыре характеристики постмодернизма, разумеется, должны были модифицироваться. При этом, однако, на протяжении десятилетий после окончания холодной войны они не только отражали взгляды глобального политического истеблишмента на мир, но и сами отражались в конкретных внешнеполитических приоритетах и действиях великих держав, международных организаций и других игроков мировой политики. Хотя Билл Клинтон, Тони Блэр, Николя Саркози или Жозе Баррозу никогда не позиционировали себя в качестве «постмодернистов», парадигма постмодернизма легко угадывается в деятельности каждого из них.
Применительно к международным отношениям постмодернистский агностицизм приобрел вид правового релятивизма, когда базовые нормы международного права (суверенитет, невмешательство во внутренние дела других государств, отказ от использования военной силы и пр.) стали применяться выборочно, в зависимости от текущих политических потребностей и конкретных ситуаций. Возник, закрепился и постоянно расширялся разрыв между «легальностью» и «легитимностью» внешнеполитических акций. Причем внеправовой «легитимности» (основанной на «общепринятом суждении» от лица крайне аморфного «мирового общественного мнения») раз за разом отдавалось предпочтение перед формальной юридической «легальностью». За правовым релятивизмом по пятам следовал и моральный релятивизм (проявившийся, например, в готовности разграничить «плохой» и «хороший» терроризм в зависимости от соображений политической конъюнктуры).
Прагматизм трансформировался в экономический детерминизм, когда внешняя политика стала восприниматься как технический механизм по обслуживанию ближайших экономических интересов национальных или транснациональных бизнес-элит. Все другие интересы – от сохранения национальной культуры до защиты национальной безопасности – объявлялись досадными, хотя и неизбежными рудиментами ушедшей эпохи модернизма. Прагматизм также имел следствием повсеместный отказ от масштабных и долгосрочных политических проектов – например, от системных реформ ООН или от преобразования НАТО во всеобъемлющую евро-атлантическую организацию безопасности. Такие проекты, требующие очень значительных политических инвестиций и имеющие долгие «сроки окупаемости», с точки зрения узко понятого прагматизма были нерациональными и неактуальными. Гораздо более логичным выглядело географическое расширение существующих институтов при минимальных издержках и политических рисках.
Эклектизм проявился в многочисленных случаях использования двойных стандартов, в противоречивости и непоследовательности внешнеполитических нарративов, в широком распространении лицемерия, фигур умолчания и «политической корректности». Тактика все чаще доминирует над стратегией, а политическая риторика все больше расходится с политической практикой. Желание угодить многочисленным групповым интересам, сохранить хрупкий консенсус по основным вопросам международной жизни, минимизировать политические риски и потенциальные издержки практически исключало возможность крупных внешнеполитических прорывов. Эклектизм последовательно разрушал то, то еще оставалось от национальных идеологий («больших нарративов» или «больших смыслов») после глобального триумфа либерализма в конце 80-х – начале 90-х гг. прошлого века.
Наконец, анархо-демократизм проявил себя как минимум на двух уровнях. Внутри отдельных стран доминирующая роль государства в выработке и проведении внешней политики стала подвергаться ожесточенным нападкам со стороны многочисленных негосударственных игроков – большого бизнеса, общественных организаций, властей регионов и муниципалитетов, политических партий и религиозных движений. Серьезный вызов был брошен международным организациям – как региональным, так и глобальным. Начался процесс своеобразной «геополитической деконструкции»: жесткие структуры замещались подвижными тактическими союзами («коалициями желающих»), в которых каждый участник мог бы самостоятельно определить формат и уровень своей вовлеченности, не принимая каких бы то ни было жестких и долгосрочных обязательств.
Если как философско-социологическая конструкция постмодернизм отражал усталость западного общества от мобилизационной дисциплины и жесткого рационализма эпохи модернизма, то как явление мировой политики он означал утомление международного сообщества жесткой иерархией и дуализмом эпохи холодной войны. И там, и здесь имело место снижение требований к субъекту социального действия: в первом случае – к «атомизированному» индивиду, во втором – к национальному государству.
В этом снижении требований состояла как очевидная непосредственная привлекательность постмодернистских подходов, так и не менее очевидная их историческая ограниченность. Бесконечно долго подменять действие его имитацией, политику – риторикой, стратегию – тактикой, принципы – оппортунизмом, а трезвый анализ – «политической корректностью» пока не удавалось никому. Не удалось это и постмодернистам-политикам. Неизбежный закат постмодернизма в международной жизни был ускорен еще и тем прискорбным обстоятельством, что постмодернисты-политики, в отличие от постмодернистов-философов, оказались совсем не склонны к рефлексии, сомнениям и критическому осмыслению собственного опыта, а потому лишили себя возможности оперативно внести необходимые коррективы и новации в политическую практику, упустив «точку невозврата» в развитии международной системы.
Эпоха безраздельного господства постмодернизма в мировой политике – по крайней мере в той форме, в которой он сложился в конце прошлого века – оказалась исторически весьма недолгой. Можно спорить о том, когда именно начался ее закат. Одни наблюдатели полагают переломным 2016 г., а «точками невозврата» считают «Брекзит» и победу Дональда Трампа на выборах в США. Другие отодвигают конец эпохи постмодернизма на два-три года назад, связывая его с началом украинского кризиса и сопутствующим крахом планов строительства «Большой Европы». Третьи уходят еще дальше в прошлое, вспоминая об «арабском пробуждении» 2011 г. как о явлении не только регионального, но и глобального значения. Четвертые ссылаются на финансово-экономический кризис 2008–2009 гг., вернее – на неспособность и нежелание постмодернистской мировой элиты адекватно отреагировать на это потрясение, принести необходимые жертвы на алтарь общих интересов и вывести мировую валютно-финансовую систему на новый уровень управляемости.
Не вдаваясь в дискуссию о датировке, констатируем очевидное: во втором десятилетии XXI века начался ренессанс ряда важных параметров предшествующей постмодернизму эпохи. Но поскольку никакая реставрация не предполагает буквального возвращения ancien régime, то и в данном случае речь идет все-таки о новом этапе в развитии международной системы. Воспользовавшись термином, введенным российским исследователем Василием Кузнецовым в его анализе современной социально-политической динамики Ближнего Востока, позволительно заявить о начале неомодернистского периода в международных отношениях.
В архитектуре неомодернистский стиль отвергает вычурность и избыточную усложненность постмодернизма, стремится к большей простоте и ясности. Архитекторы-неомодернисты любят работать в брутальной и минималистской манере, избегая богато декорированных фасадов и предпочитая прямые плоскости и углы искривленному пространству и плавным закруглениям. В их конструкциях много металла и композитных материалов, оставляющих ощущение эмоциональной сдержанности и внутреннего напряжения. Некоторые параллели с этим архитектурным стилем явно просматриваются в международных конструкциях нынешних политиков-неомодернистов.
Неомодернизм как отрицание постмодернизма
На данный момент уже написано великое множество статей, докладов, эссе и книг, проведено огромное число конференций, симпозиумов и прочих коллективных мероприятий с целью объяснить неожиданные и почти невероятные победы неомодернистов последнего времени. Иногда эти победы незатейливо списываются на какие-то ситуативные причины: специфическое стечение политических обстоятельств, харизму отдельных лидеров, тактические ошибки и просчеты их противников и т. д. Нередко утверждается, что своими победами неомодернисты обязаны способности мобилизовать маргинальные слои, гипнотизировать массы, пробудить те самые темные глубины общественного подсознания, куда «нормальный» политик постмодерна даже не отваживается заглянуть. Не обходится и без конспирологии, причем нити неомодернистского заговора, как выясняется, тянутся прямо в Кремль, к глобальному кукловоду и начальнику всех неомодернистов Владимиру Путину.
Такие объяснения вольно или невольно уводят от главного – признания исчерпанности повестки дня самого постмодернизма, причем не только в глазах маргиналов, но и значительного сегмента самого что ни на есть среднего класса и даже части глобальной интеллектуальной элиты. Внешнеполитический постмодернизм выродился до тривиального стремления удержать статус-кво и в силу этого был обречен. Даже если бы на референдуме в Великобритании победили приверженцы Евросоюза, а Дональд Трамп потерпел поражение от Хиллари Клинтон, эти обстоятельства могли лишь отсрочить, но не отменить закат эпохи постмодернизма. Ведь и Дэвид Кэмерон, и Хиллари Клинтон даже не пытались предложить сколько-нибудь новую и увлекательную перспективу своим потенциальным сторонникам, а лишь пугали их катастрофическими последствиями «неправильного» голосования. Как справедливо замечал герой одного из рассказов О’Генри, «песок – неважная замена овсу», но кроме песка в арсенале постмодернистов не нашлось ничего.
Столь же ошибочным, на наш взгляд, является представление о существовании какого-то единого глобального фронта неомодернистов, наступающих на постмодернизм подобно гоплитам в македонской фаланге. Президент России Владимир Путин не шагает в одном строю с польским лидером Ярославом Качиньским, а Председатель КНР Си Цзиньпин не слишком близок к японскому премьеру Синдзо Абэ. Если следующим французским президентом станет Франсуа Фийон, то он едва ли окажется удобным партнером для Дональда Трампа. Да и у лидера французского «Национального фронта» Марин Ле Пен мало шансов стать лучшей подружкой британского премьера Терезы Мэй.
Речь идет не о создании международного политического альянса типа европейского Священного союза после наполеоновских войн, а о совпадении, пересечении или близости взглядов на мировую политику – на ее законы и движущие силы, стратегию и тактику переговоров, критерии и индикаторы внешнеполитических успехов, будущее мирового политического и экономического порядка – целого ряда крупных национальных лидеров и стоящих за ними политических сил.
Каждый из перечисленных руководителей в той или иной форме бросает вызов парадигме постмодернизма, дистанцируется от ее базовых характеристик, предлагая какой-то вариант неомодернистской повестки дня – для своей страны, своего региона, а то и для международного сообщества в целом. Штурм обветшавшей цитадели постмодернизма ведется с разных сторон и без общего плана, но между штурмующими много общего. Предвидя обвинения в схематизме и неправомерных обобщениях, все же возьмем на себя смелость выделить четыре базовых характеристики неомодернизма, противостоящие четырем еще недавно общепринятым постмодернистским установкам.
Во-первых, национализм. Все глашатаи новой эпохи неизменно акцентируют специфические национальные интересы своих стран в противовес глобальному универсализму постмодернистов. Весьма характерно, что в ходе избирательной кампании Дональд Трамп говорил не об «американском лидерстве», а о «величии Америки». Национализм больше, чем что-либо другое, объединяет западных и незападных лидеров неомодернизма. Если постмодернисты старательно разрушали стены по линии противостояния «свой – чужой», то неомодернисты не менее старательно эти стены восстанавливают (в том числе – как венгерский премьер Виктор Орбан, а также его израильский коллега Биньямин Нетаньяху – и в буквальном смысле слова). Национализм тесно связан с убежденностью: центральную роль в мировой политике играют государства. Постмодернистские попытки бросить вызов легитимности иерархии, представив государство в качестве всего лишь одного из игроков мировой политики, решительно отметаются как безответственные и несостоятельные.
Во-вторых, трансакционализм. Трансакционный подход к внешней политике уподобляет взаимодействие с партнерами и оппонентами на международной арене отношениям в бизнесе, когда каждый из участников переговоров старается выторговать для себя максимально выгодные условия будущей сделки. Абстрактные понятия вроде «общих ценностей», «интересов человечества», «мирового общественного мнения», хотя и могут использоваться, но не относятся к числу часто употребляемых, тем более не отражают приоритетов. Демонстративный трансакционализм стал закономерной реакцией на многочисленные двусмысленности, недосказанности, лицемерие и «политическую корректность» эпохи постмодернизма. Трансакционная риторика, иногда граничащая с цинизмом, вызывает сегодня куда больше доверия и поддержки у населения, чем высокопарные декларации в ретро-стиле постмодернизма.
В-третьих, холизм. Установка на холизм или, перефразируя Яна Смэтса, на «внешнюю политику целостности», отразила обнаружившуюся несостоятельность экономического детерминизма эпохи постмодернизма. История последних лет недвусмысленно показала, что внешняя политика из раболепной служанки экономики способна в одночасье превратиться в капризную госпожу последней. Примечательно, что политический триумф евроскептика Качиньского пришелся на момент беспрецедентных экономических успехов Польши, обусловленных как раз ее активным участием в европейской интеграции. Принцип холизма, парадоксально объединяющий Ярослава Качиньского и Владимира Путина, лишает экономику ее центрального места во внешнеполитических приоритетах, объявляя не менее важными такие понятия, как национальная безопасность, этнокультурная идентичность, государственный суверенитет.
В-четвертых, историзм. Если лидеры эпохи постмодернизма черпали вдохновение в фантазийных картинах глобального будущего человечества, то приходящие им на смену неомодернисты гораздо охотнее обращаются в поисках политических ориентиров к национальному прошлому. Отсюда – возрождение, казалось бы, давно забытых «больших нарративов», особенно заметное во Франции и в Японии (понятно, что в России, в Китае и в Индии «большие нарративы» не умирали даже в лучшие времена постмодернизма). Отсюда – решительный разрыв с постмодернистским универсализмом, повышенное внимание к национальным мифам и открытая или завуалированная заявка на исключительность. Если для постмодернистов термин «нормальная страна» имел вполне конкретное позитивное наполнение, то для неомодернистов он вообще лишен какого-либо содержания. Хотя в вопросах политической тактики большинство неомодернистов позиционируются как прагматики-трансакционалисты, в мировоззренческих вопросах они явно тяготеют к историческому романтизму, вызывая в памяти бессмертные романы Виктора Гюго и Вальтера Скотта.
Заслуживает внимание и еще одно, менее очевидное, отличие неомодернистов от постмодернистов. В эпоху постмодернизма главной разграничительной линией в мировой политике считался водораздел между демократией и авторитаризмом. Соответственно, наступление демократии и вытеснение авторитаризма на обочину формирующейся глобальной цивилизации воспринималось как основное содержание процесса мирового развития. Для большинства неомодернистов вопрос о демократии и авторитаризме уходит на второй план, уступая место куда более важному для них вопросу о границе между порядком и хаосом в международных отношениях. Если во втором десятилетии XXI века мир вступил в период хронической нестабильности, региональных и глобальных потрясений, резкого снижения уровня управляемости международной системы, то сохранение акцента на продвижение демократии представляется непозволительной роскошью. Ибо речь сегодня идет не столько о развитии, сколько о выживании, не столько о процветании, сколько о безопасности.
Отрицание отрицания?
Было бы как минимум преждевременно объявить о полной и окончательной победе неомодернизма над постмодернизмом. Отчаянное сопротивление новой парадигме продолжается, и ожесточенные арьергардные бои ведутся на нескольких фронтах одновременно. В Европе главным очагом сопротивления остается Германия, которая при канцлере Ангеле Меркель продолжает изо всех сил удерживать постмодернистский плацдарм в центре континента, год за годом теряя союзников и единомышленников. В Соединенных Штатах упорную войну ведут многочисленные отряды либерального истеблишмента, окопавшиеся в редакциях ведущих газет, в офисах вашингтонских аналитических центров и в коридорах американского Конгресса. Большинство малых стран повсюду в мире выступают против неомодернизма, поскольку предлагаемая им «новая реальность» в целом сокращает свободу маневра для небольших игроков, отказывая им в праве на политические и экономические бонусы в виде «позитивной дискриминации». Разумеется, к числу подпольщиков следует отнести и значительную часть лидеров большого бизнеса, бюрократию международных организаций и активистов транснационального гражданского общества, не готовых смириться с новой иерархией и новой идеологией мировой политики.
И все-таки, даже если на каком-то фронте наступление неомодернизма будет остановлено, а постмодернистское подполье частично преуспеет в попытках подорвать его изнутри, мир уже никогда не вернется к золотому веку постмодернизма. Эльфийские корабли один за другим бесшумно покидают Серые Гавани, последняя эльфийская принцесса, так и не успевшая стать законной королевой, печально вглядывается в уходящие в туманную даль берега навсегда покинутого Линдона, а над Средиземьем уже загорается заря новой эпохи.
Как долго продлится эта эпоха? Несколько лет или несколько десятилетий? И что придет ей на смену? Ответы на эти вопросы зависят в первую очередь от того, продемонстрирует ли неомодернизм способность к развитию, эволюции, той кропотливой и не всегда вдохновляющей «работе над ошибками», которой в свое время так и не удосужились всерьез заняться постмодернисты. Ведь нельзя не заметить, что четыре базовых символа веры неомодернизма столь же ненадежны, условны, внутренне противоречивы и уязвимы для критики оппонентов, сколь ненадежными, условными, противоречивыми и уязвимыми оказались четыре догмата постмодернизма.
В какой степени национализм способен выполнять функцию механизма долговременной социально-политической мобилизации в XXI веке? Ведь процессы глобализации продолжаются, а значит, происходит дальнейшее умножение индивидуальных и групповых идентичностей, нарастание трансграничных миграционных потоков, размывание столь важного для национализма культурно-антропологического единства. Реально ли сегодня позиционировать национальную идею в роли «большого смысла», восполняющего дефицит религиозного сознания, как это было в Европе сто-двести дет назад?
А трансакционизм? Разве не несет он на себе родовые пятна постмодернизма, ставя «конкретные» сиюминутные достижения выше «абстрактных» интересов завтрашнего дня? Разве, подобно постмодернизму, он не приносит стратегию в жертву тактике, общее в жертву частному? А как быть с настоятельной потребностью в долгосрочных и политически затратных проектах по восстановлению управляемости международной системы? Ведь нельзя же всерьез рассчитывать на то, что решением этой грандиозной задачи станет простая совокупность множества частных трансакционных сделок между разнообразными участниками мировой политики.
К внешнеполитическому холизму также есть немало вопросов. Холизм – это не только поиски равновесия между экономикой и политикой, между сотрудничеством и суверенитетом. Холизм основан на убеждении, что каждая страна имеет свою уникальную судьбу, а ее внешняя политика должна выполнять особую международную миссию. Поэтому задача национального лидера – не искать бухгалтерского баланса отдельных групповых интересов, но услышать рокот «барабанов судьбы», артикулировать национальную миссию и сплотить вокруг нее общество. Такая эпическая задача, быть может, под силу лидерам авторитарных режимов, где процесс принятия внешнеполитических решений запредельно централизован. Но как быть с демократическими обществами, где работают «сдержки и противовесы», где велика роль лоббистов и прессы, где любое крупное политическое решение так или иначе предполагает набор компромиссов и взаимных уступок?
Историзм тоже содержит в себе немало опасностей и ловушек. Перефразируя известное высказывание Герцена о западниках и славянофилах, можно сказать, что постмодернисты воспринимают мир как пророчество, а неомодернисты – как воспоминание. Пророчество на поверку оказалось кустарной поделкой самовлюбленных дилетантов, грубой и недолговечной. Однако и воспоминание вполне может обернуться наркотическими грезами, уводящими из реального мира. Более того, столкновение несовместимых «больших нарративов» способно привести к острым политическим конфликтам, достаточно сослаться на китайскую и японскую версии истории Второй мировой войны в Азии. Да и вообще – можно ли долго идти вперед с повернутой назад головой?
В более общем плане стоит заметить, что, как и в архитектуре, в международных отношениях неомодернизм идет по пути упрощения, целостности, минимализма, в известной мере – даже демонстративного антиинтеллектуализма, в то время как современное общество продолжает накапливать элементы сложности, нелинейности, амбивалентности, фрагментарности. Социально-культурные процессы, зафиксированные французским постструктурализмом сорок лет назад, никуда не делись; напротив, они приобрели новые масштабы и новую динамику. А потому нарастание напряженности между социальной базой и политической надстройкой в мире неомодернизма выглядит практически неизбежным.
Увидим ли мы убедительный реванш постмодернизма? Войдут ли в нашу лексику понятия «нео-постмодернизм» или «пост-неомодернизм»? Наверное, сегодня на эти вопросы никто не возьмется дать убедительных ответов. Скорее всего, мировое политическое и академическое сообщества так же прозевают упадок неомодернизма, как прозевали его подъем. Ясно одно – в политической игре будущего наибольшие шансы на победу окажутся у тех, кто готов следовать по-прежнему актуальному совету Сократа: «Секрет перемен состоит в том, чтобы сосредоточиться на создании нового, а не на борьбе со старым».

«Трамп не такой “милый” политик, как Обама»
России придется иметь дело не с интеллектуалами
Эдвард Люттвак – всемирно известный специалист по военной стратегии и геополитике. Консультирует Совет национальной безопасности и Госдепартамент США, был советником президента Рональда Рейгана. Участвовал в планировании и проведении военных операций, автор ряда книг по истории стратегической мысли.
Егор фон Шуберт - журналист, публицист
Резюме России придется иметь дело с грубоватыми, практичными, не особо интеллектуальными американскими джентльменами. В этом уверен признанный специалист в области стратегии Эдвард Люттвак.
– Мистер Люттвак, мы наблюдаем беспрецедентный политический сдвиг в Вашингтоне. С Вашей точки зрения, как Дональд Трамп собирается пересмотреть американскую внешнюю политику?
– Трамп не раз подробно на этом останавливался и, как говорится, «кричал со всех крыш» о том, что является для него приоритетом. Он намерен достичь соглашения с Россией, чтобы разрешить накопившиеся разногласия и перевести эту «маленькую холодную войну» в русло нормальных взаимоотношений, снять санкции и сделать прочие приятные для Москвы вещи.
В ответ он хочет, чтобы Путин лично изложил план своих дальнейших действий и придерживался его, дабы не поставить Трампа в неловкое положение. Трамп готов пойти на «особые условия» с Россией, ведь она не входит в число его приоритетов, потому с ней возможны послабления.
У нового президента своя стратегия, и чтобы ее воплотить, ему нужны нормальные отношения с Кремлем. Он хочет, чтобы Путин предложил ему варианты решения своих проблем по Крыму и Восточной Украине, и эти варианты не должны связывать США руки. Если впоследствии Путин нарушит договоренности, Трамп окажется в неудобном положении – пресса не упустит возможности обвинить его в слабости и излишних уступках Москве. И тогда России стоит ожидать реакцию гораздо более жесткую, чем ответ Обамы на Крым или Донбасс. Мистер Трамп не такой «милый» политик, как Обама, который всегда готов подставить вторую щеку. Более того, Обама был излишне вежлив, о Трампе этого сказать нельзя.
– Трамп не раз говорил о важности и необходимости плавного перехода власти от нынешней демократической администрации к следующей республиканской. Есть ли что-то во внешней политике, что Обама мог бы реально передать Трампу?
– Американские интересы не изменятся от факта смены президентов. Япония была и продолжит быть нашим самым важным союзником, НАТО в определенном виде тоже сохранится. Главным же для Трампа является сдерживание Китая и прекращение процесса выноса американского производства за рубеж в такие страны, как тот же Китай. Он просто хочет это прекратить. Поэтому он собирается пересмотреть не всю американскую внешнюю политику, а именно американо-китайские отношения; если для этого что-то надо будет «подлатать», Трамп это сделает.
Если китайцы станут сотрудничать с Вашингтоном в этом вопросе, никаких проблем не возникнет, если же нет – а есть признаки того, что они не горят желанием, – будут серьезные трения. Я подчеркиваю, именно трения и разногласия, а не конфликт. Между Китаем и Соединенными Штатами существует такой дисбаланс сил, что для Пекина пока было бы абсурдом идти на конфликт, если только в Чжуннаньхае не сойдут с ума. И кроме того у китайцев есть один важный сдерживающий фактор. Если они откроют огонь и потопят хотя бы резиновую лодку с американского катера, ни один китайский контейнер не разгрузят ни в одном американском порту, или порту стран – союзников США, или стран, которые хотят иметь нормальные экономические отношения с Америкой.
Но Трамп не собирается начинать войну или конфронтацию с Пекином, он хочет выровнять отношения и уйти от односторонних преимуществ, которые имеет Китай в отношениях с США (и, кстати, не только с ними). Заставить его играть по правилам. Никакой односторонней асимметрии. Китайские компании приходят и работают в Соединенных Штатах, нанимают персонал. Они присутствуют практически во всех сферах на американском рынке. Ничего подобного с американскими компаниями в КНР не наблюдается. Пекин хочет быть членом ВТО, Мирового банка и т.д., но иметь особые права и пользоваться длинным списком исключений. Этой политике будет положен конец.
Кроме того, в США не забыли, что Китай – однопартийная диктатура. Пока Вашингтону было выгодно иметь дело с КНР в нынешнем формате, никто не был против. Но друзьями мы никогда не были. Теперь же ситуация изменилась.
– Россия будет нужна Трампу в его китайском повороте?
– Нет, Москва не нужна Трампу в его китайской политике. Он не собирается ее использовать. От России ему нужно только, чтобы та просто продолжала преследовать свои интересы и проводила свою политику, но в рамках правил. Ему не нужен конфликт на два фронта. Поэтому важно восстановить нормальные отношения с Путиным, но не для того, чтобы Россия помогла ему с Китаем, а чтобы Кремль не создавал проблемы Вашингтону и не отвлекал его в Европе и на Ближнем Востоке. А нынешняя глупая холодная война относится как раз к категории подобных ненужных раздражителей.
– Как бы Вы характеризовали Трампа? Кто он? Республиканец, консерватор, реалист или всего понемногу?
– Я не знаю, может ли кто-либо вообще его как-то конкретно охарактеризовать. Трамп – это на 90% неизбежность американской внешней политики. Понимаете, мы все в некоторой степени заложники нашего восприятия. Дело в том, что кто бы ни стал американским президентом, Трамп, Хиллари Клинтон, кто-либо еще, новый президент неизбежно выглядел бы гораздо более «твердым», чем «мягкий» Обама, тем более что последний работал два срока. Достаточно давно у нас был очень слабый президент по имени Джимми Картер, за которым последовал Рональд Рейган. Но если бы был избран не мистер Рейган, а мистер Форд, например, он бы все равно смотрелся как ультрасильный руководитель, а сама кандидатура нового президента воспринималась бы как значительный отход от политики предыдущей администрации.
После двух «мягких» сроков Обамы неизбежно должен был последовать «сильный» преемник. Но последствия этого ужесточения американской политики почувствует на себе вовсе не Москва, а Пекин, который превратился для США и в экономическую, и в геополитическую проблему.
– Другими словами, Китай – это ядро стратегии Трампа?
– Да, именно так.
– В чем она может выражаться на первых порах?
– Первое, что он попытается сделать, – это прекратить физическое увеличение Китая в Южно-Китайском море, когда Пекин в одностороннем порядке продолжает оккупировать новые скалы и острова.
– Вы написали две большие книги о стратегии Рима и Византии. Если отталкиваться от того, что там сказано, считаете ли Вы, что американская политика теперь будет более византийской?
– Как Вы помните, переход от одной внешнеполитической стратегии к другой произошел из-за изменения баланса сил между империей и ее соседями и только поэтому. Позднеримская и Византийская империи просто физически не могли проводить ту же политику, что Рим начала и расцвета империи. Я не уверен, что американская политика станет более византийской. Во-первых, дело в том, что по сути баланс сил для Соединенных Штатов так и не изменился, хотя из-за мягкой политики Обамы и могло создаться такое впечатление. При Трампе она такой больше не будет. А во-вторых, США потребуется целенаправленно обуздывать экспансионистские планы Пекина в южных морях, а там одной византийской стратегией, к сожалению, ограничиться не удастся, опять же в силу баланса сил и слабости местных партнеров Вашингтона. Поэтому Америке придется прибегнуть в Южно-Китайском море именно к римской стратегии.
– Вы знаете, многие в России не согласятся с Вами. Среди российской политической элиты распространено мнение о слабости США и закате Америки. Что бы Вы ответили этим скептикам?
– Это очень странно и даже забавно одновременно. Я скажу только, что за последние пять лет только стоимостный рост американской экономики превысил общий объем нынешнего российского ВВП. Кроме того, американская экономика за последнее время стала полностью энергонезависимой, и это важнейшее достижение. Кстати, приблизительно похожее восприятие Америки было в СССР при Картере, когда Кремль думал, что Вашингтон в глубоком кризисе, а потом пришел Рейган и очень быстро показал Политбюро, кто на самом деле в состоянии упадка.
– Перейдем от вопросов американской внешней политики к российской. Как Вы ее оцениваете с момента крымских событий?
– Я бы сказал, она абсолютно нормальная для правителя России, который реагирует на продолжающийся распад империи, пытается восстановить положение страны и лично воспринимает все события на постсоветском пространстве. В этой связи реакция Путина на Украину была абсолютно предсказуема и очевидна. Историческая колыбель России как государства не могла стать частью НАТО. Если евроинтеграция Украины для Кремля была еще допустима, то заигрывания с Североатлантическим альянсом переполнили чашу терпения Путина. И дело не в данном президенте, любой лидер России на его месте в тот момент, к какой бы партии он ни принадлежал и какой политики ни придерживался, будь он даже бывший оппозиционер, отреагировал бы точно так же. Киев мог стать членом НАТО только после Москвы. Вся эта история началась, когда Россия была приглашена и была на пути к тому, чтобы стать членом альянса. И расширение НАТО на восток первоначально предполагало включение России, а с Кремлем в альянсе было бы уже легче взять туда балтийские страны, например.
– А почему не сложилось?
– Причин много. Я могу только сказать, что российские представители при НАТО в тот период получали все больший и больший доступ к внутренней конфиденциальной информации альянса. Но потом из Москвы прислали Рогозина, и внезапно тон отношений резко изменился. Я делаю вывод, что Путину тогда, видимо, по внутриполитическим причинам понадобилось сделать из Запада врага. С новым постпредом изменился сам тон дискуссий, мелкие протокольные вещи, которые сразу бросаются в глаза.
Но что произошло тогда и кто виноват, не столь важно. Важно, что именно в тот момент и надо было остановить расширение НАТО на восток. Оно имело смысл, только когда Россия виделась одной из его участниц. Если Россия сама не желала этого, надо было ударить по тормозам, потому что подобная политика альянса неизбежно вела к новой холодной войне с русскими, которой в Вашингтоне искренне никто не хотел, что тем более обесценивает это расширение. Провоцировать Россию на конфликт, в котором вы не хотите участвовать – не очень разумно. Поэтому никакого коварного плана НАТО по окружению России никогда не было. Я сам участвовал в работе «Группы 50» в Вашингтоне, состоявшей из бывших сотрудников различных профильных министерств, мы активно разъясняли всю невыгодность продвижения НАТО на восток. Я был активным солдатом холодной войны, но прекрасно понимал, что расширять НАТО имеет смысл, только если вы собираетесь включать туда Россию.
– Во время нашего интервью два года назад вы сказали, что «Афганистан – это не американская проблема». Можно ли сказать, что Сирия – это тоже не американская проблема?
– Не совсем. Главный осложняющий фактор в Сирии – это то, что там у США по факту нет союзников. Американцы по отдельности противостоят всем группам, включенным в конфликт: ИГИЛу, Ирану и его союзникам, России и Асаду, даже с Турцией и курдами не все так однозначно, у всех пересекающиеся интересы. А при таком уровне противостояния необходимо иметь там гораздо большее военное присутствие, чем есть сегодня.
– Вы не раз говорили, что война – это последнее средство. Почему Россия в последнее время так часто к нему прибегает?
– В первую очередь потому, что Путин освоил технологию малых, коротких, дешевых, не слишком интенсивных военных кампаний. И в этом он действительно преуспел. Затраты и риски сведены к минимуму. «Маленькие победоносные войны» – это как раз про него. Пока образ героя обходится столь дешево, я не вижу причин, которые могли бы заставить его остановиться. И под это подводится абсолютно легитимная в глазах русских платформа: до меня Россия теряла, при мне – получает обратно куски бывшей империи.
– Некоторые эксперты опасаются, что раньше главным «плохим мальчиком» в международной песочнице был Путин. Никаких конкурентов на этом поле у него не было. А теперь туда придет мальчишка-Трамп, который больше и сильнее. Может ли возникнуть конфликт на почве конкуренции?
– Послушайте, Трамп и Путин станут большими друзьями в личном плане. При Трампе будет не так, как при Обаме. За тем исключением, что если Путин позволит себе при Трампе то, что он делал с Обамой или совсем недавно с Синдзо Абэ, все может для него весьма плохо кончиться, и притом очень быстро. Это исключительно психологический момент в их взаимоотношениях. Вопрос Крыма будет закрыт, если Путину и Трампу удастся прийти к соглашению. От Путина потребуется просто приличное поведение и игра по правилам. Риск только в том, что Путин может попытаться воспользоваться наивностью и неопытностью нового американского президента.
– Как Хрущев попробовал с Кеннеди?
– По сути да, но Кеннеди был хорошим парнем, а Трамп не такой. Он не столь образован и интеллектуально подкован. Кстати, как и его советники. Они все очень хотят нормализовать отношения, но с психологической точки зрения Трамп и его команда гораздо лучше приспособлены к тем сюрпризам, которых можно ожидать от Путина, и будут способны соответствующе на них ответить. России придется иметь дело с грубоватыми, практичными, не особо интеллектуальными американскими джентльменами.

Призрак расизма
Элиты и будущее демократии
Ричард Лахман – профессор социологии Университета штата Нью-Йорк в Олбани, США.
Резюме Окончательный выбор принадлежит массам, а не элитам, а массы скорее, чем элиты, почти беспрепятственно осуществлявшие контроль над обществом на протяжении четырех десятилетий, выберут гуманное будущее, в котором нет места расизму.
После того как я закончил писать эту статью (а было это в августе 2016 г.), Дональд Трамп получил большинство голосов выборщиков, хотя и уступил Хиллари Клинтон по результатам прямого голосования. Республиканцы контролируют Палату представителей и Сенат – опять же несмотря на то, что демократы получили больше голосов. Конституция и существующая в Соединенных Штатах своеобразная демаркация избирательных округов для выборов в Палату представителей обеспечили республиканцам преимущество.
Теперь они намерены в кратчайшие сроки получить одобрение своей крайне неолиберальной политики: отменить реформу здравоохранения и защиты пациентов, приватизировать программы здоровья для пожилых людей, государственных земель, программы студенческих кредитов. Закланию подлежит и закон Додда-Франка, который после 2008 г. регулировал банковскую деятельность, а также регламенты защиты окружающей среды и безопасности на рабочем месте. Все эти планы противоположны тому, что Трамп обещал предпринять для защиты (белых) американцев, пострадавших от элит. В этой связи можно ожидать нарастания националистических/расистских настроений, поскольку американские избиратели не ощущают обещанного Трампом снижения экономического напряжения. Посмотрим, будет ли следующий шаг связан с разворотом этого электората влево (возможно, к ранней версии Берни Сандерса) или к вспышке насилия в отношении меньшинств, иммигрантов и представителей интеллигенции.
Благо не для всех
Похоже, что в 2016 г. население богатых и не очень богатых стран бросило вызов элитам. В небогатых государствах недовольство и разочарование в своих лидерах вполне объяснимо. Чаще всего это связано с неспособностью «начальства» предотвратить экономическую эксплуатацию граждан со стороны внешних держав. Руководители, пришедшие к власти в таких обстоятельствах (либо те, что были навязаны колониальными и неоколониальными державами), обычно коррумпированы и склонны к репрессиям. В таких условиях вызревает либо пассивный цинизм, либо открытый бунт.
Новым и необычным является то, что раздражены и разочарованы граждане и богатых стран. Наиболее яркий пример – решение Великобритании о выходе из ЕС. Примечательно, что наиболее активно за выход голосовали Уэльс и бедные общины Англии, которые больше других выгадывали от субсидий Евросоюза. С этими средствами придется расстаться, если и когда Великобритания покинет ЕС. Сторонники Трампа, как и приверженцы «Чайной партии» – это в основном обеспеченные пенсионеры, государственные служащие и лица, пользующиеся льготами в рамках программ социального обеспечения для инвалидов и белых граждан пожилого возраста. Его победа свидетельствует о наличии мощной тенденции, а вовсе не о случайном сбое в американской политике. И эта тенденция будет набирать силу. Политики, подобные Трампу, все более активны и в Европе.
Вызовы, брошенные элитам слева, также пользуются поддержкой. На демократических праймериз Берни Сандерс завоевал почти столько же голосов, сколько Трамп на республиканских. Неолибералы Блэра, заправлявшие в британской Лейбористской партии, подавляющим большинством голосов были отвергнуты в пользу лидера левых Джереми Корбина. Греция проголосовала за коалицию СИРИЗА, выступающую против политики строгой экономии. Новые левые партии образовали влиятельные парламентские фракции в Испании, Италии и других странах. Хотя контролирующие правительства партии, прежде всего СИРИЗА, не выполнили предвыборных обещаний и уступили «тройке» (Европейская комиссия, Европейский центральный банк и МВФ), потребовавшей введения режима строгой экономии, выборы и проведенный по инициативе Алексиса Ципраса референдум продемонстрировали резко отрицательное отношение электората к элитам и местным политикам, поддержавшим и осуществляющим этот курс.
Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс, который в 90-е гг. прошлого века активнее других выступал за дерегулирование финансовых рынков, недавно признался, что «общественность в данный момент больше не желает позволять экспертам запугивать себя и поддерживать решения космополитического характера».
Представляют ли новые левые и правые реальную угрозу для власти элит? Являются ли они признаком радикальных изменений? Протестующие против существующего порядка левые и правые говорят о глубоком недовольстве нынешним курсом, политиками и институтами. Избиратели и сторонники Трампа, «Брекзита», Национального фронта, Джереми Корбина, блока СИРИЗА и других объединений полагают, что основные партии насквозь коррумпированы и защищают интересы капиталистов, иностранных держав, иммигрантов и меньшинств. Основные расхождения между левыми и правыми касаются источников политической коррупции, причин снижения качества жизни широких слоев населения и путей решения социальных проблем.
Левые партии и политики обращают внимание на методику, с помощью которой транснациональные корпорации, прежде всего гигантские финансовые компании, узурпировали право решать вопрос о распределении богатств и ресурсов, отобрав его у выборных должностных лиц. Более проницательные критики, такие как Пьер Бурдьё, высказывались в связи с этим следующим образом: «Как ни парадоксально, инициатива проведения экономических мер (дерегулирования), приведших к утрате государствами экономической власти, принадлежит самим государствам. И вопреки утверждениям как сторонников, так и противников глобализации, государства продолжают играть главную роль, одобряя и поддерживая ту политику, которая уводит их на обочину». Безусловно, дерегулирование и глобализация производства и торговли в результате ослабления государственного контроля по-разному сказывается на различных социальных группах и регионах. В доходах больше всех потеряли промышленные рабочие, не состоящие в профсоюзах работники сектора услуг и граждане, проживающие за пределами крупных городов. В небогатых странах Южной и Восточной Европы и государствах ареала английского языка – США, Соединенном Королевстве, Австралии и Новой Зеландии – существенно сокращены программы социального обеспечения, хотя внутри стран эти меры по-разному сказались на различных категориях населения. Больше всего пострадали неимущие и дети. Но в ряде государств гражданам пожилого возраста и работникам со стажем удалось избежать наиболее негативных последствий сокращения социальных расходов.
Данные о росте благосостояния самого обеспеченного 1% мирового населения (а точнее, 0,1%) с начала 1980-х гг. приводятся в известной книге Томаса Пикетти. Этот рост за счет остальных жителей Земли стал возможен в результате дерегулирования финансовых рынков, борьбы с профсоюзами и заключения торговых договоров о переводе промышленного производства в страны с низким уровнем дохода. Перетекание дохода и богатств от среднего класса ко все более компактной элите, обусловленное государственной политикой держав Северной Америки и Западной и Восточной Европы после 1945 г., выглядит как процесс принятия решений вне рамок демократического контроля. Перевод предприятий в районы с более дешевой рабочей силой разрушает местные общины. Уменьшаются капиталовложения в инфраструктуру, на которую некогда шли средства от прогрессивного налогообложения. Неэффективность управления становится очевидной при взгляде на приходящие в упадок общественный транспорт, дороги и мосты, школы, больницы и другие социальнозначимые объекты. Между тем сообщения вездесущих СМИ о колоссальных расходах и глобальном взаимодействии богатых подкрепляют мнение о том, что объединенная транснациональная элита принимает важнейшие решения за спиной у широкой общественности, а у представителей элиты больше общего друг с другом, нежели с гражданами собственных стран.
Как левые, так и правые партии критикуют торговые соглашения и набирающие силу международные организации, в частности МВФ и ВТО. Национальный фронт во Франции и СИРИЗА характеризуют как бандитизм политику Евросоюза и международных организаций. Демонстрируя свое невежество и невежество своих сторонников в вопросах глобального управления, Дональд Трамп обвиняет правительства ряда стран, прежде всего Китая и Мексики, в том, что Америка имеет отрицательное сальдо торгового баланса и сокращает занятость в промышленности. Анализируя проблемы, правые никогда не предъявляют обвинений капиталистам, богатым или корпорациям. Левые, напротив, не обходят вниманием капиталистов, но в последнее время переносят акцент на тот самый 1% населения. Однако сегодня даже левые все чаще обрушивают критику на собственные правительства и международные организации.
Когда-то марксисты и левые партии немарксистского толка полагали, что правительства действуют в интересах капитала, но государство может заставить их действовать в интересах трудящихся в результате революции или победы на выборах. В наши дни левые утверждают, что всем управляют международные организации, а богатые суть лишь пассивные выгодополучатели от политики глобализации. Этот анализ в корне неверен и порочен, так как направляет гнев на чиновников, а не капиталистов, имеющих намного больше привилегий и остающихся в тени. Более того, обвинения в адрес международных организаций сказываются на репутации национальных политиков и правительств и мешают убедить избирателей в том, что другое правительство может отказаться от неолиберального курса и принести реальную пользу своим сторонникам.
Нелегитимность и неолиберальный ответ
Неолиберализм усугубляет циничное отношение к политике. Подобно тому, как в 70-е гг. прошлого века «кризис легитимности» предоставил экономистам и политикам возможность для продвижения неолиберальных технологий, так и нынешний кризис политической легитимности, замечает Мануэль Кастельс, позволяет критикам объявлять незаконным государственное вмешательство в целях защиты общественных интересов, поскольку люди не доверяют своим политическим представителям, правительства не имеют возможности принимать смелые решения.
Армин Шефар и Вольфганг Штрик установили, что после введения мер строгой экономии во всех странах ОЭСР сократилась явка на выборы, особенно среди населения, наиболее пострадавшего от сокращения социальных программ. Они утверждают, что на смену демократии приходит «постдемократия» зрелищ, а государства больше учитывают мнения финансистов, что находит выражение в периодических аукционах государственных облигаций, чем волю избирателей, которая выражается на регулярных выборах.
Основное различие между правыми и левыми состоит в том, какие претензии они выдвигают в отношении иммигрантов и меньшинств. Правые политики лживо утверждают, что бюджетный кризис вызван огромными расходами на социальные пособия для иммигрантов и не желающих работать представителей меньшинств. Политики расистского толка обещают сохранить существующие льготы. Трамп, например, говорит, что он против какого-либо сокращения пенсий по старости, а Марин Ле Пен говорит об увеличении социальных выплат «настоящим» французам. (Нацисты в те двенадцать лет, что они находились у власти, тоже обещали – и обеспечивали – льготы «настоящим» немцам.) Однако чтобы выполнить посулы, Трампу, Ле Пен и им подобным пришлось бы изменить неолиберальный курс и повысить налоги, взимаемые с их богатых благодетелей. Пока кто-нибудь из этих демагогов и шовинистов не придет к власти, мы не узнаем, сдержат ли они щедро раздаваемые обещания или продолжат проводить ортодоксальный консервативно-неолиберальный курс. Французский Национальный фронт – маргинальная партия; у нее слабые связи с капиталистами, и она вполне может повысить налоги на капитал, чтобы вознаградить своих сторонников. Что касается Трампа, то как официальный кандидат от Республиканской партии он унаследовал и партийные связи, и партийные обязательства в отношении самых богатых людей страны. В предвыборной программе он обещал резко снизить налоги на богатство, так что нынешние социальные программы вряд ли удастся сохранить, а не то что усовершенствовать. Его популярность обусловлена не массовым движением сторонников, а неким постдемократическим действом, в котором Армин Шефар и Вольфганг Штрик усматривают отличительную черту современной предвыборной борьбы.
В любом случае, если только левые или правые популисты не придут к власти одновременно в ряде стран, с каким-нибудь одним правительством, вознамерившимся освободиться от пут неолиберализма, финансовые рынки всегда справятся, затеяв «кредитную забастовку» (современный эквивалент капиталистической забастовки). Наглядный пример бессилия правительства небольшой страны в противостоянии с воротилами финансового рынка и международными организациями – недавняя история с партией СИРИЗА. Экономическими возможностями для существенной корректировки курса в одностороннем порядке располагают только Соединенные Штаты, да и то сомнительно.
Конечно, большинство избирателей, особенно шовинистически настроенных, в такие сложные политические и структурные расчеты не углубляются. Вместо этого они занимаются саморазрушением, нанося удары по «чужим», которые, по их мнению, загрязняют их общины и страны. Современный шовинизм (нативизм) может быть истолкован как «социализм дураков» – именно так живший в XIX столетии немецкий социалист Август Бебель охарактеризовал набиравший силу в его время антисемитизм.
Итак, голосование за выход из ЕС, увенчавшееся успехом благодаря саморазрушительным усилиям уэльских и английских избирателей, на общины которых приходился самый большой объем субсидий Евросоюза, – яркое проявление пробуждающегося негодования в отношении элит. В данном случае – никем не избираемых мужчин и женщин, разрабатывающих политику Европейского союза, вводящих режим строгой экономии и, по всей видимости, не способных или не желающих остановить приток мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Хотя большинство небелых мигрантов приезжают в Великобританию из ее бывших колоний, а не по шенгенским визам, те, кто голосовал за выход из Евросоюза, полагают, что это поможет восстановить белую идентичность Великобритании. Равным образом Трамп едва ли реально вернет в США угледобывающую отрасль и обрабатывающую промышленность, но его сторонники получат лидера, озвучивающего расистские взгляды из самого влиятельного кабинета в мире.
В Соединенных Штатах, Великобритании, Франции и других странах расизм существует не один год. Он ядовит и живуч, поскольку воплощает совместный проект разгневанных невежественных масс и элит, которые разжигают расистские настроения и занимаются травлей мигрантов для мобилизации поддержки прокапиталистических и неолиберальных партий и платформ. Трамп получил номинацию от политической партии, которая в последние 50 лет не раз выступала с заявлениями расового характера. Программа Никсона по восстановлению законности и порядка была направлена не только против уличной преступности, но и против движения за гражданские права, что, разумеется, было понято его сторонниками. Позже республиканцы с едва завуалированными обвинениями расистского толка обрушились на «молодых здоровяков», живущих на пособие по безработице (Рейган), и выпустили пропагандистские ролики про вышедших из тюрьмы чернокожих, насилующих белых женщин (Джордж Буш-младший). Идеологически французский Национальный фронт близок к так называемым «черноногим» – алжирцам французского происхождения, боровшимся против независимости Алжира и до сих пор относящихся с презрением к выходцам из Северной Африки. Лидеры движения за выход из ЕС принадлежат к правому крылу Консервативной партии, приверженцы которой при Тэтчер видели причину преступности в Великобритании (относительно низкой) в небелых иммигрантах и пытались ограничить будущие миграционные потоки.
В стремлении обеспечить массовую поддержку политике, выгодной лишь верхушке общества, элиты оказывают покровительство политическим деятелям, исповедующим шовинизм и расизм. В течение десятилетий им удается играть в эту циничную игру и неизменно выигрывать. Люди, избранные на высшие посты, – Рейган, Тэтчер, Саркози, оба Буша – не афишировали свои расистские убеждения и послушно проводили неолиберальную политику. Однако символические жесты перестали удовлетворять народные массы. Нынешнее общественное негодование, вызванное падением уровня жизни и неблагоприятными изменениями в социальной сфере, умело культивируется и подпитывается консервативными политиками, исповедующими едва завуалированные расистские взгляды.
Негодование масс выражается разными способами, и некоторые из них потенциально опасны для элит. Так, лондонские финансисты, поддерживающие консервативных политиков-расистов и финансирующие шовинистические и продажные СМИ Руперта Мердока, после «Брекзита» могут лишиться привилегированного доступа к континенту, и их роль финансового убежища (и прачечной по отмыванию денег) для всего мира окажется под вопросом. Трамп победил во многом потому, что большинство профессиональных республиканских политиков, десятилетиями получавших деньги от финансовой и корпоративной элиты, сделали вид, что это нормальная кандидатура. Президентство Трампа способно дезорганизовать мировые рынки, обрушить фондовый рынок и поднять волну народного гнева и взаимных претензий, с которой не справятся ни Трамп, ни Республиканская партия, ни элиты. Следует помнить, что за Гитлера никогда не голосовало большинство. Его привели к власти обычные немецкие консерваторы, полагавшие, что способны контролировать его и его сторонников.
Экология и слово масс
Будет ли нарастать недовольство против элит? Есть два фактора, свидетельствующие, что нынешний всплеск правого и левого популизма вряд ли пойдет на убыль.
Во-первых, неолиберализм по-прежнему является идеологией элит и подконтрольных им правительств. А неолиберализм может привести к новым финансовым кризисам, которые поднимут очередную волну гнева и заставят массы искать решение не только на почве расовой принадлежности, но и путем системных преобразований под руководством левых сил.
Во-вторых, экологические кризисы, прежде всего глобальное потепление, могут спровоцировать миграцию из государств, где ощущается нехватка пресной воды, стран, подверженных засухе и наводнениям или не имеющих возможности производить продовольственные товары в связи с изменением климата. Первым с нехваткой воды из-за отсутствия дождей и исчерпания водоносных пластов столкнется Йемен с населением в 24 млн человек. По имеющимся расчетам, это случится в течение двадцати лет, примерно к 2034 году. Экологическая катастрофа только в этой стране увеличит число беженцев более чем вдвое. Затопление прибрежных областей в других районах принудит к бегству еще десятки миллионов. В первую очередь это грозит Бангладеш, стране с населением в 156 млн человек, территория которой к концу текущего века сократится на 17% в связи с глобальным потеплением и повышением уровня моря, а это еще 20–30 млн беженцев. К 2050 г. общая численность беженцев в связи с глобальным потеплением может достичь 250 млн человек. Большинство останется в пределах своих стран, однако до 100 млн человек переберутся в соседние государства. Массовая миграция уже вызывает неприятие в различных странах мира. Численность беженцев, спасающихся от экологических катастроф, достигнет невиданного масштаба, что повлечет за собой еще большую враждебность по отношению к ним.
Движение против миграции разворачивается под националистическими лозунгами. Таким образом, экологические беженцы окажутся причиной подъема национализма в принимающих странах. Политики-националисты станут максимально активно использовать антииммигрантские настроения. Со временем их сторонники потребуют перекрыть приток иммигрантов. В то же время правительствам придется обеспечить контроль над ресурсами за рубежом, охрану собственного достояния за счет иностранцев и принять меры для смягчения последствий глобального потепления, в частности связанные с затоплением прибрежных областей, засухой и другими катастрофическими погодными явлениями.
Борьба с последствиями экологических катастроф, перекрытие каналов иммиграции и обеспечение контроля над ресурсами потребует огромных затрат. Как я уже упоминал, демагоги вроде Трампа и Ле Пен говорят, что они увеличат социальные льготы для «настоящих» граждан. Эти задачи невыполнимы в условиях неолиберального курса на сокращение бюджетных расходов и сохранение низкого налога для богатых. Если такие политики одержат победу на выборах, они вполне способны отказаться от борьбы с последствиями глобального потепления. С другой стороны, они могут приступить к выполнению этих задач, но потерпеть неудачу либо из-за нежелания повысить налоги, либо потому, что недостаточно компетентны для осуществления масштабных проектов. В этом случае негодование масс в отношении представителей элит, иммигрантов и меньшинств только усугубится. А это уже прямой путь к политической неразберихе, самоуправству «активистов» и подъему массовых неонацистских партий, исповедующих идеологию расового национализма. Нам хорошо известно, чем это все заканчивается.
С другой стороны, на будущих выборах могут победить левые, которые готовы вступить в конфликт с элитами и имеют четкий план реализации социальных и государственных программ. Недовольство элитами пойдет на убыль, если их полномочия и привилегии сократятся. Такой вариант выглядит более предпочтительным. Элиты с их обширными ресурсами, высокой степенью организации и контролем над средствами массовой информации способны сыграть решающую роль в выборе пути, по которому пойдет страна. Вне всякого сомнения, элиты надеются продолжать прежнюю политику, балансируя между расистским авторитаризмом и левыми реформами, и формировать неолиберальные правительства, которые больше не удовлетворяют общественные потребности и запросы, подвергаются все большей дискредитации. Однако рано или поздно население решительно отвергнет предлагаемый ему узкий и неудовлетворительный политический выбор. Глобальное потепление, безусловно, усугубит кризис, а то и ускорит его наступление.
Если (где и когда) левые придут к власти, элитам придется платить повышенные налоги и выплачивать более высокие зарплаты. Но они будут все так же пользоваться привилегиями в рамках либерально-демократических режимов и пребывать в уверенности, что их потомки защищены от последствий экологических катастроф. Если же они по-прежнему станут активно или пассивно поощрять расистских демагогов из правых партий, то окажутся в неподвластном их контролю обществе, претерпевшем радикальные изменения. Там, где к власти придут непредсказуемые авторитарные правители, элиты рискуют утратить не только свободы, но и богатства. Сто шестьдесят лет тому назад в работе «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» Карл Маркс писал о таком же выборе: «Она [буржуазия] бунтовала против своих собственных политиков и писателей из пристрастия к своему денежному мешку – ее политики и писатели устранены, но ее денежный мешок подвергается грабежу, после того как ей заткнули рот и сломали ее перо».
К счастью, окончательный выбор принадлежит массам, а не элитам, а массы скорее, чем элиты, почти беспрепятственно осуществлявшие политический и экономический контроль над обществом на протяжении последних четырех десятилетий, выберут гуманное будущее, в котором нет места расизму.
Данная статья представляет собой сокращенную версию материала, опубликованного в серии «Валдайских записок», выходящих еженедельно в рамках научной деятельности Международного дискуссионного клуба «Валдай». С другими записками можно ознакомиться по адресу http://valdaiclub.com/publications/valdai-papers/
Так ли непредсказуем Трамп?
Елена ПОНОМАРЁВА
С приходом Д. Трампа в Белый дом европейские лидеры первыми заговорили о «новой исторической эре» (А. Меркель), о «завершении прежнего мира XX века» (Ф.-В. Штайнмайер). Алармизм, сквозящий в этих высказываниях, подогревается рассуждениями о неопределённости и непредсказуемости нового американского президента. На мой взгляд, однако, суждения по поводу его «непредсказуемости» стоило бы несколько умерить. Хотя бы потому, что если субъект политики «непредсказуем» и всё вокруг становится вдруг неопределённым, то можно вообразить, что и планирование невозможно, что остаётся только ждать от Трампа тех или иных шагов, чтобы потом на них реагировать. В пределе такое умонастроение оборачивается отказом от выработки собственной национальной стратегии.
Е.М. Примаков в своей книге «Годы в большой политике» хорошо иллюстрирует недопустимость отсутствия ясно очерченных и открыто заявленных национальных интересов. Он приводит показательный диалог, который состоялся между бывшим президентом США Р. Никсоном и тогдашним министром иностранных дел РФ А. Козыревым. Никсон спросил Козырева о том, каковы интересы новой России. «Одна из проблем Советского Союза состояла в том, что мы слишком как бы заклинились на национальных интересах, – ответил на это Козырев. – И теперь мы больше думаем об общечеловеческих ценностях. Но если у вас есть какие-то идеи и вы можете нам подсказать, как определить наши национальные интересы, то я буду вам очень благодарен». И американцы подсказали. Так подсказали, что в 90-е годы Россия скатилась в разряд третьесортных развивающихся стран, потеряв всех своих союзников и даже должников. Сегодня, когда Россия в таких «подсказках» не нуждается, ей подобает иметь чёткие представления о своём месте в мире и там, где речь идёт о текущих событиях, и там, где речь заходит об отдалённом будущем.
Разговор Козырева с Никсоном вспомнился не случайно. Дело в том, что Д. Трамп бережно хранит личное письмо от 37-го президента США, в котором тот поделился с ним одним пророчеством своей супруги. В письме есть такие строки: «Дорогой Дональд, я не видел саму передачу, но миссис Никсон сказала, что на «Шоу Донахью» Вы были бесподобны. Как понимаете, она эксперт в политике и предсказала, что если Вы будете баллотироваться, то обязательно станете победителем!» Эти строки были написаны в 1987 году. Трамп обещал повесить этот отрывок из письма Никсона на самом видном месте в Белом доме.
Двух этих, без сомнения, выдающихся американских политиков связывает особое отношение к своей стране. Для Никсона, как сегодня для Трампа, национальные интересы заключаются в создании условий развития и процветания Америки граждан, а не Америки – кластера транснациональных корпораций. Никсона по праву называют последним национальным президентом США – после его ухода все высокопоставленные американские лидеры, включая Обаму, были ставленниками «глобальной элиты». Недаром лозунг «Сделаем Америку снова великой» стал холодным политтехнологическим душем для банкстеров. Другое дело, как он будет воплощаться в жизнь.
Если о «непредсказуемости» Трампа и можно говорить, то только в сравнении с прежней политикой Белого дома, от продолжения которой новая администрация отказывается. В своё время импичмент Никсону ознаменовал ползучий переворот, в результате которого к власти в США пришли ставленники космополитического финансового капитала. В последнюю четверть века интересы американских банкстеров вылились в масштабный погром промышленности и среднего класса у себя на родине. Таким положением вещей не могла быть довольна масса американцев, связанных с реальной экономикой. Здесь интересы определённых групп промышленников совпали с интересами части среднего класса и квалифицированных рабочих. Приход Трампа в Белый дом есть результат победы промышленно-рабочего пула, что серьёзным образом меняет правила игры, работавшие почти сорок лет. И в этом смысле его победу можно считать революционной.
В то же время идеализировать риторику и «умиротворяющие» высказывания Трампа не стоит по целому ряду причин.
Во-первых, какими бы незаурядными личными качествами ни обладал президент, политическая система США устроена так, что он нуждается в поддержке её крупных сегментов. И Трамп – не одиночка, он человек системы или, если сказать точнее, определённой её части. Стать президентом Соединённых Штатов мог только «коллективный Трамп». Богатство и связи - непременный атрибут большой политики, а если таковые используются для обретения верховной власти, то верховная власть в свою очередь будет использоваться для удовлетворения интересов всех тех, кто способствовал восхождению новой политической звезды.
Во-вторых, продвигая «своего» кандидата в президенты, заинтересованные группы уже имеют стратегию, план действий, результаты аудита ресурсов и возможностей. Более того, господство, влияние – это, прежде всего, идеи, под которые дают деньги и активизируют иные ресурсы. У команды Трампа такие идеи есть. Они продуманы и выверены – в этом проявился «бизнес-подход» нового президента США к политике. И, что не менее важно, Дональд Трамп – убеждённый человек, он уверен в своей правоте в отличие от Б.Обамы, Х. Клинтон и прочих наёмных менеджеров «глобальной элиты».
В-третьих, законы развития общества, классовой борьбы и социальной солидарности никто не отменял. Будучи самым богатым президентом, Трамп не будет предаваться альтруизму и раздавать деньги на улице. Его задача - оптимизировать экономические и политические институты, чем он уже занимается. Мировоззренческие установки, высказанные им в инаугурационной речи, приобретают ясные очертания.
«Каждое решение о торговле, о налогах, об иммиграции, по иностранным делам будет сделано в пользу американских рабочих и американских семей… Защита приведёт к процветанию и силе… Мы будем следовать двум простым правилам: покупайте американское и нанимайте американцев». В ряду последних новостей, свидетельствующих о готовности подтверждать эти слова делами, - решение о введении налога на мексиканскую нефть. Оно выглядит как защита собственных производителей нефти и нацеленность на «революцию» в сфере добычи шельфового газа и нефти. И пусть это противоречит правилам «свободной торговли» – для Трампа и тех, кто привёл его к власти, эти правила ровным счётом ничего не значат. Главное - оздоровить экономику США, повысить национальный промышленный потенциал.
Сочетая национализм и протекционизм, заявляя о приоритете решения внутренних проблем, апеллируя к рабочим и «голубым воротничкам», к Америке «ржавого пояса», Трамп опирается не только на авторитет Никсона, но и седьмого президента США Эндрю Джексона (кстати, основателя Демократической партии). Идеология и политика Джексона в корне отличаются от вильсонианских принципов, близких хозяевам ФРС (не случайно самую крупную американскую банкноту в 100 тыс. долл. украшает портрет 28-го президента: Вудро Вильсон по праву считается основоположником либерального проекта мироустройства).
Будучи последователем Джексона, Трамп в основу своей политики закладывает не глобальное лидерство, а национальные интересы, и здесь есть важный пункт, который совсем не обязательно будет соотноситься с интересами России, а, скорее всего, будет вступать с ними в противоречие. «Мы будем добиваться дружбы и добрососедства с народами мира, - говорил Трамп во время инаугурации, – но понимая, что это право всех народов – на первое место ставить свои интересы. Мы не стремимся навязывать наш образ жизни кому-либо, мы скорее стремимся позволить ему сиять как пример для всех». Стоит вдуматься в эти слова.
В-четвёртых. Авторитетный американский аналитик Эдвард Люттвак убеждён, что появление политика, подобного Трампу, было на 90% неизбежно – как реакция на предшествующее.
Действительно, многое из «предшествующего» привело к катастрофическим мирополитическим изменениям. В мусульманском мире на смену светским режимам пришли силы антимодерна. Выбранная демократами стратегия «управляемого хаоса» способствовала не только разрушению светских государств, но и рождению антисистемных сил, когда агрессия и деструкция, архаизация и варварство, проникшие в Европу вместе с сотнями тысяч беженцев, уже не имеют границ. Политикой глобального экспансионизма Обама загнал Евросоюз в ловушку, способствовал его ослаблению и разбалансировке. Раскол американской элиты и поддержка Трампа в значительной мере связаны с нежеланием повторить такой европейский опыт. Отсюда и жёсткая антииммиграционная риторика, и стремление новой администрации уничтожить «Исламское государство». Это с одной стороны.
С другой стороны, «коллективный Трамп» прекрасно понимает, что экспансионизм - это не только плоды в виде военных баз, вассального менталитета лидеров других стран, дешёвые товары и торжество доллара на всех континентах. Экспансионизм – это и тяжёлое бремя, грозящее надрывом сил. Для того чтобы совершить рывок и «сиять как пример для всех», нужна передышка. Нужно сосредоточить силы, перегруппировать их, оптимизировать ресурсы. Вся история США - это чередование двух тенденций: период экспансии, расширения (времена демократов Вильсона, Рузвельта, Трумэна, Кеннеди) сменяется периодом «сжатия», сосредоточения (времена республиканцев, за исключением Буша-младшего).
Трамп как реакция на «предшествующее» - это, прежде всего, передышка, сосредоточение Америки на своих внутренних проблемах, это период переваривания «съеденного». Америка Трампа может быть понята как Америка, готовящаяся к новому прыжку, новым высотам. Отсюда и его сосредоточенность на внутренних проблемах. Однако эта сосредоточенность – временная. Не стоит представлять Трампа изоляционистом. Он будет проводить внешнюю политику усиления США. Способы такого усиления могут быть самими разными. Например, ослабление Евросоюза и Китая. Например, отказ от активной политики на украинском направлении. Уже для администрации Обамы Украина превратилась в старый чемодан без ручки, который и нести неудобно, и бросить жалко. Ведь «бросить» в политике – это ещё и «потерять лицо». Трампу же потеря лица не грозит – он может легко разменять Украину на другие варианты.
Для России приход Трампа - это, прежде всего, открывающееся окно возможностей. Пока США будут переваривать крутой бульон глобализации, доведенный Обамой до кипения, Россия может решить ряд своих задач. Главное, чтобы было чёткое их понимание.
Резюмируем. Россию не ждут лёгкие времена. Готовится очень хитрая и многоходовая игра. Трамп – трудный переговорщик, жёсткий бизнесмен. Он привык всегда добиваться поставленной цели. В любом случае впереди новые испытания. Как отметила официальный представитель МИД России М. Захарова, Москва готова к полноценному диалогу с администрацией Д. Трампа. «Сейчас мы ждем формирования команды, формулирования ее внешнеполитических подходов, концепций, тезисов и начала ее функционирования. Понимаем, что Вашингтон сейчас переживает непростые дни. Это уже не просто непростые дни, а непростые месяцы. Но мы исходим из того, что в ближайшее время должны быть сделаны ключевые назначения, и ведомства заработают, и мы поймем стратегию США на международной арене». Ключевым в этих словах является потребность в понимании новой стратегии США. Если такое понимание сложится, «непредсказуемости» не будет.

Рубль-2017
Уже перегрет или еще подрастет?
Николай Вардуль
Валютный рынок всегда задает больше вопросов, чем есть ответов у экспертов. К тому же экспертов хлебом не корми — дай вволю наспориться между собой. И все-таки, что ждет рубль в начавшемся году? Эксперты, как и остальные люди, делятся на оптимистов и пессимистов. Причем необязательно по складу характера или по видению перспектив. Бывает, их взгляды предопределены занимаемым креслом. Но мы постараемся опираться не на кресловиков.
Примерно в одно и то же время опубликованы два прогноза относительно ближайших перспектив курса рубля. Начнем с прогноза оптимиста.
За команду оптимистов выступил первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев. Из Давоса, где он оказался в составе российской делегации участников Всемирного экономического форума, он рассказал, что «рубль в среднесрочной перспективе будет расти». И сначала честно признался, что опирается при этом на одну, но не раз оправдавшую свою роль опору: «Мы смотрим в зависимости от нефти — рубль/доллар от 55 до 65 руб. Отсюда (с настоящего времени) на 10% он может вырасти». Но вскоре выяснилось, что рост цен на нефть — главная, но не единственная опора его прогноза. Соловьев напомнил, что цена на нефть, по прогнозу «ВТБ Капитала», будет медленно, но верно расти, ожидается в районе $40–50 за баррель или даже $45–55 за баррель. Есть и еще один фактор притока иностранных капиталов в Россию: у нас реальные процентные ставки остаются одними из самых высоких в мире, именно это и будет способствовать притоку капитала: «Надеемся на прирост carry trade, на снижение ставок, на рост российской валюты против основных, базовых валют. Текущий баланс положительный».
Риски, конечно, есть, иначе не бывает. Рисками для рубля Соловьев считает возможное ужесточение монетарной политики в США, а также замедление темпов роста экономики Китая. Но в целом рубль будет укрепляться.
Убедительно? Как выясняется, не для всех. Не знаю, читала ли прогноз Юрия Соловьева Наталия Орлова из Альфа-банка, но получилось так, что между ними состоялся заочный спор. Свой прогноз курса рубля в 2017 г.
Наталия Орлова выставила по времени сразу же вслед за Соловьевым, играя, скорее, за команду пессимистов.
Она исходит из того, что рубль уже перегрет: «Укрепление курса рубля сейчас основывается на слишком оптимистических ожиданиях продолжающегося роста цены на нефть и отмены санкций». И то, и другое может сбыться, а может и не сбыться. Поэтому начинать следует с фундамента. Или с фундаментальных факторов, определяющих курс рубля. А вот здесь как раз поводов для оптимизма нет.
Орлова пишет без полутонов: «Мы считаем, что ожидания улучшений текущего и капитального счетов не имеют под собой прочного фундамента в данный момент». Для текущего счета важен фактор нефтяных цен, но «у нас нет уверенности в стабильности восстановления цен на нефть». Дело не только в том, будет ли соблюдена договоренность о сокращении добычи нефти. «Риск, связанный с замедлением экономического роста в Китае, серьезен и может стать веским аргументом в пользу сохранения цены на нефть в диапазоне $50–60/барр. на этот год», — подчеркивает Орлова.
Торговый баланс уже вызывает серьезные опасения: «В III квартале 2016 г. профицит был пересмотрен с $1,9 млрд до $0,4 млрд… Рост импорта ускорился с 5,6% г/г в III квартале 2016 г. до 8,5% год к году в IV квартале, на 2017 г. мы прогнозируем рост импорта на 10% год к году. Ненефтяной экспорт снизился на 10% в годовом измерении по итогам 2016 г., в том числе на 2,4% г/г в IV квартале 2016 г. В совокупности это привело к тому, что профицит текущего счета в IV квартале 2016 г. составил всего $7,8 млрд против $11 млрд, которые ожидали мы на фоне роста нефтяных цен; и $22,2 млрд против $26,7 млрд, которые ожидали мы по итогам 2016 г.». Тренд очевиден и к оптимизму точно не располагает. Динамика торгового баланса в 2016 г. «оказалась разочаровывающей». И для импортозамещения, и для курса рубля.
Но это не единственный фактор, вселяющий тревогу за рубль. Позитив, укрепивший рубль в конце 2016 г., питали ожидания, что Россия уже на пороге выхода из финансовой изоляции. Но, увы, это не так.
«На первый взгляд, в пользу такого (оптимистичного. — Н.В.) сценария говорит приватизация „Роснефти“. Однако, хотя изначально она анонсировалась как финансируемая иностранными инвесторами, сейчас выясняется, — пишет Орлова, — что покупка 19,5% акций компании профинансирована кредитом на сумму $8 млрд от российских банков, что не сгенерировало значительного притока капитала в страну. Более того, в декабре ставки валютного межбанковского рынка стали расти, что заставило ЦБ увеличить объемы валютного РЕПО примерно на $4,5 млрд, хотя в прошлом году регулятор снижал объемы предоставления средств по этому инструменту».
Вывод: «Отмена санкций изменит правила игры: но эта надежда пока не имеет прочного фундамента. По факту же, российские банки находятся в условиях ограниченной валютной ликвидности, дефицит которой обострился с осени 2016 г., что ограничивает возможность укрепления рубля».
Итоговая оценка: к концу этого года курс рубля «должен составить 70 руб./$ при средней цене на нефть $50/барр. При $60/барр. справедливая стоимость рубля будет находиться в диапазоне 60–65 руб./$».
А что же будут делать власти? «Слабый профицит текущего счета, слабый экономический рост и относительно высокая цена на нефть, балансирующая бюджет ($85/барр. при курсе 50 руб./$), фундаментально работают против укрепления рубля с текущих уровней. Относительно высокая ставка ЦБ не преимущество, а та цена, которую Россия платит за структурную слабость своей экономики». Другими словами, власти заинтересованы в ослаблении рубля, но и здесь, как считает Орлова, есть ограничения: «России не хватает внутренних триггеров для ослабления курса. Ясно, что в случае внешних шоков (финансовый кризис в Китае, ухудшение глобального роста) курс рубля ослабнет, однако в этом году этого может и не произойти».
Тогда на какие шаги власти следует в первую очередь ориентироваться при прогнозе изменения курса рубля? «Стабильность рубля напрямую зависит от режима таргетирования инфляции», — считает Орлова. Но ЦБ вовсе не всесилен: «Любое решение повысить бюджетные расходы выше первоначального прогноза или любые другие факторы, стимулирующие инфляцию, будут представлять угрозу дальнейшей устойчивости курса. Потенциал укрепления рубля в основном зависит от способности правительства тщательно подготовить и провести реформы, что может стать приоритетом только после 2018 г.».
Значит, самый простой способ ослабить рубль в этом году — это нарастить бюджетные расходы. Что вполне возможно.
Эксперты, конечно, не оракулы истины. Что в их рассуждениях стоит запомнить, это указание некого тренда и, что не менее важно, сигнальных показателей, изменение которых может стать «включением поворотника» развития событий в ту или иную сторону. Прогноз Орловой содержит и то, и другое.
Читатель предупрежден, а значит, вооружен. И может прикупить доллары.
Иран выразил готовность присоединиться к китайско-пакистанскому экономическому коридору
Посол Ирана в Исламабаде Мехди Хонардуст выразил готовность Ирана присоединиться к китайско-пакистанскому экономическому коридору, сообщает Fars News.
"Иран имеет положительное мнение о вступлении в коридор", - заявил журналистам Хонардуст. Китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК) является мегапроектом между двумя странами, согласно которому Китай инвестирует $ 46 млрд.
Президент Ирана Роухани впервые выразил заинтересованность в присоединении к КПЭК во время встречи с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре прошлого года.
Хонардуст рассказал, что богатые энергетические ресурсы Ирана, хорошо развитая транспортная инфраструктура, а также прогресс в других областях, включая нанотехнологии, принесли бы огромную пользу коридору, после присоединения Ирана к нему.
По итогам 2016 г., прямые инвестиции внутренних районов Китая в индонезийскую экономику превысили $2,66 млрд. Это на 324% больше, чем в 2015 г. КНР вышла третье место среди инвесторов Индонезии, представляющих 121 страну мира, сообщил индонезийский Комитет по координации инвестиций.
В частности, наибольший объем китайских инвестиций поступил в металлургическую отрасль, а также в создание тепловых электростанций.
Кроме того, в прошлом году капиталовложения специального административного района Сянган (Гонконг) в индонезийскую экономику достигли свыше $2,24 млрд. Таким образом этот регион вышел на четвертое место среди инвесторов Индонезии. Тайвань расположится на 19 месте, вложив за 2016 г. в индонезийские проекты $149 млн.
Ранее сообщалось, что в прошлом году объем фактически использованного иностранного капитала в Поднебесной достиг 813,22 млрд юаней ($119,59 млрд). Это на 4,1% больше, чем в 2015 г. По итогам прошлого года, в стране было создано 27 900 предприятий с зарубежными инвестициями. Данный показатель вырос на 5% относительно уровня предыдущего года.
Напомним, что по итогам 2016 г., объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом достиг $170,11 млрд. Это на 44,1% больше, чем в 2015 г. В частности, за прошлый год прямые инвестиции китайских предприятий в страны Шелкового Пути составили $14,53 млрд.
С помощью капиталовложений из Поднебесной в 164 странах и регионах мира было создано 7961 предприятие.
К концу 2016 г. остаток задолженности по безнадежным кредитам, выданным коммерческими банками Китая, достиг более 1,51 трлн юаней ($222 млрд). Это на 18,3 млрд юаней больше, чем к концу сентября прошлого года, сообщил Комитет по контролю и управлению банковской отраслью КНР.
К концу декабря 2016 г. коэффициент безнадежных кредитов составил 1,74%, снизившись 0,02% относительно уровня сентября прошлого года.
В 2016 г. чистая прибыль коммерческих банков Поднебесной превысила 1,64 трлн юаней. Это на 3,54% больше, чем в 2015 г.
Совокупный объем активов банковско-финансовых учреждений страны в юанях и иностранной валюте к концу прошлого года составлял 232 трлн юаней с приростом на 15,8% в годовом сопоставлении, а пассивов – 215 трлн юаней с увеличением на 16%.
Ранее сообщалось, что к концу октября 2016 г. активы китайских банков достигли 219,61 трлн юаней ($31,7 трлн). Это на 16,5% больше, чем годом ранее.
В пятерку крупнейших в Поднебесной кредиторов входят Китайский торгово-промышленный банк, Сельскохозяйственный банк Китая, Банк Китая, Китайский строительный банк и Банк коммуникаций Китая. На их долю пришлось 80,32 трлн юаней активов. Они занимают 36,6% рынка страны.
К началу ноября прошлого года суммарные пассивы китайских банков составили 202,47 трлн юаней. Данный показатель вырос на 16,4% в годовом сопоставлении.
За октябрь 2016 г. в Китае выдано 651,3 млрд юаней ($96,77 млрд) кредитов. Это на 137,7 млрд юаней больше, чем за октябрь 2015 г. В сентябре прошлого года объем выдачи кредитов в Поднебесной достигал 1,22 трлн юаней.
По итогам декабря 2016 г., положительное сальдо международной торговли товарами и услугами Китая составило 123,6 млрд юаней ($18 млрд). Это на 11,7% меньше, чем в ноябре прошлого года, сообщило Государственное управление валютного контроля КНР.
В декабре прошлого года доходы Поднебесной от внешней торговли товарами и услугами превысили 1,59 трлн юаней, а расходы – 1,47 трлн юаней.
В частности, доходы от торговли товарами составили более 1,41 трлн юаней, расходы – 1,1 трлн юаней, активное сальдо – 303,9 млрд юаней. Доходы от торговли услугами достигли 184,8 млрд юаней, расходы – 365,1 млрд юаней, пассивное сальдо – 180,3 млрд юаней.
В ноябре 2016 г. активное сальдо торговли товарами составляло 313,9 млрд юаней, а пассивное сальдо торговли услугами – 174 млрд юаней.
Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., объем внешней торговли товарами Китая составил 24,33 трлн юаней ($3,57 трлн). Это на 0,9% меньше, чем за 2015 г. Так в прошлом году китайский экспорт товаров снизился на 2% в годовом сопоставлении и составил 13,84 трлн юаней. В то же время импорт Поднебесной увеличился на 0,6% и достиг 10,49 трлн юаней. Положительное сальдо торгового баланса составило 3,35 трлн юаней. Это на 9,1% меньше, чем годом ранее.
В китайском экспорте преобладает машиностроительная и электротехническая продукция, на которую приходится 7,98 трлн юаней со снижением на 1,9%. Объем экспорта традиционных трудоемких товаров из Китая сократился на 1,7% – до 2,88 трлн юаней. При этом лидером экспорта оставался негосударственный сектор с долей 45,9% в общем объеме.
Ant Financial, финансовое подразделение китайской корпорации Alibaba, специализирующейся на онлайн-торговле, достигло договоренности о покупке американской компании MoneyGram, специализирующейся на денежных переводах. Финансовый объем сделки составляет $880 млн.
Компании Ant Financial принадлежит сервис Alipay – одна из крупнейших платежных онлайн-платформ Китая. Теперь сеть денежных переводов MoneyGram будет соединена с сетью Alipay.
В MoneyGram зарегистрировано 2,4 млрд банковских и мобильных счетов, а также 350 000 физических пунктов денежных переводов. Американская компания сохранит свою штаб-квартиру в Далласе (Техас, США) и продолжит работать под своим брендом.
Сделку еще должны одобрить акционеры MoneyGram и контролирующие органы. Как ожидается, купля-продажа будет завершена во второй половине 2017 г.
Ранее сообщалось, что в 2016 г. китайский интернет-гигант Alibaba Group и его финансовая служба Ant Financial уплатили 23,8 млрд юаней ($3,41 млрд) налогов. Это на 33% больше, чем в 2015 г.
К концу прошлого года услугами дочернего предприятия Alibaba Group – Ant Financial – воспользовалось 600 млн потребителей со всего мира.
Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Китайская корпорация Alibaba покупает американскую MoneyGram
НОВОСТИ ДНЯ
Китайская корпорация Alibaba покупает американскую MoneyGram
30.01.2017 10:00
Пекин, 30 января /ChinaPRO.ru/ – Ant Financial, финансовое подразделение китайской корпорации Alibaba, специализирующейся на онлайн-торговле, достигло договоренности о покупке американской компании MoneyGram, специализирующейся на денежных переводах. Финансовый объем сделки составляет $880 млн.
Компании Ant Financial принадлежит сервис Alipay – одна из крупнейших платежных онлайн-платформ Китая. Теперь сеть денежных переводов MoneyGram будет соединена с сетью Alipay.
В MoneyGram зарегистрировано 2,4 млрд банковских и мобильных счетов, а также 350 000 физических пунктов денежных переводов. Американская компания сохранит свою штаб-квартиру в Далласе (Техас, США) и продолжит работать под своим брендом.
Сделку еще должны одобрить акционеры MoneyGram и контролирующие органы. Как ожидается, купля-продажа будет завершена во второй половине 2017 г.
Ранее сообщалось, что в 2016 г. китайский интернет-гигант Alibaba Group и его финансовая служба Ant Financial уплатили 23,8 млрд юаней ($3,41 млрд) налогов. Это на 33% больше, чем в 2015 г.
К концу прошлого года услугами дочернего предприятия Alibaba Group – Ant Financial – воспользовалось 600 млн потребителей со всего мира.
К 2020 г. в Китае планируется утилизировать 350 млн т возобновляемых ресурсов, в том числе – 150 млн т стального и чугунного лома, 18 млн т лома цветных металлов, 23 млн т пластмассовых отходов. Коэффициент использования макулатуры достигнет 50%. Такие цели поставило правительство КНР.
Через четыре года в Поднебесной должна сформироваться система упорядоченного и здорового развития сферы возобновляемых ресурсов.
Напомним, что в настоящее время китайские власти проводят политику по сокращению избыточных мощностей в сталелитейной промышленности страны. В среднем годовая выплавка стали в КНР достигает 1,2 млрд т. К концу 2016 г. китайское правительство планировало сократить выпуск металла на 45 млн т.
В частности, в 2017 г. северо-китайская провинция Хэбэй планирует сократить выплавку стали на 15,62 млн т, а чугуна – на 16,24 млн т. Администрация провинции действует в рамках плана, который предполагает, что с 2013 по 2017 гг. выплавка стали и чугуна в Хэбэе должна сократиться на 60 млн т, производство цемента – на 61 млн т, угля – на 40 млн т, а листового стекла – 36 млн ящиков. Таким образом власти борются с загрязнением окружающей среды.
В этом году в регионе выведут из эксплуатации мощности в угледобывающей сфере в размере 7,42 млн т, в производстве цемента – 1,1 млн т, листового стекла – 5 млн ящиков.
К 25 января 2017 г. китайские власти утвердили 276 квалифицированных иностранных институциональных инвесторов (QFII). Их капиталовложения на рынке капитала в КНР в общей сложности превысили $87,3 млрд. Об этом сообщило Государственное управление валютного контроля Китая.
К концу января текущего года в Поднебесной насчитывалось 179 юаневых квалифицированных иностранных институциональных инвесторов (RQFII). Им была представлена квота в рамках RQFII в размере более $529,62 млрд юаней. В то же время Китай утвердил квоту инвестирования для квалифицированных китайских институциональных инвесторов (QDII) в $89,99 млрд.
В декабре 2016 г. объем сделок на валютном рынке страны составил $2,25 трлн. Это на 3% меньше, чем за ноябрь прошлого года. В частности, объем торгов между банками и их клиентами составил $345,7 млрд, а на межбанковском валютном рынке – $1,9 трлн.
Руслан Давыдов принял участие в заседании Коллегии ДВТУ.
Во Владивостоке состоялось итоговое заседание коллегии Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ), прошедшее в режиме видеоконференцсвязи со всеми таможнями ДФО, на котором были подведены итоги работы за 2016 год и определены задачи на 2017 год.
В заседании коллегии приняли участие заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, в настоящее время возглавляющий также Совет Всемирной таможенной организации, заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Анатолий Серышев и другие представители ФТС России, руководство ДВТУ, таможен и таможенных постов, а также территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Дальневосточного региона.
Перед началом заседания коллегии состоялась пресс-конференция заместителя руководителя Федеральной таможенной службы, председателя Совета Всемирной таможенной организации Руслана Давыдова, и начальника Дальневосточного таможенного управления Юрия Ладыгина.
В ходе пресс-конференции Руслан Давыдов рассказал о мероприятиях, проводимых в рамках председательства России в Совете Всемирной таможенной организации, о новеллах Таможенного кодекса ЕАЭС и о работе ФТС России по содействию развитию внешней торговли.
Сегодня Всемирная таможенная организация объединяет таможенные службы 180 государств, на долю которых приходится 98% мировой торговли.
Об итогах работы Дальневосточного таможенного управления в 2016 году журналистам рассказал начальник ДВТУ Юрий Ладыгин.
2016 год ознаменовался важными для таможенных органов и для участников внешнеэкономической деятельности Дальневосточного федерального округа событиями – это прошедший в сентябре во Владивостоке II Восточный экономический форум, развитие территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), а также развитие и расширение свободного порта Владивосток. Эти события придали новый импульс развитию экономики Дальнего Востока и во многом определяют работу таможенных органов региона.
В 2016 году усилия таможенных органов Дальневосточного региона были направлены на упрощение и ускорение совершения таможенных операций, внедрение перспективных таможенных технологий при одновременном решении задач обеспечения экономической безопасности Российской Федерации и пополнения доходной части федерального бюджета.
В 2016 году таможенными органами Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) перечислено в федеральный бюджет Российской Федерации 176,1 млрд рублей (в 2015 году - 164,1 млрд рублей), контрольное задание выполнено на 103%.
В 2016 году в таможенных органах Дальневосточного региона осуществляли внешнеэкономическую деятельность 9267 хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на территории Российской Федерации. По сравнению с 2015 годом (8 980) их количество увеличилось на 3,2%.
В 2016 году таможенными органами Дальневосточного региона зарегистрировано 217 248 деклараций на товары по таможенным процедурам и особенностям, учитываемым таможенной статистикой внешней торговли. По сравнению с 2015 годом (217 668) количество деклараций на товары сократилось на 0,2%.
Товарооборот. Учитываемый во внешней торговле товарооборот через таможенные органы Дальневосточного региона составил 19,4 млрд долларов США. По сравнению с 2015 годом (20,8 млрд долларов США) стоимость товарооборота сократились на 6,5%, физический объем товарооборота возрос на 11% (с 28,9 до 32,1 млн тонн).
Традиционно внешнеторговая деятельность в 2016 году осуществлялась с Китаем (37,4% от стоимостного объема товарооборота), Японией (22,1%), Республикой Корея (21,2%). При этом товарооборот с КНР по сравнению с 2015 годом по стоимости возрос на 6% и с Республикой Корея на 8,5%, а с Японией сократился – на 28%.
Экспорт. Стоимость экспорта в 2016 году составила 8,4 млрд долларов США (43% товарооборота), при этом стоимостный объем экспорта по сравнению с 2015 годом сократился на 16%. Сокращению стоимостного объема экспорта способствовало снижение стоимости сжиженного природного газа (при росте объема на 13%, стоимость сократилась в 1,6 раза), черных металлов; судов, лодок и плавучих конструкций, а также уменьшение поставок руды, шлака и золы.
Важнейшие товарные статьи экспорта: топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки (37% стоимости), рыба, ракообразные и моллюски (28%), древесина и изделия из нее (11%), суда, лодки и плавучие конструкции (7%), черные металлы (3%).
Импорт. Стоимость импорта составила чуть более 11 млрд долларов США (57% товарооборота), стоимостной объем импорта по сравнению с 2015 годом увеличился на 2%.
Сокращение стоимостного объема импорта обусловлено в значительной степени снижением поставок электротоваров, пластмасс и изделий из них, изделий из черных металлов, а также уменьшением стоимости ввозимого мяса и пищевых мясных субпродуктов.
Важнейшие товарные статьи при импорте: машины, оборудование и механизмы (22% стоимости), электрические машины и оборудование, их части (10%), средства наземного транспорта (9%), суда, лодки и плавучие конструкции (11%), изделия из черных металлов (5%), пластмассы и изделия из них (5%).
В 2016 году для ДВТУ приоритетным направлением оставалась работа по внедрению перспективных таможенных технологий. Это автоматическая регистрация деклараций на товары, концентрация декларирования товаров, предварительное информирование на морском транспорте, эксперимент по оформлению пассажирских таможенных деклараций в электронном виде, эксперимент по электронному транзиту, а также вводимое с 1 апреля 2017 года обязательное предварительное информирование о товарах, доставляемых воздушным транспортом.
1. Автоматическая регистрация деклараций на товары. По итогам 2016 года таможенными органами ДВТУ достигнуты следующие значения в реализации технологий авторегистрации и автовыпуска:
- технология автоматической регистрации экспортных деклараций на товары (реализация началась с мая 2014 года) – 30% деклараций от общего экспортного декларационного массива зарегистрированы в автоматическом режиме, что в 6 раз больше, чем в 2015 году. При этом на конец декабря 2016 года доля автозарегистированных экспортных деклараций на товары составила 54%;
- технология автоматической регистрации импортных деклараций на товары (реализация началась с 11 апреля 2016 года) – 0,05% деклараций от общего импортного декларационного массива зарегистрированы в автоматическом режиме;
- технология автоматического выпуска экспортных деклараций на товары (реализация началась с 11 апреля 2016 года) – 0,4% деклараций от общего экспортного декларационного массива.
2. Концентрация декларирования товаров. С июня 2016 года почти все таможни Дальнего Востока (за исключением Владивостокской и Находкинской) включены в эксперимент по концентрации декларирования товаров. Эксперимент предполагает разделение таможенных постов одной таможни на таможенный пост, осуществляющий таможенные операции, связанные с декларированием и выпуском товаров, и таможенные посты, осуществляющие таможенные операции, связанные с проведением фактического таможенного контроля.
Первые итоги показали высокую заинтересованность в проводимом эксперименте как таможенных органов, так и бизнеса. Уже по итогам первого месяца (июнь 2016 года) результаты концентрации составили 83,5%. По итогам 4 квартала 2016 года сконцентрировано 94% декларационного массива на товары, хранение которых осуществлялось в регионе деятельности таможенных постов, включенных в эксперимент. Лучшие результаты (100%) достигнуты Уссурийской, Биробиджанской, Магаданской таможнями.
3. Предварительное информирование. С 1 октября 2016 года в соответствии с федеральным законом «О свободном порте Владивосток» в пунктах пропуска Приморского края, входящих в территорию свободного порта Владивосток, введено обязательное предварительное информирование о прибывающих товарах и транспортных средствах, а также электронный документооборот при проведении государственного контроля в отношении товаров, прибывающих морским транспортом. Для этих целей в морских пунктах пропуска внедрен КПС «Портал Морской порт», обеспечивающий электронное взаимодействие всех участников процесса оформления товаров и транспортных средств в морских пунктах пропуска. В 2016 году к КПС «Портал Морской порт» подключены государственные органы (Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Пограничная служба), а также администрации морских портов и 1040 участников внешнеэкономической деятельности, осуществляющих подачу в таможенный орган предварительной информации.
С октября 2016 года оформление прибытия/убытия морских судов и перевозимых ими товаров на таможенных постах Владивостокской и Находкинской таможен осуществляется исключительно с применением КПС «Портал Морской порт». Все документы в отношении прибывающих/убывающих морских судов и перевозимых ими товаров предоставляются перевозчиками в таможенные органы исключительно в электронном виде. Доля предоставляемой в таможенные органы заинтересованными лицами предварительной информации о товарах, ввозимых морским транспортом, по итогам 4 квартала 2016 года, составляет 60%.
4. Эксперимент по оформлению пассажирских таможенных деклараций в электронном виде. В таможенных органах началось проведение эксперимента по оформлению в электронном виде пассажирских таможенных деклараций на товары. В Дальневосточном регионе в эксперименте участвуют таможенные посты Аэропорт Владивосток и Первомайский Владивостокской таможни, Морской порт Восточный Находкинской таможни, Южно-Сахалинский Сахалинской таможни и Аэропорт Хабаровск Хабаровской таможни. По итогам декабря 2016 года таможенными органами, участвующими в эксперименте, зарегистрировано 106 пассажирских таможенных декларации, поданные в электронном виде.
5. Эксперимент по электронному транзиту. В 2016 году в таможенных органах ДВТУ активно развивалась технология электронного транзита. Эксперимент по совершению таможенными органами таможенных операций при таможенном декларировании товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, в электронной форме, проводится в рамках реализации «дорожной карты» «Совершенствование таможенного администрирования», целью которой является сокращение сроков совершения таможенных операций при декларировании. С мая 2016 года в эксперимент включены все таможенные органы Дальневосточного региона.
В декабре 2016 года доля оформленных электронных транзитных деклараций, подпадающих под условия реализации эксперимента, в Дальневосточном регионе превысила 87%. В целом, в 2016 году в электронной виде в ДФО оформлено более 19 тысяч электронных транзитных деклараций.
Борьба с контрабандой и таможенными правонарушениями. В 2016 году дальневосточными таможнями возбуждено 280 уголовных дел (в 2015 году - 271 дело) и 6,9 тысяч дел об административных правонарушениях (в 2015 году – 7,5 тысяч дел).
В 2016 году вынесено 6,5 тысяч решений о привлечении к административной ответственности на общую сумму 12,3 млрд рублей.
Свободный порт Владивосток. В октябре 2016 года вступила в силу статья 22 Федерального закона от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», которая предусматривает в числе прочего круглосуточный и бесперебойный пропуск через государственную границу Российской Федерации.
В настоящее время круглосуточный режим работы обеспечен во всех морских пунктах пропуска свободного порта Владивосток, а также в воздушном (Аэропорт Владивосток (Кневичи)) и железнодорожном (ЖДПП Пограничный) пунктах пропуска. Круглосуточный режим работы таможенных органов, находящихся в автомобильных (МАПП Пограничный, МАПП Краскино, ДАПП Полтавка, ДАПП Турий Рог) и железнодорожных (ЖДПП Махалино и ЖДПП Хасан) пунктах пропуска, напрямую зависит от перехода на заявленный режим работы сопредельных пунктов пропуска, расположенных на территории КНР и КНДР. Пока китайская и корейская стороны не проинформировали о готовности к переходу на круглосуточный режим работы.
Резидентам свободного порта Владивосток предоставлена возможность ввоза и использования на территории свободного порта Владивосток иностранных товаров без уплаты таможенных пошлин, налогов. Такая льгота предусмотрена таможенной процедурой свободной таможенной зоны (СТЗ). Применение таможенной процедуры СТЗ возможно только в пределах зоны таможенного контроля, созданной на участке резидента, обустроенной и оборудованной в соответствии с установленными требованиями.
Сегодня случаи помещения товаров под таможенную процедуру СТЗ резидентами свободного порта Владивосток отсутствуют.
Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). В настоящее время зоны таможенного контроля (в целях применения таможенной процедуры СТЗ) созданы в ТОСЭР «Белогорск» (ООО «Маслоэкстракционный завод «Амурский»») и в ТОСЭР «Большой Камень» (АО «Дальневосточный завод «Звезда»»). Напомним, при помещении товаров под таможенную процедуру СТЗ на территориях опережающего социально-экономического развития резидентам предоставляется освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов. В 2016 году предоставлено освобождений от уплаты таможенных платежей на сумму более 265 млн рублей. Основной номенклатурой товаров, ввозимых на вышеуказанные ТОСЭР, является технологическое и промышленное оборудование для создания производств в рамках заключенных соглашений об осуществлении деятельности, иностранные товары, используемые в качестве сырья, комплектующие или запчасти, предназначенные для осуществления производственной деятельности, а также различная техника для работ и постройки объектов недвижимости.
ДВТУ предпринимаются меры, направленные на оптимизацию совершения таможенных операций в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в том числе на участках резидентов ТОСЭР. В октябре 2016 года ФТС России направлены предложения по сокращению требований к обустройству и оборудованию участков резидентов ТОСЭР и свободного порта Владивосток в целях привлечения участников внешнеэкономической деятельности, развития их производств и создания благоприятного инвестиционного климата.
Международные транспортные коридоры. По территории Приморского края проходят два региональных международных транспортных коридора (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2». ДВТУ принимаются необходимые меры по повышению конкурентоспособности на мировом рынке транспортных услуг и реализации транзитного потенциала Российской Федерации на Дальнем Востоке. В 2016 году наблюдался рост заинтересованности участников внешнеэкономической деятельности в использовании МТК. Так, по МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» оформлено 794 транзитных деклараций в отношении товаров общим весом более 52,5 тысяч тонн. При этом вес товарных партий, перевезенных по МТК «Приморье-1» и «Приморье-2», в 2016 году увеличился по сравнению с 2015 годом более чем в 5 раз.
Активно в 2016 году развивалось транзитное направление по Транссибирской магистрали. По таможенной процедуре таможенного транзита товары направлялись регионы деятельности других региональных таможенных управлений и таможенных органов государств-членов ЕАЭС (в Приволжское, Сибирское, Уральское, Центральное таможенные управления и в Республику Казахстан).
Новый виток борьбы за «права человека в КНДР»
Константин Асмолов
19 декабря 2016 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в Северной Корее. Резолюция на данную тему принимается 12-ый год подряд, и уже третий год подряд Совету Безопасности ООН рекомендовано рассмотреть вопрос «о передаче ситуации в КНДР на рассмотрение Международного уголовного суда» и предусмотреть наказание в отношении северокорейского лидера, который несёт ответственность за нарушения прав человека. Как и в прошлом году, проект подготовили Япония и ЕС, а в его доработке участвовали 70 стран – более трети членов ООН.
В резолюции указывается, что на севере Корейского полуострова «на высшем государственном уровне совершаются преступления против человечности», причем данная политика продолжается «на протяжении десятилетий». В качестве примеров указаны случаи применения пыток в лагерях, сексуального насилия, публичных казней. Указывается, что нарушения прав человека допускаются властями страны и подчёркивается виновность северокорейского лидера Ким Чен Ына в преступлениях против человечности.
В этом году впервые в резолюцию вошли пункты о том, что на ядерную и ракетную программы уходят средства, которые могли бы быть использованы на улучшение условий жизни народа, и выражены опасения по поводу положения и условий труда северокорейских рабочих, направляемых Пхеньяном за рубеж для зарабатывания валюты.
Оказывается, ситуация с северокорейскими рабочими «вызывает озабоченность», поскольку условия их работы почти не отличаются от условий в трудовых лагерях. Граждане КНДР, работающие за рубежом, вынуждены работать в условиях жёсткого надзора и отдавать свою зарплату государству. Они лишены свободы передвижения, что фактически означает рабский труд.
Отметим и требование освободить иностранцев, похищенных или удерживаемых в КНДР.
Принятие новой резолюции активно лоббировалось администрацией Обамы. Еще 25 октября 2016 г. заместитель помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Скотт Басби подчеркивал, что США тесно сотрудничают с правительствами других стран с целью принятия резолюции.
15 ноября проект был одобрен Третьим комитетом Генассамблеи, а 19 декабря прошла завершающая стадия одобрения резолюции в Генеральной Ассамблее ООН.
Несмотря на протест Пхеньяна, документ был принят без голосования. Китай и Россия высказались против резолюции, а представители КНДР в знак протеста покинули заседание Генеральной Ассамблеи. А еще ранее заместитель постоянного представителя СК при ООН Ким Ин Рён подчеркнул, что резолюция, «основанная на лжесвидетельствах», является «продуктом заговора со стороны США, которые пытаются уничтожить КНДР, прикрываясь правами человека».
К сожалению, эта резолюция хорошо показывает, куда катится т.н. «правозащитный» дискурс, значение которого, по мнению автора, в будущие годы будет снижаться как минимум по двум причинам. Во-первых, если проанализировать то, как и за что критиковали Север представители разных политических партий США, нарушением прав человека, в основном, занимались демократы. Республиканцы более активно развивали тему ЯПКП, военной и идеологической угрозы. Северокорейское руководство просто выставлялось империей зла, с которой надо вести войну. Во-вторых, правозащитный дискурс начинает обесцениваться. Чрезмерное использование его ангажированными сторонами привело к тому, что обвинения в нарушении прав человека, стали абсолютно не связанными с реальным уровнем таковых и, вследствие этого, благополучно игнорируемыми.
Для автора печально, что правозащита превращается в посмешище, но вот еще характерный пример. В свое время неправительственная организация UN Watch развернула деятельность по сбору подписей под требованием привлечь Ким Чен Ына к Международному уголовному суду за действия, связанные с ущемлением прав человека. В петиции были добросовестно перечислены все страшилки и штампы: убийства, рабство, заключение под стражу, пытки, сексуальные домогательства и насилие, принудительные аборты и принудительное переселение, похищения, голод, преследование по политическим и религиозным причинам, проведение ядерных испытаний, игнорируя нужды народа, около ста тысяч граждан страны в концентрационных лагерях и т.п.
Особенностью петиции было то, что ее активно пропагандировали и подписать ее мог любой житель мира. Теоретически это было бы хорошим показателем интереса общественного мнения к проблемам КНДР – но по состоянию на 2 октября международную петицию на сайте организации подписали почти тысяча человек, а к нынешнему времени это число не особо увеличилось. Честное слово, прошения в защиту бездомных котиков или локальные прошения по отмене платной парковки собирают в среднем куда больше.
А конкретно в данной резолюции СБ ООН слишком много откровенно слабых мест. Во-первых, это заведомо неверные данные, источником которых являются одиозные люди типа Син Донхека. Стоит напомнить аудитории, что после серии разоблачений, прошедших как с северокорейской стороны, так и со стороны перебежчиков, даже его американский соавтор был вынужден признать, что самые запоминающиеся эпизоды романа, которые взахлеб цитировали критики КНДР, Син просто-напросто придумал, и теперь при составлении разнообразных списков «пятнадцати самых известных беглецов из КНДР», его стараются не упоминать.
Абсурдными при этом оказываются и обвинения в том, что сексуальное насилие является постоянным элементом принуждения, – массовые изнасилования как способ укрепления лояльности и запугивания населения практикуют в совсем других регионах и это те силы, в отношении которых часто призывают «проявлять толерантность». Еще более замечательный пункт – это похищение иностранцев. Здесь даже не очень понятно, что вообще имелось в виду. Проблема похищенных японцев находится в жестком тупике от того, что у корейской стороны нет нормальных, с японской точки зрения, доказательств того, что похищенные граждане умерли, а японское общественное мнение надеется на лучшее (не говоря о том, что это удобный долгоиграющий политический козырь). А некоторое количество граждан США и РК осуждено по вполне определенным обвинениям и на похищение это не похоже никак.
Отдельно поговорим про «рабские условия», в которых живут северокорейские гастарбайтеры за рубежом. Ибо не только в бывшем Советском Союзе, но и в странах типа Польши, где деятельность северокорейских строителей и рабочих находится под куда большим вниманием общества и государства, довольно четко известно и условия их жизни, и та зарплата, которая им остается после вычетов, отнюдь не вписывается в понятие раба. Так, северокорейские рабочие на Дальнем Востоке очень высоко ценятся. Одинокая женщина может не бояться нанять бригаду таковых для ремонта своей квартиры или идти мимо группы северян, даже если те подвыпили – вещь радикально отличающаяся от случая со среднеазиатами. Северяне не вовлечены в криминал, очень прозрачны для властей, прекрасно управляемы и самоизолированы от внешнего мира, что существенно снижает шанс любых конфликтов между ними и местным населением. Их общежития отличаются чистотой, и они не ловят местных собак или кошек на еду.
Из-за этого местный бизнес очень заинтересован в увеличении их числа и рассматривает их как хорошую альтернативу как гастарбайтерам из Средней Азии, так и китайцам. Да, вполне вероятно, какая-то часть их зарплаты идет государству, но даже то, что остается позволяет северянам жить здесь весьма неплохо. Во всяком случае, возвращавшиеся со мной одним рейсом северокорейские отходники тащили с собой много, в том числе всякой бытовой техники домой или на реализацию.
Итого: громкая резолюция скорее всего будет демонстративно проигнорирована Северной Кореей и разделит участь «изначально написанных для корзины». Так ведет себя Китай с попытками ограничить их при помощи Конвенции по морскому праву. Так совсем недавно повел себя Израиль в ответ на резолюцию ООН, в очередной раз запретившую ему строить поселения на оккупированных территориях.
Автору грустно, что ООН принимает все больше документов, которые оказываются сотрясанием воздуха, и ему хочется надеяться, что ООН все-таки посвятит свои коллективные усилия борьбе с более серьезными угрозами.
В 2017 году на Соловках планируют окончить строительство канализационной системы
На окончание строительства канализационных сетей и коллекторов, а также канализационных очистных сооружений в поселке Соловецкий в 2017 году из федерального бюджета выделено 49 млн рублей. Об этом стало известно на заседании Межведомственной рабочей группы по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, председателем которой является первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Леонид Ставицкий.
«Стоит отметить, что главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является Минстрой России. Кроме этого, министерство отвечает за строительство и реконструкцию системы водоснабжения пос. Соловецкий, финансирование по которому определено на 2018 год. Минстрой России проводит работу по изысканию возможности выделения средств на данное мероприятие в 2017 году», - сообщил Леонид Ставицкий. Первый заместитель министра пояснил, что оно является жизненно важным для жителей поселка Соловецкий, Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря и паломников.
Еще одним мероприятием Минстроя России является строительство многоквартирного жилого фонда для расселения из ветхого и аварийного жилья поселка Соловецкий, включая расселение из монастырских памятников. Как сообщал ранее Леонид Ставицкий, данное мероприятие запланировано на 2019 год.
На совещании обсудили статус и остальных объектов из Перечня мероприятий по сохранению и развитию Соловецкого архипелага: строительство и модернизация транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры, строительство и реконструкция федеральных государственных бюджетных учреждений культуры, реставрация и сохранение объектов культурного наследия памятников истории и культуры, находящихся в федеральной собственности.
Справочно:
Минстрой России является координатором по вопросу комплексного развития и сохранения Соловецкого архипелага Архангельской области.
Учитывая исключительную историко-культурную, духовную, природную и социальную значимость развития Соловецкого архипелага – объекта всемирного наследия ЮНЕСКО Минстрой России провел длительные сложные работы по созданию, согласованию с заинтересованными ведомствами и изданию Перечня мероприятий по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.
Распоряжение Правительства Российской Федерации, закрепляющее Перечень мероприятий по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, было издано 5 февраля 2016 г. Сроки реализации мероприятий намечены до 2020 гг.
Одобрен проект этапа строительства автодорожного мостового перехода через реку Амур
Эксперты подведомственного Минстрою России ФАУ "Главгосэкспертиза России" одобрили проект строительства автодорожного мостового перехода через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ. Мост Благовещенск-Хэйхэ между Россией и Китаем должен стать одним из важнейших этапов реализации программы создания экономического коридора «Россия-Китай-Монголия», принятой в ходе трёхсторонней встречи лидеров этих стран на саммите ШОС в июне 2016 года.
Общая длина подъездной двухполосной автодороги в пределах Благовещенского административного района Амурской области и самого моста через Амур составит 13,43 километра, длина самого моста – более километра, при этом расчетная скорость движения по нему может достигать 120 километров в час. В ходе работ запланировано строительство дополнительных путепроводов и линейных объектов.
Проектирование проведено при участии китайских партнеров: проектная документация разработана на основании соглашения между российским и китайским правительствами.
Автомобильный переход через Амур на границе России и Китая принято называть «мостом больших надежд». Предполагается, что с его вводом в эксплуатацию и развитием транспортной инфраструктуры региона грузооборот между странами вырастет в десять раз, а логистические расходы предприятий снизятся на 25-30 %.
КИТАЙ - ГЛАВНЫЙ ТОРГОВЫЙ ПАРТНЕР ГЕРМАНИИ
Как сообщает Немецкая промышленно-торговая палата (DIHK) в списке главных торговых партнёров Германии Китай по итогам 2016 года обошёл США. Как и Франция, занявшая второе место. Соединенные Штаты Америки – третий по значимости торговый партнёр Германии, хотя долгое время были на первом месте.
Напомним, ЕвроСоюз - наиболее крупный торговый партнёр КНР уже на протяжении десятка лет. Особое значение придаётся отношениям с Германией, объём товарооборота с которой составляет $161,56 млрд. Из Китая в Германию экспортируются одежда, обувь, бытовая техника и электроника из Германии в Китай – продукция машиностроения, оборудование, автомобили. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в одном из своих выступлений во время визита в Китай назвала Германию и Китай идеальными партнерами.
Кстати, согласно выводам специалистов Центра исследования модернизации в Пекине, входящего в структуру Академии наук по уровню индустриального развития Китай отстает от Германии, Нидерландов, Франции и Великобритании на сто лет. Отставание от США, Дании и Италии составляет 80 лет, от Швеции, Норвегии, Австрии, Испании и Японии – 60.
КИТАЙ ПОТЕРЯЕТ КОНТРОЛЬ
Вестифинанс предупреждают о том, что Народный банк Китая может потерять контроль над юанем в текущем году. В частности, денежная ситуация в Китае может ухудшиться в связи с запланированным повышением процентной ставки и агрессивным настроем против Китая у администрации Трампа. Признаками возможных грядущих проблем являются по итогам 2016 года: сокращение уровня резервов сократился на $41 млрд. до $3,01 трлн., отток капитала на сумму по меньшей мере $650 млрд. А также рост новых кредитов в китайских банках более чем на 20% до 1,04 трлн. юаней в декабре 2016 по сравнению с ноябрём 2016 года. Возможно, пишет источник, Пекин не сможет достичь поставленной цели по экономическому росту и этом опасный прецедент накануне 19-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая.
Напомним, по данным Reuters, предварительно рассчитанный дефицит бюджета Китая составил в 2016 году 2,83 триллиона юаней, в то время как власти Китая рассчитывали, что максимальный дефицит может составить 2,18 триллиона юаней. При этом, расходы китайского бюджета поднялись на 6,4% относительно 2015 года, а доходы выросли только на 4,5%.
По информации Financial Times, китайские регуляторы блокируют операции банков по выводу юаней из страны. Ужесточение вывода валюты за рубеж это ещё одна мера в рамках стратегии правительства Китая по интернационализации юаня.
В КИТАЕ ВСТРЕТИЛИ НОВЫЙ ГОД
Накануне в Китае встретили новый год или Праздник весны (Чуньцзе), который пройдёт под знаком Огненного Петуха. Это 4715-й год по китайскому календарю. Китайский Новый год начинается в первый день первого месяца по китайскому лунно-солнечному календарю, сложившемуся в эпоху династии Хань (2 век до н.э. — 2 век н.э.). По григорианскому календарю праздник приходится на один из дней между 21 января и 21 февраля. Китайский новый год отмечают кроме КНР в ряде других стран Восточной Азии.
КИТАЙ КУПИЛ ПОЕЗД
Сайт «Военный паритет» со ссылкой на доклад Джорджтаунского университета (США) утверждает, что Китай приобрел у Украины пусковую установку от советского боевого железнодорожного комплекса (БЖРК) «Молодец» для развертывания межконтинентальной баллистической ракеты DF-41. Китай имеет разветвленную систему железных дорог протяженностью более 74,6 тысячи миль, поэтому базирование баллистических ракет обеспечивает высокую скрытность стратегических систем и дает Китаю возможность запускать ракеты практически из любой точки на своей территории. Кстати, последнее испытание DF-41 состоялось 6 декабря 2016 года.
Ранее китайские СМИ повергли в шок многих читателей, сообщив, что Китай развернул в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, модернизированные мобильные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами Dongfeng-41 (DF-41).
Но почти сразу же МИД КНР заявил: «В настоящее время отношения всестороннего стратегического партнёрства и взаимодействия между Китаем и Россией поддерживаются на высоком уровне, стратегическое взаимодоверие между двумя сторонами постоянно углубляется, сотрудничество двух стран в различных сферах углубляется. Что касается так называемого военного присутствия — это лишь домыслы и догадки, распространившиеся в интернете».
"ПГК" увеличила объём международного экспедирования из Западной Сибири в 2016 году
С января по декабрь 2016 года Новосибирский филиал АО "Первая Грузовая Компания" (ПГК) перевез 2,8 млн тонн грузов в рамках договоров международного экспедирования из Западной Сибири, на 38% увеличив аналогичный показатель прошлого года. Грузооборот филиала в указанном сегменте составил 7 млрд т-км. Отправка грузов осуществлялась со станций Западно-Сибирской железной дороги в порты и через сухопутные пограничные переходы России в страны Балтии, СНГ, Китай и Монголию.
Положительная динамика обусловлена расширением дополнительных сервисов, предлагаемых в рамках комплексного транспортно-экспедиционного обслуживания, а также увеличением клиентского портфеля филиала за счет компаний малого и среднего бизнеса.
В частности, объем экспедирования каменного угля увеличился на 49% относительно аналогичных показателей 2015 года и составил 2,5 млн тонн. Отправка твердого топлива производилась преимущественно в Казахстан, страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Объем перевозок лесных грузов в рамках договоров ТЭО увеличился на 87% и составил более 60 тыс. тонн. Перевозка лесоматериалов осуществлялась в Китай и страны ближнего зарубежья - Казахстан и Узбекистан. Положительная динамика в данном сегменте обусловлена девальвацией рубля, а также сохраняющейся тенденцией по замещению экспорта круглого леса пиломатериалами российского производства.
Объемы экспедирование кокса и нефтеналивных грузов сохранились на прежнем уровне и составили 290 тыс. тонн и 79 тыс. тонн, соответственно. Грузы следовали преимущественно в страны Азии и Казахстан.
"Новосибирский филиал гарантирует грузовладельцам четкое соблюдение сроков доставки в международных направлениях, подбор оптимальной логистики в зависимости от продолжительности и дальности маршрута, а также конкурентоспособные ставки на экспедирование по территориям иностранных государств. В совокупности это делает услуги ПГК привлекательными для клиентов и позволяет нам наращивать объемы перевозок в рамках договоров ТЭО", - прокомментировал директор Новосибирского филиала ПГК Евгений Долженко.
Trump’s Nationalism Facilitating China’s Rise to Global Leadership
Salman Rafi Sheikh
While the new US president, Donald Trump, might have thought deeply about making “America great again”, the policies (read: “America First”) he has outlined to achieve this objective are likely to cause other consequences, most important of which is America’s further decline in the global arena and subsequent rise of China to what the latter’s leadership has implicitly called ‘playing the world leader.’ To this end, China is expected to receive significant support from both its rivals and allies. In Asia, for example, Trump’s nationalist rhetoric has received a response that points to a larger regional (read: “regionalization”) configuration taking place wherein China, followed by Russia, is playing an anchor role. As a matter of fact, China’s militaristic response i.e., deployment of intercontinental missile systems, to Trump’s aggressive nationalist assertion and the heat it is creating with regard to the South China Sea has found a powerful friend in Russia, and together both of these countries are likely to challenge Trump-ism in its various i.e., military and non-military forms.
This is evident from the way Russia has not objected to or reacted against the deployment of missile systems near its border. On the contrary, Dmitry Peskov, spokesman for President Vladimir Putin, said in televised remarks on January 24, “If this information is true, any military development in China is not perceived by us as a threat to our country,”
Similarly, in line with the Kremlin’s view, this deployment was seen by the Russian media as a response to US missile defenses in the Asia-Pacific and that China was sending a message to Washington, and not to Moscow.
“The missile’s dead zone is no less than three thousand kilometers so … Russia’s entire Far East and Western Siberia are not within the missile’s reach,” Konstantin Sivkov, president of the Academy of Geopolitical Problems, Doctor of Military Science, was quoted as saying by the TASS news agency.
Clearly, China is perturbed by the Trump administration’s aggressive postures and is equally wiling to re-write its own rules of engagement, an important one of which is getting politically involved in regions and areas which until recently fell outside of the parameters of China’s “non-interference” principle (read: Chinese President Xi Jinping’s offer to mediate in the political solution of the Ukraine crisis).
While some see in this offer a warning to Moscow that any attempt at improving relations with the US at China’s expense will face the prospect of Beijing reaching out to Russia’s foes, this is hardly the case. Its primary reason is the military and economic regional blocks both China and Russia are seeking to build in the region and the policy of integrating other countries, including those which are currently allied with the US, in these blocks. Therefore, far from a ‘warning’ to Russia, it is a message to the US that China is likely to speedily fill the space Trump’s nationalism and protectionism is likely to create in the world, especially in Asia.
Donald Trump’s decision to withdraw from TPP has already created a big vacuum—and the only country economically capable of providing a suitable alternative to this deal is China. Through both the Free Trade Area of the Asia-Pacific and the Regional Comprehensive Economic Partnership, two proposed multilateral commercial deals that Beijing has so far championed as alternatives to the TPP, China is gearing up to further diminish the US role and position in the region—a region that has been previously called the epicentre of “Asian Century.”
Thus, the US' withdrawal from the TPP and its likely trade disputes with China and other countries in the region, which is an inevitable outcome of ‘America First’, means that the US is unlikely to take the leading role in shaping the economic integration of the region, thus leaving for China and its regional allies ample space to cover.
This would, in turn, boost Beijing's strategic influence. As it stands, as one analyst has aptly stated, in today's Asia, economics, strategic influence and security relationships are inseparable. If the economic future of regional countries rests more and more with China, it will help increase China's strategic clout in the region too.
On the contrary, while the US is least expected to abandon the region, Trump’s emphasis on re-negotiations of both military and economic ties with countries on individual basis is likely to cause more difficulties than ease its way. Regional countries are not powerful enough to counter China on individual basis even if they have US support. TPP, for them, was the platform that they could use to counter-balance China’s expanding influence. The demise of TPP is, therefore, the opening up of a window for China to re-define regional dynamics as well as its role in the world.
Already, prompted by Trumps’ “protectionism”, China’s leadership has hinted about ‘playing the world leader.’ “If anyone were to say China is playing a leadership role in the world I would say it’s not China rushing to the front but rather the front runners have stepped back leaving the place to China,” said Zhang Jun, director general of the Chinese Foreign Ministry’s international economics department.
And China is accordingly gearing up to showcase its new role in the up-coming summit on its “One belt One Road” project in May, 2017. It is being seen as one opportunity for Beijing to project its leadership of global infrastructure and investment.
A diplomatic source familiar with preparations of the summit said China was likely to hold it at the same glitzy convention centre used to host the Asia Pacific Economic Cooperation summit in 2014, setting the stage for Xi’s most high-profile diplomatic event of the year. “China’s pretty much inviting everyone,” the diplomat said, according to Reuters.
The demise of TPP, which is pretty much a clear manifestation of Trump’s protectionist “America First” policy, is, what John Kerry had called, a “giant step backwards” for the US’ erstwhile leadership in the world. In the Obama administration’s plans, the TPP was to be a system building platform. Hence, having an evident geopolitical significance, it cannot be replaced by single bilateral trade agreements. In this sense, the signing of a simple commercial deal with Washington would have a diminishing impact on the US’ regional allies. Unless it is matched by an Asia-Pacific-wide strategic initiative involving the US, which is unlikely to happen at this stage, China will face no major obstacle in its way of economic and military expansion in the region.
And as China Daily pointed in a cartoon, showing Trump digging a grave for TPP, ‘the US withdrawal from the TPP means it is unlikely to the leading role in shaping the economic integration of the region, thus giving China more scope to do so.’ Trump’s protectionism is, therefore, setting the context for China’s ultimate rise to a leadership role—something that Russia and a number of other countries in the region might found less problematic and hegemonic than that of the role the US has been playing there for decades.
Россия становится одним большим денежным магнитом
Теперь, когда Россия стала ведущим мировым производителем углеводородов, обойдя Саудовскую Аравию, и новая администрация Дональда Трампа дала понять, что пришел конец антироссийской воинственности, инвесторы активизировались.
В России зарегистрирован наибольший приток иностранных портфельных инвестиций на глобальном формирующемся фондовом рынке. Больше, чем в Китае. Больше, чем в Индии, Бразилии и Мексике. Глобальные фонды развивающихся рынков вторую неделю подряд наблюдают приток инвестиций, побив рекорд в 476 миллионов долларов на прошлой неделе, по данным EPFR Global.
До сих пор наблюдается чистый приток в 472 миллионов долларов в российские акции, по сравнению с 837 млн. долл в прошлом году. Россия сейчас наиболее интересный развивающийся рынок с точки зрения притока иностранных инвестиций. В прошлом году после трех лет снижения потоки инвестиций были эквивалентом 1.6% российского фондового рынка, по капитализации. Единственной страной, которая имеет больший приток в процентах от рыночной капитализации, стала Колумбия. В Колумбии инвесторы сделали ставку на мирное соглашение с вооруженными революционными силами.
По мере притока капитала держатели акций продают свои активы. Новички в России теряют деньги, поскольку они делают ставки на более дружественные отношения Вашингтон-Москва, которые могут, в конечном счете, снять экономические санкции уже в этом году. Медведи биржевых фондов Market Vectors Russia сменили политику, поскольку активы упали на 0,5% в этом году, в то время как MSCI Emerging Markets Index вырос на 4.9%. Инвесторы, которые более терпимы к меньшей ликвидности, в режиме реального времени обращаются к Russia Small Cap (RSXJ) ETF, которые также принадлежат Global Market Vectors. Этот фонд вырос на 6,96% в этом месяце и на 137,5% за последние 12 месяцев. Это был лучший развивающийся рынок.
Американская "смена режима" вызывает беспокойство некоторых инвесторов. Между тем, многие эксперты выразили обеспокоенность относительно выхода Великобритании из ЕС, поскольку это веяние позже в этом году может распространиться на Францию. Это будет тройное политическое потрясение. Франция выбирает нового президента 23 апреля.
Россия, как и другие развивающиеся рынки, может также извлечь выгоду из изменений денежно-кредитной политики в основных странах.
Аналитики с Уолл-Стрит говорят, что ФРС и другие центральные банки установили практические ограничения денежно-кредитной политики. Япония завершила эксперимент с отрицательными ставками. Европа тоже завершает подобный эксперимент. Инвесторы осторожно оптимистичны относительно изменений в фискальной и регуляторной политиках США, менее оптимистичны в отношении торговли, хотя они будут адаптироваться к новым реалиям.
Влияние замещения демократического режима также будет ощущаться в ценах активов на развивающихся рынках, в ликвидности рынков и в капиталах развивающихся рынков в ближайшие месяцы. Российский приток инвестиций в этом году воспринимается как случайность, а не как закономерность.
Переизбыток в Москве играет свою роль
Благодаря росту цен на нефть и низким процентным ставкам, рецессия в России закончилась. Рынок хорошо зарекомендовал себя, поэтому многие владельцы активов 2016 фиксируют прибыль. Renaissance Capital в Москве подтвердил свои неутешительные прогнозы для российского фондового рынка.
Реальная заработная плата вновь растет и еще 200 базисных пунктов снижения будут преодолены, скорее всего, в 2017 году.
Любой рынок, который вырос на 57% в долларовом выражении за последние 12 месяцев, по данным Market Vectors Russia, станет уязвимым к фиксации прибыли. Инвесторы не должны воспринимать это как отрицательный знак.
"Мы по-прежнему встречаемся с инвесторами, которые имеют небольшие вклады в России. Мы по-прежнему считаем, что глобальные деньги у нас... отсутствуют", - говорит Дэниэл Солтер, глава департамента глобальных стратегий в Renaissance в Лондоне. "В неопределенном мире выход Великобритании из ЕС, Трамп, итальянские, французские и немецкие выборы как-то хорошо ложатся на развивающиеся рынки", - говорит Солтер, добавив, что Россия будет выглядеть хорошо только, если нефть удержится на текущем уровне.
Россия продолжает наносить удары и держать в напряжении. Западные санкции и натиск плохих новостей не отключили инвесторов. Ослабление санкций ожидается, если избиратели Франции и Италии выберут соответствующих кандидатов в этом году.
Вашингтону будет по-прежнему сложно, так как многие республиканцы, не прельщенные Дональдом Трампом, постараются расширить санкции в отношении России за якобы взлом электронной почты Национального комитета Демократической партии и главы кампании Хиллари Клинтон Джона Подеста. Россия заявляет, что не имеет к этому отношения, но американские спецслужбы говорят, что это российские агенты. Противостояние дает преимущество антипутинским лидерам конгресса, таким как Джон Маккейн и Линдси Грэм, которые обещали в эти выходные дать Трампу список новых санкций для наказания России за вмешательство в ноябрьские выборы.
За пределами политических мыльных опер происходит прогресс на экономическом фронте. Это он делает в этом месяце Россию денежным магнитом.
Прогресс снижения инфляции был впечатляющим. В марте ожидается сокращение процентных ставок на 50 базисных пунктов. Рубль остается стабильным и наблюдается заметное снижение оттока капитала. Россия также, как устойчивая страна по отношению к поднятию ставок ФРС с учетом нынешнего положительного сальдо, в сочетании с тем, что большинство российских компаний были отрезаны от низкого курса доллара и вообще от европейских кредитных рынков из-за санкций. Более высокие процентные ставки не имеют значения. Российские компании сосредоточились на местных источниках финансирования и ставки в виде двузначных цифр снижаются.
Прогнозы доходов от российских инвестиционных банков растут. Россия по-прежнему явный бенефициар президентства Трампа, по крайней мере, что касается восприятия.
Автор: Рапоза Кэннет @Forbes

На рост рынка железнодорожных контейнерных перевозок повлиял эксперимент ОАО «РЖД»
Упрощение процедуры заявки на перевозку контейнерных грузов, внедренное ЦФТО, привело к увеличению объема перевозок контейнеров в России до рекордного уровня
Российский рынок железнодорожных контейнерных перевозок за 2016 год вырос на 11% по сравнению с 2015 годом и достиг исторического максимума в 3,3 млн TEU (двадцатифутовый эквивалент), сообщили Gudok.ru в Центре фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО, филиал ОАО «Российские железные дороги»).
В 2017 году ЦФТО прогнозирует объем перевозок контейнеров на уровне 3,5 млн ДФЭ, что на 5,8% выше уровня 2016 года. В случае, если прогноз оправдается, будет снова побит исторический максимум. В ЦФТО сообщили, что наибольший прирост ожидается во внутрироссийском и транзитном сообщении. «В целях привлечения грузов к перевозке железнодорожным транспортом в 2017 году прием контейнеров во внутрироссийском прямом сообщении может осуществляться без подачи и согласования заявки на перевозку грузов», - сообщил Gudok.ru заместитель генерального директора по оперативной работе Леонид Воронин.
Предыдущий рекорд железнодорожных контейнерных перевозок был зафиксирован в 2014 году, когда объем перевозок в контейнерах составил 3,2 млн TEU. В 2015 году впервые за 5 лет объем рынка сократился - на 8% до 3 млн TEU. Таким образом, относительно уровня 2014 года объем рынка в 2016 году превышен на 1,4%.
Основной вклад в достижение рекорда внесли перевозки по внутрироссийским маршрутам. В этом сегменте рост составил 180 тысяч TEU или 12% по сравнению с 2015 годом. С учетом общего увеличения в 2016 году объема контейнерных перевозок на 302 тыс. TEU по сравнению с предыдущим годом рост внутренних перевозок составил 60%.
Опрошенные Gudok.ru эксперты считают, что на это повлияли меры, предпринимаемые ОАО «Российские железные дороги» в рамках политики клиентоориентированности, в том числе эксперимент ЦФТО по отмене подачи и согласования заявки на перевозку грузов формы ГУ-12, который привлек спотовых клиентов (то есть заинтересованных в отправке контейнера в день обращения, включая и выходные дни).
В 2016 году вице-президент ОАО «РЖД», генеральный директор ЦФТО Салман Бабаев принял решение при перевозке контейнеров в прямом сообщении (исключая припортовые станции) не требовать оформления заявки ГУ-12. Сначала это был эксперимент на период с 1 мая по 31 июля, а затем требование было полностью отменено. Если в первом полугодии прошлого года рост контейнерных перевозок был зафиксирован на уровне 6%, то во втором полугодии, после упрощения процедуры оформления грузотправки, рост составил уже 15%.
Ранее, согласно железнодорожному законодательству, грузоотправитель должен был предоставить заявку перевозчику в срок от 10 до 15 суток до начала перевозки в зависимости от вида сообщений. Теперь заявку можно не подавать, не визировать железнодорожную накладную и не заниматься оформлением груза при внутренних контейнерных перевозках. Упрощение сделано для привлечения грузов к перевозке железнодорожным транспортом в условиях конкуренции с альтернативными видами транспорта. Новый режим как раз и был внедрен для оформления срочных грузоотправок.
Для решения вопроса об упрощении процедур была создана рабочая группа, в которую вошли представители ЦФТО, операторы холдинга «РЖД» и крупнейший участник российского рынка железнодорожных контейнерных перевозок - «ТрансКонтейнер». В частности, в рамках мероприятий рабочей группы проводились встречи с клиентами.
По итогам 2016 года лидерство на российском рынке железнодорожных контейнерных перевозок сохранил «ТрансКонтейнер», обслужив 47,3% его объема. Компания, по ее данным, показала рост почти на уровне рынка - 9% (до 1,5 млн TEU). При этом наибольшее увеличение произошло в сегментах экспортных (на 13%) и внутренних (на 10%) перевозок.
Эксперимент ЦФТО сыграл значительную роль в приросте объемов перевозок контейнеров внутри страны, сказал Gudok.ru эксперт Аналитического центра при Правительстве РФ Дмитрий Черненок. «Это упростило клиентам доступ к услугам железнодорожного транспорта, а также сократило срок принятия решения на перевозку, что повысило конкурентоспособность железнодорожного транспорта», - сказал он.
Этот же фактор отметил и ведущий эксперт-аналитик Института проблем естественных монополий Сергей Оленин. «Отмена необходимости подачи заявки ГУ-12 при оформлении документов на перевозку способствовала сокращению сроков доставки грузов в контейнерах и привлечению дополнительных клиентов на железную дорогу», - сказал он Gudok.ru. При этом он отметил, что были и другие «локальные изменения в нормативно-правовой базе», которые способствовали росту рынка.
Черненок в свою очередь уточнил, что были упрощены и некоторые таможенные процедуры. Например, на станции Забайкальск введена система предварительного электронного декларирования, что позволило сократить сроки доставки контейнеров из Китая. «Прохождение границы на данном участке снизилось до минимума – с 2 суток до 2-3 часов», - пояснил эксперт.
Сергей Оленин также обратил внимание, что ОАО «РЖД» продолжает работу по развитию рынка контейнерных перевозок. Он напомнил, что в 2016 году ОАО «РЖД-Логистика» (дочерняя компания ОАО «РЖД») организовало тестовые поездки в рамках ускоренных контейнерных сервисов из Китая в Россию и транзитом в страны Европы.
Помимо этого, эксперт связал общий рост рынка с тем, что в контейнерах стали больше возить грузы, которые раньше в них почти не возили - насыпные, навалочные, наливные химические и нефтяные грузы. Тем самым повысился уровень контейнеризации.
Схожее мнение высказала Gudok.ru и член подкомитета по логистике комитета Торгово-промышленной палаты РФ по транспорту и экспедированию Людмила Симонова. Она также отметила положительную роль ОАО «РЖД» в развитии рынка, в том числе за счет проектов по увеличению скорости контейнерных перевозок. Вместе с тем, она отметила, что рост объема экспортного сегмента в 2016 году был связан с макроэкономическими причинами, в том числе с укреплением рубля, поэтому без развития промышленности это направление может не выдержать международной конкуренции. Эксперт даже не исключила снижения экспорта в краткосрочной перспективе.
Дмитрий Черненок предполагает, что рост контейнерных перевозок в России в ближайшее время может столкнуться с инфраструктурными ограничениями. «Слабое развитие сети терминально-логистических центров не сможет обеспечить увеличение скорости оборота контейнеров», - подчеркнул эксперт.
По мнению Сергея Оленина, развитие контейнерных перевозок способствует, в первую очередь, усилению экспортно-импортного и транзитного потенциала страны в основных отраслях промышленности. Положительные эффекты от роста уровня контейнеризации проявляются, по его словам, также в модернизации и развитии инфраструктуры - терминалов, станций и путей.
Николай Логинов
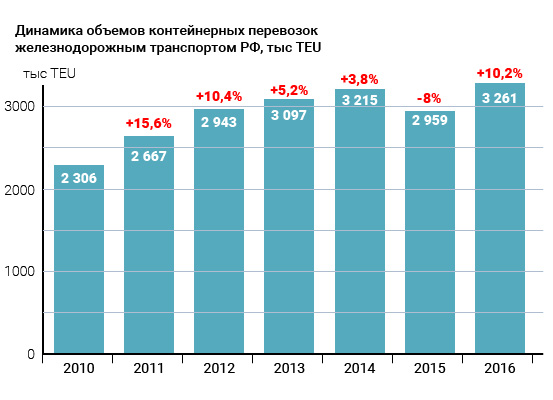
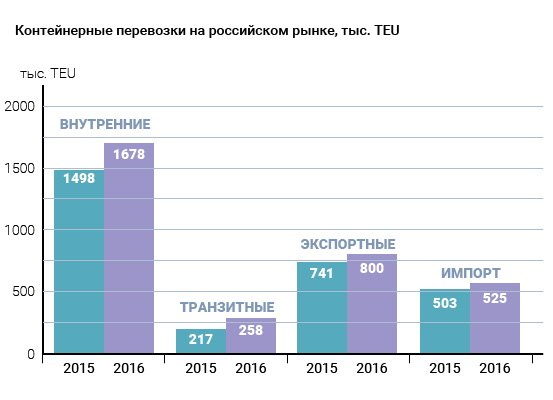

Железнодорожный туризм за 2016 год вырос более чем на 13%. По экскурсионным маршрутам проехали свыше 250 тыс. пассажиров. сообщает телеканал РЖД ТВ со ссылкой на материалы отраслевого «круглого стола», состоявшегося в Санкт-Петербурге.
Самыми активными туристами стали жители Китая. Для них компания «РЖД Тур» запустила отдельный маршрут – «Великий чайный путь». Экскурсия длится 10 дней. За это время поезд проделывает путь от Манчжурии до Европейской части России. Чтобы такие поездки стали доступнее для маломобильных граждан, железнодорожники развивают инфраструктуру, в частности, реконструируют вокзалы и платформы. Планируется увеличить количество специальных штабных вагонов для лиц с ограниченными физическими возможностями.
Участники «круглого стола» также отметили рост популярности ретро-движения. За 2016 год паровозные туры выбрали более 25 тыс. туристов. В 2017 году паровозные туры запустят в Гатчину и Петергоф. Сформированы пилотные двухдневные туры в Псков и Великий Новгород. Для перевозок в состав поездов включат вагоны купе и СВ.
Предвещает ли вступление Дональда Трампа на президентскую должность конец глобальной торговли?
В течение многих десятилетий существовал некий консенсус о том, что глобализация принесла больше рабочих мест, повышение заработной платы и более низкие цены, причем не только для богатых, но и для развивающихся и более бедных стран. Но сегодня мы наблюдаем растущее движение протеста, когда люди видят, что рабочие места занимают машины, старые отрасли промышленности исчезают, и волны миграции нарушают давно устоявшийся порядок. Глобальные торговые потоки сокращаются, и торговые сделки расторгаются.
Новый президент США Дональд Трамп пригрозил наложить тарифы до 45% на китайские товары, обвинив Китай в «изнасиловании» США в экономическом плане.
Один из яростных критиков политики Китая Питер Наварро был назначен в качестве главного торгового советника.
Правительственное распоряжение о выходе из Транс-Тихоокеанского партнерства (TPP), соглашения между двенадцатью государствами на побережье Тихого океана, направленное на углубление экономических связей, было одним из первых действий мистера Трампа после переезда в Белый дом. Будущее свободной торговли выглядит очень мрачно.
Но что стоит за протестом, который ставит под угрозу десятилетия относительного мирового консенсуса по проблемам глобализации?
Снижение производства в США
Чувство обиды в США понятно: в производственном секторе страны наблюдалось исчезновение шести миллионов рабочих мест в период с 1999 по 2011 годы по данным Бюро статистики труда. Исследования показали, что снижение в США было зеркально отображено прибылью в Китае.
Но китайский импорт объясняет только 44% сокращения занятости в промышленности США в период с 1990 по 2007 годы, согласно данным доклада Института по изучению труда в Бонне. Часть снижения было из-за аутсорсинга рабочих мест в другие страны, и также сказались автоматизация и повышение эффективности процессов.
«Во всех странах в конечном итоге появляются проигравшие из-за развития технологий, будь то телефонные операторы или банковские кассиры," - говорит Гэри Хафбауэр, торговый эксперт из Института международной экономики Петерсона. "Проблема в США в том, что мы не делаем достаточно, чтобы помочь тем людям, которые теряют за счет пребывания на социальном обеспечении или в процессе переучивания на другую работу".
Протест, происходящий из-за этого, нашел поддержку в протекционистской риторике у таких политиков, как г-н Трамп.
"В течение последнего десятилетия в Европе, США и Японии не происходило никакого роста доходов домашних хозяйств. Люди недовольны, и если надо обвинять кого-то, то легче всего обвинить иностранцев," говорит г-н Хафбауэр.
Рост политической оппозиции к глобализации
В период с 1986 по 2008 год объем мировой торговли вырос в среднем на 6,5% по данным Всемирной торговой организации. В период с 2012 по 2015 год этот показатель замедлился в среднем на 3,2% и, по прогнозам, увеличится только на 1,7% в 2016 году. Это замедление сделает его самым продолжительным периодом относительного застоя торговли со времен второй мировой войны.
После финансового кризиса замедление китайской экономики и политическая, и экономическая стагнация в еврозоне внесли свой вклад в умирание мировой торговли. В то же время, в попытке изолировать свои внутренние отрасли и компании, политики обращаются к тарифам и ограничениям на импорт из других стран.
«Правительства во всем мире почти в два раза увеличили свое обращение к непропорциональности в торговле в течение последних двух лет," -говорит профессор Саймон Евенетт, торговый эксперт из университета в Санкт Галлене. "Недавний всплеск активности политики «разори соседа»предшествовал Трампу и Брекситу, полагая, что популистское давление, вероятно, усилит протекционизм" .
Умирание экономического роста привело к усилению давления на политиков
"Правительства по всему миру обращаются к протекционизму часто под видом «промышленной политики», по словам профессора Евенетт. Он говорит, что это часто включает в себя предложение государственных субсидий местным компаниям, введение импортных барьеров и новых "местных" стандартов на продукцию из-за рубежа.
И все же, в то время как протекционизм может показаться привлекательным для политиков, одолеваемых разгневанными рабочими, политики часто заканчивают только тем, что повышают цены для потребителей.
Например, бунт протеста в 2012 году, когда дешевые китайские шины наводнили рынок США, поставил под вопрос жизнеспособность отечественных производителей.
Президент Обама ответил карательными тарифами, чтобы заставить Китай "играть по правилам". Протекционистские меры были хорошо приняты в США, но в исследовании Института Петерсона установлено, что тарифы означали, что американские потребители заплатили на 1,1 миллиардов долларов больше за свои шины в 2011 году.
Каждое сохраненное рабочее место дает эффект стоимостью в 900000 долларов из которых мало что попадает в карманы рабочих.
Свободная торговля отбивается?
Когда экономическая и социальная выгоды свободной торговли все больше попадают под атаку критики, сторонники глобализации пытаются принять контрмеры.
Например, Всемирный банк недавно опубликовал исследование развивающихся стран, показывающее, что средний уровень доходов для людей, живущих в секторе нижних 40% доходности, увеличился в период между 2008 и 2013 годах, несмотря на последствия финансового кризиса.
"Существует понимание в богатых странах и среди богатых элит, что у глобализации есть проблемы " говорит Бранко Миланович, экономист, работа которого по проблеме неравенства доходов вызвала большие дебаты. "Все понимают, что для их собственного политического самосохранения они должны эти проблемы решать". Но решения не очевидны, и их нелегко осуществить.
"Большей частью выгодами глобализации воспользовалась относительно небольшая группа людей в каждой стране. Вопрос заключается не в том, есть ли выгоды у глобализации, совершенно очевидно, что они есть. Вопрос в том, кому достаются эти выгоды", - говорит Эндрю Ланг из Лондонской школы экономики.
Часть протестного движения может рассеяться, если экономический рост остановит упорное выпрямление траектории в плоскую линию, если будут подняты доходы повсюду в мире.
"Для того, чтобы помочь решить эти проблемы, нужно чтобы мировая экономика пошла на подъем. Правительства должны отдать все силы финансовому стимулированию, чтобы экономики их стран заработали снова", говорит Гэри Хафбауэр.
Бранко Миланович указывает на успех предыдущих политиков, которым удавалось повернуть, казалось бы, неисправимо слабые экономики.
«Политикам под силу решение этих проблем»
"Тэтчер и Рейгану удалось добиться эффективных изменений в относительно короткие периоды времени, одного президентского срока в четыре года должно быть достаточно, чтобы почувствовалась разница", говорит он.
Но профессор Евенетт пессимистичен: "Я ожидаю, что глобальное плато в мировой торговле продолжится в 2017 году, то есть, прежде чем Дональд Трамп введет в действие какую-либо из протекционистских мер, которыми он угрожает."
Автор: Брод Марк @BBC
За 15 дней до наступления Нового года по китайскому лунному календарю по железным дорогам Китая было перевезено 130 млн пассажиров, что на 17,21 млн или 15,3 процента больше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Об этом сообщает Китайская железнодорожная корпорация.
Показатель в размере более 9 млн человек был зарегистрирован в течение семи дней. Максимальный показатель зафиксирован 21 января, в этот день железнодорожным транспортом страны воспользовались 9,254 млн пассажиров.
В течение этого предновогоднего периода в среднем железнодорожные ведомства Китая отправляли каждый день 7487 пассажирских поездов, что на 685 больше, чем в прошлом году.
С момента поступления в продажу железнодорожных билетов на период «чуньюнь» (40-дневный особый решим работы транспорта в связи с праздником Весны), через интернет было продано 327,2 млн билетов, показатель вырос на 38,1% по сравнению с прошлым годом.
Ирина Таранец
МиГ-35 и J-10C - конкуренты на внешних рынках.
Достаточно интересно будет сравнить экспортные перспективы модернизированного российского истребителя МиГ-35 с китайским J-10C, пишет сегодня китайский источник.
По оценке источника, российский самолет может выйти на мировой рынок после 2020 года. Однако на презентации самолет демонстрировался со старыми ракетами воздушного боя Р-73 и Р-77, причем локализация их производства в России идет не без труда - испорченные отношения с Украиной, производителем этих ракет, требуют серьезных расходов.
Представленный МиГ-35 пока не имеет радара с ФАР, как J-10C. Китайский истребитель уже оснащается новым поколением ракет воздушного боя, такими как PL-10 ближней (не уступает американской AIM-9X) и PL-15 средней дальности (по своим возможностям соответствует американской AIM-120D). Таким образом, по вооружению воздушного боя J-10C превосходит российского конкурента как на ближней, так и дальней дистанции. По номенклатуре авиационного высокоточного оружия класса "воздух-земля" Китай также превосходит Россию.
МиГ-35 создан на базе МиГ-29М2, который в свое время был создан для ВВС Малайзии, но потерпел поражение в конкуренции с Су-30МКМ, обладающего значительно большей дальностью полета. Затем МиГ-35 был предложен на индийской тендер, и здесь он проиграл французскому "Рафалю". Потенциальных клиентов не устраивает дальность и радиус полета этого самолета.
Однако китайский самолет для успешной борьбы с МиГ-35 на внешнем рынке имеет один, но весьма существенный недостаток - он до сих пор зависит от поставок российских двигателей АЛ-31ФН. Как ни прискорбно, до сего времени не удалось локализовать производство этого двигателя в Китае, что не дает всерьез рассчитывать на завоевание внешних рынков, пишет источник. Китайский аналог FWS-10 еще не достиг зрелости.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


























