Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
Главные отличия.
Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Морская авиация Военно-морского флота России отмечает 17 июля этого года 95-летний юбилей. Именно столько лет прошло с первой воздушной победы летчиков Балтфлота над немецкими самолетами во время первой мировой войны. С тех пор морские асы одержали немало побед, причем не только в воздухе, но и в космосе. Ведь первый в мире космонавт Юрий Гагарин был летчиком Северного флота...
О том, чем сегодня живет Морская авиация, каковы перспективы ее развития рассказал нашему специальному корреспонденту Сергею Сафронову командующий Морской авиацией ВМФ России Герой России генерал-майор Игорь Кожин.
- В чем специфика задач, которые сегодня ставятся перед летчиками Морской авиации?
- Если в двух словах и о самом главном, то сейчас мы наращиваем усилия по вскрытию обстановки в Северных арктических широтах. Эта задача поставлена Верховным главнокомандующим, и мы ее выполняем, увеличивая количество полетов в Арктику. Это и самолеты Ту-142 и Ил-38.
Вскрытие обстановки, ледовый покров, его состояние, присутствие в этом районе кораблей и судов иностранных государств - вот такие приоритеты в работе летчиков Морской авиации, в частности Северного флота.
Безусловно, это продиктовано намерением Россией установить границу континентального шельфа в арктических широтах.
- В чем специфика подготовки летчика морской авиации от летчика ВВС?
- Не углубляясь в специфику, скажу так: летчик ВВС летит над землей, а морской - над водой. Из этого обстоятельства вытекают ряд особенностей, про которые можно очень долго рассказывать.
Подготовка такого летчика обходится государству в кругленькую сумму. В год подготовка такого летчика обходится в 1,5-2 миллиона долларов. Соответственно на подготовку летчика с 20-летним стажем затрачивается до 40 миллионов долларов.
Поэтому сейчас для нас является, наверное, главной задачей сохранение таких драгоценных кадров, преемственность в обучении молодых летчиков. Ведь таких специалистов можно и нужно оставлять в войсках и после 45-50 лет в качестве гражданских инструкторов.
- Игорь Сергеевич, каковы ближайшие планы летчиков-палубников Северного флота?
- Летчики палубной авиации Северного флота проведут в августе-сентябре этого года в Баренцевом море учения по выполнению элементов взлет-посадки на палубу авианосца "Адмирал Кузнецов". В учениях будут задействованы до 20 летчиков.
Напомню, что сейчас в боевом составе ВМФ России, а именно на Северном флоте, находится единственный авианосец "Адмирал Кузнецов", на палубу которого совершают посадки и взлетают летчики единственного на флоте подразделения - 279-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка имени дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова.
На самолетах Су-33 и Су-25 летчики совершат около 100 взлет-посадок на палубу авианосца.
- Каково состояние самого корабля, учитывая, что это единственный корабль подобного класса и замены ему в ближайшее время не предвидится?
- Корабль сейчас готовится к выходу в море, проверяются все узлы и агрегаты. Могу также успокоить всех взволнованных по этому поводу: корабль на ходу, и в ближайшие годы мы не планируем его ставить в док на капремонт.
- Недавно министр обороны России сообщил о намерении арендовать у Украины авиатренажер НИТКА. А когда будет готова российская НИТКА?
- Российский авиационный тренажер НИТКА для обучения летчиков-палубников начнет функционировать в Ейске (Краснодарский край) в 2013 году. К осени этого года мы завершим в Ейске строительство взлетно-посадочной полосы для всех типов самолетов и приступим к возведению посадочного блока, то есть самого имитатора палубы авианосца.
Сразу после ввода его в эксплуатацию в Ейск перелетит часть летчиков Северного флота, в частности молодые летчики, для прохождения первоначального этапа подготовки для освоения практики приземления на палубу корабля. Сам тренажер будет функционировать круглогодично.
Мы планируем закончить строительство всего авиакомплекса для Морской авиации, то есть летчиков противолодочной, истребительной, палубной, транспортной авиации в 2015 году.
- Каковы перспективы поступления новой техники в Морскую авиацию? Когда будет ли создан морской истребитель пятого поколения?
- Морская авиация ожидает поступление первой партии новых палубных истребителей МиГ-29К или КУБ в 2012 году. Первые четыре машины могут у нас появиться в 2012 году, но для этого необходимо, чтобы до середины августа департамент вооружения заключил контракт с промышленностью на строительство и закупку этих самолетов.
Если это не произойдет, то в лучшем случае новые самолеты смогут встать в боевой строй Морской авиации только в 2013 году. Сроки контрактации и циклы производства самолетов таковы, что делать все надо заранее.
Не будем забывать, что российская промышленность выполняет сейчас крупный контракт на поставку МиГ-29К в Индию для базирования на авианосце "Викрамадитья", бывший наш "Адмирал Горшков".
Всего Морская авиация планирует закупить более 20 самолетов типа МиГ-29К (КУБ). Таким образом, в будущем морская авиация ВМФ России будет использовать самолеты Су-33, Су-25 и МиГ-29К

На стыке полей притяжения
Азербайджан между Турцией и Россией
Резюме: Партнерство России и Турции не означает раздел между ними Южного Кавказа. В условиях глобализации такие планы, даже если они приходят кому-то в голову, обречены на провал. «Закрыть» регион от мира не в силах ни Россия, ни Турция и даже обе они вместе взятые. Но они вполне в состоянии предотвратить превращение Кавказа в ристалище геополитических игр.
На протяжении многих столетий геополитику Южного Кавказа определяло соперничество между Турцией, Ираном и Россией. В XIX–XX веках свое присутствие здесь обозначили и иные акторы. Сначала Великобритания, обладавшая в эпоху расцвета империи глобальным влиянием. А после распада Советского Союза – США и Европейский союз. Влияние Ирана, принимая во внимание его международную изоляцию и специфичность политико-идеологического режима, в настоящее время ослаблено. Поэтому при анализе региональных векторов стратегического притяжения и отталкивания на Южном Кавказе прежде всего следует рассматривать Турцию и Россию. По причинам национального, исторического, геополитического и культурного свойства наибольшее воздействие этих полей напряжения ощущает Азербайджан.
Становление Баку как партнера
Последние два столетия Азербайджан входил в состав Российской империи и Советского Союза, испытав их огромное культурное и цивилизационное влияние. И царская администрация, и советские чиновники всячески ограничивали контакты Азербайджана с близкородственной Турцией. Коренным образом ситуация изменилась после восстановления государственной независимости в начале 1990-x годов. Анкара первой из зарубежных стран объявила о признании этого акта, открыла дипломатическое представительство в Баку и начала активно развивать отношения с Азербайджаном по всем направлениям.
Процесс этот, начавшийся еще при первой постсоветской администрации президента Аяза Муталибова, приобрел всеобъемлющий характер в недолгий период правления Народного фронта Азербайджана (НФА) и президентства Абульфаза Эльчибея. В условиях провозглашенного курса на тюркизацию Азербайджана Турция была объявлена единственным союзником и эталонным образцом государственного строительства. Во всех учреждениях и структурах появились турецкие советники. Все связанное с бывшим СССР и Россией рассматривалось как наследие колониального прошлого, подлежавшее слому и устранению. Президент Эльчибей публично назвал себя «солдатом Ататюрка» и демонстративно дистанцировался от всего русского. Азербайджан первым из новых независимых государств добился вывода со своей территории частей бывшей советской, а ныне российской армии, авиации и флота. Торгово-экономические отношения резко пошли на спад. Баку не ратифицировал договор о Содружестве Независимых Государств и заморозил свое участие в нем. Непродолжительное правление Эльчибея и НФА на рубеже 1992–1993 гг. стало периодом безраздельного преобладания Анкары и стремительного ослабления влияния Москвы.
Запад в лице Соединенных Штатов и Евросоюза был тогда озабочен тем, чтобы без осложнений завершить вывод советских вооруженных сил из стран бывшего Варшавского договора, и не торопился вторгаться в сферу исключительного влияния России – постсоветское пространство, включавшее и Азербайджан. Что же касается Ирана, то правительство НФА и президент Эльчибей не скрывали негативного отношения к исламистскому режиму в Тегеране как угнетателю более чем 20 млн южных азербайджанцев.
В результате острого политического кризиса летом 1993 г. правительство НФА пало, Абульфаз Эльчибей покинул пост и к власти был призван многоопытный и авторитетный политик Гейдар Алиев. Он отказался от односторонней ориентации на Анкару и заложил основы современной многовекторной внешней политики Азербайджана. Страна вернулась в СНГ, и даже на время (до 1999 г.) стала членом созданной под эгидой Москвы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Был подписан «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой». После длительных переговоров удалось урегулировать условия использования Москвой Габалинской РЛС, являющейся важным компонентом стратегической системы слежения и раннего оповещения.
Однако известная еще со времени работы в Политбюро ЦК КПСС неприязнь к Гейдару Алиеву президента России Бориса Ельцина препятствовала укреплению доверия между ними, а это отрицательно сказывалось и на российско-азербайджанских отношениях. Тем более что в армяно-азербайджанском конфликте вокруг Нагорного Карабаха Москва негласно взяла сторону Еревана, оказывая армянам экономическую и военную поддержку. В результате Азербайджан так и не вернулся в сферу влияния России, а стал шаг за шагом сближаться с Евросоюзом и США. Президенту Алиеву также удалось несколько оживить диалог с Ираном.
Доверительные и тесные личные контакты Гейдара Алиева с турецким коллегой Сулейманом Демирелем способствовали тому, что партнерство Баку с Анкарой сохранило приоритетный характер. Формула азербайджано-турецких отношений нашла свое выражение в высказывании президента Алиева: «Одна нация – два государства». При этом Баку настойчиво проводил линию на равноправие без деления на «старшего и младшего брата». От услуг турецких советников вскоре отказались, в том числе и в армии. В крупном консорциуме на Каспийском шельфе Азербайджана «Азери – Чираг – Гюнешли» (нефть) и «Шахдениз» (газ) Турция, как и Россия, получила скромную 10-процентную долю, а основным акционером и оператором проектов стала англо-американская ВР.
Завершение президентской каденции Сулеймана Демиреля и его преемника Ахмета Недждета Сезера, установление в Турции долговременного правления умеренных исламистов из Партии справедливости и развития (ПСР), возглавляемой президентом Абдуллой Гюлем и премьер-министром Реджепом Тайипом Эрдоганом, наложило отпечаток на турецко-азербайджанские отношения. На уровне первых руководителей в них стало меньше доверительности, личной теплоты и больше прагматизма. Турецкие государственники-националисты в высших эшелонах власти и в армии, безусловно, больше подходили в качестве партнеров для светски ориентированного азербайджанского руководства, чем пусть умеренные, но исламисты из ПСР.
Обратная эволюция произошла в отношениях с высшим руководством России. Бориса Ельцина сменил выходец из советских спецслужб Владимир Путин, не скрывавший пиетета к президенту Гейдару Алиеву, в прошлом генералу КГБ и члену Политбюро ЦК КПСС. Хорошие личные контакты установились впоследствии и между новыми президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Дмитрием Медведевым. Оба примерно одного возраста, хорошо образованны, современны и нацелены на модернизацию своих стран с опорой на жесткую властную вертикаль.
Личностный фактор во взаимоотношениях Баку, Москвы и Анкары хотя и играл важную роль, но еще более значимым обстоятельством стало изменение положения самого Азербайджана. С начала 2000-х гг. страна стала получать большие нефтяные доходы, что позволило достичь фантастических темпов роста экономики, резкого повышения жизненного уровня населения. Азербайджан, нуждавшийся во внешней финансовой и технической помощи, в политической и дипломатической поддержке, в рекомендациях и советах, трансформировался в стабильное, уверенное в себе, быстроразвивающееся государство. Такое повышение экономического и геополитического веса отразилось на отношениях со всеми внешнеполитическими партнерами, включая Турцию и Россию.
Баку и Анкара: диалектика отношений
Стратегическое партнерство с Анкарой сохранилось. А после того, как в августе 2008 г. Турция дистанцировалась от грузино-российской войны, Баку даже посчитал, что негласных военно-политических гарантий Анкары недостаточно, и настоял в 2010 г. на заключении «Договора о стратегическом партнерстве и взаимопомощи между Азербайджаном и Турцией». Статья 2 документа гласит, что в случае вооруженной атаки или агрессии третьего государства или группы государств каждая из сторон окажет другой помощь с использованием всех возможностей. Статья 3 предусматривает тесное сотрудничество в оборонной и военно-технической политике. Также предусмотрены совместные действия по устранению угроз и вызовов национальной безопасности. В соответствии с совместным заявлением, принятым президентами и ратифицированным парламентами, создан Совет стратегического сотрудничества высокого уровня между Азербайджаном и Турцией.
Торгово-экономические, транспортно-коммуникационные отношения Баку и Анкары развиваются по восходящей линии. Вопреки скептическим прогнозам, успешно реализованы проекты стратегического нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан (мощность 50 млн. тонн в год с перспективой расширения); газопровода Баку – Эрзерум. Идут работы по соединению железнодорожных путей посредством нового строительства, а также реконструкции линии Баку – Тбилиси – Карс. В стадии разработки проекты газопроводов ITGI (Interconnector Turkey – Greece – Italy), TAP (Трансадриатический газопровод) и Nabucco.
Турция делит первое-второе места с Россией в импорте Азербайджана, является первым зарубежным инвестором в ненефтяной сектор его экономики. Многие тысячи бизнесменов из Турции открыли здесь свои малые и средние предприятия. В свою очередь, Азербайджан, используя солидные финансовые ресурсы, все чаще выступает в качестве крупного инвестора на территории Турции посредством Государственной нефтяной кампании (SOCAR). Достаточно и частных азербайджанских инвестиций.
Единственный зарубежный телеканал, который транслируется в Азербайджане на национальном метровом диапазоне – это турецкий государственный ТРТ-1. По плотности сети и охвату обучающихся турецкие учебные заведения (вузы, лицеи, детские сады) занимают в Азербайджане второе место после аналогичных заведений с русским языком обучения, но в отличие от них демонстрируют устойчивую тенденцию к росту. Тысячи студентов поступают в университеты Турции – по правительственной программе и самостоятельно.
Азербайджан и Турция тесно взаимодействуют в политической и военной сферах. Анкара безоговорочно выступает на стороне Азербайджана в споре с Арменией по поводу Нагорного Карабаха, а Баку неизменно поддерживает Турцию в вопросе так называемого армянского геноцида. Стороны координируют усилия на уровне правительственных учреждений, общественных институтов, а также зарубежных диаспор. На регулярной основе встречаются главы государств, правительств, парламентов, министры и военные. Азербайджанские офицеры обучаются в турецких академиях. Налаживается тесная кооперация в производстве вооружений. Анкара и Баку – наиболее активные проводники политики сближения и интеграции тюркских государств и народов. Азербайджанский представитель долгое время возглавлял организацию культурного сотрудничества ТЮРКСОЙ. В Баку расположена резиденция Парламентской ассамблеи тюркских государств.
Однако тесное стратегическое партнерство Азербайджана и Турции не исключает и определенного расхождения интересов. Так, Баку вежливо, но решительно отклонил намерения Анкары стать эксклюзивным продавцом азербайджанского газа на рынках третьих стран. Упорный торг идет о цене поставляемого Турции газа (около 6 млрд. куб. м в рамках первой фазы проекта «Шахдениз» и столько же по второй фазе) и его транзит в третьи страны. Хотя после встречи министра энергетики и природных ресурсов Турции Танера Йылдыза с министром промышленности и энергетики Азербайджана Натиком Алиевым в конце апреля 2011 г. объявлено о достижении окончательной договоренности, подписание документов откладывается.
Турция (кстати, как и Иран) в одностороннем порядке отменила визовый режим для граждан Азербайджана. Однако Баку не спешит отвечать соседям взаимностью. Газеты Стамбула и Анкары утверждают, что именно в связи с разногласиями по этому вопросу, а также из-за того, что не до конца подготовлен текст соглашений по газу, откладывается очередной визит турецкого премьера Эрдогана в Баку.
Есть расхождения и по ряду международных вопросов. Так, Баку не признал независимость Косово и солидаризировался с Сербией, тогда как Анкара безоговорочно и одной из первых встала на сторону албанцев-косоваров. Баку поддержал Соединенные Штаты в Ираке, выделил небольшой военный контингент в состав коалиции, Турция же демонстративно отказала Вашингтону даже в пропуске войск через свою территорию.
Ввиду нерешенности проблемы Нагорного Карабаха Баку так и не пошел на признание Республики Северный Кипр. Обращает на себя внимание, как по мере ухудшения отношений Турции с Израилем, Азербайджан и Казахстан становятся привилегированными союзниками Тель-Авива среди мусульманских стран. Наконец, Азербайджан в отличие от той же Грузии не форсирует вопрос интеграции в НАТО, важным членом которой является Турция.
Настоящим испытанием на прочность азербайджано-турецкого партнерства стало подписание в 2010 г. Цюрихских протоколов, предполагающих нормализацию отношений Турции и Армении. США, выступившие в роли вдохновителя и спонсора этих документов, так и не убедили азербайджанское руководство, что процесс нормализации армяно-турецких отношений и карабахское урегулирование могут протекать раздельно. Баку настоял на своем. Анкара заявила, что границы с Арменией откроются лишь после того, как армянские силы приступят к освобождению оккупированных азербайджанских территорий.
Общественное мнение Турции также заняло сторону Азербайджана. Недавний опрос, проведенный турецким фондом экономических и социальных исследований (TESEV) в 81 регионе страны, показал, что и сегодня за открытие границы с Арменией 39%, а против – 44% респондентов. Как выяснилось, официальная Анкара располагает более скромными возможностями для воздействия на политические силы и общественное мнение в Азербайджане, чем Баку в Турции.
У правящей ПСР нет авторитетных партий-партнеров в Азербайджане. В целом все последние годы Турция осмотрительно дистанцировалась от внутриполитической жизни братской страны. Оценки официальных турецких наблюдателей на выборах в Азербайджане, как правило, ближе к лояльным для местных властей выводам представителей стран СНГ, чем к критической позиции наблюдателей из США и ЕС.
Приведенные выше расхождения интересов Турции и Азербайджана, некоторые трудности во взаимоотношениях руководителей не могут поколебать стратегическое партнерство этих государств, фундамент которого составляет этническая и религиозная близость, чувство единения, связывающее народы. По данным социологического опроса, проведенного в текущем году Фондом политических, экономических и социальных исследований (SETA), с явной симпатией жители Турции относятся не к союзникам по НАТО, а к азербайджанцам, которым доверяют 82% опрошенных. Аналогичное отношение наблюдается и в Азербайджане. Согласно данным мониторинга общественного мнения, который на протяжении многих лет регулярно проводился под руководством автора статьи социологической службой Puls-R, от 80 до 90% респондентов называют Турцию самой дружественной Азербайджану страной.
Баку и Москва: извилистое сближение
Согласно данным того же мониторинга, Россия постоянно занимает второе место в списке наиболее дружественных Азербайджану стран. Но показатели существенно скромней, чем у Турции, они колеблются по годам в интервале от 17 до 25%. Одновременно 10–15% респондентов числят Российскую Федерацию среди недружественных Азербайджану государств. Разброс симпатий и антипатий – продукт истории и отношений, сложившихся после восстановления независимости.
Нахождение на протяжении почти двух веков в составе единого государства связало Азербайджан с Россией тысячами уз. При распаде СССР многие из них разрушились, особенно в сфере промышленной кооперации, но и сегодня стороны являются друг для друга важными внешнеэкономическими партнерами. Двусторонний товарооборот составил в 2010 г. 1,8 млрд долларов (спад из-за кризиса по сравнению с рекордными 2,4 млрд долларов в 2009 г.). Импорт из России составил 1,56 млрд долларов (первое место среди внешнеторговых партнеров Азербайджана), а экспорт из Азербайджана в Россию – 385,6 млн (увеличение на 23,8%). Поставки газа из Азербайджана в Россию, которые в текущем году превысят 1 млрд куб. м, позволят несколько выровнять торговый дисбаланс. В 2011 г. объем товарооборота должен достигнуть 2,7 млрд долларов.
В Азербайджане остается самая крупная русская община на Южном Кавказе, которая насчитывает порядка 160–170 тысяч человек. В свою очередь, число азербайджанцев, проживающих в России на временной и постоянной основе, достигло одного миллиона, а по неофициальным оценкам – двух миллионов человек. Среди них есть крупные предприниматели, обладающие многомиллионным состоянием.
В Азербайджане сохранен самый крупный на Южном Кавказе ареал русского языка и культуры. Более 200 средних школ, большинство вузов имеют русские отделения или полностью ведут обучение на русском языке. В российских вузах обучается около 6 тысяч граждан Азербайджана, из которых 800–900 человек – по государственным программам, а остальные самостоятельно. В Азербайджане издаются десятки газет и журналов на русском языке, функционирует Русский драматический театр, Русский культурный центр и т.д.
В отличие от экономических и культурных связей, в политической и военной сферах между Баку и Москвой имеются проблемы и существенные расхождения интересов. Отчасти они были порождены тем, что в силу имперского и советского прошлого Россия относилась к суверенитету Азербайджана, как и других стран СНГ, как к чему-то неполноценному. Новые независимые государства, естественно, стремились развивать экономические и военно-политические отношения с мировыми и региональными державами, что воспринималось Москвой как проявление неблагодарности и нелояльности. В Баку и других столицах новых независимых государств такая реакция Москвы выглядела как проявление высокомерия, диктата и вызывала отторжение.
Дополнительным раздражителем явилось то обстоятельство, что в конфликте вокруг Нагорного Карабаха Москва поддержала Ереван, оказав ему не только политическую, экономическую, но и военную мощь. Впоследствии Россия несколько выправила дисбаланс, взяв на себя посредническую миссию по прекращению военных действий и мирному урегулированию конфликта. Однако союзнические отношения между Москвой и Ереваном, наличие российской военной базы на территории Армении продолжали вызывать подозрения в Азербайджане, недоверие по поводу истинных намерений Москвы и беспристрастности ее посредничества.
Первоначально между Азербайджаном и Россией имелись существенные расхождения относительно Каспия. Москва категорически возражала против намерения Баку приступить при содействии западных кампаний к разработке морских месторождений и прокладке трубопроводов, позволяющих транспортировать энергоресурсы, минуя ее территорию. Однако и в этом вопросе удалось найти компромиссы. Российскому концерну «ЛУКОЙЛ» была выделена 10-процентная доля в крупномасштабных проектах «Азери – Чираг – Гюнешли» и «Шахдениз». В настоящее время Россия, Казахстан и Азербайджан договорились о размежевании национальных секторов на основе так называемой модифицированной средней линии и заняли консолидированную позицию по вопросу статуса Каспия.
Позитивные перемены произошли и в процессе карабахского урегулирования. Из-за разрыва отношений между Грузией и Россией российская военная база в Гюмри оказалась отрезана от коммуникаций. Для сохранения позиций на Южном Кавказе и открытия коридора с Арменией Москве нужно сдвинуть процесс урегулирования с мертвой точки и тем самым укрепить свои геополитические позиции. После подписания Майендорфской декларации Россия взяла на себя функции главного модератора переговорного процесса с участием лидеров Армении и Азербайджана по карабахскому урегулированию. За последние три года при непосредственном участии Дмитрия Медведева состоялись восемь встреч в трехстороннем формате. Москва декларирует готовность предпринять решительные усилия с тем, чтобы добиться одобрения конфликтующими сторонами так называемых Мадридских принципов и принять решение о начале работы над рамочным мирным соглашением.
Однако главная задача, которую решают все державы – сопредседатели Минской группы ОБСЕ и в первую очередь российское руководство, заключается в предотвращении новой войны между Азербайджаном и Арменией. Ведь при нынешних уровнях вооружения сторон она не только может стать разрушительной и кровопролитной, но и грозит вылиться в широкомасштабный региональный конфликт с рисками вовлечь в противостояние Россию и Турцию, чего, как очевидно, совершенно не желают как в Анкаре, так и в Москве.
Москва и Анкара: многообещающие перспективы
Гигантские геополитические сдвиги, произошедшие в результате распада СССР и роспуска Варшавского пакта, существенно изменили атмосферу между Анкарой и Москвой, а также отношение обеих столиц к восстановившим государственную независимость республикам Южного Кавказа. Блокового противостояния, в котором Турции отводилась роль прифронтового государства, нет уже два десятилетия. Между высшим руководством обеих держав идет интенсивный доверительный диалог, стремительно растет объем торгово-экономических отношений, гуманитарных контактов.
Россия стала главным торговым партнером Турции, а Турция – пятым по значению торговым партнером России. Турция закупает в России до четверти всей потребляемой нефти и более половины природного газа. Растут взаимные инвестиции. Миллионы российских туристов ежегодно заполняют морские курорты Антальи, Бодрума. Все это дало основание Дмитрию Медведеву заявить, что «Россия и Турция – стратегические партнеры». В свою очередь, Реджеп Тайип Эрдоган наделил «российско-турецкий диалог способностью положительно отразиться на мире и безопасности в регионе».
Обе державы, оказавшиеся в некотором смысле на периферии постиндустриального развития, в равной мере ощущают эгоизм самодовольного Запада. Они сталкиваются со схожими во многом проблемами, которые связаны с догоняющим характером модернизации и развития экономики, двойственным евразийским положением, то есть одновременной принадлежностью к разным культурным и геополитическим матрицам. И перед Турцией, и перед Россией стоит задача укрепления демократических институтов и нейтрализации этнического сепаратизма.
Москва и Анкара недовольны тем, что Соединенные Штаты и ведущие западные страны рассматривают их в качестве инструмента своей глобальной политики и не очень склонны считаться с их национальными интересами и устремлениями. Восстановление Россией и Турцией своей былой роли в качестве великих государств не входит в планы либерального Запада. Кампания признания так называемого армянского геноцида, косвенная поддержка курдского сепаратизма и намеренное задерживание Турции у порога Евросоюза вполне укладываются в эту схему. Да и Россию в Брюсселе не особо жалуют.
Для полновесного стратегического партнерства России и Турции чрезвычайно важно найти развязку существующих региональных проблем, которые, если оставить их без внимания, могут обостриться и не только подвергнуть риску мир и безопасность в регионе, но и вовлечь Москву и Анкару в опасное противостояние. Это самый негодный сценарий развития российско-турецких отношений, так как в соперничестве, к которому Москву и Анкару подспудно подталкивают ЕС и США, их силы будут не умножаться, а подвергнутся эрозии.
В Турции есть понимание этого. Накануне запланированных на 12 июня 2011 г. парламентских выборов премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган, возглавляющий правящую Партию справедливости и развития, обнародовал предвыборную программу. Примечательно, что в ней есть раздел, озаглавленный «Турция – Россия и Кавказ», то есть Анкара рассматривает отношения со странами и народами Кавказа (как Северного, так и Южного) в увязке с Россией. Отмечается, что развитие турецко-российских отношений привело к формированию основы для нового сотрудничества на Кавказе, в Центральной Азии и других регионах.
За крепнущим российско-турецким стратегическим партнерством без особого энтузиазма наблюдают из Тбилиси и с нескрываемым беспокойством, даже неприязнью – из Еревана. Ведь вся внешняя, а отчасти и экономическая политика этих стран построена на использовании противоречий и соперничества Запада и России, Турции и России. Они научились ловко извлекать дивиденды. Как только противоречия ослабевают, снижается значение «форпостов» и «маяков демократии». Иное отношение к углубляющемуся турецко-российскому сотрудничеству у Баку. В отличие от соседей по Южному Кавказу Азербайджан ничего не выигрывал от российско-турецкого соперничества, а, напротив, терял. Являясь в силу этнического, исторического, культурного и религиозного факторов естественным союзником Анкары, Баку в этой связи сталкивался с подозрительным, а иногда и репрессивным отношением Москвы. Российско-турецкое потепление избавляет Баку от трудного выбора между двумя необходимыми партнерами, может создать условия для продвижения в урегулировании застарелых конфликтов, и в первую очередь карабахского.
Азербайджану в качестве страны, располагающей значительными природными и финансовыми ресурсами и имеющей выгодное географическое положение, есть что предложить Турции и России. Для реализации собственных масштабных проектов Баку нуждается в мире, сотрудничестве и нормальной конкуренции, основанной на диверсификации, экономической привлекательности и эффективности. Прокладка стратегических нефте- и газопроводов через Грузию и Турцию избавила Азербайджан от односторонней зависимости от России. Но теперь использование построенной еще в советское время трубопроводной системы, связывающей Азербайджан с Россией и Ираном, позволяет диверсифицировать направления поставок энергоносителей к взаимной выгоде всех сторон. Значительные финансовые ресурсы от экспорта, знание и умение ориентироваться на турецком и российском рынке дает азербайджанскому бизнесу большие преимущества при организации и реализации масштабных трехсторонних проектов в сфере транспортировки и переработки углеводородного сырья, нефтехимии, а также в туристическом бизнесе, в области транспорта и связи.
Партнерство России и Турции не означает раздела Южного Кавказа на сферы влияния. В условиях глобализации такие планы, даже если они приходят в чьи-то головы, обречены на провал. «Закрыть» регион от мира не в силах ни Россия, ни Турция. Но вместе они способны предотвратить превращение Южного Кавказа в геополитическое ристалище нерегиональных сил.
Расим Мусабеков – доктор философских наук, депутат парламента Азербайджанской Республики.

Здравый смысл и разоружение
О материи и философии ядерного оружия
Алексей Арбатов – академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Российской Академии наук, в прошлом участник переговоров по Договору СНВ-1 (1990 г.), заместитель председателя Комитета по обороне Государственной думы (1994–2003 гг.).
Резюме Нельзя категорически ни доказать, ни опровергнуть тезис о том, что ядерное оружие спасло мир. Достоверно лишь то, что оно создавалось, было применено в 1945 году, а затем накапливалось не для сдерживания, а для тотального сокрушения противника в случае войны.
Статья известного российского политолога и общественного деятеля Сергея Караганова «“Глобальный ноль” и здравый смысл. О ядерном оружии в современном мире» («Россия в глобальной политике», № 3 за 2010 г.) не многих оставит равнодушными. Это и неудивительно: автор затронул одну из фундаментальных проблем новейшей истории и современности, причем копнул глубоко, свои мысли изложил ярко и зачастую парадоксально.
С некоторыми суждениями Караганова нельзя не согласиться. Остановимся, однако, на спорных моментах.
Исторические хроники
Упомянутая в статье нашумевшая публикация в газете The Wall Street Journal (2007 г.) с призывом к конечному ядерному разоружению четырех авторитетных американских деятелей (Генри Киссинджера, Сэма Нанна, Уильяма Перри и Джорджа Шульца) и движение «Глобальный ноль» – это разные вещи.
Доктор Караганов покаялся, что «по просьбе многих уважаемых друзей» подписал декларацию «Глобального нуля», как и многие российские деятели, а потом «пожалел об этом». Но многие в России и Соединенных Штатах ее не подписали, включая, кстати, и автора этих строк. Причина как раз в серьезном отношении к необходимости и возможности ядерного разоружения. Нельзя подменять сложнейший и долгий процесс «кампанейщиной» в самом советском смысле слова и назначать произвольные даты достижения безъядерного мира. Именно поэтому солидные организации, вроде «Инициативы по сокращению ядерной угрозы» (Сэм Нанн и Тед Тернер), Международной комиссии по ядерному нераспространению и разоружению (Гаррет Эванс и Йорико Кавагучи), Люксембургский форум (Вячеслав Кантор) и другие не поддержали «Глобальный ноль».
Теперь по существу дела. Караганов пишет: «Самый большой рывок в распространении был совершен тогда, когда Советский Союз (Россия) и США сокращали свои вооружения наиболее быстрыми темпами, – в 1970-х – 1990-х гг.». Такое утверждение просто не соответствует действительности. По опубликованным официальным данным, общий ядерный арсенал Соединенных Штатов достиг пика в 1967–1969 гг. (31,3 тыс. боезарядов). До 1990 г. он изменялся волнообразно в диапазоне 23–27 тыс. боезарядов. А затем резко пошел вниз, сократившись до нынешних 5,1 тысяч. Динамика советского (и российского) ядерного арсенала до сих пор засекречена, но неофициальные оценки экспертов предполагают пик в 1984–1985 гг. (от 36 до 45 тыс. единиц).
Далее, никакого реального разоружения по ОСВ-1 (1972 г.), Владивостокской договоренности (1976 г.) или ОСВ-2 (1979 г.) не происходило, если не считать запрещения ядерных испытаний в трех средах (1963 г.). Наоборот, шло быстрое наращивание ядерных арсеналов. Сокращение ядерных вооружений началось только с договоров по РСМД (1987 г.) и СНВ-1 (1991 г.).
Вопреки расхожему представлению, расширение «ядерного клуба» шло самыми быстрыми темпами не после холодной войны, а как раз во время нее, если подходить к делу не формально по статье IX Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая по умолчанию узаконила «ядерную пятерку», а рассматривать вопрос под военно-техническим углом зрения. После создания ядерного оружия (ЯО) в США в течение сорока лет их примеру последовали 7 стран (СССР в 1945 г., Великобритания в 1952 г., Франция в 1960 г., КНР в 1964 г., Израиль в начале 1970-х годов, Индия в 1974 г. под видом «мирного взрыва», ЮАР в 1982 г.). А после холодной войны ЯО обрели только две страны (Пакистан в 1998 г. и КНДР в 2006 г.).
Соотношение наращивания, сокращения и распространения ЯО по времени выглядит совсем не так, как утверждает Сергей Караганов. А потому можно поставить под сомнение и базирующиеся на этой версии выводы.
Ядерное оружие и политика
Автор рассматриваемой статьи отстаивает несколько ключевых военно-политических постулатов:
Ядерное оружие спасло человечество от третьей мировой войны и явилось «цивилизатором» элит ведущих стран, побудив их видеть «главную задачу в предотвращении ядерной войны».
Распространение ЯО не зависит от действий крупных держав в области ядерного разоружения, а подстегивается стремлением претендентов «укрепить свою безопасность или обеспечить выживаемость режима, а также повысить международный престиж».
По новому Договору СНВ Россия и Соединенные Штаты ликвидируют «излишки» стратегических вооружений, но сокращение ЯО до минимальных уровней будет дестабилизирующим, усугубит отставание РФ по силам общего назначения (СОН), подорвет ее радикальную текущую военную реформу, повысит «полезность систем ПРО» и подстегнет малые ядерные страны к наращиванию их потенциалов.
Распространение ядерного оружия не остановить, придется «жить в мире со многими ядерными государствами» и координировать политику двух великих держав по сдерживанию «новых ядерных игроков».
Более того, в условиях геополитической уязвимости России, медленной экономической модернизации, коррупции, нехватки «мягкой силы» – «отказ от опоры на мощный ядерный потенциал… равносилен национальному самоубийству».
Прежде всего следует отметить, что Сергей Караганов отнюдь не одинок в своих суждениях. Доводы о спасительной роли ядерного сдерживания и автономности процесса ядерного распространения широко обсуждаются, начиная с 1970-х гг. на Западе и с конца 1980-х в России. Ныне идея неразменной ценности российского ядерного потенциала разделяется большинством политического и экспертного сообщества страны: от серьезных, в том числе либеральных, специалистов, представителей армии и ядерного комплекса – и до реакционных графоманов, почитающих Сталина, Берию и Гитлера.
Сдерживание как гарант мира
Поскольку история, в данном случае к счастью, не имеет сослагательного наклонения, нельзя категорически ни доказать, ни опровергнуть тезис о том, что ядерное оружие спасло мир. Достоверно лишь то, что оно создавалось, было применено в 1945 г., а затем накапливалось не для сдерживания, а для тотального сокрушения противника в случае войны (доктрина массированного возмездия). К такой войне готовились совершенно серьезно (перечни целей ядерных ударов, оперативные планы, широкое строительство бомбоубежищ в СССР, США и Западной Европе). Идея о роли ЯО как средства политического сдерживания вошла составным элементом в стратегию Соединенных Штатов и НАТО лишь в 1960-е гг. и была косвенно признана в военной доктрине Советского Союза только в 1970-е.
Как минимум четырежды великие державы невольно подходили к грани ядерной войны (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г. и Ближневосточный кризис 1973 г.), пережили десятки ложных тревог систем предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Во время Карибского кризиса, как стало известно из недавно раскрытых документов и новых исследований, эту черту почти переступили. Если бы Хрущёв промедлил с уступками еще пару дней, США нанесли бы запланированный на начало ноября (неядерный) авиаудар по позициям ракет на Кубе, стремясь упредить их снаряжение ядерными головными частями. А советские ракетчики могли быстро смонтировать завезенные боеголовки на носители и технически осуществить запуск в случае нападения США. Ударная авиация передового базирования Соединенных Штатов за океаном была загружена ядерными бомбами, причем после взлета пилоты имели санкцию на их применение. Советские подводные лодки несли на борту атомные торпеды и также получили санкцию на их применение в случае нападения американского флота, а тот осуществлял блокаду Кубы и намеревался топить подводные лодки в случае их отказа от всплытия. Стратегическое авиационное командование США перевело бомбардировщики на воздушное патрулирование для нанесения массированного удара по СССР в ответ хотя бы на один ядерный взрыв над американским городом.
Судя по всему, в те дни человечество было спасено не только и не столько благодаря осторожности Кремля и Белого дома, сколько по счастливому случаю. Конечно, сдерживание играло роль: обе стороны были в ужасе от перспективы ядерной войны. Но они плохо контролировали ход событий, а самое главное – кризис-то разразился как раз в контексте ядерного сдерживания. Ведь путем тайного размещения ракет на Кубе Москва хотела остановить растущее отставание от Соединенных Штатов в ходе их форсированного наращивания ракетных сил в 1961–1962 гг. Поэтому о «цивилизующей» роли ЯО можно говорить лишь абстрактно. Даже если сдерживание работало в прошлом, нет никаких гарантий, что оно будет эффективным и впредь. Во всяком случае, такая роль неразрывно связана с переговорами об ограничении и сокращении ядерных вооружений.
Этот процесс – как двухколесный велосипед: остановка означает падение, то есть развал всей системы ограничения вооружений, нераспространения и безопасности. Пражский Договор СНВ – это возможность нагнать упущенные годы. Но для восстановления системы нераспространения (как показала обзорная конференция по ДНЯО в мае 2010 г.) нужно двигаться дальше в сокращении ЯО, как бы ни хотелось некоторым поставить на СНВ точку.
Мотивы распространения
Несомненно, что стимулы к обретению ЯО гораздо более многообразны и противоречивы, нежели просто подражание примеру великих держав. С достаточной степенью уверенности можно полагать, что после 1970 г. за период существования ДНЯО, скажем, Израиль и ЮАР сделали свой ядерный выбор вне всякой связи с концепцией, заложенной в статью VI (обязательство о ядерном разоружении). В случае с Индией эта взаимосвязь более ощутима, решение о создании ЯО, помимо статусных и внутриполитических стимулов, было вызвано растущей ракетно-ядерной мощью Китая. А Пакистан последовал этому примеру, чтобы противостоять Индии.
Что касается ядерных программ Северной Кореи и Ирана, на первый взгляд, ядерное разоружение США, РФ и других великих держав сообразно статье VI ДНЯО едва ли оказало бы серьезное влияние. Но взаимосвязь все же имела место и сохраняется, не прямолинейная, а гораздо более сложная и тонкая.
Во-первых, речь идет об общей атмосфере восприятия международной безопасности, в которой те или иные государства определяют свое отношение к ядерному оружию. Едва ли можно считать случайным совпадением, что с 1987 по 1998 гг. интенсивные переговоры по ядерному разоружению и реальные сокращения ЯО (Договоры по РСМД, СНВ-1, СНВ-2, рамочный Договор СНВ-3, Соглашения о разграничении систем ПРО, ДВЗЯИ, односторонние сокращения тактических ядерных вооружений США и СССР/РФ) происходили одновременно с вступлением в ДНЯО порядка 40 новых стран, в том числе двух ядерных держав: Франции и КНР. В 1995 г. Договор получил бессрочное продление, в 1997 г. был принят Дополнительный протокол к гарантиям МАГАТЭ. Четыре государства отказались от военных ядерных программ и от ядерного оружия или были лишены их применением силы извне (Бразилия, Аргентина, ЮАР, Ирак). Три государства, имевшие на своей территории ЯО в результате распада СССР, вступили в ДНЯО в качестве неядерных государств (Украина, Белоруссия, Казахстан). Договор о нераспространении превратился в самый универсальный международный инструмент, его членами стали 189 государств ООН и только три остались за пределами (Израиль, Индия, Пакистан).
Скорее всего, если бы великие державы последовательно вели курс на сворачивание ядерных арсеналов и снижение роли ядерного оружия в обеспечении национальной безопасности, то соответственно падало бы значение ядерного оружия в мире как символа статуса, могущества, престижа. Параллельно снижалась бы популярность ЯО во внутриполитической жизни многих стран (как, скажем, имеет место с PR-привлекательностью биологического и химического оружия).
Точно так же очевидно, что прямо противоположная политика великих держав и неприсоединившейся к ДНЯО тройки создавала с конца 1990-х гг. максимально питательную среду для роста привлекательности ЯО в глазах правительств и общественного мнения растущего числа стран. Нынешний упор многих российских деятелей на важность ядерного потенциала для безопасности и на пагубность его дальнейшего сокращения, естественно, работает в том же направлении.
Второй общий момент состоит в том, что закрепленная в стратегических взаимоотношениях России и США ситуация враждебного противостояния в форме ядерного сдерживания ставит жесткие ограничения для более глубокого взаимодействия великих держав. Хотя Караганов утверждает, что эти вооружения «давно уже реально не беспокоят обе стороны», его призывы к двум державам «координировать политику сдерживания новых ядерных игроков» будут и впредь натыкаться на препятствие в виде ядерного противостояния, если остановится процесс сокращения ЯО (подробнее об этом ниже).
Третье. Есть ряд направлений еще более прямой взаимосвязи ядерного разоружения и нераспространения. В первую очередь это относится к Договору о запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), подписанному в 1996 г., но так и не вступившему в силу, и Договору об оружейных ядерных материалах (ДЗПРМ), переговоры по которому в Женеве зашли в тупик.
Взаимосвязь ядерного разоружения и нераспространения существует, но она не является автоматической. Выполнение обязательств по ядерному разоружению по статье VI ДНЯО само по себе не гарантирует от ядерного распространения. Для этого требуются многочисленные дополнительные меры по укреплению и развитию ДНЯО, его норм и механизмов. Однако невыполнение обязательств ядерных держав по статье VI гарантирует дальнейшее распространение и блокирует совместные шаги по укреплению ДНЯО, оставляя возможность лишь силовых односторонних акций с обратными результатами. Об этом говорит весь опыт прошедших двадцати лет.
Излишки и минимальные потенциалы
По Караганову, пражский Договор СНВ ликвидирует «излишки» ядерных вооружений, т. е. останутся некие оптимальные потенциалы. Для сведения: по экспертным оценкам, общая мощность ядерных арсеналов мира после планируемых сокращений составит порядка двух тысяч мегатонн, из которых более 80 % придется на Россию и Соединенные Штаты – в 60 тысяч (!) раз больше суммарной мощности бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки и одномоментно убивших 140 тысяч человек. Что можно считать «излишками», а что оптимальными или минимальными уровнями – вопрос чрезвычайной сложности, над которым десятилетиями бьются армии экспертов. Но несомненно, что от потолков нового Договора до сколько-нибудь «рациональных» минимальных уровней ядерных потенциалов (если этот термин применим к данной теме) остается еще большая дистанция.
Пройти ее, конечно, невозможно, не решив множества смежных проблем: совместное развитие систем СПРН, ПВО и ПРО, регламентация высокоточных стратегических средств в обычном оснащении, ограничение сил третьих ядерных государств, консолидация тактических ядерных вооружений параллельно с возрождением режима ограничения обычных вооруженных сил, предотвращение гонки космических вооружений и др. И это прекрасно осознают ответственные сторонники ядерного разоружения. А вот его противникам нужно понять другое: ни одна из этих проблем сама собой не решится без дальнейшего продвижения в ядерном разоружении, а будет лишь нарастать. Более всего это относится к распространению ядерного оружия.
Жизнь при ядерной многополярности
Ядерное сдерживание в отношениях великих держав не предотвращает угрозу дальнейшего распространения ЯО, а скорее всего усугубляет такую опасность, хотя это вопрос дискуссионный. Но что совершенно точно – динамика взаимного ядерного сдерживания без соглашений о поэтапном разоружении препятствует эффективному сотрудничеству государств в борьбе с распространением. Это непосредственно относится к принятию санкций ООН против третьих стран; к общей позиции по укреплению ДНЯО; к возможности совместных военных операций (скажем, в рамках ИБОР); к сотрудничеству в создании системы противоракетной обороны (о чем РФ и США не раз пытались договориться за последние 15 лет).
Советскому Союзу и Соединенным Штатам потребовалось два десятка лет балансирования на грани войны и кошмар Карибского кризиса, чтобы сформировать стабильное взаимное сдерживание с обширным договорно-правовым регламентом. Дальнейшее ядерное распространение едва ли будет воспроизводить такую же модель. Ядерные силы новых стран уязвимы и будут провоцировать упреждающий удар, их системы управления и предупреждения отсутствуют или неэффективны, как и технологии предотвращения несанкционированного применения. Зачастую эти страны страдают от внутренней нестабильности, склонны к экстремизму, да и вообще неясно, удержит ли их от опасных авантюр угроза потерь среди мирного населения. Через эти режимы атомное взрывное устройство скорее всего попадет в руки террористов, и никакое сдерживание или ПРО не спасет от ядерных терактов Вашингтон, Москву, Лондон или Париж.
Реабилитация ядерного разоружения как конечной, пусть и отдаленной цели политики ведущих держав придает целенаправленность и последовательность рациональным договорам обозримого будущего, как новый Договор СНВ и последующее, более глубокое сокращение ядерных вооружений. Открывается путь к реализации ДВЗЯИ и ДЗПРМ, становится реальным подключение к процессу третьих ядерных держав и «стран-аутсайдеров» (Индии, Пакистана, Израиля). Получает мощный импульс курс на упрочение ДНЯО, на интернационализацию ядерного топливного цикла, обеспечение высоких мировых стандартов сохранности ядерных материалов.
Сергей Караганов слишком легко предлагает смириться с ракетно-ядерным Ираном. Но никогда и ни при каких обстоятельствах Тегерану не позволят создать ядерное оружие. Или он сам откажется от этого под воздействием ужесточения санкций Совбеза ООН, или великие державы помешают ему военным путем согласно статье 42 Устава ООН. А если нет – это самостоятельно сделает Израиль. Интересно, как бы реагировала Москва, если бы соседняя страна, намного превосходящая нас по населению и экономике, упрямо рвалась к ядерному оружию, заявляя при этом на высшем официальном уровне, что Россию нужно «стереть с политической карты мира»?
А КНДР будут «душить» санкциями, пока Пхеньян, наконец, не поймет, что выживание режима зависит не от сохранения нескольких атомных боеприпасов, а от отказа от них.
Россия и ядерное оружие
Роль ядерного оружия в обеспечении статуса и безопасности РФ, как представляется, весьма преувеличена. Не надо забывать, что Организация Варшавского договора и Советский Союз распались, имея в 5–7 раз больше ядерных вооружений, чем нынешняя Россия. Как раз чрезмерное упование на ядерный потенциал (и на военную мощь в целом) в конечном итоге погубили СССР, лишив его стимула к реальной политической и экономической модернизации. Но было невозможно бесконечно жить в условиях предвоенной мобилизации, когда ЯО сделало немыслимой большую войну – и советская система рухнула. Россия не должна повторить эту ошибку, чрезмерно полагаясь на ЯО как на гарантию безопасности и мирового престижа. Не хочется верить, что для российского народа ядерное оружие – это единственно возможный и достижимый атрибут статуса великой мировой державы.
Разумеется, отказ от ядерного оружия ни в коем случае не может означать «зеленый свет» для больших, региональных или локальных войн с применением обычных вооружений или систем на новых физических принципах (лазерных, пучковых, сейсмических и пр.). Иными словами, мир без ядерного оружия – это международное сообщество, организованное на иных принципах, обеспечивающих безопасность ответственных стран, независимо от их размера, экономической и военной мощи. На путь сотрудничества и разумного управления толкают и другие глобальные проблемы XXI века, о которых, кстати, пишет и доктор Караганов.
Такой мир сейчас кажется утопией. Достижение цели ядерного разоружения, полагает автор статьи, «возможно и желательно, только если изменится человек, изменится человечество. Видимо, сторонники “ядерного нуля” в возможность такого изменения верят. Я пока – нет».
Ну что ж, вера – это вопрос философии, о котором не спорят. Дело в другом. Именно потому, что человеческое сознание эволюционирует медленно, консервация современных ядерных потенциалов неминуемо приведет к тому, что ЯО попадет в руки безответственных режимов, террористов и, в конце концов, к катастрофе.
Наряду с решением грандиозных новых проблем нашего века последовательное и продуманное продвижение в ядерном разоружении и ужесточение системы нераспространения дает надежду предотвратить эту катастрофу и заодно вполне может изменить человека и человечество в лучшую сторону.

Враги становятся друзьями
Как Соединенные Штаты могут «приручить» своих противников
Чарльз Капчан – профессор международных отношений Джорджтаунского университета, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям.
Резюме Приоритетом первого года своего президентства Барак Обама сделал задачу привлечения к сотрудничеству оппонентов США. Исторический опыт доказывает, что глава государства находится на верном пути: обращение к соперникам – необходимая предпосылка для сближения.
В речи, произнесенной в день инаугурации, президент США Барак Обама сообщил режимам, находящимся «не на той стороне истории», что Соединенные Штаты «протянут им руку, если они будут готовы разжать свой кулак». Вскоре слова президента были подкреплены делами, поскольку политику сближения с противниками США он сделал одним из приоритетов администрации. В течение первого года пребывания у власти Обама провел прямые переговоры с Ираном и Северной Кореей относительно их ядерных программ. Предпринята попытка «перезагрузить» отношения с Россией путем поиска общих интересов в таких областях, как контроль над вооружениями, противоракетная оборона и Афганистан. Американский президент начал свертывать экономические санкции против Кубы. Он также направил пробные дипломатические «шары» в адрес Мьянмы и Сирии.
После года президентства Обамы не утихают споры по поводу плодотворности его стратегии сближения. Между действующими политиками и политологами существуют значительные разногласия относительно достоинств и рисков попыток президента протянуть руку противникам. Как повысить степень вероятности того, что эти жесты доброй воли не останутся безответными? Будет ли сближение следствием взаимных уступок, позволяющих «приручить» противников, или «железного кулака», который усмирит неприятелей и заставит их быть сговорчивее? Не лишен противоречий и вопрос о том, стоит ли Соединенным Штатам идти на примирение с безнадежно авторитарными режимами, или все-таки нужно поставить сотрудничество с ними в зависимость от внутренней демократизации. Сохраняются разногласия и относительно того, что служит наиболее эффективным средством примирения: дипломатия либо экономическая интеграция?
Многие критики Обамы уже составили свое мнение о «достоинствах» его политики сближения с противниками. Они пришли к выводу, что усилия президента не только не приносят должных результатов, но и ослабляют позиции США, для которых дипломатическая уступчивость унизительна. После того как на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2009 г. глава американского государства призвал начать «новую эру сотрудничества, основанную на взаимных интересах и взаимном уважении», а также создавать «новые коалиции для преодоления старых разногласий», консервативный обозреватель Мишель Мэлкин назвала его «главным льстецом и умиротворителем в международном общественном мнении».
Однако история ясно свидетельствует о том, что подобный скептицизм неоправдан и Барак Обама находится на верном пути, пытаясь наводить мосты. Застарелое соперничество ослабевает вследствие взаимного примирения, а не угроз применения насилия. Конечно, предложения о примирении не всегда встречают с распростертыми объятиями, и поэтому их нужно повторять снова и снова. Но при надлежащих условиях ответные уступки представляют собой смелые и мужественные инвестиции в мирное будущее. Правота Обамы и в том, что он не настаивает на безусловной демократизации недружественных стран, которые он старается привлечь к сотрудничеству. Даже те государства, которые проводят репрессивную внутреннюю политику, способны сотрудничать на международной арене. Более того, вопреки расхожему мнению, не торговля, а дипломатия является валютой мирного устройства на планете. Экономическая взаимозависимость – это скорее следствие, нежели причина сближения между государствами.
Чтобы попытка сближения Вашингтона с враждебными режимами переросла в длительные дружественные отношения, Обаме следует не просто добиться уступок по отдельным вопросам, а заручиться их согласием на последовательное сотрудничество по всем направлениям. В этих целях придется пойти на определенные компромиссы, не допуская при этом опасного снижения уровня бдительности. Обаме также предстоит взять на себя управление внутриполитическими рисками и угрозами, которые неизбежно возникнут при проведении подобного курса дипломатии. И не только выстоять перед натиском республиканцев, недовольных его зарубежными «поездками с извинениями», но и быть уверенным в том, что Конгресс будет готов поддержать любые договоренности, которые станут следствием дипломатических усилий президента.
Если зарубежные правительства примут предложения Вашингтона о сотрудничестве, им в равной степени придется столкнуться с опасностями во внутренней политике. Американский президент находится в весьма затруднительном положении, ища примирения с режимами, жизнеспособность которых вполне может быть подорвана, если они ответят взаимностью на любезности Соединенных Штатов. Вашингтон начал хорошо, пытаясь превратить недругов в друзей, но эта задача потребует исключительной дипломатии и за рубежом, и внутри страны.
Дипломатическое обхаживание
Некоторые строптивые режимы, которые Обама стремится вовлечь в сотрудничество, конечно, не ответят взаимностью. Через некоторое время Вашингтону следует перестать предлагать примирение таким государствам, предпочтя по отношению к ним стратегию изоляции и сдерживания. Однако другие режимы с высокой степенью вероятности примут предложение дружбы. До сих пор Иран, Куба, Мьянма, Россия, Северная Корея демонстрировали хотя бы малую толику заинтересованности в налаживании отношений с США.
Россия сотрудничает с Соединенными Штатами в области контроля над вооружениями, наращивает усилия с целью сдерживания ядерной программы Ирана, разрешила транспортировку по своей территории и через свое воздушное пространство военных грузов в Афганистан, охваченный внутренними волнениями после июньских выборов 2009 г.
Иран согласился на возобновление переговоров, хотя и пятится назад в большинстве случаев. Его, вне всякого сомнения, соблазняет идея пойти на компромисс в реализации своей ядерной программы, чтобы избежать или по крайней мере отсрочить конфронтацию с Западом. Точно так же и Северная Корея размышляет, стоит ли ей заключать компромисс с Вашингтоном в вопросе осуществления своей ядерной программы. Тем временем Куба расширяет дипломатический диалог с США, а Мьянма приветствовала прошлой осенью визит в страну высокопоставленного американского дипломата и позволила ему встретиться с лидером оппозиции Аун Сан Су Чжи.
Несмотря на все эти проблески прогресса, критики настаивают на том, что попытки сделок с экстремистами – это та же политика умиротворения, только в другом обличье. Ссылаясь на бесславную мюнхенскую капитуляцию британского премьер-министра Невилла Чемберлена перед Гитлером в 1938 г., противники сближения утверждают, что оно будет способствовать лишь непреклонности и воинственности оппонентов. Как сказал американский президент Джордж Буш, выступая в Кнессете в 2008 г., переговоры с радикалами «создают ложную иллюзию спокойствия и умиротворения, которая была неоднократно опровергнуто историей». Буш, конечно, прав в том, что примирение с фашистским режимом, склонным к агрессии и геноциду, было лишь фикцией. Но роковая ошибка Чемберлена не должна бросать тень на все другие предложения мира как заведомо наивные. Напротив, история знает немало случаев, когда первоначальное умиротворение неприятеля не только не провоцировало агрессию, но и становилось важнейшим поводом для взаимного сближения позиций. Подобные «инициативы» обычно являются следствием необходимости, а вовсе не альтруизма: принимая на себя непосильные стратегические обязательства, государство стремится уменьшить тяжесть бремени, устанавливая дружественные отношения с бывшим неприятелем. Если соответствующий режим делает ответные дружественные жесты, то может последовать обмен взаимными уступками, который зачастую создает предпосылки для ослабления напряженности во взаимоотношениях и взаимной подозрительности. На заключительном этапе сближения ведущие политики пытаются переубедить исполнительную и законодательную власти, частные группы по интересам и обычных граждан, прибегая к лоббированию и общественной пропаганде. Вовлечение в процесс широких слоев общества необходимо для того, чтобы сближение стало необратимым и продолжилось после того, как начавшие его лидеры сложат свои полномочия.
Не подлежит сомнению, что может понадобиться установить некий баланс между предложениями мира и угрозами конфронтации. Вместе с тем – в соответствии с исторической практикой – именно попытки примирения, а не конфронтация обычно становятся важным компонентом успешного сближения.
США и Великобритания были антагонистами долгие десятилетия. После революционной Войны за независимость (в Северной Америке, 1775–1783. – Ред.) и событий 1812 г. их геополитическое соперничество продолжалось до конца XIX века. Поворотный момент наступил в 90-х г. XIX столетия, когда имперские обязательства Соединенного Королевства стали превышать имевшиеся у страны ресурсы. Первый шаг к сближению Лондон сделал в 1896 г., когда согласился с безапелляционным требованием Вашингтона решить в Международном арбитражном суде пограничный спор между Венесуэлой и Британской Гвианой (бывшая колония, которая в 1966 г. стала независимым государством Гайана. – Ред.): Соединенные Штаты считали, что этот вопрос находится в сфере их национальных интересов. В свою очередь США ответили взаимностью на дружественный жест Лондона, согласившись передать в Международный арбитражный суд разногласия по поводу права на отлов тюленей в Беринговом море. Вскоре после этого обе страны полюбовно урегулировали споры относительно строительства Панамского канала и границы между Аляской и Канадой. Великобритания стала единственной европейской державой, которая поддержала США в Испано-американской войне 1898 г. и приветствовала тихоокеанскую экспансию Соединенных Штатов.
Когда дипломатия приглушила взаимную вражду, элиты по обе стороны Атлантического океана попытались изменить общественное мнение посредством амбициозных кампаний в сфере общественных отношений. Спикер Палаты общин британского парламента Артур Бальфур, провозгласил в 1896 г., что «идея войны с Соединенными Штатами Америки несет в себе какой-то противоестественный ужас гражданской войны». В речи, произнесенной в Гарварде в 1898 г., Ричард Олни, государственный секретарь США (1895–1897), назвал Великобританию «лучшим другом» Соединенных Штатов и отметил «близость… в смысле характера и степени цивилизованности обеих стран». С помощью лоббирующих групп, таких, например, как Англо-американский комитет, перемены в общественном диалоге привели к тому, что в первой декаде XX века Великобритании удалось превратить США в дружественную ей державу. В 1905 г. американский президент Теодор Рузвельт информировал Лондон: «Вас никогда не должен беспокоить кошмар возможного столкновения между двумя англоговорящими народами. Я верю, что теперь это практически невозможно, и такая вероятность будет полностью исключена в будущем».
Как воцаряется мир
Другие случаи сближения шли по аналогичному сценарию; в качестве примера можно привести нормализацию отношений между Норвегией и Швецией. В рамках территориального урегулирования по итогам Наполеоновских войн Дания в 1814 г. уступила Швеции контроль над Норвегией. Стокгольм сразу же вторгся на подконтрольную территорию, чтобы подавить антишведское восстание, и образованный в результате этого союз между Норвегией и Швецией стал причиной отчуждения между норвежцами и шведами на протяжении нескольких десятилетий. Соперничество начало утихать в 1905 г., когда Швеция, столкнувшись с нехваткой ресурсов и давлением со стороны ведущих европейских держав, согласилась с односторонним выходом Норвегии из союза. Норвегия демонтировала оборонительные сооружения на границе, и обе страны приступили к урегулированию неразрешенных территориальных споров. Сотрудничество двух стран во время Первой мировой войны закрепило их сближение, создав предпосылки для окончательного воцарения мира между всеми скандинавскими народами после Второй мировой войны.
Примерно по такой же схеме устанавливался мир и в Юго-Восточной Азии. Военный конфликт между Индонезией и Малайзией начался в 1963 г., когда Джакарта не приняла образование Федерации Малайзия, в состав которой вошли территории Малайя, Сабах, Саравак и Сингапур (два года спустя Сингапур был провозглашен суверенной республикой. – Ред.). В 1966 г. власть в Индонезии захватил генерал Сухарто, сразу же начавший снижать уровень конфронтации с Малайзией – преимущественно в целях исправления ухудшавшейся экономической ситуации, которая возникала из-за отказа Джакарты торговать с Малайзией, а также вследствие международных санкций, введенных против Индонезии за ее воинственность. После этого обе страны обменялись уступками по целому ряду вопросов и в 1967 г., вместе с соседними странами, создали Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая с тех пор содействовала сохранению мира в регионе.
Аналогичным образом происходило сближение Аргентины и Бразилии. После многих десятилетий соперничества, начало которому было положено в эпоху колониализма, взаимные уступки постепенно расчистили путь для примирения в конце 1970-х гг. Аргентина столкнулась с перспективой войны с Чили, и ей нужно было уменьшить уровень стратегического противостояния с другими странами. А более умеренные лидеры Бразилии рассматривали сближение с Аргентиной в качестве одного из способов ослабить власть сторонников жесткой линии в бразильском оборонном и разведывательном ведомствах. Буэнос-Айрес сделал первый шаг навстречу в 1979 г., когда наконец достиг согласия с Бразилией и Парагваем в вопросе строительства гидроэлектростанции и плотины на реке Паране, которая протекает через территорию трех стран. В 1980-х гг. Аргентина и Бразилия обменялись взаимными уступками, наладили сотрудничество в ядерной области и развивали политические, научные и культурные связи. В 1991 г. они выступили с инициативой подписания регионального торгового соглашение о создания общего рынка (МЕРКОСУР) и вскоре после этого провели совместные военные учения, в ходе которых бразильские войска впервые с 60-х гг. XIX столетия оказались на территории Аргентины.
Как ясно показывают эти и другие примеры сближения разных стран, Барак Обама имеет твердую почву под ногами, пытаясь разрешить проблему давнишнего соперничества путем вовлечения потенциальных неприятелей в программы сотрудничества, а не путем углубления конфронтации. Эта стратегия тем более привлекательна в то время, когда США испытывают сильное перенапряжение, ведя войны в Афганистане и Ираке, а также пытаясь преодолеть неурядицы в собственной экономике. Предлагаемая Обамой политика мира и дружбы, конечно, влечет за собой определенный риск и не гарантирует успеха. Но в 1972 г. президент Ричард Никсон также не имел гарантий решительного прорыва, отправляясь в Пекин. Не имел их и президент Египта Анвар Садат, когда ехал в Иерусалим в 1977 г. Даже Джордж Буш-младший, первоначально отвергавший возможность диалога с представителями «оси зла», в конце своего второго президентского срока сел за стол переговоров с Северной Кореей. Он отправлял американских эмиссаров на встречу с иранскими официальными лицами и допускал сотрудничество с суннитскими повстанцами в Ираке, которые в предыдущие годы пытались уничтожать американцев. Если правильно подходить к вопросу налаживания сотрудничества, то станет очевидно, что речь идет не о попытке умиротворения, а о здравой дипломатии.
Правильный подход к сближению
Преследуя цель сближения с самыми разными соперниками, Обама вынужден решать две основные задачи: как правильно определиться с последовательностью и содержанием переговоров и как преодолеть нежелательные внутриполитические и внешнеполитические последствия. Что касается хода и содержания переговоров, Вашингтону надо быть готовым к обмену уступками – достаточно своевременными и смелыми, чтобы подать знак о добрых намерениях Соединенных Штатов. В противном случае другую сторону не удастся убедить в искренности стремления к примирению. В то же время Вашингтону не следует продвигаться к цели слишком быстро или напористо: перегибание палки может сделать США и их потенциальных партнеров стратегически уязвимыми, усилить внутреннее сопротивление проводимому курсу и побудить обе стороны отступить от курса на сближение.
История и здесь служит полезным руководством. Англо-американское сближение начиналось медленно, поскольку Великобритания и Соединенные Штаты сначала сосредоточились на второстепенных вопросах: границы в Центральной Америке и права на отлов тюленей и морских котиков в Беринговом море. Лишь достигнув договоренностей в области морских границ, Лондон и Вашингтон выразили готовность заключить более смелые соглашения – относительно границ в Северной Америке, строительства Панамского канала и экспансии США в Тихоокеанском бассейне. Обмен уступками начался в 1896 г., но последние части британских регулярных войск покинули Канаду только в 1906 г.
Аналогичным образом Норвегия и Швеция лишь постепенно избавились от настороженности и подозрительности во взаимоотношениях. Сближение началось в 1905 г., а спустя два года Норвегия, все еще опасаясь возможной шведской агрессии, заключила договор с Францией, Германией, Россией и Великобританией, чтобы гарантировать свою территориальную целостность. Некоторая недоверчивость в отношениях между Норвегией и Швецией оставалась до Первой мировой войны. В августе 1914 г. обе страны приняли совместную декларацию о нейтралитете. На шведско-норвежской границе был установлен мемориальный камень в честь Оскара I, короля Норвегии и Швеции середины XIX века. На нем высечена одна из цитат монарха: «Отныне война между скандинавскими братьями невозможна».
И напротив, попытки сближения терпели неудачу, когда политики заходили слишком далеко и чересчур торопились. КНР и Советский Союз поддерживали на редкость тесное стратегическое партнерство в 1950-х гг., однако в конце того же десятилетия в их отношениях наступило охлаждение – отчасти потому, что Пекин внезапно обнаружил слишком большую зависимость от советских советников и экономической помощи. В 1958 г., когда Москва предложила создать совместный подводный флот и совместный штаб военно-морских сил, Мао Цзэдун сказал послу СССР в Китае: «Если вы хотите совместно владеть и управлять подводным флотом, почему бы не распространить этот принцип на всю армию, ВМС, ВВС, промышленность, сельское хозяйство, культуру, образование?.. Вы полагаете, что, имея несколько атомных бомб, можете нас контролировать».
Аналогичные события торпедировали партнерство между Египтом и Сирией. После длительной конфронтации эти страны создали в 1958 г. Объединенную Арабскую Республику (ОАР), которая распалась в 1961 г., когда Сирия восстала против египетского доминирования внутри союзного объединения. Сирийская армия совершила государственный переворот, направленный против правительства в Дамаске, находившегося под контролем Каира. Выход из ОАР был осуществлен на том основании, что Египет «унизил Сирию и разложил ее армию».
Подобные исторические примеры в лучшем случае лишь условно характеризуют коллизии, из которых Вашингтон надеется в настоящее время выйти. Вместе с тем они предостерегают администрацию Обамы от того, чтобы чересчур форсировать сближение, и указывают на необходимость тщательно продумывать последовательность уступок, строго обусловливая каждый свой более амбициозный шаг встречными шагами другой стороны. Если следовать такой стратегии, то взаимный антагонизм может постепенно освободить место взаимным уступкам и при этом удастся избежать риска эксплуатации: каждая из сторон снижает уровень настороженности лишь во взаимодействии с другой стороной.
До сих пор администрация Барака Обамы придерживалась именно такого подхода в отношениях с Россией. Вашингтон подкрепил свой призыв к «перезагрузке» отношений с Москвой усилиями в области контроля над ядерными вооружениями, проявлением внимания к российской озабоченности по поводу американской противоракетной обороны и созданием двусторонних рабочих групп по целому спектру вопросов. Кремль ответил взаимностью, продвинувшись вперед на переговорах по сокращению ядерных вооружений, изменив дипломатическую линию в отношении Ирана и обеспечив доступ американских военных грузов в Афганистан. Если темпы сближения будут ускоряться, то могут быть созданы предпосылки для решения более сложных вопросов, таких, к примеру, как расширение НАТО, независимость Косово, статус Абхазии и Южной Осетии, а также место России в евро-атлантической архитектуре безопасности.
Сближение Соединенных Штатов с Кубой осуществляется еще более осторожно. Вашингтон сделал первый шаг навстречу Гаване, ослабив в качестве пробного шара некоторые санкции и расширив дипломатические и культурные связи. Куба провела весьма скромные экономические реформы, и Обама выдвинул в качестве условия большей открытости готовность Гаваны продвигаться по пути политической и экономической либерализации. Точно так же Вашингтон, проявляя осмотрительность, протянул руку дружбы Мьянме через диалог на высоком уровне, но в настоящее время ожидает более ясных сигналов готовности находящихся у власти генералов ослабить свою хватку, чтобы лишь после того продолжить взаимные уступки.
Иран и Северная Корея – это особенно тяжелый случай в силу наличия у обеих стран ядерных программ. Намерение США нейтрализовать ядерную угрозу, которую несут эти режимы, совершенно оправданно. Однако обе страны не желают отказываться от ядерных программ, считая их необходимыми для обеспечения собственной безопасности и использования в качестве рычага на переговорах. Ужесточение санкций могло бы изменить политический расчет в Тегеране и Пхеньяне. Тем не менее логика «малых дел» предполагает, что Вашингтону следует вести переговоры по более широкому кругу вопросов, чтобы способствовать восстановлению уровня взаимного доверия, необходимого для ядерного урегулирования.
С Тегераном Соединенные Штаты могли бы попытаться наладить сотрудничество по Афганистану – в частности, в целях сокращения наркотрафика, текущего оттуда в Иран. Вашингтон мог бы также обсудить с Тегераном потенциал новой архитектуры безопасности в зоне Персидского залива, которая представляется особенно важной, поскольку американские войска готовятся покинуть Ирак. Что касается Пхеньяна, то диалог по экономической помощи, поставкам энергоносителей и нормализации отношений поможет расчистить путь для сделки в области ядерной программы Северной Кореи.
Именно такой поэтапный подход позволил в 1985 г. Аргентине и Бразилии достичь окончательного согласия по ядерным программам. Этому предшествовали несколько лет укрепления доверия посредством президентских визитов, научного обмена и соглашений в технологической сфере. Ядерное соглашение, которое способствовало отказу обеих стран от ядерного оружия и открыло им неограниченный доступ на ядерные объекты друг друга, стало тогда настоящим прорывом, расчистившим путь для длительного сближения. Точно так же Тегеран и Пхеньян могут не соглашаться с ограничением их ядерных программ и строгим контролем со стороны международного сообщества до тех пор, пока сотрудничество с Вашингтоном не начнет смягчать взаимный антагонизм. Сделка по ядерной проблематике вполне могла бы стать частью более широкого стратегического партнерства с США, а не только предварительным условием для улучшения отношений с Америкой.
Враждебный внутренний фронт
Второй серьезный вызов для Барака Обамы – отразить нападки в собственной стране, которыми обычно сопровождаются попытки примирения с недружественными режимами, – один из главных камней преткновения также и в прошлом. Процесс сближения между Англией и Америкой в XIX столетии чуть было не сорвался из-за внутренней оппозиции.
Например, в 1897 г. американский Сенат отверг Договор о независимом арбитраже, заключенный с Великобританией. Тем временем британское правительство, опасаясь националистических протестов против примирительной политики в отношении Вашингтона, скрывало от общественности готовность уступить Соединенным Штатам военно-морское превосходство в Западной Атлантике. Генерал Сухарто, прекрасно сознавая, что компромиссное соглашение с Малайзией может спровоцировать сторонников жесткой линии в Индонезии, действовал неторопливо и осмотрительно. Точно так же вел себя и генерал Эрнесто Гейзель, когда Бразилия стала более открытой в отношениях с Аргентиной. Администрация президента Никсона в 1970-х гг. могла убедиться в том, что правительства этих стран были достаточно благоразумны и действовали предусмотрительно. Разрядка напряженности в отношениях между США и Советским Союзом забуксовала отчасти потому, что Белый дом не смог заложить под нее прочный фундамент у себя дома и столкнулся с сопротивлением Конгресса. Так, в 1974 г. Конгресс принял поправку Джексона – Вэника и ввел торговые ограничения, чтобы принудить СССР разрешить эмиграцию из страны.
Подобно лидерам прошлого, которые отстаивали идею примирения и компромисса, Обама может столкнуться с решительным противодействием у себя дома. Когда американский президент пообещал искать точки соприкосновения с иранским правительством даже после многочисленных нарушений в ходе прошлогодних президентских выборов в Иране, обозреватель The Washington Post Чарльз Краутхаммер раскритиковал такого рода политику «диалога с режимом, который рубит головы, расстреливает демонстрантов, изгоняет журналистов, арестовывает активистов». «И это делает президент, – писал он, – который воображает, будто он восстанавливает нравственные позиции Америки в мире». После того как администрация Обамы пересмотрела программу противоракетной обороны своего предшественника, конгрессмен от штата Огайо Джон Бёнер, лидер меньшинства в Палате представителей, заявил, что «отказ от развертывания американской системы противоракетной обороны в Польше и Чешской Республике вряд ли что-то даст кроме усиления России и Ирана в ущерб нашим союзникам в Европе».
Еще более трудной задачей, чем парирование подобной враждебной риторики, станет утверждение в Конгрессе конкретных сделок, заключенных ради сближения с бывшими недругами. Чтобы Капитолий ратифицировал новый Договор по СНВ, а также положительно принял Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), надо заручиться поддержкой двух третей сенаторов. Даже если в лагере демократов не окажется ни одного дезертира, Белому дому понадобится умеренная поддержка Республиканской партии, которая существенно сдвинулась вправо с тех пор, как в последний раз сорвала ратификацию ДВЗЯИ в 1999 г. Свертывание санкций против Кубы, Ирана и Сирии точно так же потребует одобрения в Конгрессе, что не обещает легких побед. Вне всякого сомнения, Конгресс будет не в восторге от идеи положить конец изоляции Гаваны, Тегерана и Дамаска. В конце концов, поправка Джексона – Вэника до сих пор не отменена, хотя Советского Союза уже нет, а Россия давно отказалась от политики ограничения эмиграции. Перед лицом подобных законодательных препон Обаме следует разработать такую стратегию взаимодействия с Конгрессом, которая позволит ему как можно скорее добиться поддержки своей дипломатии.
Задача еще более усложняется в связи с тем, что Обаме придется выдержать противодействие идее сближения также со стороны политической элиты других стран. Многие партнеры американского президента по переговорам, в частности президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, российские лидеры Дмитрий Медведев и Владимир Путин, президент Кубы Рауль Кастро, разыгрывают антиамериканскую карту для укрепления власти у себя дома. Даже если они захотят пойти на компромисс с США, им будет мешать это сделать общественное мнение, которое в свое время они сами же настроили против Вашингтона. Обама может протянуть руку дружбы, используя публичную дипломатию для ослабления враждебного настроя общественности этих стран по отношению к Соединенным Штатам. Его выдающиеся ораторские способности являются важным преимуществом: частые публичные выступления президента США, в том числе в Анкаре, Каире и Москве, а также его видеоприветствие в адрес народа Ирана в канун иранского Нового года вполне способны дать лидерам этих стран простор для маневра, чтобы ответить взаимностью на американские жесты доброй воли. Далекий от того, чтобы бравировать своим президентским престижем или безрассудно растрачивать его, Обама мудро использует дипломатию, ставя ее на службу мирному процессу.
Развенчание мифов
Чтобы заручиться в Конгрессе поддержкой своей политики примирения с недружественными режимами, Бараку Обаме придется развенчать три мифа, которые зачастую препятствуют публичным дебатам вокруг стратегий сближения.
Первый заключается в предубеждении, согласно которому Вашингтон компрометирует американские ценности и саму державу, ища сближения с автократическими режимами. Американские официальные лица и люди, формирующие общественное мнение со стороны обеих ведущих партий, разделяют приверженность демократизации из принципа (демократии уважают права своих граждан), а также из прагматических соображений (демократии миролюбивы и идут на сотрудничество; автократии, как правило, настроены враждебно и являются ненадежными партнерами). Таким образом, даже если Соединенным Штатам и удастся договориться с иранским, российским либо сирийским правительствами, то критики обвинят администрацию в том, что поведение Вашингтона ущербно в нравственном отношении (поскольку автократы вознаграждаются и упрочивают свои позиции) и наивно (потому что нельзя уповать на то, что такие правительства будут выполнять взятые на себя обязательства).
Однако Обама вполне резонно отодвигает вопросы демократизации на задний план и формулирует отношение к другим государствам, исходя из их поведения на международной арене, а не из характера режимов. Даже репрессивные режимы могут руководствоваться принципами сотрудничества в своей внешней политике. Аргентина и Бразилия вступили на путь сближения в тот момент, когда в обеих странах у власти находились военные хунты. Сухарто проводил кампанию жестоких репрессий у себя на родине, но вместе с тем положил конец вражде между Индонезией и Малайзией и оказал содействие в создании АСЕАН как пакта, способствующего сохранению мира в регионе.
Заключение сделок с репрессивными режимами действительно требует некоторых нравственных компромиссов, но это может быть оправдано конкретным вкладом в стабилизацию международной обстановки. Вашингтон обязан высказываться против нарушений прав человека и поддерживать политическую либерализацию во всем мире. Но когда на повестке дня оказываются вопросы о сокращении и нераспространении ядерных вооружений, терроризме, войне и мире, ответственное государственное управление требует прагматических компромиссов, а не идеологической непримиримости.
Второй миф, часто используемый противниками сближения, заключается в том, что подобные действия перечеркивают всякую надежду на то, что автократический режим когда-нибудь изменится. Как раз наоборот: совместные проекты с такими режимами, вполне вероятно, могут вызвать их смену, так сказать, через «черный ход» – путем ослабления позиций приверженцев твердой линии и усиления сторонников реформ. Например, сближение с Ираном способно подорвать позиции правительства, использующего конфронтацию с США для того, чтобы приобрести популярность и разоружить оппозицию.
Воинственные правительства часто становились жертвами подобного сближения. Шведская аристократия и военные уступили власть либералам в процессе сближения с Норвегией. Военные хунты находились у власти в Аргентине и Бразилии, когда в 1979 г. началось примирение этих стран, а к 1985 г. они уже стали демократиями.
Конечно, ни в одном из этих случаев сближение не было единственным фактором, который способствовал смене режима, но более благоприятный стратегический климат, к которому привело примирение, безусловно, укрепил позиции сторонников реформ.
Если благодаря миротворческим усилиям Обама сумеет привлечь на свою сторону недружественные режимы, антиамериканская позиция таких лидеров, как Ахмадинежад, Кастро и Путин скорее будет подрывать доверие к ним со стороны широких слоев общества, нежели усиливать их популярность. В долгосрочной перспективе работа с непреклонными автократиями может расшатать их позиции гораздо быстрее, чем политика сдерживания и конфронтации.
Сначала дипломатия, потом доллары
Наконец, последний миф заключается в том, что экономическая взаимозависимость обычно становится предвестником сближения между странами. Сторонники «коммерческого мира» утверждают, что торговля и инвестиции способствуют развитию чувства доброжелательности у соперников, поскольку у них появляются общие политические и экономические интересы. Торгуя с Китаем, Кубой и другими автократиями, Соединенные Штаты могут добиться взаимной выгоды и прогресса в политической либерализации этих стран, что, в свою очередь, будет способствовать налаживанию мирных отношений. Приверженцы этой теории призывают к экономической интеграции не только между США и их соперниками, но также и между Китаем и Японией, израильтянами и палестинцами, боснийскими сербами и боснийскими мусульманами.
Однако сближение является продуктом дипломатии, а не коммерции. Хотя торговая интеграция помогает углублять процесс примирения (в основном за счет поддержки со стороны промышленников и финансистов), сначала дипломаты должны заложить политический фундамент. Торговый оборот между США и Великобританией снизился в относительных величинах в период с 1895 г. по 1906 г. Но именно тогда между ними происходило интенсивное сближение. Крупный бизнес по обе стороны Атлантического океана действительно помог улучшить отношения между обеими странами, но лишь после того, как с 1896 г. по 1898 г. произошли решающие дипломатические прорывы. Торговый оборот между Аргентиной и Бразилией находился на минимальном уровне в 80-х гг. прошлого века, когда между ними начался процесс примирения. Лишь создание торгового альянса Меркосур в 1991 г. положило начало торговой интеграции двух стран.
Более того, крепкие торговые связи ни в коей мере не гарантируют, что в межгосударственных взаимоотношениях все будет хорошо. К 1959 г., после десятилетия экономической интеграции, Китай экспортировал половину всех производимых у себя товаров в Советский Союз и стал его главным торговым партнером. Однако выдающийся уровень торговой взаимозависимости так и не предотвратил возврат к геополитическому соперничеству после разрыва добрососедских отношений между Пекином и Москвой. К 1962 г. двусторонний торговый оборот снизился на 40 %. Политика диктовала свои условия.
Урок для Обамы состоит в том, что не следует упускать из виду основные принципы. Под давлением критики у Белого дома может возникнуть искушение снять с повестки дня ключевые вопросы безопасности и попытаться добиться примирения с недружественными странами экономическими средствами. Но, как ясно показывает пример китайско-советского экономического сотрудничества, если торговая интеграция не проводится в контексте геополитической повестки дня, она в лучшем случае представляет собой отвлекающий маневр. Конечно, в руках Вашингтона может оказаться важный рычаг, если он ослабит экономические санкции против Ирана, Кубы и Сирии. Однако главная польза от подобных действий – это посылаемый политический сигнал, а не мнимое умиротворяющее воздействие экономической интеграции. Развивающиеся экономические связи могут сделать процесс политического сближения необратимым, но лишь после того, как будет достигнуто политическое урегулирование.
Добиться нужных результатов
Если администрация Барака Обамы хочет, чтобы попытка достичь соглашения с недружественными США режимами была чем-то большим, чем мимолетный флирт, Вашингтону придется не только умело лавировать при проведении внешнеполитического курса, но и проявлять максимум смекалки на внутриполитической арене. Прогресс будет медленным и постепенным: может понадобиться не один год и даже не одно десятилетие, чтобы превратить врагов в друзей.
Проблема Обамы заключается в том, что Вашингтону катастрофически не хватает терпения. Учитывая предстоящие в ноябре промежуточные выборы, критики не упустят шанс ужесточить риторику и заявить о трудностях президента. При подготовке к выборам следует сосредоточить максимум усилий на создании единого фронта и иметь в своем арсенале хотя бы одно прямое доказательство того, что избранная Белым домом стратегия приносит плоды. Можно утверждать, что сближение с Россией сулит наибольшие перспективы для достижения краткосрочного успеха. Вашингтон и Москва заключили соглашение в сфере контроля над вооружениями. Их интересы пересекаются и на других важных направлениях, включая необходимость стабилизации в Центральной и Южной Азии. Более того, США могут «выехать» на волне того успеха, который уже продемонстрировал Европейский союз в налаживании сотрудничества с Россией в области торговли, энергетики и безопасности.
Бараку Обаме необходимо также начать закладывать фундамент будущей поддержки в Конгрессе. Чтобы успешно преодолеть препоны, которые могут возникнуть на Капитолии, ему следует подумать о включении в свою команду специальных эмиссаров из видных представителей Республиканской партии, таких, например, как бывший помощник президента по национальной безопасности Брент Скоукрофт, бывший сенатор Чак Хэйгел или бывший государственный секретарь Джеймс Бейкер. Это позволит заручиться двухпартийной поддержкой при вынесении на суд Конгресса любых предполагаемых мировых соглашений с недружественными державами.
Важно также не перегнуть палку. Скажем, призыв Обамы к полной ликвидации ядерного оружия, или так называемому «нулевому варианту», какой бы похвальной ни была эта инициатива, может отпугнуть сенаторов-центристов, которые в противном случае были бы готовы ратифицировать ДВЗЯИ. Обаме следует также помнить о соблюдении продуманной последовательности в выдвижении своих инициатив, за которые придется сражаться в Конгрессе. Если в 2010 г. главным приоритетом является прогресс на пути сближения с Россией, имеет смысл отложить полную отмену санкций против Кубы на следующий год. Лучше для начала провести через Капитолий несколько важных проектов, чем сразу просить слишком многого и рисковать вернуться оттуда с пустыми руками.
Несмотря на многочисленные препятствия во внутренней политике и за рубежом, администрации нынешнего президента следует твердо придерживаться своей стратегии сближения с противниками США. Даже при самых благоприятных обстоятельствах сближение обычно происходит скачками и требует филигранной дипломатии и настойчивости. Но когда процесс начнется, наш мир станет гораздо более безопасным местом. Одно только осознание этой истины должно помочь Обаме выиграть хотя бы некоторое время, в котором он так нуждается, чтобы преуспеть в благородном деле превращения врагов в друзей.

Изменение климата или климат для изменений?
А.Т. Багиров – к. полит. н., ведущий эксперт Московского международного нефтяного клуба.
Резюме Тема глобального потепления давно вышла за рамки научных дебатов и стала общественно-политической проблемой. Сегодня борьба с изменением климата – это прежде всего борьба за энергетическую независимость и безопасность, за лидерство в технологическом прорыве.
Тема глобального потепления давно вышла за рамки научных дебатов и стала общественно-политической проблемой. Сегодня борьба с изменением климата – это прежде всего борьба за энергетическую независимость и безопасность, за лидерство в технологическом прорыве. Для России исключительно важно избежать недооценки тенденции. Максимально активное участие в международном сотрудничестве по климатическим вопросам, в том числе в контексте обеспечения энергобезопасности, дает шанс занять лидирующие позиции в меняющемся энергетическом, экономическом, политическом миропорядке. Конференция ООН по изменению климата, состоявшаяся в Копенгагене в декабре 2009 г., стала вехой на пути перемен.
ПОТЕПЛЕНИЕ И ПОЛИТИКА
Теорию глобального потепления в 1970-х гг. впервые обосновал советский ученый Михаил Будыко, и с тех пор проблема климатических изменений находится в центре дискуссий о состоянии окружающей среды. Доклад на эту тему, подготовленный по итогам многочисленных и крайне дорого-стоящих исследований, был вынесен на обсуждение Генеральной Ассамблеи ООН в 1990 г. Именно тогда экологическая проблема превратилась в элемент международной политики, охватывая все ключевые сектора мировой экономики. На долю энергетики приходится свыше 80 % выбросов парниковых газов (ПГ), включая добычу, переработку, транспортировку и потребление нефти, газа, угля и т. д.
Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН, 1994 г.), а затем и Киотский протокол к ней (1997) определили долгосрочные цели международного сотрудничества в этой сфере, а также достаточно жесткий режим обязательств сторон по сокращению выбросов ПГ. Начиная с саммита в Великобритании в 2004 г., соответствующие решения принимают «Группа восьми», «Большая двадцатка». Формат «Встреч ведущих экономик» (Major Economies Meeting) также стал площадкой для обсуждения и согласования позиций по проблеме изменения климата.
На последнем саммите «восьмерки» в Аквиле (июль, 2009 г.) принята резолюция, ставящая амбициозные цели: снижение к 2050 г. глобальных выбросов парниковых газов на 50 %, а выбросов в развитых странах – на 80 %. Под этим документом стоит и подпись президента России Дмитрия Медведева. По мнению ученых, достижение данных показателей позволит предотвратить глобальный рост температуры более чем на 2 градуса Цельсия. Иначе, по оценкам бывшего главного экономиста Всемирного банка сэра Николаса Стерна, ущерб от климатических катаклизмов составит к 2100 г. до 20 % глобального ВВП.
Переговоры, которые ведутся под эгидой ООН, касаются не только долгосрочных целей – обсуждаются и обязательства на период до 2020 года. В итоге предполагается одобрить соглашение, которое заменит Киотский протокол после 2012 г. Помимо прочего предстоит определить юридически обязывающие параметры сокращения выбросов ПГ, а также механизмы межгосударственного сотрудничества по снижению воздействия вредных выбросов на климатическую систему.
Правда, в ходе копенгагенской конференции согласовать текст документа не удалось, и пока принято решение о разработке политического документа, которое должно стать базой для заключения окончательного соглашения, вероятно, на следующей конференции сторон РКИК в Мексике (декабрь, 2010 г.).
Критики утверждают, что конференция в Копенгагене провалилась и даже что консенсус о международном климатическом режиме в принципе невозможен. Однако форум принес немало важных результатов:
развитые страны, включая Россию, поставили задачу по сокращению выбросов ПГ на перспективу до 2020 г. Так, Европейский союз заявил о снижении выбросов на 30 % от уровня 1990 г., Россия и Япония – на 25 %, Соединенные Штаты – на 28 %, а затем до уровня 80 % к 2050 г.;
сформулирована глобальная цель – не допускать роста средней температуры более чем на 2 градуса Цельсия. Это весьма важный шаг, поскольку до сих пор не удавалось договориться о количественной цели самой Рамочной конвенции ООН об изменении климата;
развитые страны выразили готовность предоставить средства для снижения выбросов ПГ в развивающихся странах в размере 30 млрд долларов до 2012 г. и до 100 млрд долларов в год к 2020 г. Развивающиеся страны согласились проводить мониторинг, вести учет и соблюдать отчетность о мерах по адаптации и уменьшению воздействия на климатическую систему;
некоторые развивающиеся страны объявили о целях, связанных со снижением выбросов ПГ. Китай и Индия обязались снизить энергоемкость на 20 % к 2020 г., а Мексика, Южная Корея и ЮАР – остановить рост выбросов и последовательно снижать их;
удалось договориться о включении в международное соглашение механизма, содействующего активизации мер в борьбе против уничтожения тропических лесов. Эта сфера до сих пор не была охвачена международным климатическим режимом.
Резолюцию конференции – Копенгагенское соглашение – подписали пока не все, однако это не умаляет значения документа для дальнейшей работы. США, Китай, Россия, ЕС и многие другие участники форума поддержали документ, а значит, взяли на себя обязательства, которые уже к декабрю 2010 г., как ожидается, будут оформлены в юридически обязывающие соглашения.
Нашу страну представлял президент Дмитрий Медведев, который на пленарном заседании в заключительный день саммита заявил: «Глобальная климатическая сделка – это не звонкий лозунг, а реальный шанс для масштабного внедрения чистых, энергоэффективных и низкоэмиссионных технологий. И такой шанс мы обязаны использовать. Шанс для новых научных решений, шанс для “зеленого” экономического роста и “зеленых” инвестиций во всем мире». Он подчеркнул, что Россия займется повышением энергоэффективности и снижением эмиссии независимо от наличия соглашения. Впервые Москва заявила и о выделении 200 млн долларов на поддержку развивающихся стран (хотя она и не имеет таких обязательств по уже принятым соглашениям).
К 2009 г. выбросы углерода в нашей стране сократились примерно на 37 % по отношению к 1990 г. При этом Россия по-прежнему не участвует в быстро растущем мировом углеродном рынке, годовой оборот которого превышает 120 млрд долларов. Доля российских компаний там ничтожна, а роль страны на рынке современных технологий в области энергоэффективности и использования нетрадиционных источников энергии также практически незаметна.
За всеми этими цифрами, климатическими рассуждениями, политическим давлением и противоборством стоят исключительно серьезные интересы государств, направленные в первую очередь на обеспечение энергетической безопасности, технологического прорыва, формирования «под себя» глобальных рынков высокотехнологичного оборудования, систем управления, новых источников энергии и пр.
Таким образом, климатический фактор все больше становится неотъемлемой составляющей проблемы глобальной энергетической безопасности. В ближайшей перспективе он может занять доминирующее положение наряду с вопросами добычи, транспортировки, эффективного использования энергоресурсов.
НОВЫЕ ФАКТОРЫ В АРХИТЕКТУРЕ МИРОВОЙ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ
Международная энергетическая безопасность традиционно рассматривается прежде всего с точки зрения ведущих нетто-импортеров энергосырья (потребителей), заинтересованных в стабильных поставках углеводородов по разумным ценам. При этом от нетто-экспортеров (производителей) требуется поддержание на высоком уровне резервных мощностей, которые позволяли бы в случае сокращения поставок нефти из одной страны увеличить ее добычу и поступление из других стран.
Детальные исследования состояния и перспектив поставок и потребления энергоресурсов позволяют прогнозировать баланс производства и потребления энергии, оценивать «количественные» параметры системы энергообеспечения на различных уровнях. Выделяются и специфические особенности, присущие нефти и природному газу как стратегическим факторам не только в международном сотрудничестве, но и в геополитическом противоборстве, а также в решении проблем и определении перспектив кооперации в атомной энергетике и т. д.
Но сегодня рассмотрения лишь этих традиционных факторов явно недостаточно. Энергетическая безопасность все больше увязывается с вопросами экологии, устойчивого развития, борьбы с климатическими изменениями. И это объективный процесс, приобретающий общественно-политическую направленность. Иными словами, если человечество отворачивается от грязных, вредных для климата и здоровья источников энергии, это неизбежно ведет к снижению спроса на них и росту потребности в чистых энергоресурсах и технологиях. Не случайно, несмотря на попытки лишь традиционного толкования глобальной энергетической безопасности, еще на саммите «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге (июль, 2006 г.) была принята декларация, в которой огромное значение придается вопросам изменения климата и защиты окружающей среды.
Проблема изменения климата – это новая составляющая архитектуры энергетической безопасности. Как политическая тема она актуализирована западными странами, но уже стала новой доминантой глобального развития. Изменение климата вызывает озабоченность общественности, наблюдающей климатические катаклизмы, ущерб от которых достигает сотен миллиардов долларов. Рост негативных последствий глобального потепления совпал с мировым экономическим кризисом. В этих условиях большой ущерб наносится не только развитым государствам, но и беднейшим странам мира.
Проблема изменения климата пока не воспринимается в России как достаточно злободневная, хотя на самом деле она крайне актуальна. А если учесть давление Соединенных Штатов и Евросоюза, поставивших этот вопрос в ряд приоритетных (наряду с ядерным оружием, терроризмом и энергобезопасностью), то Москве необходимо сделать прагматичные выводы и извлечь максимальные выгоды от участия в международных усилиях по борьбе с климатическими изменениями.
Энергетическое сотрудничество и соперничество, вероятно, переходят в новую фазу. Общая ситуация меняется. Первое десятилетие XXI века характеризовалось дефицитом нефти и высокими ценами, сужением ресурсной базы, особенно для транснациональных корпораций, концентрацией ресурсов и средств в руках государства (Ближний Восток, Венесуэла), установлением враждебных США режимов (Боливия, Венесуэла), повышением роли ОПЕК и независимых экспортеров нефти (в т. ч. России). Но в результате кризиса на следующие 10–20 лет конкурентная борьба опять возвратится в лоно традиционных достижений и возможностей: наличие финансов и технологий. И новыми политическими инициативами Запада станут предложения по энергоэффективности, климатическим изменениям, ядерной энергетике. Противостояние будет обостряться именно в этой сфере, и значение традиционной энергетики начнет постепенно снижаться.
В основе относительно быстрого выхода развитых стран из глобального кризиса лежат не только масштабные антикризисные меры, но и прорыв в области новых технологий. А общественный запрос на действия по борьбе с глобальным изменением климата делает эту тему номером один в международной политике.
Мир не стоял на месте и развивал технологии. В таких странах, как США, Бразилия, Канада, открыты богатейшие залежи нефти и газа (солевые, сланцевые и пр.), сопоставимые в совокупности с запасами Саудовской Аравии (см. таблицу). В сочетании с мерами по борьбе с глобальным потеплением это значительно снизит остроту проблем энергобезопасности в классическом понимании. В этих условиях России не остается другой возможности, кроме как активно и срочно включаться в технологическую гонку и вместе с развитыми странами создавать новые технологии и разработки. В противном случае Москва может оказаться в стороне от решения глобальных мировых проблем и упустит многомиллиардные выгоды (новые технологии, финансовые средства и др.).
Т а б л и ц а
Доказанные запасы нефти, млрд баррелей, Источник: BP/2009
ЭНЕРГЕТИКА И КЛИМАТ - ДВУЕДИНАЯ СТРАТЕГИЯ США
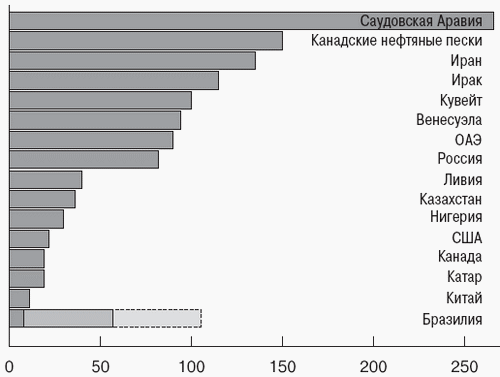
После прихода в Белый дом администрации Барака Обамы в российско-американских отношениях наметился поворот. Уже в скором времени можно ожидать участия ряда американских компаний в новых масштабных проектах на территории России, в частности ямальском и сахалинском нефтегазовых проектах. Это также относится к расширению взаимодействия в третьих странах. Например, «ЛУКойл» и ConocoPhilips заключили соглашение в Ираке («Курна-2»).
Отказ от конфронтации может также привести к выравниванию политики обеих стран в традиционных регионах энергетического сотрудничества (Латинская Америка, Ближний Восток, Каспий). В этой связи нельзя исключать политическую нормализацию вокруг таких государств, как Венесуэла, Боливия и даже Иран. Москва и Вашингтон могли бы сыграть ключевую роль в том, чтобы вовлечь Тегеран в сотрудничество по мирному использованию атома на основе принципов МАГАТЭ и нераспространения ядерного оружия. Иран с его огромными запасами энергоносителей – потенциально область фундаментального и принципиального политического сотрудничества России и США, не исключая и энергетических целей.
С точки зрения проблемы климатических изменений и ее взаимосвязи с американской энергетической стратегией особое внимание привлекает Акт о чистой энергии и безопасности (American Clean Energy and Security Act of 2009), который впервые устанавливает тесную взаимосвязь двух приоритетов – энергобезопасности и изменения климата.
В этом законопроекте предлагается, в частности, ввести комбинированный стандарт возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и энергоэффективности для увеличения энергосбережения на 6 % в 2012 г. и 20 % в 2021–2039 гг. Фактически это означает беспрецедентное повышение эффективности использования энергии и возрастание доли возобновляемых источников энергии до 20 % в энергобалансе страны. При этом следует учитывать, что суммарное энергопотребление в Соединенных Штатах будет увеличиваться и к 2030 гг. может удвоиться. То есть в абсолютном выражении энергосбережение и ВИЭ должны вырасти почти на порядок.
Вводятся меры по стимулированию снижения потребления топлива на транспорте путем ужесточения технологических требований и поддержки новых исследований и разработок. Выбросы парниковых газов, согласно законопроекту, должны быть снижены радикально (по отношению к уровню 2005 г.): до 58 % к 2030 г. и до беспрецедентных в новейшей истории 17 % к 2050 г. Основным инструментом станет рынок квот на выбросы ПГ, который может быть связан с глобальным углеродным рынком. Кстати, этот рынок действует уже с середины 1990-х гг., а его оборот в 2008 г. превысил 122 млрд долларов. Наиболее активные участники – страны ЕС, Япония, Китай, Индия и ряд других. России на углеродном рынке сегодня нет.
Очень важный момент, заложенный в законопроект, – возможность введения требования к импортерам энергоемкой продукции (например, металлов, экспорт которых составляет значительную часть доходов России от внешней торговли) компенсировать «углеродные» выбросы, если это угрожает конкурентоспособности американских компаний.
Фактически США оставляют за собой право вводить жесткие экономические санкции против импортеров, если их страны не участвуют в системе международного сотрудничества по защите климата и не имеют обязательств по снижению выбросов парниковых газов. Для бизнеса это означает необходимость покупать углеродные квоты и представлять их в дополнение к своим основным экспортным товарам – энергоресурсам, металлам, удобрениям и т. п. При растущих в перспективе ценах на углерод такая норма может стать «запретительным» барьером для торговли российскими энергоемкими товарами.
России следует всерьез присмотреться к происходящему, поскольку климатическая политика в стране явно не отвечает требованиям дня, а высокопоставленные чиновники не раз заявляли о нежелании активно участвовать в соглашениях по изменению климата и даже о возможности неприсоединения к нему.
ВЫЗОВЫ ДЛЯ ЭНЕРГОСТРАТЕГИИ РОССИИ
В последнее десятилетие международное энергетическое сотрудничество России развивалось прежде всего по следующим направлениям:
расширение транспортной системы для наращивания экспорта энергоносителей;
инициирование крупномасштабных газотранспортных проектов для прямых поставок в Европу («Северный поток», «Южный поток») и в Азию («ВСТК»), двух газопроводов – «Восточный» и «Западный»;
попытки установления контроля, хотя бы частичного, над объектами европейской энергосистемы (газотранспортные системы, нефтеперерабатывающие заводы и пр.);
участие российских компаний в зарубежных нефтегазовых проектах (Венесуэла, Ирак, Казахстан и др.).
Российские инициативы зачастую блокировались западными странами по политическим причинам. Но в последнее время, особенно на фоне кризиса и прихода к власти в Соединенных Штатах администрации Обамы, обозначилась тенденция к расширению сотрудничества. В этой связи можно ожидать совместного российско-американского проникновения на новые рынки (в частности, в Ираке).
С другой стороны, в ответ на ограничения со стороны западных правительств сдерживалось участие зарубежных компаний в нефтегазовых проектах внутри России. Кроме того, в этом проявилась общемировая тенденция консолидации стратегических энергоресурсов в руках государства. Но и здесь кризис внес свои коррективы: Россия демонстрирует больше открытости к международному сотрудничеству, что ярко продемонстрировало совещание в Салехарде 16 октября 2009 г. Очевидный факт невозможности разработки труднодоступных месторождений Ямала своими силами был наконец признан всеми заинтересованными сторонами.
В этой связи надо сказать о значении выдвинутой президентом Медведевым в апреле 2009 г. энергетической инициативы под общим названием «Концептуальный подход к новой правовой базе международного сотрудничества в сфере энергетики (цели и принципы)». Она призвана заменить собой Европейскую энергетическую хартию и другие многосторонние международные акты, предусматривает гармонизацию отношений между производителями и потребителями энергоресурсов и транзитными странами, укрепление взаимозависимости. В ней содержатся попытки решать глобальные проблемы энергобезопасности через создание коллективной системы – возможно, под эгидой ООН. Инициатива, вероятно, будет развита за счет включения в нее вопросов борьбы с глобальным изменением климата. Россия должна найти формы своего участия в решении этой проблемы, которой сегодня в стране всерьез мало кто занимается.
Как упомянуто выше, Соединенные Штаты и, скорее всего, Европейский союз в соответствии с директивами «Энергетическая безопасность и солидарность» и «Новая энергостратегия «20-20-20» сократят выбросы ПГ в пять (!) раз, что приведет к значительному снижению импорта энергоресурсов. А это не может не затронуть экономические интересы Москвы.
Даже переориентация на Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона не обеспечит новые рынки сбыта для возрастающего экспорта российских нефти и газа. В этой связи встает вопрос: как соотнести амбициозные планы строительства новых межконтинентальных трубопроводов, освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения, Ямальской группы, создание новой СПГ-инфраструктуры на Севере с положением, когда в индустриально развитых странах, потребляющих до 70 % всех энергоресурсов в мире, будут установлены жесткие ограничения?
Серьезную конкуренцию российским нефти и газу уже в ближайшие годы составят Ирак, а затем и Иран. Себестоимость добычи нефти и газа в этих странах не превышает 4–8 долларов за баррель нефтяного эквивалента, тогда как в России, особенно на новых шельфовых месторождениях, она будет достигать не менее 100 долларов.
Не стоит забывать, что в США готовы к промышленному освоению гигантские сланцевые газовые месторождения (около 7 трлн куб. м) при себестоимости добычи и доставки не более 100 долларов/тыс. куб. м, что, кстати, привело к снижению импорта сжиженного природного газа (СПГ) в страну и его переориентацию на рынки Европы и Азии. Другим результатом стало падение цены на газ в Европе и мире, которая более чем в два раза ниже цен трубного газа «Газпрома».
Из вышесказанного можно сделать следующие выводы.
Во-первых, борьба против глобального изменения климата становится доминантой в международной политике. Многие страны и целые континенты готовы принять меры по ограничению выбросов парниковых газов, принятию жестких квот и введению санкций против нарушителей.
Во-вторых, борьба с изменением климата неразрывно связана с проблемой глобальной энергетической безопасности и во многом определит параметры коллективной системы энергобезопасности в мире, главными принципами которой являются взаимозависимость производителей, потребителей и стран-транзитеров, энергоэффективность, гармонизация энергетических отношений, борьба против «энергетического голода», отказ от применения «энергетического оружия» и др.
В-третьих, ускоренное развитие энергосберегающих технологий, использование альтернативных источников возобновляемой энергии, развитие атомной энергетики нового поколения приведут к замещению традиционных энергоресурсов уже в ближайшее десятилетие.
В-четвертых, все это не может не привести к сокращению потребления традиционных источников энергии и, как следствие, к снижению фактической цены на нефть и газ к 2020 г. Если в ближайшей перспективе цена углеводородов может расти, то после принятия юридически обязывающих мер по борьбе с выбросами ПГ она будет неминуемо снижаться. А это ударит по экономическим возможностям России, изменит ее международное положение и роль в мире.
В-пятых, необходимо срочно пересмотреть энергостратегию России, которая страдает традиционными подходами и представлениями о развитии энергетических рынков, не соотносящимися с новыми вызовами и угрозами, стратегическими тенденциями в мире, которые заложены в современную политику Запада.
В-шестых, речь не идет о «наказании» России, как может показаться, а об общемировой тенденции и стратегических закономерностях. Энергетическая инициатива президента Медведева, призыв к модернизации экономики страны, уход от сырьевой ориентации – вот путь, по которому должна двигаться Россия. Пришло время захватить инициативу в этой области и задействовать свой большой интеллектуальный потенциал, с тем чтобы устранить противоречия и использовать меры по борьбе с климатическими изменениями в национальных интересах.

Как развитие ведет к демократии
© "Россия в глобальной политике". № 3, Май - Июнь 2009
Кристиан Вельцель – профессор политологии Бременского университета им. Якобса (ФРГ). Роналд Ингелхарт – профессор политологии Мичиганского университета, директор проекта World Values Survey («Всемирный опрос о ценностях»). Они – соавторы книги Modernization, Cultural Change, and Democracy («Модернизация, культурные изменения и демократия»). © Council on Foreign Relations, Inc.
Резюме Демократические институты возникают только тогда, когда для этого складываются определенные социальные и культурные условия. Экономическое развитие и модернизация содействуют возникновению таких условий, повышая вероятность укрепления демократии.
В последнее время демократический бум сменился демократическим спадом. С 1985 по 1995 год множество стран совершили переход к демократии, что вызвало повсеместную эйфорию. Но впоследствии демократия сдала позиции в Бангладеш, Нигерии, на Филиппинах, в России, Таиланде и Венесуэле, а попытки администрации Джорджа Буша установить демократию в Афганистане и Ираке, по всей вероятности, ввергли обе страны в хаос. Эти события, наряду с растущей мощью Китая и России, подтолкнули многих наблюдателей к выводам, что демократия достигла высшей точки и ее подъем завершился.
Это – ошибочное заключение. Основополагающие условия во многих странах мира указывают на более сложные обстоятельства. Нереалистично полагать, что демократические институты можно без труда ввести почти везде и в любое время. Хотя перспективы никогда не бывают безнадежными, с наибольшей вероятностью демократия возникает и выживает при наличии определенных социальных и культурных условий. Администрация Буша проигнорировала эти реалии, когда попыталась внедрить демократию в Ираке, не укрепив предварительно внутреннюю безопасность и упустив из виду культурные условия, которые поставили эту попытку под угрозу.
Однако обстоятельства, ведущие к демократии, могут возникнуть и возникают, а многочисленные эмпирические данные свидетельствуют о том, что этому способствует процесс модернизации. Модернизация – совокупность социальных перемен, связанных с индустриализацией. Вступив в действие, она стремится проникнуть во все сферы жизни, неся с собой профессиональную специализацию, урбанизацию, повышение уровня образования, увеличение средней продолжительности жизни и быстрый экономический рост. Все это создает самоусиливающийся процесс, сопровождаемый подъемом массового участия в политике и – в долгосрочной перспективе – повышает степень вероятности установления демократических политических институтов. Сегодня мы имеем, как никогда, четкое представление о том, почему и как происходит процесс демократизации.
Долгосрочная тенденция к возникновению демократии всегда проявлялась в подъемах и спадах. В начале ХХ столетия существовала лишь горстка демократических стран, и даже они не соответствовали сегодняшним стандартам демократии. Число демократических государств резко возросло после Первой мировой войны, следующий пик наступил после Второй мировой, а третий – в конце холодной войны. За каждым из этих подъемов следовал спад, хотя число демократических стран никогда не опускалось до первоначального уровня. К началу XXI века около 90 государств можно было считать демократическими.
Хотя многие из этих демократий несовершенны, общая тенденция крайне убедительна: в долгосрочной перспективе модернизация ведет к демократии. Это значит, что экономический взлет Китая и России имеет положительный аспект: происходят сопутствующие перемены, которые повышают вероятность появления в будущем все более либеральных и демократических политических систем. Еще это значит, что нет причины для паники в связи с тем, что в настоящее время демократия, по-видимому, вынуждена перейти к обороне. Динамика модернизации и демократизации проявляется все отчетливее, и вполне вероятно, что она продолжит функционировать.
ВЕЛИКИЙ СПОР
Концепция модернизации имеет долгую историю. В XIX и ХХ веках марксистская теория модернизации провозглашала, что отмена частной собственности положит конец эксплуатации, неравенству и конфликтам. Согласно противостоявшей ей капиталистической версии, утверждалось, что экономическое развитие приведет к росту уровня жизни и к демократии. Эти два представления о модернизации яростно соперничали друг с другом на протяжении большего периода холодной войны. К 1970-м, однако, коммунизм начал переживать застой, а во многих бедных странах не наблюдалось ни экономического развития, ни демократизации. Казалось, что ни та, ни другая точки зрения не подтвердилась, и критики объявили о смерти теории модернизации.
Однако после окончания холодной войны концепция модернизации обрела вторую жизнь и возникла новая версия теории с ясным пониманием того, куда должно привести глобальное экономическое развитие. Освободившись от предшествующих упрощений, новая теория модернизации проливает свет на текущие культурные перемены, такие, например, как утверждение гендерного равенства, недавняя волна демократизации и видение демократического мира.
На протяжении большей части истории технологический прогресс протекал крайне медленно, а новые способы увеличения производства продуктов питания сводились на нет ростом населения. Аграрные экономики зажимались в капкан стационарного равновесия без повышения уровня жизни. Историю считали либо цикличной, либо постепенно приходящей в упадок после золотого века. Ситуация начала меняться после промышленной революции и наступления устойчивого экономического роста, что привело к появлению как капиталистического, так и коммунистического представлений о модернизации. Хотя эти идеологии яростно между собой, обе они опирались на экономический рост и общественный прогресс и привели народные массы в политику. Причем каждая из сторон верила, что развивающиеся страны Третьего мира выберут ее путь модернизации.
В разгар холодной войны в Соединенных Штатах возникла версия теории модернизации, которая описывала экономическую отсталость как прямое следствие психологических и культурных характеристик нации. Утверждалось, что такая отсталость отражает традиционные религиозные и общинные ценности, которые не поощряют достижений. Богатые демократии Запада, гласила теория, могли бы внедрить современные ценности и содействовать «недоразвитым» странам в том, чтобы идти по пути прогресса, оказывая им экономическую, культурную и военную помощь. К 1970-м годам, однако, стало ясно, что помощь не принесла народам этих стран ни процветания, ни демократии. Доверие к данной версии теории модернизации, которую всё настойчивее критиковали за этноцентризм и высокомерие, было подорвано.
Ее атаковали последователи теории зависимости, утверждавшие, что торговля с богатыми странами эксплуатирует бедные государства, замыкая их в положении структурной зависимости. Элиты в развивающихся странах приветствовали такой взгляд, поскольку из него следовало, что нищета не связана с внутренними проблемами или коррупцией местных лидеров, а во всем виноват мировой капитализм. К 1980-м теория зависимости стала крайне модной. Согласно ее аргументам, страны Третьего мира могли спастись от глобальной эксплуатации, только уйдя с международных рынков и приняв политику импортозамещения.
Позднее стало понятно, что стратегия импортозамещения провалилась: наименее вовлеченные в мировую торговлю страны – в частности, Бирма, Куба и Северная Корея – не стали наиболее успешными, так как в действительности они прогрессировали меньше всех. Стратегии, ориентированные на экспорт, куда больше содействовали устойчивому экономическому росту и в конечном счете демократизации. Маятник качнулся назад, и доверие начала внушать новая теория модернизации. Стремительный экономический рост Восточной Азии и последовавшая за этим демократизация Южной Кореи и Тайваня, казалось, подтверждали ее основные постулаты: производство для мировых рынков стимулирует рост экономик; инвестирование прибыли в человеческий капитал и повышение квалификации рабочей силы для производства высокотехнологичных товаров приносят более высокую прибыль и расширяют образованный средний класс; после того как средний класс становится достаточно многочисленным и способным четко выражать свои мысли, он начинает настаивать на либеральной демократии – наиболее эффективной политической системе для передовых индустриальных обществ.
Тем не менее даже сегодня, если упомянуть модернизацию на конференции по экономическому развитию, в ответ, скорее всего, можно услышать повторение критики в духе теории зависимости, в которой речь шла об «отсталых странах», как будто других аспектов модернизации не существует и как будто с 1970-х годов мы не получали новых данных.
НОВАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
Если оглянуться назад, станет очевидна ошибочность ранних версий теории модернизации в нескольких пунктах. Сегодня практически никто не ждет пролетарской революции, которая отменит частную собственность, возвещая новую эру без эксплуатации и конфликтов. Никто не ждет и того, что индустриализация автоматически приведет к установлению демократических институтов, – коммунизм и фашизм тоже были порождением индустриализации. И все-таки большой массив данных указывает на то, что основная предпосылка теории модернизации была верной: экономическое развитие действительно ведет, как правило, к важным и в целом предсказуемым переменам в обществе, культуре и политике. Но в более ранние версии теории модернизации необходимо внести ряд поправок.
Во-первых, модернизация не линейна. Она не движется бесконечно в одном и том же направлении, а вместо этого процесс достигает переломных точек. Эмпирические данные показывают, что каждая фаза модернизации связана с особыми изменениями в мировоззрении людей. Индустриализация ведет к единому масштабному процессу перемен, результатом которого становятся бюрократизация, иерархия, централизация власти, секуляризация и сдвиг от традиционных ценностей к ценностям светским и рациональным. Постиндустриальное общество приносит набор культурных перемен, которые движутся в ином направлении: вместо бюрократизации и централизации новая тенденция направлена на то, чтобы усилить акцент на автономности индивида и ценностях самовыражения, что ведет к растущей эмансипации от власти.
Таким образом, при прочих равных условиях высокий уровень экономического развития обычно делает людей более терпимыми и доверчивыми, повышает стремление к самовыражению и участию в принятии решений. Этот процесс не является предопределенным, и любой прогноз может быть только вероятностным, поскольку на него влияют не только экономические факторы. Лидеры той или иной страны и ее внутренние события тоже формируют происходящее. Более того, модернизация не является необратимой. Ее может повернуть вспять тяжелый экономический спад, как случилось во времена Великой депрессии в Германии, Испании, Италии и Японии, а в 1990-х – в большинстве бывших советских республик. Если текущий экономический кризис превратится в Великую депрессию XXI столетия, мир может столкнуться с новой борьбой против возродившихся ксенофобии и авторитарности.
Во-вторых, социальные и культурные перемены зависят от пути, пройденного страной: история имеет значение. Хотя экономическое развитие обычно и приносит предсказуемые перемены в мировоззрении людей, историческое наследие общества, сформированное протестантизмом, католицизмом, исламом, конфуцианством или коммунизмом, оставляет продолжительный отпечаток на его мировоззрении. Система ценностей отражает взаимодействие между движущими силами модернизации и стойким влиянием традиции. Классики теории модернизации как на Востоке, так и на Западе думали, что религия и этические традиции отомрут, однако эти категории доказали свою высокую сопротивляемость. Хотя жители стран, вставших на путь индустриализации, становятся богаче и образованнее, это отнюдь не ведет к появлению единообразной мировой культуры. Культурное наследие удивительно долговечно.
В-третьих, модернизация – это не вестернизация, вопреки более ранней, этноцентрической, версии теории. Процесс индустриализации начался на Западе, но в течение последних нескольких десятилетий самые высокие темпы экономического роста наблюдались в Восточной Азии, а Япония занимает первое место в мире по средней продолжительности жизни и по ряду других аспектов модернизации. Соединенные Штаты не являются образцом для глобальных культурных перемен, а индустриализующиеся общества в целом не становятся похожими на США, как предполагает популярная версия теории модернизации. На самом деле американское общество сохраняет больше традиционных ценностей, чем многие другие страны с высоким уровнем доходов.
В-четвертых, модернизация не ведет к демократии автоматически. Скорее она приносит социальные и культурные изменения, которые повышают степень вероятности демократизации. Простое достижение высокого уровня ВВП на душу населения не создает демократию: в противном случае Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты превратились бы в образцовые демократии. (Эти страны не прошли описанный выше процесс модернизации.) Но возникновение постиндустриального общества сопровождается определенными социальными и культурными переменами, которые способствуют демократизации. Информационные общества не могут эффективно функционировать без высокообразованного населения, которое все больше привыкает думать самостоятельно. Более того, повышение уровня экономической безопасности переносит акцент на ценности самовыражения, ставя в число основных приоритетов свободу выбора и мотивируя политическую активность. Соответственно после определенного момента довольно трудно избежать демократизации, потому что подавление массового требования более открытого общества становится дорогостоящим и пагубным для экономической эффективности. Таким образом, на продвинутых стадиях модернизация связана с социальными и культурными переменами, которые способствуют повышению степени вероятности появления и расцвета демократических институтов.
Центральной идеей теории модернизации является то, что экономическое и технологическое развитие порождает комплекс взаимосвязанных социальных, культурных и политических изменений. Это подтверждается большим объемом эмпирических данных. Экономическое развитие действительно связано с повсеместными сдвигами в убеждениях и мотивации людей, а эти сдвиги в свою очередь изменяют роль религии, трудовую мотивацию, уровень рождаемости, гендерные роли и сексуальные нормы. А еще они вызывают растущий массовый спрос на демократические институты и куда более отзывчивую реакцию со стороны элит. Совокупность этих перемен делает возникновение демократии все более вероятным, а войну – менее приемлемой для населения.
ОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ
Новые эмпирические данные позволяют лучше понять, как модернизация меняет мировоззрение и мотивацию. Одним из важных источников служат глобальные опросы о массовых ценностях и отношении к различным проблемам. С 1981 по 2007 год «Всемирный опрос о ценностях» (World Values Survey) и «Исследование европейских ценностей» (European Values Study) провели пять циклов репрезентативных общенациональных опросов во многих странах, охватив почти 90 % населения мира. (С данными опросов можно ознакомиться на сайте www.worldvaluessurvey.org.)
Результаты обнаруживают значительные кросснациональные различия в том, во что люди верят и что ценят. В некоторых государствах 95 % опрошенных утверждают, что Бог очень важен в их жизни; в других странах таких только 3 %. В одних обществах 90 % респондентов убеждены, что мужчины имеют больше прав на рабочее место, чем женщины; в других так считают только 8 %. Эти кросснациональные различия прочны и долговечны, и они тесно коррелируют с уровнем экономического развития. Население стран с низким доходом намного чаще делает акцент на религию и традиционные гендерные роли, чем жители процветающих стран.
Эти опросы о ценностях демонстрируют, что мировоззрение представителей богатых обществ системно отличается от мировоззрения жителей бедных стран, относительно широкого диапазона политических, социальных и религиозных норм. Различия касаются двух фундаментальных аспектов: противопоставления традиционных ценностей секулярно-рациональным и ценностей выживания ценностям самовыражения. (Каждый аспект отражает ответы на множество вопросов, задававшихся в ходе опроса.) Сдвиг от традиционных к секулярно-рациональным ценностям связан с переходом от аграрного общества к индустриальному. Традиционные общества делают упор на религии, на уважении и повиновении властям и на национальной гордости. Эти характеристики меняются по мере того, как общества становятся более секулярными и рациональными.
Переход от ценностей выживания к ценностям самовыражения связан с появлением постиндустриальных обществ. Он отражает культурный сдвиг, который происходит, когда появляются молодые поколения, считающие выживание само собой разумеющимся. Ценности выживания отдают приоритет экономической и физической безопасности и конформистским социальным нормам. Ценности самовыражения отдают приоритет свободе выражения, участию в принятии решений, защите политических прав, охране окружающей среды, гендерному равенству, терпимости к этническим меньшинствам, иностранцам и сексуальным меньшинствам. Все это порождает культуру доверия и терпимости, в которой люди дорожат личной свободой и самовыражением и ориентированы на активное участие в политике. Эти свойства жизненно необходимы для демократии – они же и объясняют, как экономический рост, ведущий к переходу от аграрных обществ к индустриальным, а впоследствии от индустриальных к постиндустриальным обществам, приводит к демократизации.
Беспрецедентный экономический рост в последние 50 лет означает, что бЧльшая часть мирового населения выросла в условиях гарантированного выживания. Данные временнЧго ряда, полученные при опросах о ценностях, указывают на то, что массовые приоритеты сдвинулись с повсеместного акцента на экономической и физической безопасности в сторону субъективного благополучия, самовыражения, участия в принятии решений и относительно доверительных и толерантных взглядов.
Оба измерения тесно связаны с экономическим развитием: системы ценностей в странах с высоким уровнем дохода резко отличаются от этих систем в странах с низким уровнем. Все государства, которые имеют высокий уровень дохода по методике Всемирного банка, отличаются относительно высокими показателями по обоим направлениям – с ярко выраженным упором и на секулярно-рациональных ценностях, и на ценностях самовыражения. Все страны с низким и средненизким уровнями дохода по обоим аспектам отличаются относительно невысокими показателями. Страны со средневысоким уровнем дохода располагаются где-то посередине. Ценности и убеждения каждого общества в примечательной степени отражают уровень его экономического развития, как и предсказывает теория модернизации.
Эта прочная связь между системой ценностей общества и ВВП на душу населения заставляет предположить, что экономическое развитие обычно порождает более или менее предсказуемые изменения в убеждениях и ценностях общества, и эту гипотезу подтверждают имеющиеся данные временнЧго ряда. При сравнении позиций отдельных государств в последовательных волнах опроса о ценностях обнаруживается, что почти всем странам, переживающим подъем ВВП на душу населения, свойствен и предсказуемый сдвиг в системе ценностей.
Вместе с тем результаты опросов показывают также, что культурные перемены зависят от предшествующего пути: культурное наследие того или иного общества формирует его место на культурной карте мира. На этой карте отражены отличные друг от друга группы государств: протестантская Европа, католическая Европа, бывшая коммунистическая Европа, англоговорящие страны, Латинская Америка, Южная Азия, исламский мир и Африка. Ценности, на которые ориентируются различные общества, складываются в удивительно связную схему, которая отражает и экономическое развитие, и религиозное и колониальное наследие. Тем не менее, даже если культурное наследие продолжает формировать превалирующие ценности, экономическое развитие несет с собой перемены, которые ведут к важным последствиям. Со временем оно преобразует самые разные убеждения и ценности, а также формирует растущий массовый спрос на демократические институты и куда более отзывчивую реакцию со стороны элит. И за более чем четверть века, в течение которых велись опросы о ценностях, люди в большинстве стран всё больше подчеркивали ценности самовыражения. Этот культурный сдвиг значительно увеличивает вероятность возникновения демократии там, где ее пока нет, равно как и вероятность повышения ее эффективности и полноты там, где она уже есть.
РАЗВИТИЕ И ДЕМОКРАТИЯ
Пятьдесят лет назад социолог Мартин Липсет отметил, что богатые страны с гораздо большей степенью вероятности становятся демократическими, чем бедные. Хотя это утверждение долгие годы оспаривалось, оно выдержало неоднократные проверки. Сомнению подвергалось и направление причинно-следственной связи – богатая страна является демократией, выше потому, что демократия делает страну богатой, или развитие ведет к демократии?
Сегодня представляется очевидным, что движение происходит в основном в направлении от экономического развития к демократизации. На раннем этапе индустриализации авторитарные государства способны добиться высоких темпов роста с той же степенью вероятности, что и демократические. Но после определенного уровня экономического развития повышается также степень вероятности появления и выживания демократии. Так, из целого ряда государств, демократизировавшихся около 1990-го, большинство относилось к странам со средним доходом: почти все государства с высоким доходом уже являлись демократиями, и немногие страны с низким доходом тоже совершили этот переход. Более того, среди государств, которые демократизировались в период с 1970 по 1990 год, демократия выжила во всех странах, находившихся на экономическом уровне сегодняшней Аргентины или выше. Среди стран, стоявших ниже этого уровня, средняя продолжительность жизни демократии составляла всего восемь лет.
Явная корреляция между развитием и демократией отражает тот факт, что экономические успехи содействуют появлению демократии. По вопросу о том, почему, собственно, развитие способствует демократии, велись интенсивные споры, но уже появляется ответ. Якобы благодаря некоей бестелесной силе демократические институты автоматически появляются, когда страна достигает определенного уровня ВВП. Скорее экономическое развитие влечет за собой социальные и политические перемены, только когда оно меняет поведение людей. Следовательно, экономическое развитие ведет к демократии в той степени, в какой оно, во-первых, создает многочисленный, образованный и четко выражающий свои мысли средний класс, состоящий из людей, привыкших думать самостоятельно, и, во-вторых, преобразует ценности и мотивы людей.
В настоящее время появилась возможность установить, в чем состоят ключевые перемены и насколько они продвинулись в той или иной стране. Анализ опросов о ценностях позволяет классифицировать факторы воздействия на социальные и культурные перемены, а его результаты позволяют заключить, что экономическое развитие ведет к демократии постольку, поскольку оно приносит с собой конкретные структурные изменения (в особенности подъем информационного сектора) и определенные культурные изменения (в особенности подъем ценностей самовыражения). Войны, депрессии, институциональные изменения, решения элит и конкретные лидеры тоже влияют на происходящее, но структурные и культурные перемены являются главным фактором появления и выживания демократии.
Модернизация способствует подъему уровня образования, создавая профессии, требующие независимого мышления, и делая людей более способными выражать свои мысли и лучше оснащенными для вмешательства в политику. По мере возникновения информационных обществ люди привыкают полагаться на собственную инициативу и суждения на работе и становятся более склонными подвергать сомнению жесткую и иерархичную власть.
Модернизация также делает людей более защищенными экономически. Ценности самовыражения распространяются все шире, когда большая доля населения вырастает с уверенностью, что ее выживание гарантировано. Желание свободы и автономии – это универсальные стремления. Когда выживание не гарантировано, они могут быть подчинены потребности в пропитании и порядке, но они поднимаются все выше в списке приоритетов по мере того, как выживание становится более обеспеченным. Основная мотивация для демократии – желание человека иметь свободу выбора – начинает играть более важную роль. Люди все больше и больше акцентируют свободу выбора в политике и требуют гражданских и политических прав, а также демократических институтов.
ЭФФЕКТИВНАЯ ДЕМОКРАТИЯ
С 1985 по 1995 год выборная демократия быстро распространилась по миру. В этом процессе важную роль сыграли стратегические договоренности элит, которым содействовала международная обстановка, когда окончание холодной войны открыло путь для демократизации. Изначально было принято считать демократией любой режим, проводивший свободные и справедливые выборы. Но многие новые демократии страдали от массовой коррупции и не смогли установить правовое государство, а именно это делает демократию эффективной. Поэтому все больше наблюдателей сегодня подчеркивают неадекватность «выборной демократии», «гибридной демократии», «авторитарной демократии», иных форм мнимой демократии, в которой предпочтения масс могут в основном игнорируются политическими элитами и в которых народ не может оказывать определяющее влияние на решения правительства. Соответственно важно отличать эффективную демократию от неэффективной.
Суть демократии состоит в том, что она дает власть и возможности рядовым гражданам. Эффективность либо неэффективность демократии определяется не тем, какие гражданские и политические права существуют на бумаге, а тем, как чиновники на самом деле соблюдают эти права. Первый из этих двух компонентов – существование прав на бумаге – измеряется ежегодным рейтингом Freedom House: если страна проводит свободные выборы, Freedom House обычно присваивает ей статус «свободной» и начисляет баллы, помещающие ее на верхние строчки рейтинга или рядом с ними. Таким образом, новые демократии Восточной Европы получают такой же высокий рейтинг, как и устоявшиеся демократии Западной Европы, хотя углубленный анализ показывает, что широкое распространение коррупции делает эти демократии куда менее эффективными в реагировании на предпочтения граждан. К счастью, рейтинг качества государственного управления Всемирного банка измеряет степень реальной эффективности демократических институтов. Следовательно, примерный индекс эффективной демократии можно получить, умножив эти два рейтинга – формальной демократии по измерениям Freedom House и рейтинг порядочности элит и институтов, устанавливаемый Всемирным банком.
Эффективная демократия – это гораздо более строгий стандарт, чем выборная демократия. Выборную демократию можно установить практически где угодно, но она, скорее всего, долго не продержится, если не передаст власть от элит народу. Эффективная демократия с наибольшей вероятностью будет существовать при наличии относительно развитой инфраструктуры, которая включает в себя не только экономические ресурсы, но и широко распространенную привычку к участию в политическом процессе, а также акцент на автономии. Соответственно она тесно связана с тем, в какой степени население заинтересовано в ценностях самовыражения. И действительно, корреляция между ценностями общества и природой политических институтов страны необыкновенно велика.
Буквально все стабильные демократии демонстрируют высокие ценности самовыражения. У большинства латиноамериканских государств результаты оказались ниже ожидаемых: это свидетельствует о более низком уровне эффективной демократии, чем можно было предсказать исходя из ценностей, которым отдают предпочтение жители данных стран. Можно предположить, что такие общества в состоянии поддерживать более высокий уровень демократии, если укрепить там правовое государство. Результаты Ирана тоже ниже ожидаемых: это теократический режим, который допускает куда более низкий уровень демократии, чем тот, к которому стремится народ. Как ни удивительно для тех, кто концентрируется на политике только на уровне элит, жители Ирана демонстрируют относительно высокую степень поддержки демократии. Напротив, Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Польша и Эстония показывают результаты выше ожидаемых, уровень демократии там выше, чем можно было бы предсказать исходя из ценностей, предпочитаемых жителями данных стран, – возможно, это отражает стимулы к демократизации, связанные с членством в Европейском союзе.
Но ведут ли ценности самовыражения к демократии, или же демократия служит причиной появления ценностей самовыражения? Результаты иследований указывают на то, что именно ценности приводят к демократии. (Полностью с данными, подкрепляющими это утверждение, можно ознакомиться в нашей книге «Модернизация, культурные перемены и демократия».) Для того чтобы появились ценности самовыражения, нет необходимости в уже существующих демократических институтах.
Данные временныЂх рядов, полученные при опросах о ценностях, указывают на то, что в период, предшествовавший волне демократизации в конце 1980-х и начале 1990-х годов, ценности самовыражения уже возникли в процессе поколенческой смены ценностей – не только в западных демократиях, но также и во многих авторитарных обществах. К 1990-м народы Восточной Германии и Чехословакии, жившие при двух из наиболее авторитарных режимов в мире, высоко подняли планку ценностей самовыражения. Важнейшим фактором была не политическая система, а тот факт, что эти страны относились к числу наиболее экономически развитых в коммунистическом мире, с высоким уровнем образования и передовой системой социального обеспечения. Таким образом, когда лидер Советского Союза Михаил Горбачёв отказался от доктрины Брежнева, устранив угрозу советского военного вмешательства, эти государства сразу же вступили на путь демократии.
В последние десятилетия ценности самовыражения распространялись и укреплялись, повышая вероятность прямого вмешательства народа в политику. (Действительно, беспрецедентное число людей принимало участие в демонстрациях, которые содействовали появлению последней волны демократизации.) Значит ли это, что авторитарные системы неминуемо рухнут? Нет. Акцентирование на ценностях самовыражения обычно подрывает легитимность авторитарных систем, но пока авторитарные элиты контролируют армию и тайную полицию, они способны подавлять продемократические силы. И все-таки даже для репрессивных режимов сдерживание подобного рода тенденций обходится дорого, ибо обычно это препятствует появлению эффективных информационных секторов.
СОВРЕМЕННАЯ СТРАТЕГИЯ
Такое новое понимание модернизации имеет немаловажные последствия для международных отношений.
В первую очередь оно помогает объяснить, почему передовые демократии не воюют друг с другом. Утверждение о невозможности вооруженного конфликта между ними восходит еще к Адаму Смиту и Иммануилу Канту, и недавние исследования обеспечивают солидную эмпирическую поддержку этого тезиса. После своего появления в начале XIX века либеральные демократии сражались в нескольких войнах, но практически никогда друг против друга. Эта новая версия теории модернизации указывает на то, что причиной феномена демократического мира являются скорее культурные ценности, связанные с модернизацией, чем демократия, как таковая.
В более ранние периоды истории демократии часто воевали друг с другом. Но превалировавшие в них нормы со временем эволюционировали, о чем свидетельствуют отмена рабства, постепенное распространение избирательных прав и движение к гендерному равенству практически во всех современных обществах. Еще одна культурная перемена, произошедшая в современных обществах, состоит в том, что война считается все более неприемлемой, а степень вероятности того, что люди будут выражать свои предпочтения и пытаться воздействовать на политику, повысилась. Данные проекта «Всемирный опрос о ценностях» показали, что жителям стран с высоким уровнем дохода присущ гораздо более низкий уровень ксенофобии, чем жителям стран с низким уровнем дохода, а граждане государств с высоким уровнем дохода в гораздо меньшей степени готовы сражаться за свою Родину, чем жители стран с низким уровнем дохода. Более того, экономически развитые демократии ведут себя по отношению друг к другу куда более мирно, чем бедные демократии, и гораздо меньше склонны развязать гражданскую войну, чем бедные демократии.
Для внешней политики США теория модернизации имеет как предостерегающие, так и ободряющие последствия. Предостерегающим уроком, конечно же, служит Ирак. Вопреки привлекательному мнению, что демократию можно без труда установить практически везде, теория модернизации утверждает, что демократия с гораздо большей степенью вероятности укоренится при определенных условиях. Ряд факторов, включая глубокие этнические противоречия, усугубленные режимом Саддама Хусейна, сделали нереалистичными ожидания того, что демократию в Ираке будет просто установить. А после поражения Саддама особенно серьезной ошибкой стала неспособность противодействовать снижению уровня физической безопасности.
Межличностное доверие и терпимость процветают, когда люди чувствуют себя в безопасности. Маловероятно, что демократия выживет в социуме, раздираемом недоверием и нетерпимостью, а Ирак сейчас отличается самым высоким уровнем ксенофобии из всех обществ, по которым имеются соответствующие данные. Наглядным показателем ксенофобии служит число людей, не желающих иметь соседями иностранцев. Средняя доля опрошенных из 80 стран, которые заявили об этом, составляет 15 %. Среди иракских курдов 51 % участников опроса тоже сказали, что не хотели бы соседствовать с иностранцами. 90 % иракских арабов-респондентов не хотели бы иметь соседей-иностранцев. Сообразно с этими условиями Ирак (вместе с Зимбабве и Пакистаном) демонстрирует очень низкие уровни как ценностей самовыражения, так и эффективной демократии.
Теория модернизации имеет для внешней политики Соединенных Штатов также и позитивные последствия. На основе большого количества данных она приводит к выводу, что экономическое развитие является фундаментальной движущей силой демократических перемен, то есть Вашингтон должен делать все что в его силах для поощрения развития. Если, например, он хочет добиться демократических перемен на Кубе, то изолировать ее контрпродуктивно. США должны снять эмбарго, содействовать экономическому развитию и поощрять социальное взаимодействие и другие внешние связи Кубы с остальным миром. Ни в чем нельзя быть уверенным, но эмпирические данные заставляют предполагать, что растущее там ощущение безопасности и акцент на ценностях самовыражения подорвут авторитарный режим.
Аналогичным образом тревожащее экономическое возрождение Китая влечет за собой долгосрочные позитивные последствия. Под видимой монолитной политической структурой возникает социальная инфраструктура демократизации. Китай сейчас приближается к тому же уровню массового внимания к ценностям самовыражения, достигнув которого такие страны, как Польша, Тайвань, Чили и Южная Корея совершили переход к демократии. И, как ни удивительно это может показаться тем исследователям, которые берут в расчет только политику на уровне элит, Иран тоже приблизился к этому порогу.
Пока Коммунистическая партия Китая и теократические лидеры Ирана контролируют армию и силы безопасности в своих странах, демократические институты на уровне государства не появятся. Но растущее давление масс в пользу либерализации уже начинает проявляться, и их подавление приведет к росту издержек с точки зрения экономической неэффективности и упадка морального духа общества. В целом рост благосостояния населения Ирана и Китая соответствует национальным интересам США.
В более широком смысле из теории модернизации следует, что Соединенные Штаты должны приветствовать и поощрять экономическое развитие во всем мире. Хотя экономическое развитие и требует сложной адаптации, но его долгосрочный эффект ведет к появлению более терпимых, менее ксенофобских и в конечном счете более демократических обществ.

Сергея Караганова, декана факультета мировой истории Высшей школы экономики, можно назвать профессиональным советчиком. В какие только советы он не входил! Совет при МИДе, Совет при Совете безопасности, Совет при председателе Совета Федерации – всего и не перечислишь. При Ельцине Караганов долго был даже членом президентского совета. И хотя Путин с Медведевым от ельцинского курса, особенно во внешней политике, решительно отмежевались, международнику Караганову нашлось место и в их команде.
В 2004г. он был введен в состав Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Плоды его работы на этом поприще пока не сильно ощутимы – гражданского общества в России как не было, так и нет, а права человека нарушаются сплошь и рядом. Но зато с экрана телевизора политолог Сергей Караганов по-прежнему регулярно растолковывает населению международную обстановку.
• Зачем в США учредили медаль, которой награждают за победу в «холодной войне»?
Это неправда, нет такой медали! Более того, у значительной части западной элиты есть ощущение, что Запад еще не до конца победил нашу страну в «холодной войне». Они, по сути, продолжают «холодную войну», направленную на дальнейшее ослабление России. При этом значительная часть российской элиты не считала и не считает себя побежденной. Она полагает, что, освободив себя и мир от коммунизма, Россия отступила добровольно, с развернутыми знаменами. В этом, кстати, сейчас главная причина трений между Россией и Западом.
• Что было бы с миром, если бы в «холодной войне» победил СССР?
Мы участвовали в «холодной войне» на крайне невыгодных условиях. Имели слабых и ненадежных союзников, в сравнении с блоком НАТО у нас было меньше населения, меньше валового национального продукта. Нам навязали военную конфронтацию, и поэтому Советскому Союзу в мирное время приходилось тратить 25% бюджета страны на оборону. Условно говоря, мы так и не вышли из Великой Отечественной войны. Ведь во время войн большинство стран тратят на оборону такую часть национального бюджета. У нас не было возможности победить. Но мы могли бы выйти из «холодной войны» более удачно, с меньшими потерями.
• Давайте коснемся внутриамериканской демократии. Журналистам «Нью-Йорк таймс», осмелившимся опубликовать заметку о том, что сразу после терактов 11 сент. Джордж Буш разрешил Агентству по национальной безопасности прослушивать телефоны американцев без санкции суда, генеральный прокурор США Альберто Гонсалес грозил предъявить официальное обвинение в нарушении закона о разведке от 1917г.
Америка – далеко не самая лучшая демократия в мире. И вообще не самая лучшая страна. Что касается гонсалесов, зажимов правды, разведопераций. то там все это есть по полной программе. А разве у нас подобного не происходит? Но я не хочу ругать свое государство. Мы спаслись. и спасибо Путину, что он вытащил страну из полного коллапса.
• Вы утверждаете, что главные интересы США и России «отныне лежат не в сфере двусторонних отношений, а в отношениях с третьими странами».
Международные интересы США в первую очередь связаны с Ираном, Афганистаном, Ираком и нераспространением ядерного оружия. Для России же это проблемы второго или даже третьего порядка. Для нас они, конечно же, тоже важны, но дело в том, что исторически мы привыкли жить в более сложных геополитических условиях, чем США. В условиях неопределенности, что ли. А главный интерес нашей страны, как его понимает нынешняя отечественная элита, – это недопущение полного ухода исторических земель из-под контроля России.
• Искусственно создав для России проблемы Ющенко и Саакашвили, американцы же будут помогать нам их решать в обмен на нашу поддержку США в их конфликте с Ираном?
Американцы всегда исторически мешали восстановлению великих держав. Такова государственная официальная политика США. Нужно относиться к ней без иллюзий. Кстати, поддержка Саакашвили и Ющенко – это на самом деле провал американской политики. Украинский президент не производит сколько-нибудь серьезного впечатления. Как можно было создать марионетку, которая при огромной поддержке США имеет 1-2% популярности у собственного народа! Конечно, это полный провал!
• Если не считать Абхазию и Южную Осетию «подушками безопасности» в плане обороноспособности нашей страны, нужны ли эти республики России?
Закавказье нам не нужно. Украина – совсем иное. Это колыбель русской нации. Скорбя о гибели русских, осетин и грузин в грузино-осетинском конфликте, мы должны благодарить Бога за то, что Саакашвили, при поддержке некоторых американцев, развязал войну. Если бы подобный конфликт начала Украина, то война была бы намного страшнее и вне нашего контроля. Теперь же, показав зубы и многих испугав, Россия пока – де-факто – остановила расширение НАТО.
• Вы осуждаете российскую элиту за ее недоверие к США. А разве США не воспользовались нашей слабостью в 1990гг.? Не потому ли Америка стала с нами считаться, что мы стали мощнее?
Я не осуждаю российскую элиту. Я просто констатирую факт, что у нее есть недоверие к США. Американцы сами заслужили это своей политикой. Могу привести примеры. 1999г. Бомбардировка Югославии! Даже многие либералы, от Солженицына до Чубайса, условно выражаясь, примерили эту ситуацию на свою страну, на Россию. Я шутя говорю, что все россияне ходили после этого в церкви, мечети и синагоги и благодарили высшую силу, что у нас есть ядерное оружие. Путин делал встречные шаги американцам. Ликвидация радиолокационной станции на Кубе. Поддержка американской антитеррористической операции и размещения американских военных баз в Центральной Азии. Нормальные жесты. Но после этих шагов американцы так ничего и не дали России взамен.
• Не станет ли процесс утери США гегемонии в мире равным по катастрофичности последствиям распада СССР?
Когда перестала существовать жесткая двухполярная система, была предпринята попытка построить однополярную систему с политической ориентацией на США. Но! Американской гегемонии как таковой так и не случилось. США создавали лишь видимость мирового порядка. Сейчас наступает хаос – традиционное состояние международной системы.
• Не стоит ли в этой ситуации России более агрессивно использовать выгодный момент?
А мы и используем! Россия, имея всего 2,5% мирового ВНП, является, по неофициальным, но довольно надежным рейтингам, третьей страной на планете по мировому влиянию. Опережая в разы объединенную Европу, Японию, Индию! Это результат сознательной политики по изменению невыгодных для нас правил игры, которые сложились в 1990гг., и жесткого отстаивания своих национальных интересов.
Лев Сирин, «Фонтанка.ру»

Куба: реформы или их имитация?
© "Россия в глобальной политике". № 4, Июль - Август 2008
Элиас Амор Браво – кубинский экономист, проживающий в Испании.
Резюме Рауль Кастро не заинтересован в том, чтобы отстаивать архаичный, во многом бессмысленный социально-экономический порядок на Кубе. Он готов его обновить и модернизировать. Перемены были подготовлены тем, что различные социальные аномалии достигли критической массы.
С начала 2008 года кубинские власти осуществили ряд реформ социального и экономического характера, буквально приковавших к себе внимание всего мира. Эксперты и политические наблюдатели заговорили о продвижении Республики Куба в сторону рыночной экономики и демократии, о своеобразной кубинской «перестройке».
Начало этому процессу положило выступление Рауля Кастро на заседании Национальной ассамблеи народной власти в конце минувшего декабря, посвященном преодолению существующих в стране деформаций. А вскоре бессменный верховный лидер страны Фидель Кастро объявил, что окончательно слагает с себя властные полномочия, хотя полностью и не уйдет из политики, оставаясь «совестью» кубинской революции в качестве автора критических колонок в партийной газете Granma.
ФАКТОРЫ ПЕРЕМЕН
В течение короткого периода в республике прошли выборы, в результате которых обновился состав Национальной ассамблеи народной власти, произведены перестановки на высшем уровне в ряде министерств и ведомств, объявлены разнообразные меры социального и экономического характера и, наконец, принято решение провести в следующем году после более чем десятилетнего перерыва съезд Коммунистической партии Кубы. Мало кто мог предположить, что режим, который правит в стране с 1959-го и уделяет при этом главное внимание не собственному населению, а международным кампаниям по борьбе с американским империализмом, совершит поворот к решению внутренних проблем.
Однако можно указать на ряд факторов, определяющих нынешнюю политику кубинского руководства. Вот только некоторые из них.
Первый фактор – окончательный провал социально-экономической модели, господствовавшей на Кубе после 1959 года. Рауль Кастро вынужден признать, что экономика подвержена серьезным деформациям. Цены на товары широкого потребления растут, зарплаты трудящихся остаются низкими, а продукты распределяются путем всеобъемлющего рационирования. Одновременно набирает темпы инфляция, остановить которую не смог даже тотальный контроль государства над экономикой. Положение населения продолжает ухудшаться, несмотря на помощь Венесуэлы, хотя в других странах Латинской Америки экономическая конъюнктура сейчас относительно благоприятна.
Второй фактор – в последнее время кубинский режим утратил остатки международного престижа. В числе его защитников остались лишь европейские левые радикалы, в умах которых Куба до сих пор ассоциируется с Че Геварой и вооруженной борьбой повстанцев в горах Сьерра-Маэстра. Однако даже среди левых на Западе – в Италии, Испании, Франции и Канаде – растет недовольство кубинскими властями, которые продолжают нарушать элементарные права человека и держат в тюрьмах около 300 политических заключенных.
Чем, если не растущей международной изоляцией режима можно объяснить одно из первых решений Рауля Кастро – отменить смертную казнь?
Третий фактор – усугубляющаяся зависимость Кубы от венесуэльского президента Уго Чавеса. Этот непредсказуемый лидер со своими экстравагантными, провокационными выходками не вызывает симпатий у подавляющего большинства кубинской партийно-государственной номенклатуры. От него стал постепенно дистанцироваться даже Рауль Кастро. Особенно это заметно с тех пор, как Чавес потерпел поражение на всенародном референдуме в конце прошлого года.
Разумеется, ни о каком пересмотре договоров с Венесуэлой пока речь не идет. Дешевая венесуэльская нефть – одно из главных условий функционирования кубинской экономики и способности Кубы выполнять свои международные финансовые обязательства. Однако Рауль Кастро и его окружение не могут не задумываться над тем, как повысить эффективность собственной экономики, вместо того чтобы попадать во все большую зависимость от Чавеса.
Четвертый фактор – деятельность оппозиции. От международных обозревателей не ускользнул тот факт, что сила и организованность кубинских диссидентов в последние два года возросла. Заявило о себе правозащитное движение «Дамы в белом», объединяющее жен политических узников. Укрепились демохристианские группы, объединенные вокруг известного правозащитника Освальдо Пайя. Ширятся ряды социал-демократов, пользующихся моральной поддержкой европейских, и в частности испанских, социалистов. Среди различных политических течений вновь популярен либерализм, игравший активную роль в кубинской истории до прихода Фиделя Кастро к власти. Появляются независимые профессиональные организации, агентства независимой прессы, независимые библиотеки и религиозные ассоциации, на основе которых в будущем может сложиться гражданское общество.
Пятый фактор – отрыв руководящей верхушки от нации. «Битва идей» между социализмом и капитализмом существует только в голове прикованного к больничной койке Фиделя Кастро. Не видя перспектив достойной жизни, бЧльшая часть кубинцев мечтают о том, чтобы покинуть страну.
Несмотря на жесткое рационирование всех без исключения предметов широкого потребления, все продается и покупается, но только в теневом секторе. Отсутствует уважение к власти, не в почете честный труд. Абсолютное большинство населения на словах поддерживает, а на деле давно игнорирует официальную пропаганду. Утрата веры в будущее, пессимизм и индифферентность рано или поздно приведут общество к катастрофе. Если, конечно, в стране не произойдут радикальные перемены.
КЛАПАН, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ВЫПУСТИТЬ ПАР
С конца лета 2006-го, когда команданте Фидель передал все властные полномочия своему брату Раулю, характер управления страной меняется. Рауль Кастро принимает меры, чтобы вытащить Кубу из бедственного положения, он положил начало массовым обсуждениям острых национальных проблем. Даже такие противники режима, как Карлос Альберто Монтанер (проживающий в Испании лидер Кубинского либерального союза), отмечают более гуманное отношение Рауля Кастро и его окружения к народу.
Меры, предложенные Раулем, призваны дать ответ на запросы общества, сформулированные в ходе общенациональной дискуссии, развернувшейся по инициативе нового лидера осенью прошлого года. Сам Рауль, выступая на заседании Национальной ассамблеи народной власти, заявил: «Мы полностью согласны с теми, кто обратил внимание руководства страны на чрезмерное число запретов, приносящих скорее вред, чем пользу. Большинство из этих запретов в свое время были полезны и справедливы, но сейчас многие из них стали излишни».
История Кубы, как и большинства государств восточноевропейского блока, богата самыми разнообразными запретами, иногда приобретавшими комический характер. Так, в 1960–70-х годах любой, кто осмеливался слушать музыку «Битлз», автоматически причислялся к разряду контрреволюционеров. Наличие у кубинского гражданина долларов считалось уголовным преступлением и каралось тюремным заключением.
Эти анахронизмы изжиты достаточно давно. Теперь очередь дошла до отмены других ограничений, создающих дискомфорт для населения. Правительство Рауля Кастро разрешило покупать электробытовые товары: холодильники, тостеры, скороварки, а также DVD и мобильные телефоны. Вскоре после этого режим отменил закон, ранее запрещавший кубинцам останавливаться в отелях для иностранцев. Так предполагалось открыть клапан для выпуска пара народного недовольства. Одновременно критики режима за рубежом лишались одного из наиболее убедительных аргументов: в течение многих лет они клеймили его за «туристический апартеид», когда граждане страны были лишены возможности снимать номера в отелях на побережье и даже находиться на пляжах, где отдыхали иностранцы.
Но идет ли речь о радикальных переменах, которые принесут благосостояние кубинцам? Разумеется, нет. Средняя зарплата составляет всего 20 евро в месяц, в то время как стоимость самого скромного номера в отеле «Интур» равна 70–80 евро. DVD и мобильные телефоны также недоступны большинству: они стоят дороже, чем в США и даже в Западной Европе.
Снятие части запретов, принятое на первый взгляд в интересах кубинцев, страдающих в течение десятилетий от тотального дефицита, может привести лишь к росту социальной напряженности. Ведь воспользоваться внезапно открывшимися благами в состоянии лишь те граждане, которые получают денежные переводы в валюте от своих родственников в США.
Экономист Лорена Барберия (Рокфеллеровский центр Гарвардского университета) пишет о роли, которую играют денежные переводы в экономике страны. По ее данным, начиная с 1990-го, когда СССР, а затем Россия прекратили оказывать Кубе экономическую помощь и предоставлять ей миллиардные субсидии, поток средств из Соединенных Штатов значительно вырос и стал приближаться к 1 млрд долларов в год.
В 2000 году Куба с ее небольшой территорией и населением в 11 млн человек занимала пятое место в Латинской Америке по объему получаемых населением денежных переводов. В 2003-м (последний год, по которому есть статистические данные) из-за ограничений, объявленных администрацией Джорджа Буша, переводы несколько сократились и составили 839 млн долларов. Но, как бы то ни было, эта сумма эквивалентна 50 % дохода от всего кубинского экспорта.
Денежные переводы из-за границы сыграли существенную роль в поддержании на плаву кубинской экономики после разрыва экономических отношений между Гаваной и Москвой. Но в силу сохраняющихся запретов они не оказали почти никакого влияния на повышение качества жизни простых кубинцев. В других латиноамериканских странах благодаря подобной финансовой поддержке людям становятся доступны покупка или строительство домов, организация собственного бизнеса или оплата образования. На Кубе же любое приобретение недвижимости не дозволяется, частного бизнеса (за исключением крошечных семейных ресторанов) не существует. Кубинцы вольны лишь откладывать часть получаемых ими денег на банковские счета, контролируемые правительством.
Денежные переводы вызывают дополнительную напряженность не только между той небольшой частью населения, которая имеет родственников за границей, и теми, у кого их нет, но и между различными этническими группами. Так, согласно статистике, подобную финансовую помощь получают 35 % белых семей, а среди темнокожих семейств Кубы доля едва достигает 15 процентов.
Есть и еще один фактор, который не следует упускать из виду, говоря о начале кубинской «перестройки». Отмена ряда наиболее одиозных запретов не сопровождается мерами, позволяющими кубинцам воспользоваться плодами новой политики. Насколько, например, возрастет потребление энергии, если тысячи семейств начнут использовать приобретенную ими электробытовую технику? Ведь еще три года назад на острове постоянно случались веерные отключения электричества, которые на многие часы погружали во тьму Гавану и другие кубинские города. Да, страна сейчас получает необходимую ей нефть от Уго Чавеса. Любопытно, из каких средств Рауль Кастро будет оплачивать возросшее потребление электроэнергии, если Чавес сойдет со сцены либо обе страны поссорятся?
Вопросам долгосрочной стратегии нынешнее кубинское руководство внимания не уделяет. Его цель – любой ценой выиграть время, устранить наиболее вопиющие социальные перегибы, но решать проблемы в корне никто не собирается.
Одна из объявленных Раулем Кастро реформ – передача земли крестьянам – обещание, данное еще в 1959 году «революционными властями», но так и оставшееся невыполненным. По мнению известного кубинского экономиста-диссидента Оскара Эспиносы Чепе, простое распределение земли на Кубе не будет способствовать подъему производительности труда в сельском хозяйстве, десятилетия находящемся в состоянии комы.
По сути, крестьянам предлагается трудиться на необработанной земле, покрывшейся дерном. Земле, которая никогда не перейдет в их собственность, которую они никогда не смогут ни продать, ни взять в аренду, ни завещать своим детям, ни увеличить ее площадь как надел. Какие стимулы способны побудить крестьян, деморализованных кастровским коллективизмом, работать на такой земле?
В стране, где нет частной собственности, бóльшая часть земли находится в распоряжении неэффективных государственных хозяйств. В последние годы кубинские власти совершали одну ошибку за другой, все более усугубляя положение в сельском хозяйстве. Одна из таких ошибок – резкое сокращение площадей, используемых для выращивания сахарного тростника. Корни главной экспортной отрасли Кубы оказались подрублены в момент, когда цена на сахар на мировом рынке достигла исторического максимума. Но вместо того чтобы признать ошибки, Фидель Кастро обрушивается со страниц газеты Granma на страны, стимулирующие производство биотоплива. А ведь последуй его правительство советам экспертов – и Куба могла бы стать одним из мировых рекордсменов в этой области.
Реформа Рауля Кастро, вызвавшая у кубинцев наибольший интерес, касается ликвидации уравниловки в зарплате. Рауль объявил, что стране следует перейти на дифференцированную систему поощрения труда, не только исходя из его производительности и эффективности, но и в зависимости от профессиональной квалификации. До сего времени одинаковое вознаграждение на Кубе получали работники умственного и физического труда. Мало того что, как указывает экономист Павел Видал, средняя покупательная способность кубинца в 2008-м составляет всего лишь 24 % от уровня в докризисный период (в конце 1980-х годов) – уравниловка лишила людей стимула трудиться. Способные кадры государственных предприятий начинали в массовом порядке заниматься собственным бизнесом (как говорят на Кубе, «изобретать») – почти всегда полулегальным или нелегальным.
Разумеется, если реформа Рауля Кастро сведется лишь к составлению новой тарифной сетки, это будет профанацией многообещающего начинания. Дифференциация оплаты труда способна дать позитивные результаты только при условии возникновения мелких и средних частных предприятий. Они на первых порах могли бы взять в свои руки не только сферу услуг, которая на Кубе практически не работает, но и торговлю.
Даже при сохранении существенных политических ограничений сотни мелких и средних предприятий быстро оживили бы кубинскую экономику. Это совершенно необязательно повлекло бы за собой полный упадок государственного сектора. В условиях конкуренции со стороны частного сектора и он начнет поднимать голову и заявлять о себе. Однако о переходе на Кубе к смешанной рыночно-государственной экономике речь пока не идет.
ОЛИВКОВАЯ ВЕТВЬ ВРАГУ?
Рауль Кастро и его старший брат продолжают по инерции обвинять во всем «американский империализм» и его преступную «экономическую блокаду» Кубы. Кроме Вашингтона в бедствиях кубинцев повинны разве только всеобщее потепление и многочисленные природные катаклизмы. Словом, причина всех трудностей, переживаемых страной, находится за пределами Кубы и никоим образом не является результатом грубейших ошибок ее руководства.
Экономическое эмбарго США традиционно служило главным пропагандистским мотивом для оправдания неэффективности кубинского руководства. Тем не менее Рауль Кастро уже не однажды заявлял, что его страна заинтересована в нормализации отношений с Соединенными Штатами. Правда, каждый раз подобные шаги сопровождаются заявлениями о том, что, дескать, нынешняя администрация Джорджа Буша «ужесточает политику в отношении Кубы, угождая наиболее экстремистским секторам правящего класса».
Под этим «ужесточением», конечно, не подразумеваются растущие поставки в республику продовольствия из США. Только в 2007-м Куба импортировала из соседней страны куриного мяса, зерновых, масла, риса на миллиард долларов. Остров стали все чаще посещать владельцы крупных зерновых и животноводческих компаний Америки, заинтересованных в том, чтобы открыть для себя перспективный, но испытывающий дефицит продовольствия рынок.
Как известно, и в Сенате, и в Конгрессе Соединенных Штатов усиливается давление на администрацию, с тем чтобы она ослабила экономическое эмбарго Кубы. В последнее время Гавана делает упор на различие между американским народом, с которым кубинцев связывают общие интересы, и администрацией Джорджа Буша, против которой и направлено острие критики.
Рауль понимает, что сближение Кубы с Венесуэлой не следует рассматривать как приоритетный план на будущее. Цены на нефть могут упасть, экономическое благополучие режима Уго Чавеса может пошатнуться, а вместе с ним – и политическая устойчивость самого каудильо. Главная надежда кубинских властей, хотя об этом открыто не говорится, уже сейчас связывается с возможностью нормализовать отношения с могущественным северным соседом.
Между США и Кубой сохранилась определенная историческая близость, которую не смогла уничтожить ведущаяся в течение полувека пропагандистская кампания. Во многом это результат того, что кубинская диаспора в Майами приобрела экономическое и политическое влияние, какого не было в истории Америки ни у одного этнического меньшинства.
Не использовать подобный капитал было бы грубейшей ошибкой Гаваны. Особенно с учетом того, что и в кубино-американской общине, и на самой Кубе происходит смена поколений. В Майами на смену старым иммигрантам, крайне враждебно настроенным по отношению к Кастро, приходят столь же предприимчивые, но шире мыслящие молодые люди, родившиеся в Америке. Они выступают за снятие запретов, за восстановление контактов с кубинцами, за открытый диалог. На самой Кубе часть руководства составляют сравнительно молодые люди, которые по менталитету ближе к западным менеджерам, нежели к ортодоксальным социалистическим кадрам Кастро.
Попытка Рауля протянуть оливковую ветвь Америке во многом связана с надеждами на то, что ноябрьские выборы в США принесут победу демократам. Однако ясно, что если между обеими странами и наступит период нормализации, то произойдет это лишь после глубоких политических перемен на острове, после того, как будут освобождены политические заключенные, восстановлены демократические права кубинцев, проведены открытые и честные выборы.
Об этом говорит и Барак Обама, который удостоился похвалы «колумниста» газеты Granma Фиделя Кастро. Обама определенно заявил, что без всяких предварительных условий готов сесть за стол переговоров с лидерами враждебных государств, среди которых фигурирует и Куба. Но полностью восстановить отношения с Гаваной демократический кандидат готов лишь в том случае, если Америка убедится: на Кубе начались подлинно демократические преобразования, а не имитация реформ.
Некоторые аналитики обращают внимание и на то, что Рауль Кастро неоднократно высказывал восхищение Китаем, который развивает рыночную экономику при сохранении политической монополии компартии. Мне не представляется возможным перенос китайской модели на Карибы. Слишком уж различны исторические, географические, социальные и культурные традиции двух стран. Точно так же, как кастровский социализм не был похож на социализм восточноевропейских стран, так и будущая политическая модель Кубы будет отличаться от китайской. Рауль Кастро, возможно, больше, чем его брат, отдает себе отчет в том, что в среднесрочной перспективе властям не удастся сохранить монополию одной политической партии. Однако по той или иной причине он заинтересован в том, чтобы использовать «китайскую карту» при проведении косметического ремонта системы.
Каковы же очертания будущей политической модели на Кубе? Опыт переходного периода от диктатуры к демократии в России, Испании, Чили может оказаться непригодным для Кубы. Некоторые эксперты полагают, что «в тишине и темноте» уже начался демонтаж политической системы Фиделя. Другие, напротив, считают, что Кастро-старший, назначив преемником Рауля, стремился затормозить любое движение к переменам.
Очевидно одно. Рауль не заинтересован в отстаивании архаичного, во многом бессмысленного социально-экономического порядка на острове, он готов его обновить и модернизировать. Перемены были подготовлены тем, что различные социальные аномалии достигли на Кубе критической массы. Однако социально-экономические меры (точнее, полумеры) принимались поспешно, без видимого осмысления и должной подготовки. Они явно были вызваны страхом перед лицом возможных социальных волнений. В новейшей кубинской истории уже случалось, что и при Фиделе кубинцы устраивали бунты, которые жестко подавлялись властями. А насколько осмелеет население острова, убедившись в том, что прежде недреманное око Старшего Брата уже не так пристально наблюдает за ним?
Но пока в стране сохраняются ортодоксальные политические институты, которые уже не пользуются уважением граждан, серьезные демократические преобразования вряд ли возможны. Они, безусловно, будут осуществлены в не слишком далеком будущем, но под руководством нового лидера уже не с фамилией Кастро.

Таяние арктических льдов
© "Россия в глобальной политике". № 3, Май - Июнь 2008
Скотт Борджерсон – научный сотрудник, специалист по международным делам в Совете по международным отношениям; лейтенант-коммандер в отставке Береговой охраны США. Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 2 за 2008 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
Резюме Глобальное потепление вызывает быстрое таяние арктических льдов. А это открывает доступ к богатым природным ресурсам и новые пути для судоходства, использование которых позволило бы ежегодно экономить миллиарды долларов. Но до сих пор нет ясных правил, которые регулировали бы деятельность в этом экономически и стратегически важном регионе. Если Вашингтон не возьмет на себя ответственность по выработке многостороннего дипломатического решения, Арктика может оказаться ввергнутой в вооруженный конфликт.
Льды Северного Ледовитого океана тают – и тают быстро. Прошлым летом часть океана, покрытая льдом, сократилась более чем на миллион квадратных миль, и, таким образом, площадь ледяного покрова Центральной Арктики сейчас вдвое меньше, чем 50 лет назад. Впервые открылся для судоходства Северо-Западный проход – легендарный морской путь в Азию, который европейские мореплаватели тщетно искали в течение многих веков. Даже если международному сообществу удастся в ближайшем будущем существенно замедлить темпы изменения климата, процесс потепления в определенной степени необратим. Вопрос уже не в том, откроется ли Северный Ледовитый океан для регулярных морских перевозок и исследования богатых запасов полезных ископаемых, а в том, когда это произойдет.
Глобальное потепление привело к новому этапу борьбы пяти государств Арктического региона за территории и ресурсы. В арктической «золотой лихорадке» первой о своих интересах заявила Россия. В 2001 году российское правительство подало заявку в Организацию Объединенных Наций на права в отношении 460 тыс. квадратных миль акватории Северного Ледовитого океана, богатой природными ресурсами. Это примерно территория штатов Индиана, Калифорния и Техас, вместе взятых. ООН не признала эти притязания, имеющие далеко идущие последствия, и, тем не менее, в августе прошлого года Кремль отправил к Северному полюсу атомный ледокол и две подводные лодки, чтобы установить флаг России на морском дне. Несколькими днями позднее впервые со времен холодной войны был отдан приказ о начале полетов российских стратегических бомбардировщиков над Северным Ледовитым океаном, что выглядело явной провокацией.
Чтобы не отстать, премьер-министр Канады Стивен Харпер объявил о выделении средств на строительство новых патрульных судов для Северного Ледовитого океана, глубоководного порта и тренировочного центра по подготовке к работе в условиях холодного климата вдоль Северо-Западного прохода. Дания и Норвегия, которым принадлежат соответственно Гренландия и архипелаг Свальбард (Шпицберген. – Ред.), также хотят заявить о своих правах на Арктику. Пока другие государства Арктики торопятся поделить между собой этот регион, Соединенные Штаты остаются в стороне. Сенат США не ратифицировал Конвенцию ООН по морскому праву (UNCLOS), главный международный договор в этой области, хотя президент Джордж Буш, неправительственные организации по охране окружающей среды, командующие Военно-морским флотом и Береговой охраной, а также видные представители частного сектора поддерживают данную конвенцию.
Вследствие этого Вашингтон не может официально заявить о своих правах на огромные ресурсы северного побережья Аляски за пределами особой экономической зоны, простирающейся только на 200 морских миль от побережья каждого из государств Арктического региона. Соединенные Штаты не могут также войти в комиссию ООН, которая утверждает такие заявки. Более того, США, флотилия ледоколов которых находится в плачевном состоянии, утратили возможность утверждать свой суверенитет в Арктике. Сейчас американцы содержат Военно-морской флот, равный по величине флотам 17 следующих за ними стран (с точки зрения размеров их ВМС), вместе взятым. В то же время у Америки есть лишь один ледокол, годный для океанского плавания. Он построен более 10 лет назад и не приспособлен для арктических экспедиций.
Для сравнения: флот ледоколов России состоит из 18 судов. Даже у Китая, не имеющего выхода к Северному Ледовитому океану, есть один ледокол. Единственная в мире сверхдержава – страна, омываемая Беринговым проливом и береговая линия Северного Ледовитого океана которой составляет более 1 000 миль, – осталась в стороне из-за собственного невнимания к этому вопросу.
Американское руководство не может позволить себе бездействие. В настоящее время Арктический регион не управляется никакими всеобъемлющими многосторонними нормами или правилами, поскольку никогда не предполагалось, что водное пространство Арктики станет судоходным, а ее территория будет местом крупномасштабных коммерческих проектов. Поэтому решения, которые будут приниматься арктическими государствами в последующие годы, существенным образом определят будущее региона на предстоящие десятилетия. Если правительство Соединенных Штатов не возьмет на себя руководящую роль в выработке дипломатических решений, связанных с претензиями государств на территории и воды Арктики и предотвращением потенциальных конфликтов, регион может погрузиться в пучину безумной вооруженной схватки за его ресурсы.
ИДИ НА СЕВЕР, ПАРЕНЬ!
В Арктике всегда были периоды похолодания и потепления, но происходящее сейчас таяние не имеет аналогов в истории. Это таяние – мощное, внезапное, и оно напрямую связано с промышленным выбросом парниковых газов. На Аляске и западе Канады за последние 60 лет средняя зимняя температура повысилась на целых 7 градусов по шкале Фаренгейта (приблизительно 4 градуса по Цельсию. – Ред.). Для Арктики глобальное потепление имеет гораздо более серьезные последствия, чем для других регионов. Дело в том, что летом солнечные лучи освещают область Северного полюса под более острым углом и тающие льды превращаются в открытые воды, которые поглощают гораздо больше солнечной радиации. Этот процесс создает порочный цикл таяния, известный как контур обратной связи коэффициента отражающей поверхности льда.
Каждое лето бьет рекорд предыдущего. За 2004–2005 годы Северный Ледовитый океан лишился 14 % своих вечных льдов – плотного, толстого слоя, который является главным препятствием для судоходства. За последние 23 года исчез 41 % твердого многолетнего ледяного покрытия. Это означает, что Северный Ледовитый океан будет подобен Балтийскому морю: его поверхность станет покрываться только тонким слоем сезонного льда зимой и океан окажется полностью открыт для перевозок круглый год. Несколько лет назад основные модели климата, рассчитанные на суперкомпьютерах, показали, что к концу текущего века Северный Ледовитый океан будет летом свободен ото льда. Но если учесть нынешние темпы таяния льдов, то можно предположить, что плавание по Северному Ледовитому океану станет возможно через 5–10 лет. Самые современные модели, представленные в 2007-м на собрании Американского геофизического союза, предсказали, что уже в 2013 году Северный Ледовитый океан будет летом освобождаться ото льда.
Воздействие таяния льдов Северного Ледовитого океана на окружающую среду огромно. Полярные медведи как вид оказались под угрозой вымирания; рыбы, которые никогда раньше не водились в Северном Ледовитом океане, мигрируют в его потеплевшие воды; тундру заменяют леса, характерные для умеренного климата. В Гренландии – сельскохозяйственный бум: на некогда бесплодных почвах теперь выращивают брокколи, картофель и траву для заготовки сена. Уменьшение ледяного покрова также означает облегчение рыбного и лесного промысла, а также добычи таких полезных ископаемых, как свинец, магний, никель и цинк, не говоря уже о колоссальных резервуарах пресной воды, которые в условиях потепления могут стать еще более ценным богатством.
Если Северный Ледовитый океан – термометр, по которому определяется состояние здоровья Земли, то вышеперечисленные симптомы говорят о том, что наша планета действительно очень больна. Парадоксально, что великое таяние, вероятно, приведет к увеличению добычи тех самых природных ископаемых, которые ускорили это таяние, – органического топлива.
Сейчас, когда цена нефти превышает 100 долларов за баррель, геологи стараются точно определить, сколько нефти и газа находится под полярными льдами. О поверхности Марса известно больше, чем о глубинах Северного Ледовитого океана, однако результаты первых изысканий показывают, что там могут находиться последние еще не разведанные запасы углеводородных ресурсов на Земле. По оценкам Геологической службы США и норвежской компании StatoilHydro, в Северном Ледовитом океане спрятано до 25 % еще не открытых запасов нефти и газа. Некоторые предприниматели, занимающиеся разведкой нефти там, где нет подтвержденных запасов, полагают, что по мере накопления знаний о геологии региона данная цифра существенно возрастет. Вытянутый континентальный шельф Северного Ледовитого океана – это еще один показатель наличия здесь запасов нефти и газа, доступных для коммерческой добычи. По образцам, взятым в толще льда, ученые, занимающиеся вопросами изменения климата недавно установили, к своему огорчению, что когда-то в Северном Ледовитом океане были представлены все разновидности органических веществ, которые, находясь под сильным давлением морского дна на протяжении тысячелетий, возможно, образуют огромные залежи органического топлива.
Самые большие запасы обнаружены в Северном Ледовитом океане у побережья России. Государственная компания «Газпром» уже сейчас занимается разработкой приблизительно 113 трлн кубических футов газа (3,164 трлн куб. м. – Ред.) на принадлежащих ей месторождениях в Баренцевом море. По подсчетам российского Министерства природных ресурсов, территория, на которую претендует Россия, может содержать до 586 млрд баррелей нефти, хотя существование этих месторождений не доказано. Для сравнения: все ныне доказанные нефтяные запасы Саудовской Аравии (в которые, правда, не входят неисследованные и предполагаемые ресурсы) составляют лишь 260 млрд баррелей. Геологическая служба США как раз сейчас впервые начинает всеобъемлющее изучение природных богатств Арктики. Первые территории, которые будут изучены, – это котловина у побережья Восточной Гренландии площадью 193 тыс. квадратных миль (500 тыс. кв. м. – Ред.). Согласно первым сейсмическим данным, здесь могут находиться месторождения нефти объемом 9 млрд баррелей и газа объемом 86 трлн кубических футов (2,408 трлн куб. м. – Ред.). Похоже, что общие запасы нефти на побережье Аляски, омываемом Северным Ледовитым океаном, составляют по меньшей мере 27 млрд баррелей.
Хотя ресурсы прибрежной зоны, такие, как нефть в Арктическом национальном природном заповеднике Аляски, – доминирующая тема дебатов в Вашингтоне о развитии Арктического региона, реальная деятельность развернется по мере таяния полярных льдов. Показателем того, какова финансовая значимость вопроса и связанных с ним политических споров, является судебный иск, предъявленный компании Royal Dutch/Shell в девятом окружном суде США. Иск, поданный необычным союзом – группами по защите окружающей среды и местными китобойцами, – остановил разработку участков континентального шельфа в море Бофорта, которое недавно стало доступным, у северного побережья Аляски. Участки были арендованы компанией Shell за 80 млн долларов.
К 2015 году добыча нефти в море может составлять около 40 % всей мировой добычи. Вероятно, когда-нибудь в будущем побережье Аляски будет выглядеть, как побережье Мексиканского залива в штате Луизиана, освещаемое ночью миллионами мерцающих огоньков на нефтяных платформах в море.
ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС
Еще бóльшим подарком будут новые морские пути, которые появятся в результате великого таяния льдов. В XIX веке для мореходов Викторианской эпохи проход в Северном Ледовитом океане был чем-то вроде чаши Грааля. Британская империя, будучи морской державой, не жалела средств для того, чтобы найти кратчайший путь к богатым рынкам Азии. Как только стало ясно, что Северо-Западный проход забит льдами и непроходим, Северный Ледовитый океан перестал занимать мысли политиков.
Стратегический интерес к Северному Ледовитому океану возродился в годы Второй мировой войны и в период холодной войны, когда ядерные подводные лодки и межконтинентальные ракеты превратили его в самое милитаризированное морское пространство мира. Однако только сейчас арктические судоходные пути, которые мечтали найти мореплаватели XIX столетия, становятся реальностью.
Более короткие маршруты – Северный морской путь (над Евразией) и Северо-Западный проход (над Северной Америкой) – уменьшили бы время пересечения океана на несколько дней. Тем самым для судоходных компаний (не говоря уже о военно-морских силах и контрабандистах) плавание стало бы на несколько тысяч миль короче. Северный морской путь сократил бы расстояние между Роттердамом и Йокогамой с 11 200 морских миль (протяженность нынешнего рейса через Суэцкий канал) до 6 500, т. е. более чем на 40 %. А Северо-Западный проход сделал бы плавание из Сиэтла до Роттердама короче на 2 000 морских миль, т. е. почти на 25 %, по сравнению с нынешним маршрутом, пролегающим через Панамский канал.
Если принять во внимание сбор за проход канала, стоимость топлива и другие показатели, определяющие тарифы перевозок, то эти короткие маршруты могли бы сократить стоимость одного рейса крупного судна, перевозящего грузы в контейнерах, на целых 20 % – приблизительно с 17,5 млн до 14 млн долларов, что составило бы миллиарды долларов экономии в год. Для мегасудов, которые не могут проходить через Панамский и Суэцкий каналы и поэтому идут вокруг мыса Доброй Надежды и мыса Горн, экономия была бы еще больше. Кроме того, полярные пути дали бы возможность торговым и военным судам избегать водных пространств политически нестабильного Ближнего Востока и кишащего пиратами Южно-Китайского моря. В эпоху трансарктического судоходства вряд ли придется опасаться провокаций со стороны Ирана в Ормузском проливе вроде той, что произошла в январе.
Судоходство в Северном Ледовитом океане также могло бы существенным образом повлиять на структуру мировой торговли. В 1969-м нефтяные компании отправили судно «Манхэттен» через Северо-Западный проход, чтобы проверить, насколько этот путь подходит для перевозки нефти, добываемой в Арктике, на Восточное побережье США. «Манхэттен» завершил плавание с помощью сопровождавших его ледоколов, но нефтяные компании сочли этот маршрут неудобным, требующим слишком больших затрат и предпочли транспортировку через трубопровод на Аляске. Но сейчас такие рейсы становятся вполне реальными с экономической точки зрения. Как только морские страховые компании пересчитают стоимость риска, связанного с такими рейсами, судоходство в Северном Ледовитом океане станет коммерчески оправданным и будет осуществляться в широком масштабе.
В эпоху доставки напрямую, без складирования и при том, что рост цены на топливо негативно сказывается на прибыли судоходных компаний, сокращение расстояния дальнего рейса на целых 40 % означает наступление нового этапа глобализации. Маршруты через Северный Ледовитый океан обостряют конкуренцию между Панамским и Суэцким каналами, снижая тем самым сборы за проход. «Узкие места» для судоходства, такие, к примеру, как Малаккский пролив, больше не будут диктовать правила мирового судоходства, и морские полярные пути позволят расширить международную экономическую интеграцию. Вероятно, уже в нынешнем десятилетии в результате таяния льдов для судоходства откроется путь через Северный полюс. Маршрут, который, скорее всего, пройдет между Исландией и Голландской бухтой на Аляске, соединит крупнейшие морские порты Северной Атлантики и северной части Тихого океана и далее веерообразно разойдется к другим портам. Сейчас разрабатывается скоростной маршрут между полярным российским портом Мурманск и канадским портом Черчилл на Гудзоновом заливе, который соединен с Североамериканской сетью железных дорог.
Для осуществления навигации по этим новым морским путям и транспортировки нефти и природного газа из Арктического региона на верфях уже идет строительство кораблей, приспособленных для плавания во льдах. Частный сектор инвестирует миллиарды долларов в создание флотилии танкеров для Северного Ледовитого океана. В 2005 году во всем мире уже находились в эксплуатации 262 корабля ледового класса, а еще 234 строятся. Нефтяные и газовые рынки способствуют развитию ультрасовременной технологии и созданию новых типов кораблей, подобных танкерам двойного назначения, носовая часть которых сконструирована таким образом, что они могут проходить вначале по открытой воде, а затем рассекать лед. Эти новые суда могут без помощи ледоколов достигать нефтяных и газовых месторождений Арктики. Такие достижения – революция в судоходстве в Северном Ледовитом океане, ведь они превращают в процветающий бизнес проекты, в прошлом считавшиеся нежизнеспособными.
ГРЯДУЩАЯ АНАРХИЯ
Несмотря на то что таяние льдов может изменить систему мирового судоходства и рынки энергоносителей, проблемы Арктики не входят в круг первоочередных задач руководства Государственного департамента и Совета национальной безопасности США. Последнее заявление исполнительной власти по этому региону относится к 1994-му, и в нем не упоминается о таянии льдов. Но стратегическое положение Арктики и ее огромные природные богатства делают таяние льдов проблемой, представляющей большой национальный интерес. Хотя таяние полярных льдов открывает большие перспективы, оно несет и серьезные угрозы. Новые судоходные пути, триллионы долларов возможной прибыли от нефти и газа, неопределенность вопросов собственности арктических государств на территории – все эти факторы создают гремучую смесь.
Ситуация представляется особенно опасной, поскольку в настоящее время нет политических либо правовых структур, координирующих и направляющих всю деятельность по Арктике, способных обеспечить планомерное развитие региона и выполнять роль посредника в урегулировании политических разногласий по поводу природных ресурсов или морских путей. Северный Ледовитый океан всегда был покрыт льдом, но когда лед превращается в воду, неясно, какие правила следует применять.
Вследствие быстрого таяния возникают бесчисленные коллизии, связанные с соперничеством между государствами. Регион привлекает и другие страны, жаждущие доступа к энергоносителям, в частности Китай. Государства Арктического бассейна быстро приближаются к дипломатическому тупику, а это в конечном счете может привести к балансированию на грани вооруженных конфликтов, которое имеет место в отношении других территорий (подобных, например, необитаемым, но богатым природными ресурсами островам Спратли), на обладание которыми претендуют многие государства.
Есть немногочисленные правовые структуры и документы, которые предлагают пути решения этих проблем. Арктический совет занимается решением вопросов, связанных с окружающей средой, но он не реагирует на самые насущные задачи, стоящие перед регионом. При создании совета в 1996 году США намеренно ограничили деятельность этого органа, запретив ему касаться проблем безопасности. Многие наблюдатели считают, что решать проблему таяния полярных льдов нужно в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Она позволяет улаживать пограничные споры и подавать государствам заявки о правах на природные ресурсы за пределами их исключительных экономических зон.
Более того, UNCLOS определяет богатства морей, находящихся за пределами территориальных вод, как общее достояние человечества. Конвенция позволяет государствам, которые омываются морями, покрытыми льдами, применять более строгие природоохранные правила. Она определяет, какие морские пути являются суверенной собственностью государств, а какие международные проходы открыты для беспрепятственной навигации.
Однако уникальные географические условия Арктического региона не позволяют безоговорочно применять UNCLOS. В Арктике сконцентрировался ряд болезненных проблем, которые в совокупности делают эту зону особой. В их числе – раздел самого протяженного в мире некартированного и сложного в геологическом отношении континентального шельфа между пятью государствами, территориальные притязания которых противоречат друг другу; разрешение разногласий между Канадой и остальными странами мира о правовом статусе Северо-Западного прохода; демаркация морских границ между Соединенными Штатами и Канадой в море Бофорта и между Норвегией и Россией в Баренцевом море, а также вопрос о регулировании движения судов, которые ходят под «удобным» флагом (скрывая настоящее происхождение и владельцев) при пересечении вод, подпадающих под государственную юрисдикцию различных стран. Наконец, расширение масштабов нефтяной и газовой разведки и судоходство по Северному Ледовитому океану создаст серьезную угрозу для окружающей среды. Особо серьезную экологическую опасность представляют нефтяные танкеры, о чем свидетельствуют случаи с разливом нефти в гораздо более безопасных водах бухты Сан-Франциско, Черного моря и Желтого моря.
Есть еще ряд нерешенных вопросов, которые не затрагиваются Конвенцией по морскому праву. В период с 1958 по 1992 год Россия спустила в Северный Ледовитый океан 18 ядерных реакторов, некоторые из них были полностью загружены ядерным топливом. Эту опасность еще предстоит ликвидировать. Далее, более миллиона человек коренного населения Арктики должны участвовать в определении будущего этого региона, особенно в том, что касается их безусловного права продолжать охоту на китов. Безопасность коренных народов в условиях оживленного судоходства и их право на справедливую долю от экономической выгоды, которую принесет развитие Арктики, тоже следует предусмотреть.
Ввиду перспективы открытия новых месторождений энергоносителей все чаще ведутся разговоры о том, что Гренландия обратится к Дании с просьбой о предоставлении ей политической независимости. Наконец, наблюдается бум полярного туризма, причем часто на судах, не приспособленных к навигации в данном регионе. В прошлом году четыре тысячи отважных путешественников отправились в плавание на 140 круизных судах от ледяного берега Гренландии – опасное странствие в водах, которые по большей части не нанесены на морские карты.
В поисках решения головоломок, которые преподносит Арктика, есть соблазн обратиться к истории, однако абсолютной аналогии не существует. Договор об Антарктике 1959 года, который положил конец всем территориальным претензиям и определил статус континента как места научных исследований, позволяет извлечь некоторые уроки. Однако там речь шла о континенте, а не океане. Кроме того, Антарктида расположена вдали от основных торговых путей и переговоры проходили в совершенно иной обстановке холодной войны.
Средиземное море как водное пространство, соединяющее несколько крупных экономик, имеет некоторую общность с Северным Ледовитым океаном, но государства, которые оно омывает, всегда имели более четко выраженные исторические притязания. Средиземное море никогда не было покрыто льдом, по крайней мере на протяжении истории человечества. В прошлом просто нет примера, который можно сравнить с ситуацией в Северном Ледовитом океане: пространством соленой воды с весьма неопределенным правовым статусом, столь резко меняющимся пейзажем и такими выдающимися экономическими перспективами.
Природные богатства Арктики и ее возможности стать скоростным путем между Атлантическим и Тихим океанами, делают эту зону новым источником напряженности на мировой арене. В подобных критических обстоятельствах решения о том, как управлять быстро меняющимся регионом, скорее всего, будут приниматься в дипломатическом и правовом вакууме, если только Соединенные Штаты не выступят с инициативой предложить международному сообществу выработать многостороннее решение.
ОТКРЫТИЕ СЕВЕРА
Пока решение не найдено, страны Арктического региона, вероятно, будут захватывать как можно больше территорий и осуществлять суверенный контроль над новыми морскими путями где только возможно. На этой ничьей – в правовом смысле – территории приполярные государства преследуют свои узкие национальные интересы, устанавливая гидролокационные сети и снаряжая ледоколы для защиты своих притязаний. Прошлым летом Россия возглавила это наступление на Арктику своей акцией установки флага. Москва утверждает, что подводный хребет, который носит имя Ломоносова, является естественным продолжением евразийского континента и поэтому приблизительно половина Северного Ледовитого океана по праву принадлежит России. Комиссия ООН, которая рассматривает эту заявку, потребовала от Москвы собрать дополнительные геологические доказательства, что побудило Артура Чилингарова, знаменитого исследователя Арктики советского периода, который сейчас пользуется доверием президента России Владимира Путина, объявить: «Арктика – наша, и нам надо продемонстрировать свое присутствие». Это заявление он сделал во время возглавляемой им экспедиции на Северный полюс прошлым летом.
Естественно, другие арктические государства предпринимают в ответ определенные шаги. Норвегия в 2006-м подала заявку на владение дополнительными ресурсами в Арктике. Канада и Дания готовятся заявить о своих правах. Между Оттавой и Копенгагеном ныне имеются разногласия относительно принадлежности необитаемого острова Ханс, который представляет собой голые камни, но расположен в богатых ресурсами водах в проливе Нарес между канадским островом Элсмир и островом Гренландия. Даже Соединенные Штаты, несмотря на отказ ратифицировать UNCLOS, в последние годы отправляют летом свой единственный ледокол в Арктику, чтобы собрать данные для представления территориальной претензии в случае, если Сенат все-таки ратифицирует договор.
Борьба идет и за морские пути. Канада совсем недавно запустила спутник с наблюдательной системой на борту, который отслеживает нарушения ее территориальных вод. Хотя Северный морской путь, вероятно, будет открыт раньше Северо-Западного прохода, желание воспрепятствовать следованию судов через Канадский архипелаг, особенно кораблей Береговой охраны и Военно-морского флота США, – причина большей части угроз со стороны Канады. Говоря о суверенитете своей страны над Арктикой, премьер-министр Канады Харпер часто повторяет: «Либо мы ее используем, либо потеряем». Этот аргумент нравится канадцам, которые всё более критически относятся к южному соседу. До сих пор хрупкое «соглашение о разногласиях» (1988) между Соединенными Штатами и Канадой относительно окончательного контроля над арктическими водами остается без изменений, но Вашингтону не следует недооценивать эмоциональное отношение канадцев к данной проблеме.
Идеальным способом управления Арктикой стала бы разработка всеобъемлющего договора, гарантирующего организованный коллективный подход к добыче природных богатств региона. В рамках проходящего сейчас Международного полярного года (масштабная научная программа, посвященная Арктике и Антарктике, которая будет действовать до марта 2009-го) США следует созвать конференцию по выработке нового соглашения на основе структуры Арктического совета. Этот документ должен включать в себя соответствующие положения UNCLOS и учитывать все основные вопросы, возникшие вокруг Арктики. При сильном нажиме со стороны Вашингтона государства региона могли бы разрешить разногласия за столом переговоров, достичь договоренности о том, как поделить «пирог» огромных ресурсов и, возможно, даже представить в ООН совместные предложения, чтобы получить ее благословение.
Однако, настаивая на многостороннем дипломатическом решении, Соединенным Штатам следует предпринять и односторонние шаги, чтобы защитить свои интересы. Те немногие деятели в США, которые упорно противятся присоединению страны к UNCLOS, утверждают, что ратификация этой конвенции означает для Вашингтона уступку значительной части своего суверенитета и что обычное международное право и мощные ВМС и без того позволяют защищать американские интересы в Арктике. Но это еще не все. Соединенные Штаты – единственная в мире крупная страна, которая не ратифицировала UNCLOS; таким образом, получается, что Вашингтон остался в стороне и, не будучи участником Конвенции ООН по морскому праву, пытается обратиться к различным правовым и специализированным организациям. США должны не только присоединиться к этой конвенции, но и опубликовать обновленный вариант своей программы по Арктике, финансировать составление ледовых карт и вдохнуть новую жизнь в неэффективные, неконкурентоспособные верфи. В максимально короткие сроки следует создать условия для выведения на современный уровень флотилии ледоколов.
Соединенным Штатам необходимо также заключить соглашение с Канадой, которое бы привело к совместному управлению Арктикой на тех же условиях, что Соглашение Раша – Бэйгота 1817 года, по которому Великие озера стали демилитаризованной зоной. В соответствии с этим документом была создана (хотя и более полувека спустя) некоммерческая корпорация Святого Лаврентия по использованию водных путей для управления этими важными, иногда замерзающими водоемами, которые принадлежат двум странам. В таком же ключе США и Канада могли бы объединить усилия для охраны тысячемильной береговой линии арктического побережья. Вашингтон и Оттава сейчас сотрудничают в работе на других морских и сухопутных границах. Они вместе создали впечатляющую систему – Североамериканское командование противовоздушной обороны. У них есть прекрасные возможности сделать то же самое на границе Арктического региона, что будет отвечать интересам обоих государств.
Нет причин, которые препятствовали бы «мирному сосуществованию» экономического развития и охраны окружающей среды. Канада могла бы сыграть ведущую роль в обеспечении этих параллельных процессов, учредив структуру, аналогичную корпорации Святого Лаврентия, – государственно-частную корпорацию управления водными путями Северного Ледовитого океана, призванную обеспечивать безопасное плавание в североамериканских водах этого океана и одновременно защищать хрупкую окружающую среду региона. Сборы за судоходство, взимаемые этим двусторонним управлением, могут пойти на составление навигационных карт, нужда в которых очень велика, т. к. бЧльшая часть имеющихся на настоящее время данных о Северо-Западном проходе относится к британским исследованиям XIX века.
Средства можно также направить на создание материальных условий для поисково-спасательных операций, управление движением судов, прокладывание судоходных путей и другие подобные услуги, которые обеспечивают охрану жизни и собственности. Такая совместно управляемая система путей Северного Ледовитого океана могла бы кроме того создать предприятия для ликвидации твердых и жидких отходов, определить гавани укрытия для судов, терпящих бедствие, и ввести более жесткие требования к конструкции кораблей. Суда, идущие через Северо-Западный проход, должны иметь более толстую обшивку корпуса, более мощные двигатели и специальное навигационное оборудование. Можно также ввести требование, чтобы капитаны и члены экипажа таких судов проходили дополнительную подготовку и, если это диктуется условиями, брали на борт «ледового лоцмана», одобренного агентством, для обеспечения безопасного прохода.
К этой двусторонней структуре могли бы впоследствии присоединиться другие арктические страны, особенно Россия. В развитие предложения о создании корпорации по управлению морскими путями Арктики Вашингтон и Москва могли бы разработать схемы разделения движения через Берингов пролив и далее инвестировать в масштабный проект разработки безопасного судоходства по Северному морскому пути. В конечном счете такая панарктическая корпорация будет способна координировать безопасное и эффективное движение судов через Северный Ледовитый океан. Япония, полностью зависящая от Малаккского пролива, через который осуществляется подавляющая часть поставок энергоносителей, стала бы естественным инвестором этого проекта, поскольку она заинтересована в сокращении риска срыва поставок нефти.
В 1847-м британская экспедиция, отправившаяся на поиски легендарного Северо-Западного прохода, бесславно закончилась гибелью ее участников. Сэр Джон Франклин и его экипаж, считавшие себя представителями викторианской цивилизации в период ее расцвета, были слишком горды, чтобы просить эскимосов о помощи. Соединенные Штаты на пике расцвета своей империи временами тоже считают себя непобедимыми. Но сейчас настал час, когда Вашингтон должен преодолеть изоляционистский настрой и ратифицировать UNCLOS. Американцам пора начать сотрудничать с Канадой в управлении Северо-Западным проходом, предложив интересный проект нового многостороннего договора по Арктическому региону.
США следует, наконец, осознать, сколь масштабны последствия изменения климата для экономики и безопасности. Таяние льдов Северного Ледовитого океана, подобно канарейке в угольной шахте (в старину шахтеры брали в забой птичку, чувствительную к любым изменениям в атмосфере, и она сигнализировала о появлении опасных газов. – Ред.), предупреждает об угрозе здоровью планеты и о том, как потепление климата Земли скажется на национальной безопасности Соединенных Штатов. «Быть зеленым» – лозунг уже не только сторонников «Гринпис» и студенческих активистов; внешнеполитические «ястребы» должны также рассматривать окружающую среду как составляющую в уравнении национальной безопасности. Самосохранение перед лицом масштабного изменения климата требует действий – простых, основанных на научных данных, учитывающих стратегические интересы. И либералы, и консерваторы должны выйти за рамки надоевших дебатов о причинах этого явления и продолжить важную работу по смягчению процесса и адаптации к нему путем управления последствиями великого таяния льдов.

Грядет ли холодная война?
© "Россия в глобальной политике". № 2, Март -Апрель 2007
А.Г. Арбатов - член-корреспондент РАН, член редакционного совета журнала «Россия в глобальной политике».
Резюме В отличие от биполярного мира, в многополярной системе международных отношений противостоянием России и Запада неминуемо и немедленно воспользуются другие «центры силы», чтобы с его помощью добиться собственных целей.
Выступление президента России Владимира Путина в Мюнхене 10 февраля 2007 года стало если не водоразделом, то наверняка заметной вехой в отношениях Российской Федерации с Соединенными Штатами и другими странами Запада. Некоторые эксперты и наблюдатели заговорили даже о наступлении эры новой холодной войны. Но действительно ли все так плохо и дело идет к глобальному противостоянию двух держав и коалиций?
КАК БЫЛО...
Холодная война - политический феномен, продукт особого исторического периода, продолжавшегося с конца 40-х до конца 80-х годов прошлого века. Ее основополагающей чертой была ярко выраженная биполярность структуры международных отношений, расколовшая мир по линии Восток - Запад. В 1950-е СССР и США разделили на сферы влияния Европу и Азию, а в 1960-е и 1970-е - Латинскую Америку и Африку. Центральный разлом расколол несколько стран и народов: Германию, Корею, Вьетнам, Китай (отделив Тайвань), Палестину (современный конфликт между арабами и евреями стал, по сути, результатом геополитических маневров великих держав при переделе палестинских территорий). Мир фактически превратился в арену напряженного соперничества двух сверхдержав, которое с переменным успехом продолжалось вплоть до конца 1980-х годов.
Практически в любом локальном и региональном вооруженном конфликте сверхдержавы оказывались по разные стороны баррикад. Так было в Корее, Индокитае, Алжире, вокруг Кубы, в Южной Азии, в ходе четырех войн на Ближнем Востоке, в странах Африканского Рога, в Анголе, Мозамбике, Никарагуа и Афганистане.
Планета, как минимум, трижды вплотную подходила к Третьей мировой войне (во время второго и четвертого ближневосточных конфликтов в 1957 и 1973 годах, в период берлинского кризиса 1961-го), а однажды (в дни Карибского - ракетного - кризиса в 1962 году) роковую черту чуть было не переступили. Катастрофы удалось избежать, скорее всего, благодаря счастливому стечению обстоятельств и сдерживающей роли ядерных вооружений, накопленных обоими противниками.
Опасаясь прямого военного столкновения, сверхдержавы и их союзники изобрели суррогат военных действий в форме интенсивного соревнования по подготовке к войне - гонку вооружений. В пиковые периоды в строй вводились в среднем по одной межконтинентальной баллистической ракете (МБР) ежедневно и по одной стратегической ракетной подводной лодке в месяц, в другие времена - по тысяче и более ядерных боеголовок на стратегических ядерных силах (СЯС) ежегодно. Масштабы наращивания и модернизации обычных вооружений были не менее впечатляющими, особенно в 1960-е и начале 1980-х в НАТО и в 1970-1980-е в Организации Варшавского договора (ОВД). Каждая сторона ежегодно вводила в строй сотни боевых самолетов и тактических ракет разного класса, тысячи единиц бронетехники и артиллерии, десятки боевых кораблей и многоцелевых подводных лодок.
В обоснование глобального соперничества и оправдание связанных с ним жертв стороны вели непримиримую идеологическую борьбу, демонизируя противника и приписывая ему самые зловещие заговоры и агрессивные намерения. Это имплицитно снимало необходимость понимать точку зрения другой стороны, считаться с ее интересами и соблюдать по отношению к ней те или иные нормы морали и права.
Холодная война достаточно отчетливо распадается на два этапа. Первый (с конца 1940-х до конца 1960-х годов) - биполярность в «чистом» виде. Второй (конец 1960-х - конец 1980-х) - начало формирования многополярности. Китайская Народная Республика выделилась в самостоятельный «центр силы», конфликт между Пекином и Москвой вылился в вооруженные столкновения на границе в 1969 году, а после вторжения китайских войск во Вьетнам в 1979-м СССР и КНР оказались на грани войны. Биполярность ослабевала и по мере роста политико-экономического влияния Западной Европы (например, «новая восточная политика» канцлера ФРГ Вилли Брандта) и развития Движения неприсоединения во главе с Индией и Югославией.
...И КАК ЕСТЬ
Нынешний рост напряженности в отношениях между Россией, с одной стороны, и США, НАТО, Европейским союзом - с другой, не имеет ничего общего с холодной войной второй половины XX века.
Во-первых, отсутствует ее системообразующий элемент - биполярность. Наряду с глобальными и трансрегиональными центрами экономической и военной силы, такими, как США, ЕС, Япония, Россия, Китай, крепнут региональные лидеры - Индия, тихоокеанские «малые тигры», страны - члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Иран, Бразилия, ЮАР, Нигерия.
Кроме того, традиционные формы межгосударственных отношений размываются мощными течениями глобализации и информационной революции, повсеместным ростом национализма, выходом на авансцену транснациональных экономических, политических и даже военных игроков.
Отношения США - РФ больше не являются центральной осью мировой политики. Они лишь одна из многих ее граней, причем по многим вопросам далеко не самая важная. Наряду с противоречиями у России и Запада есть важнейшие общие интересы, к тому же они конкурируют не только друг с другом. Об «игре с нулевой суммой» не может быть и речи.
В текущих международных конфликтах Россия и Запад стоят по одну сторону баррикад, какие бы разногласия их подчас ни разделяли. В Афганистане они действуют сообща, стремясь не допустить реванша движения «Талибан» и «Аль-Каиды». А такие важнейшие вопросы, как ядерные программы Северной Кореи и Ирана, ситуация вокруг Палестины и Нагорного Карабаха, они решают посредством многосторонних переговоров.
Осталось в прошлом и непримиримое идеологическое противоборство. Истинный идейный разлом пролегает теперь между либерально-демократическими ценностями и исламским радикализмом, между Севером и Югом, между глобализмом и антиглобализмом. И если нынешняя Россия не вполне воспринимает либеральные ценности, то она уж точно никогда не примкнет к радикальному исламу. Не кто иной, как Россия, понесла самые большие потери в борьбе против исламского экстремизма за последние двадцать лет (война в Афганистане, войны и конфликты в Чечне, Дагестане и Таджикистане).
Что касается гонки вооружений, то, несмотря на рост оборонных бюджетов США и РФ, нет ничего даже отдаленно сопоставимого с тем, что происходило во времена холодной войны. За период с 1991 по 2012 год, то есть со дня подписания в Москве Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (Договор СНВ-1) до окончания срока действия московского Договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов (Договор СНП), заключенного в 2002 году, стратегические и тактические ядерные вооружения сторон будут сокращены примерно на 80 % (окончание срока действия московского договора - 31 декабря 2012 года. - Ред.).
Идет медленная модернизация ядерных и обычных вооружений. Так, в России в 2006-м в боевой состав введено 6 МБР, 31 танк, 120 бронемашин, 9 самолетов и вертолетов. Новые корабли и подводные лодки вводятся по одной единице за несколько лет. Все это на один-два порядка меньше, чем в 1970-1980-е годы. В США при гораздо большем военном бюджете основные средства идут на содержание Вооруженных сил и военные операции в Ираке и Афганистане. По сравнению с Россией там вводится в строй больше новых обычных вооружений, но меньше - ядерных.
Есть, конечно, такие возмущающие стратегическую стабильность факторы, как развертывание в США ограниченной системы противоракетной обороны (ПРО) для защиты от единичных ракетных пусков и планы размещения ее элементов в некоторых странах Европы, перспективные проекты Вашингтона по развитию космических вооружений и оснащению стратегических носителей высокоточными обычными боевыми частями.
С подачи Соединенных Штатов популярной стала идея о том, что после падения Берлинской стены исчезла необходимость в соглашениях (а значит, и в переговорах) об ограничении и сокращении вооружений, поскольку их якобы заключают только противники.
Жертвой такого безответственного подхода стали Договор об ограничении систем противоракетной обороны (Договор по ПРО, 1972), не вступивший в силу Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ, 1996), Договор СНВ-2 (1993) и рамочный Договор СНВ-3 (1997). Не состоялись переговоры о правилах засчета боезарядов и мерах контроля по Договору СНП и о запрещении производства разделяющихся материалов в военных целях (ДЗПРМ). В 2007 году Россия заявила о своем возможном выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД, 1987) и адаптированного Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ, 1999). Из-за политики ядерных и «пороговых» держав под угрозой оказалось самое главное соглашение - Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968).
ПРИЧИНЫ ПОХОЛОДАНИЯ
Хотя речь о новой холодной войне и не идет, обострение взаимоотношений в целом налицо. Чем же обусловлена эта напряженность?
Первое. За последние годы соотношение сил между РФ и Западом изменилось. Россия обрела устойчивый экономический рост и относительную социально-политическую стабильность. Москва консолидировала власть, получила крупные свободные капиталы для внутренних и внешних инвестиций, вчетверо (с 2001-го) увеличила финансирование национальной обороны, подавила массовое вооруженное сопротивление на Северном Кавказе.
На этом фоне Россия стремится изменить сложившиеся еще в 90-е годы прошлого века «правила игры» в отношениях с Западом. Парадигма отношений, при которой Москва вольно или невольно идет в фарватере курса США, а с ее интересами и мнением не считаются, теперь абсолютно неприемлема в глазах всех политических партий и государственных ведомств России. Между тем большинство американских и значительная часть европейских политиков считают модель отношений 1990-х естественной и единственно верной.
Второе. После окончания холодной войны мир не стал однополярным. Наоборот, быстро формировалась новая многополюсная и многоуровневая система международных отношений.
В этих условиях Соединенные Штаты получили уникальную возможность. Они могли утвердить в международной политике верховенство правовых норм, ведущую роль международных институтов (прежде всего ООН и ОБСЕ), примат дипломатии в разрешении конфликтов, принцип избирательности и законности применения силы в целях самообороны либо обеспечения мира и безопасности (согласно статьям 51 и 42 Устава ООН). У Вашингтона появился исторический шанс возглавить процесс созидания нового, многостороннего, согласованного миропорядка.
Однако шанс был бездарно упущен. Неожиданно ощутив себя «единственной глобальной сверхдержавой», США в 1990-е годы все более подменяли международное право правом силы, легитимные решения Совета Безопасности ООН - директивами американского Совета национальной безопасности, а прерогативы ОБСЕ - акциями НАТО. Наиболее ярким и трагическим образом эта политика получила выражение в военной операции против Югославии в 1999 году.
После смены администрации в 2001-м и чудовищного шока, который нация испытала 11 сентября того же года, эта линия была возведена в абсолют. Вслед за законной и успешной операцией в Афганистане Соединенные Штаты под надуманным предлогом и без санкции Совета Безопасности ООН вторглись в Ирак, намереваясь далее «переформатировать» весь Большой Ближний Восток под свои экономические и военно-политические интересы.
Представление государственными органами США заведомо ложной информации для оправдания вторжения в Ирак, вопиющие нарушения прав человека при оккупационном режиме, в тюрьмах «Абу-Грейб» и Гуантанамо, явно одобренные Вашингтоном предвзятые суды над иракскими лидерами и их варварские казни (вопреки протестам Европы) - все эти скандальные факты густо запятнали моральный облик Соединенных Штатов.
Даже самая сильная держава, самонадеянно бросившая вызов новой системе и вставшая на путь односторонних и произвольных силовых действий, неизбежно должна была встретить сплоченное сопротивление других государств и потерпеть фиаско. И действительно, начался небывалый подъем антиамериканских настроений во всем мире, поднялась новая волна международного терроризма и распространения ядерного и ракетного оружия. Америка увязла в беспросветной оккупационной войне в Ираке, подорвала коалиционную политику ООН и НАТО в Афганистане, связала себе руки в отношении Ирана и Северной Кореи. США утрачивают влияние в Западной Европе, на Дальнем Востоке и даже в своей традиционной «вотчине» - Латинской Америке.
Односторонняя силовая линия оттолкнула от Соединенных Штатов и вынудила перейти в лагерь международной оппозиции столь непохожие государства, как Германия, Франция, Испания, Россия, Китай, Индия, Узбекистан, Венесуэла, Боливия, Эквадор, Никарагуа, многие страны - члены Лиги арабских государств... Шанхайская организация сотрудничества, созданная в 2001 году как коалиция для борьбы с исламским экстремизмом, превратилась в противовес американскому вмешательству в Азии. Набирает силу оппозиция республиканской администрации внутри США.
Постепенно Америка обостряла отношения и с Россией. После террористических актов 11 сентября Владимир Путин сделал серьезный шаг навстречу Вашингтону, руководствуясь как чувством сострадания, так и стремлением повысить уровень сотрудничества. В ответ Россия получила выход США из Договора по ПРО (прикрытый «фиговым листком» в виде Договора СНП), ликвидацию в Ираке крупнейших российских нефтяных концессий, а также новое расширение НАТО на восток, в том числе на территорию бывших балтийских республик СССР.
При этом обнародуются планы ускоренного втягивания Украины и Грузии в НАТО. А проект строительства объектов американской стратегической ПРО в Польше и Чехии противоречит духу Совместной декларации новых стратегических отношений между РФ и США от 2002 года о сотрудничестве в разработке такой системы и идет вразрез с переговорами в Совете Россия - НАТО о работе над общей ПРО театра военных действий.
Третье. Положение на территории бывшего СССР - важный фактор нынешнего ухудшения взаимоотношений РФ и Запада. Москву возмутило активное вмешательство последнего в «цветные» революции в Грузии (2003) и Украине (2004) в целях поддержки наиболее антироссийски настроенных политиков (что заставило подозревать применение той же модели в Киргизии в 2005-м).
В 1990-е годы Россия сделала немало ошибок, пытаясь превратить постсоветское пространство в зону своего доминирования. Но с ростом своего экономического и финансового потенциала и укреплением независимости Россия перешла к прагматичной линии применительно к каждой конкретной соседней стране. Отойдя от эфемерных имперских «прожектов», Москва поставила во главу угла отношений с соседями транзит энергоэкспорта в Европу, скупку перспективных предприятий и инфраструктур, осуществление инвестиций в разведку и добычу природных ресурсов, сохранение действительно важных военных баз и объектов, сотрудничество в борьбе с новыми трансграничными угрозами и взаимодействие по гуманитарным вопросам.
Конфликты с Украиной и Белоруссией из-за цены на поставки энергоресурсов и стоимости транзита повлекли за собой перебои в экспорте энергосырья в Европу. Это вызвало на Западе взрыв возмущения, на Россию посыпались обвинения в энергетическом империализме и шантаже, зазвучали призывы использовать НАТО как гарантию энергобезопасности стран-импортеров. Возможно, тактика Москвы была грубой, особенно в случае с Украиной. Но переход на мировые цены в поставках энергосырья как раз и означал по сути дела отказ от прежней имперской линии экономических подачек в обмен на политическую или военно-стратегическую лояльность. Что подтвердилось фактом одинаково прагматичного подхода Москвы к столь разным соседям, как Украина, Грузия, Армения и Белоруссия.
Тем не менее эскалация напряженности идет по замкнутому кругу. Ужесточение российской политики в отношении стран ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия) обусловлено перспективой расширения НАТО на их территории. В свою очередь ГУАМ и НАТО отвечают Москве более активным противодействием и еще больше усиливают страх России перед новым «санитарным кордоном».
Четвертое. Важнейшая причина обострения отношений между Россией и Западом - внутриполитические процессы в РФ после 2000 года. В 1990-е в нашей стране было во многих аспектах больше свободы, чем теперь и тем более в предшествовавший советский период. Но эти свободы смог оценить сравнительно узкий круг либеральной интеллигенции в больших городах. Остальная часть граждан воспринимала ветер перемен на фоне шоковых реформ, обнищания большинства населения, невиданных масштабов коррупции, криминального беспредела и разворовывания национальных богатств. В одночасье рухнули системы социального обеспечения, здравоохранения, образования, науки, культуры, обороноспособности. (Как отметил лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, «менее чем за десять лет народ пережил два путча, два дефолта и две войны».)
Поэтому большинство населения поддерживает курс президента Владимира Путина на консолидацию государственной власти вокруг Кремля и расширение его контроля над экономикой и внутренней политикой.
Главная проблема путинской «управляемой демократии» и «исполнительной вертикали» состоит в том, что нынешнее экономическое благополучие и политическая стабильность зиждутся на весьма хрупком и недолговечном фундаменте. Экономический рост последних лет в огромной мере обусловлен беспрецедентными мировыми ценами на сырье. Но такая модель не обеспечивает ни широкую занятость, ни научно-техническое развитие, ни социальную стабильность, ни достаточные доходы для удовлетворения всех острых нужд страны. Да и высокие цены на нефть и газ не вечны.
Зарубежные деятели редко задумываются о том, что их глубокое беспокойство по поводу способности России обеспечить энергетические потребности Запада противоречат западной же озабоченности состоянием российской демократии. Ведь демократия несовместима с экспортно-сырьевой моделью экономики, всегда и везде являвшейся базой авторитарно-бюрократической государственно-политической системы.
Перед Западом стоит сложная проблема: какую политику проводить в отношении России в ходе ее длительной, глубокой и крайне противоречивой трансформации? До сих пор США и многие их союзники бросались в этом вопросе из одной крайности в другую: от радужных надежд к горькому разочарованию, от чрезмерной вовлеченности к полному равнодушию и пренебрежению, от восторженности к подозрениям и враждебности.
Крупнейший американский дипломат и политический мыслитель ХХ века Джордж Кеннан еще в 1951 году пророчески предвидел крушение советской империи и оставил мудрое завещание, как будто написанное в наши дни: «Когда советская власть придет к своему концу или когда ее дух и руководители начнут меняться... не будем с нервным нетерпением следить за работой людей, пришедших ей на смену, и ежедневно прикладывать лакмусовую бумажку к их политической физиономии, определяя, насколько они отвечают нашему представлению о "демократах". Дайте им время; дайте им возможность быть русскими и решать внутренние проблемы по-своему. Пути, которыми народы достигают достойного и просвещенного государственного строя, представляют собою глубочайшие и интимнейшие процессы национальной жизни».
По мнению Кеннана, конструктивные отношения и постепенное, но последовательное сближение с Москвой возможно в случае выполнения Россией всего трех, но важнейших условий: быть открытой для внешнего мира; не обращать своих трудящихся в рабов; не стремиться к имперскому доминированию в окружающем мире и не воспринимать всех тех, кто находится вне сферы ее господства, как врагов. Эти качества свойственны современной России, несмотря на ее многочисленные проблемы и ошибки.
На внутренней эволюции нашего государства существенно скажутся его отношения с окружающим миром, и прежде всего со странами Запада. Чем лучше эти отношения, чем глубже взаимодействие в экономике, международной политике, сфере безопасности, гуманитарной и культурной областях, тем прочнее позиции демократических кругов внутри России, тем больше возрастает ценность демократических свобод в глазах общественности и тем более внимательно последняя следит за соблюдением демократических процедур и норм властями всех уровней.
ВЫЗОВЫ МНОГОПОЛЯРНОСТИ
Нынешнее похолодание в отношениях России с США и Евросоюзом - это напряжение в отдельных звеньях многополярной системы, вызванное постоянно меняющимся соотношением сил, калейдоскопической сменой разнородных проблем глобализации и непрерывными «сюрпризами» от третьих стран, освободившихся от контроля прежних сверхдержав.
Несмотря на преобладающие антизападные настроения и давление, исходящее от соответствующих политических кругов внутри страны, российское руководство не желает конфронтации с США и Европейским союзом, не хочет разрыва сотрудничества и не позиционирует Россию как вторую, наряду с Соединенными Штатами, сверхдержаву. Москва формулирует свои интересы в первую очередь в трансрегиональном формате и лишь избирательно заявляет о своих правах на глобальном уровне.
Но при этом Россия стремится к тому, чтобы ее на деле, а не только на словах признали великой державой в ряду других великих держав. Она требует, чтобы уважали ее законные интересы и считались с ее мнением по важнейшим вопросам, даже если оно расходится с позицией США и их союзников. В случае же возникновения подобных разногласий проблемы должны решаться на основе взаимных компромиссов, а не путем «продавливания» американской линии или самонадеянного навязывания Москве точки зрения, будто она якобы неверно понимает собственные интересы.
В этом состоит пафос Мюнхена, и по большей части с ним нельзя не согласиться, хотя есть несколько конкретных моментов, вызывающих возражение, в частности возможный выход России из Договора по РСМД (см.: А. Арбатов. Шаг ненужный и опасный // НВО, 2-15 марта 2007 г., № 7 (513), с. 1-2) и критика в адрес ОБСЕ.
Низкая вероятность новой холодной войны и распад американской монополярности (как политической доктрины, если не реальности) не может, однако, быть поводом для самоуспокоенности. Объективно существующая на разных уровнях многополярность и взаимозависимость таят в себе немало сложностей и угроз.
Например, если противостояние по линии Россия - НАТО продолжится, оно может нанести огромный ущерб обеим сторонам и международной безопасности. Окончательное отделение Косово от Сербии способно спровоцировать аналогичные процессы в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье и вовлечь Россию в вооруженный конфликт с Грузией и Молдавией, которых поддерживает НАТО.
Ускорение процесса включения Киева в Североатлантический союз (санкционированное недавно Конгрессом США) угрожает повлечь за собой раскол Украины и массовые беспорядки, при которых России и Западу будет трудно удержаться от вмешательства.
Планы строительства объектов американской ПРО в Центральной и Восточной Европе могут побудить Россию выйти из Договора о РСМД и возобновить программы по производству ракет средней дальности. На это Вашингтон ответит размещением в Европе своих новых ракет средней дальности, что резко повысит уязвимость российских стратегических сил, их систем управления и предупреждения и усилит напряженность ядерного противостояния.
Другие «центры силы» неминуемо и немедленно извлекут выгоду из нарастающего противостояния России и Запада, используют его в своих собственных интересах. Китай получит возможность занять еще более выигрышные позиции в экономических и политических отношениях с Россией, США и Японией, укрепить свое влияние в Центральной и Южной Азии, зоне Персидского залива. Вряд ли упустят свой шанс Индия, Пакистан, страны - члены АСЕАН, экзальтированные режимы Латинской Америки.
Многополярный мир, который не движется по пути ядерного разоружения, - это мир расширяющегося «ядерного клуба». Пока Россия и Запад будут конфликтовать друг с другом, государства, способные разработать собственное ядерное оружие, поспешат с этим. Вероятность его применения в каком-либо региональном конфликте существенно возрастет.
Оборотной стороной процесса глобализации станет резкое повышение активности международного исламского экстремизма и терроризма. Последует дальнейшая дестабилизация Афганистана и Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока, Северной и Восточной Африки. Волна воинственного сепаратизма, трансграничной преступности и терроризма захлестнет также Западную Европу, Россию, США, другие страны.
Рухнут последние договоры по разоружению (ДНЯО, ДОВСЕ, ДВЗЯИ). Как крайний случай, какой-либо авантюристический режим может осуществить провокационный ракетный запуск по территориям или космическим спутникам одной либо нескольких великих держав с целью вызвать между ними обмен ядерными ударами. Вполне вероятной станет и угроза террористического акта с использованием ядерного устройства в одной или нескольких главных столицах мира.
Чтобы избежать неблагоприятного развития событий, необходимо остановить сползание России к противостоянию и соперничеству с США и НАТО, пусть даже оно имеет не глобальный, а региональный геополитический и избирательный военно-технический характер. Те, кто в России и на Западе пытается набрать очки на конфронтации, безответственно превращают важнейшие национальные интересы своих государств в разменную монету внутриполитических игр.
В конкретном плане Москве следует, во-первых, в духе последних заявлений российского президента выдвинуть комплекс предложений как по сокращению вооружений в двух- и многостороннем форматах, так и по укреплению режима нераспространения ядерного оружия. В отличие от горбачёвских инициатив 80-х годов прошлого века, новый пакет должен основываться не на прекраснодушной утопии, а на радикальном, но реалистическом военно-экономическом и техническом расчете, подкрепляться программой эффективного военного строительства. И не в пример линии последних лет инициативы нужно продвигать не по принципу «хотите - берите, не хотите - не надо», а как твердое требование государства с использованием всех доступных дипломатических и военно-технических рычагов (чему не грех поучиться у американцев). Особую роль будет играть позиция Москвы по иранской и северокорейской ядерным проблемам.
Главный и, видимо, единственный военно-технический козырь России - программа грунтово-мобильных МБР «Тополь-М» и проект их оснащения разделяющимися головными частями. В этой сфере даже США отстают от нашей страны на 10-15 лет. Вялое осуществление данной программы и «размазывание» средств по другим, весьма сомнительным, проектам подчас создает впечатление, будто Россия смирилась с растущим стратегическим отставанием от Америки, не хочет серьезных переговоров и выпускает из рук единственную остающуюся у нее козырную карту.
Во-вторых, вместо того чтобы разрабатывать аморфные («зонтичные») интеграционные планы для всего постсоветского пространства, а потом от них отступать, Москва должна предельно конкретно сформулировать свои интересы применительно к каждому государству - участнику СНГ, отбросив всякий неоимперский идеализм. Но за эти ставки и проекты нужно упорно бороться, используя все рычаги и козыри, в том числе имеющиеся в дальнем зарубежье. Нерасширение НАТО на СНГ следует увязать с гарантиями территориальной целостности соседних стран, а взаимоприемлемое решение их острых проблем - с соблюдением прав этнических меньшинств.
При настойчивой и конструктивной политике Кремля Запад наверняка рано или поздно примет новые «правила игры», поскольку они отвечают его долгосрочным интересам. В перспективе переход России с экспортно-сырьевой на высокотехнологичную инновационную модель экономики, сопровождающийся расширением демократических институтов и норм, естественным образом снимет противоречия вокруг российской внутренней политики и определит европейское направление интеграционного курса России - самой крупной страны и потенциально наиболее сильной экономики Европы.
Конкретные сроки, формы и пути равноправной и взаимовыгодной интеграции России в Евросоюз определит время. А конечным ее продуктом станет формирование самого мощного в экономическом, военном, геополитическом и культурном отношении глобального «центра силы». Центра, который навсегда устранит угрозу как однополярности и произвола, так и биполярности и конфронтации и который возглавит процесс созидания нового правового миропорядка, призванного решить проблемы XXI века.

Ветер перемен в Латинской Америке
© "Россия в глобальной политике". № 6, Ноябрь - Декабрь 2006
В.М. Давыдов – д. э. н., профессор, директор Института Латинской Америки РАН. Статья написана в рамках проекта «Внешние условия развития Российской Федерации в 2007–2017 гг.», который осуществляется при поддержке РИО-Центра коллективом экспертов из Совета по внешней и оборонной политике, ГУ – ВШЭ, Института стратегических оценок и анализа, Института Европы РАН. Руководитель проекта – С.А. Караганов.
Латинская Америка переживает серьезные перемены. С одной стороны, государства региона отходят от прежних стандартов экономической политики и поведения на международной арене. С другой – меняется характер внешнего воздействия. Традиционно здесь доминировали США, теперь же усиливается присутствие других мировых держав, благодаря чему расширяется поле деятельности для политического маневра. Последствия новой ситуации могут быть весьма разнообразны и зачастую противоречивы, однако она сулит неплохие шансы для укрепления российских позиций в регионе.
"ДРЕЙФ" ВЛЕВО
Латинская Америка обладает крупным и еще не полностью раскрытым ресурсным потенциалом, однако в мировой экономике и политике она традиционно занимала периферийное положение. С середины ХХ века регион становится одной из арен противоборства двух сверхдержав – Соединенных Штатов и Советского Союза, причем в самом центре этого глобального противостояния оказалась Куба.
Исчезновение СССР ослабило левую часть латиноамериканского политического спектра, что привело к некоторой разрядке внутренней напряженности. Однако в результате нарушения международного баланса сил у государств региона оказалось меньше возможностей для стратегического маневра.
По континенту прокатилась волна демократизации, которую использовали силы неоконсервативного и неолиберального толка. Запущенные ими реформы обеспечили на первом этапе макроэкономическую стабилизацию и определенный экономический рост. Но во второй половине 1990-х неолиберальная волна начала «захлебываться». Реформированным экономикам не удалось приспособиться к процессам глобализации, их уязвимость перед лицом внешних кризисных шоков только возросла; к тому же резко усилилось имущественное расслоение.
В этих условиях настроение населения стало меняться. Начиная с конца прошлого столетия к власти конституционным путем приходят альтернативные силы и лидеры – в Венесуэле (1998), Аргентине (2002) Бразилии (2002 и 2006), Боливии и Уругвае (2005), Эквадоре и Никарагуа (2006). В Перу и Мексике в 2006 году левые если и не победили, то привлекли на свою сторону почти половину электората.
Диапазон «полевения» весьма широк: от леворадикального варианта в Венесуэле до центристского и социально ориентированного в Чили. Массовый характер этого социально-политического сдвига указывает на то, что воспроизводство на латиноамериканской почве левой политической культуры имеет объективный характер. (Сегодня к этому процессу добавляется стремительный рост политического самосознания коренного населения – так называемый «индейский ренессанс».)
ПРОГНОЗ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
В силу переломного характера нынешней ситуации в странах Латинской Америки неясным является и ее экономическое будущее. Вместе с тем можно предположить, что в период до 2017-го вероятно следующее.
Вес региона в мировом ВВП останется на уровне 7–8 %, в мировом населении – 8–9 %.
Сохранится тенденция к экономической дифференциации стран региона. Бразилия, Мексика, Чили и Аргентина, идущие по пути технологического обновления и постепенного формирования элементов «экономики знания», увеличат отрыв от остальных государств. Положение Венесуэлы будет, разумеется, зависеть от конъюнктуры нефтяного рынка.
В экономической политике следует ожидать преобладания неокейнсианского подхода, ряд стран региона смогут несколько сократить имущественное расслоение.
Бразилия подтвердит свой статус восходящего гиганта и станет наращивать усилия по формированию собственной зоны влияния в Южной Америке.
Значительная часть стран Латинской Америки, скорее всего, продолжат «дрейфовать» влево. Настроение избирателей будет в большей степени зависеть от положения дел в Бразилии, нежели от развития событий в Венесуэле. Максимальную степень нестабильности следует ожидать в Андском поясе (Боливия, Перу, Эквадор, Колумбия), минимальную – в странах Южного конуса.
В большинстве государств сохранится традиционная демократическая система, однако не исключены авторитарные «зигзаги», особенно под предлогом необходимости решить задачи по перераспределению.
Изменится ситуация на Кубе, где наиболее вероятен «вьетнамский сценарий» поэтапной трансформации. При этом нужно учитывать серьезную морально-политическую и экономическую поддержку Гаваны со стороны Каракаса.
Шансы преодоления затяжного внутреннего конфликта в Колумбии невелики, но его относительное «охлаждение» все же возможно. (В данном конфликте, который продолжается в стране около 40 лет, левоэкстремистские «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК) и Армия национального освобождения (АНО) противодействуют колумбийской армии. – Ред.) С другой стороны, в случае радикализации венесуэльского режима не исключено обострение отношений между Венесуэлой и Колумбией.
В 2007–2017 годах продолжится большая геополитическая «игра», развернувшаяся вокруг региона в 1990-е. Обострится соперничество Соединенных Штатов и Европейского союза (в первую очередь его «неформального представителя» в регионе – Испании) за влияние в Латинской Америке. Сегодня Вашингтон пожинает плоды своего прошлого невнимания к региону; Евросоюз же постепенно усиливает здесь свои позиции. К прежним «игрокам» де-факто добавляется новый – Китай, прорвавшийся на местные рынки. Возрастет – особенно в конце исследуемого периода – роль Бразилии как регионального центра силы.
Тенденция возобновления сотрудничества Юг – Юг, по всей видимости, укрепится и выльется в расширение торгово-экономических отношений. Ряд латиноамериканских государств (прежде всего Бразилия) будут проявлять значительный интерес к восходящим странам-гигантам других регионов – Китаю, России и Индии.
Начавшаяся перекомпоновка интеграционных блоков внутри региона и противоречия, обнажившиеся в ходе многолетних переговоров о создании Панамериканской зоны свободной торговли (FTAA), не позволяют с уверенностью прогнозировать судьбу этого проекта. Очевидно, однако, что его реализация в любом случае откладывается. В перспективе она по-прежнему возможна, но в урезанном виде и ограниченном формате.
Особое значение приобретает ось сотрудничества, формирующаяся в рамках Ибероамериканского сообщества (ибероамериканский саммит впервые прошел в 1999 году в Мексике и объединяет страны Латинской Америки, Испанию и Португалию. – Ред.). Можно было ожидать, что вступление Венесуэлы в Южноамериканский общий рынок (Меркосур) придаст серьезный стимул дальнейшему развитию этого наиболее мощного интеграционного блока Латинской Америки. Правда, принимая во внимание особенности нынешнего венесуэльского режима, стоит учитывать риск того, что конфликтный потенциал внутри Меркосура увеличится.
Разделение региона по геополитической и геоэкономической ориентации на северную (Мезоамерика и часть Карибов) и южную (Южная Америка) части, проявившееся в последнее десятилетие, сохранится и впредь. Вместе с тем очевидно, что для Мексики предел ориентации на севере уже достигнут и даже протеже правых сил, который недавно выиграл выборы, заявляет о необходимости в течение своего мандата сбалансировать внешние связи, в частности, поворотом к Латинской Америке. В свою очередь, на юге региона следует ожидать дальнейшую диверсификацию внешних экономических и политических связей в духе «открытого регионализма». Новым фактором развития латиноамериканских государств стало их усиливающееся сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
Массовый отток населения латиноамериканских стран в Соединенные Штаты, Канаду и Испанию, вероятно, возрастет, что может негативно отразиться на отношениях с последними (прежде всего это касается отношений Мексика – США). Рост в Северной Америке латиноамериканских диаспор будет превращаться из внутриполитического во внешнеполитический фактор. В Соединенных Штатах уже появилось латиноамериканское лобби, которое будет только расти, меняя и внутриполитический баланс, и политику в отношении отдельных стран региона.
В настоящее время внешняя политика латиноамериканских государств активизируется после продолжительного затишья 1990-х. В предстоящий период их подавляющее большинство сохранят приверженность таким принципам, как примат международного права, универсальная роль ООН, нераспространение оружия массового уничтожения (ОМУ), многосторонность в решении крупных международных проблем (многополюсность). Проблемы международной безопасности станут по-прежнему решаться с учетом социальных, экономических и других нетрадиционных факторов. К интерпретации понятий «международный терроризм» и «антитеррористическая борьба» латиноамериканские страны будут подходить с осторожностью, указывая на их социально-экономические причины.
В случае если ряд стран Дальнего Востока, Среднего и Ближнего Востока обзаведутся ядерным оружием, то и в Латинской Америке, прежде всего в Бразилии, отношение к вопросу о распространении ОМУ может подвергнуться ревизии. В любом случае будет нарастать интерес к развитию атомной энергетики.
РОССИЯ И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА: ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
В основе «латиноамериканского» курса СССР лежали преимущественно идейно-политические и военно-стратегические мотивы. Однако весьма активно развивались и торговые отношения. Довольно высоких показателей достиг торговый оборот не только с Кубой, но и с Аргентиной (до 3 млрд дол. в 1981 году, когда эта страна стала для Москвы альтернативным источником закупки зерна), Бразилией (пик – 835 млн дол. в 1983-м), Перу, Чили (до переворота 1973 года), Никарагуа (после победы сандинистов).
В советском экспорте преобладала машино-техническая продукция (в Аргентину в 1980-е – свыше 80 %). В ряде стран региона Советский Союз занимался сооружением и техническим оснащением крупных инфраструктурных и индустриальных объектов. В Аргентине на нашем оборудовании до сих пор вырабатывается 25 % электроэнергии. Многие кубинские, перуанские, эквадорские, боливийские и никарагуанские специалисты получили образование в советских вузах.
В первой половине 1990-х российско-латиноамериканские отношения переживали катастрофический спад. Однако в последнее время они стали выправляться. Сегодня объем товарооборота и интенсивность политических контактов превосходят показатели советских времен. Регион выделяется в «самостоятельное направление» российской дипломатии, характеризующееся многообещающим потенциалом взаимопонимания и взаимодействия.
В торгово-экономической сфере до сих пор превалировала активность латиноамериканской стороны. Инертность российского бизнеса начинает преодолеваться лишь в самое последнее время. На латиноамериканские рынки уже выходят крупные корпорации: «Газпром», «Русал», «Силовые машины», «ЛУКойл», «КамАЗ» и др. Они постепенно переходят от зондирования почвы к коммерческим переговорам по участию в крупных проектах. Создается задел, который может масштабно реализоваться в ближайшем десятилетии.
Какие факторы будут в предстоящие годы определять взаимодействие России с Латинской Америкой?
Во-первых, поэтапный выход части стран региона из периферийной зоны мировой экономики и политики. Прежде всего это касается ведущих государств – Бразилии, Мексики, Аргентины, Чили, Венесуэлы.
Во-вторых, необходимость диверсифицировать международные политические и экономические отношения РФ, а также рост интереса российских корпораций к инвестициям за рубежом.
В-третьих, объективная заинтересованность латиноамериканских производителей в доступе на российский рынок.
В-четвертых, значительное сходство позиций России и основных стран Латинской Америки по ключевым вопросам мирового развития. Регион поддерживает активную роль Москвы на международной арене, видя в ней альтернативный центр силы и влияния.
В период 2007–2017 годов Латинская Америка будет иметь существенное значение для расширения поля международной деятельности России и закрепления ее статуса мировой державы. Более того, сотрудничество с латиноамериканскими государствами сможет в какой-то мере компенсировать ослабление наших позиций на других направлениях внешней политики.
Конфликтный потенциал во взаимоотношениях Москвы с латиноамериканскими партнерами минимален. Россия не находится в ситуации «связанных рук», есть простор для инициативы.
Отношения между Москвой и государствами региона идут по восходящей линии, но явно отстают по формам, методам, содержательному наполнению от международных стандартов. Не дотягивают они и до того уровня сотрудничества, который достигнут латиноамериканскими странами в их взаимоотношениях с США, ЕС, странами АТР. Прогрессу на этом направлении мешают медленная модернизация российской экономики, а также сохранение «остаточного принципа» в латиноамериканской политике России.
Ключевыми задачами, которые предстоит решать в Латинской Америке российской дипломатии, являются:
диверсифицировать институциональную структуру взаимодействия, дополнить договорную базу сотрудничества до современного стандарта двусторонних отношений;
создать механизм поддержки российских экспортеров машино-технической продукции и инженерных услуг;
реализовать систему информационно-политических мер по улучшению имиджа России в общественном мнении Латинской Америки;
расширить поле сотрудничества на многосторонней основе, навести мосты в отношениях с внутрирегиональными интеграционными группировками, войти в Межамериканский банк развития;
реально обозначить политико-дипломатическое присутствие РФ (в ранге наблюдателя) в ряде ключевых международных организаций Западного полушария, прежде всего в Организации американских государств, а также проявить инициативу в целях получения аналогичного статуса в Ибероамериканском сообществе;
в ближайшие 4–5 лет вывести отношения с Бразилией на уровень стратегического партнерства, наполнить его реальным политическим и экономическим содержанием;
перевести торгово-экономическое сотрудничество с наиболее перспективными партнерами латиноамериканского региона в формат соглашений об экономической дополняемости либо о свободной торговле.
По итогам 2006 года торговый оборот Российской Федерации со странами региона превысит 7 млрд дол. (ведущий партнер – Бразилия: почти 4 млрд дол.). При сохранении существующих тенденций можно прогнозировать к 2017-му уровень 20–25 млрд долларов. А если задачи, перечисленные выше, будут хотя бы отчасти решены, то можно поднять планку до 30–35 млрд дол., улучшив при этом соотношение импорта и экспорта и увеличив в наших поставках долю несырьевого компонента. Наибольшие шансы РФ сохранит в торговле энергетическим оборудованием.
На предстоящее десятилетие приходится цикл обновления вооружений в армиях латиноамериканских стран. У России уже есть определенный задел на рынках региона. Вертолетная техника, артиллерийское и зенитное вооружение, аппаратура радиоэлектронного наблюдения могут стать важными и относительно стабильными статьями российского экспорта в регион.
В течение прогнозного периода, очевидно, начнется практическая реализация соглашений о сотрудничестве в космической области. В случае с Бразилией это выгодно еще и потому, что Россия может использовать экваториальный космодром «Алькантара».
Разумеется, активизация российского присутствия в Латинской Америке будет сопровождаться трениями с традиционными поставщиками. Отечественным дипломатии и бизнесу придется соразмерять свои интересы с риском осложнения отношений с доминирующими на региональных рынках экспортерами и инвесторами. Поэтому в ряде случаев целесообразен и возможен переход российских поставщиков на формат производственной кооперации (прежде всего с Бразилией).
Наиболее болезненным для российской дипломатии останется кубинский вопрос, особенно в случае неадекватных действий Вашингтона. Нельзя забывать, что историческая вовлеченность Москвы в дела Кубы не позволяет попросту «умыть руки». Нужно быть готовыми к сложным маневрам для обеспечения щадящих условий трансформации и предотвращения разрушительных столкновений. Разумеется, важно при этом сохранить возможности присутствия на кубинском рынке.

Европейский «центр» и его «окраины»
© "Россия в глобальной политике". № 5, Сентябрь - Октябрь 2006
В.Л. Иноземцев – д. э. н., главный редактор русского издания газеты Le Monde diplomatique, издатель и редактор журнала «Свободная мысль».
Резюме Тезис об особости России принимается ныне как данность, не требующая доказательств. Между тем нынешняя Россия если и кажется уникальной, то не более, чем другая «окраина» Европы – Соединенные Штаты. Россия и Америка очень схожи друг с другом и резко отличаются от Европы.
В конце первой трети XIX столетия два проницательных француза, Алексис де Токвиль и Астольф де Кюстин, предприняли путешествия по тогдашним «окраинам» Европы. Их впечатления нашли отражение в двух книгах – «Демократия в Америке» и «Россия в 1839 году», где описывается государственный строй Соединенных Штатов и Российской империи – европейских, по своей культурно-цивилизационной сути, держав, но лежавших вне географических границ традиционной Европы.
В те годы только Америка и Россия были «окраинами» Европы: Восток считался совершенно чуждым, а колонии не принимались в расчет. Казалось, что эти «окраины» были совершенно непохожи на «центр», однако последовавшие в дальнейшем события заставили европейцев пересмотреть такое мнение. Менее чем через сто лет США уже являлись самой мощной в экономическом отношении державой мира и новой родиной для миллионов мигрантов из Старого Света; на месте же прежней России вырос Советский Союз, распространявший по всему миру новую идеологию, число сторонников которой стремительно росло. В середине ХХ века СССР и Соединенные Штаты «вытащили» Европу из самой страшной войны в истории человечества, они же фактически разделили континент на зоны влияния. Создав ядерное оружие и вырвавшись в космос, две сверхдержавы еще раз показали превосходство над Европой, ставшей чуть ли не их покорной провинцией.
Но конец ХХ столетия оказался столь же богат на события, как и его начало. Советский Союз проиграл в холодной войне и распался на составлявшие его национальные республики. Воспользовавшись ситуацией, Соединенные Штаты дали волю своим гегемонистским устремлениям – и через десять лет оказались вовлечены в конфликт чуть ли не со всем исламским миром, итоги которого непредсказуемы. В то же время европейцам 1990-е годы принесли богатые плоды. Их интеграционный проект развивался успешно: ЕЭС стало Европейским союзом, появилась единая валюта – евро, а число входящих в ЕС стран выросло с 12 до 25. Европа освободилась и от угроз, исходивших от СССР, и от рабской зависимости от Америки. В результате мир второй половины ХХ века с его «двумя Европами и одним Западом» сменился миром XXI столетия, где имеются «одна Европа, но два Запада». Книги о превосходстве европейской «мечты» над «американской» заполонили прилавки магазинов.
Российская же «мечта» так и не встала в один ряд с европейской или американской. Последние пятнадцать лет привили россиянам лишь дополнительное отвращение к «нормальности». Доминировавшая сначала самоуничижительная констатация «мы не можем стать такими, как все» затем сменилась надменной максимой «нам не следует быть такими, как все». Обе эти формулы, применимые в периоды низких либо высоких цен на нефть, позволяют не задумываться о проекте развития страны. А это так приятно, что тезис об особости России принимается как данность, не требующая доказательств. Между тем нынешняя Россия если и кажется мне уникальной, то не более чем другая «окраина» Европы – Соединенные Штаты. Россия и Америка очень похожи друг на друга и резко отличаются от Европы. Их сходные черты столь многообразны, что мне хотелось бы в этой статье отметить некоторые из них, предоставив читателям возможность самим сделать надлежащие выводы.
«ОЩУЩЕНИЕ НАЦИИ»
Первое, что бросается в глаза при сравнении Соединенных Штатов и России, – это поразительное сходство двух народов, каждый из которых воспринимает себя совершенно особым: избранным и мессианским. Разумеется, представления европейцев о собственных роли и предназначении также не всегда скромны и адекватны. Но народы Старого Света основывают свою идентичность на истории и традициях, в которых и черпают вдохновение и уверенность в будущем. Эта идентичность не идеологизирована: еще Уинстон Черчилль, возражая в 1940 году в Палате общин против запрета Коммунистической партии Великобритании, говорил о том, что никакие убеждения не делают англичанина «не-британцем» (un-British). Ориентированность на ценности прошлого и настоящего, а не устремленность в будущее порождает ту европейскую толерантность, которая иногда кажется излишней.
Соединенные Штаты устроены иначе. С XVII века первые поселенцы осознавали себя особым народом – «лучшими» и «избранными», которым суждено построить на другом берегу океана «новую обетованную землю», «Город на холме», второй Иерусалим, откуда свет божественной истины разольется по всему миру. Резолюция, учредившая в 1640-м провинцию Новая Англия, заканчивалась словами: «Господь может отдать Землю или ее часть избранному Им народу. Принято. Мы являемся избранным Им народом. Принято». Эта простая аргументация до сих пор определяет американское мировоззрение. Американский историк Ричард Хофстедтер подчеркивал, что «нашим предназначением как нации было не обладать идеологией, а быть ею», а британец Гилберт Кит Честертон называл этот народ «нацией с душой Церкви».
Отчасти это понятно: новый народ не мог искать идентичность в истории (которой не было) и не мог не ставить перед собой амбициозные цели (поскольку их ставили перед собой все составлявшие его люди). И то и другое сослужили ему хорошую службу. Не останавливаясь ни перед чем в развитии собственной страны и пользуясь неудачами соперников, Соединенные Штаты набирали силу, а вместе с этим росло и их мессианство. Сегодня Америка начисто забыла, что «универсальные принципы», которые она якобы несет миру, изобретены не ею, что она является своего рода «вторичной» цивилизацией, «отпочковавшейся» от европейской. Американское ощущение ответственности за судьбы мира тем более странно, что ныне сами США зависят от притока денег из других стран и от их готовности поставлять в Америку товары в обмен на зеленые бумажки. Путь, по которому идет страна, крайне опасен, но он задан уверенностью американцев в том, что им не грозят неудачи.
Россия также представляет собой «отдельную ветвь» европейской цивилизации; ее история не менее необычна, чем американская, и при этом весьма на нее похожа. Русь дважды подвергалась «европеизации». В первый раз – в IX–XI столетиях, когда она приняла христианство восточного образца и тем самым вошла в «зону влияния» Византии. Упадок последней совпал с подъемом Московии, которая, переняв византийские традиции доминирования светской власти над духовной, а также символику бывшей империи, самоидентифицировалась в образе Третьего Рима. Во второй раз Россия обратилась к Европе в конце XVII века, рискнув использовать европейские достижения для защиты от самих европейцев. Результаты были впечатляющими: менее чем через сто лет страна стала самой мощной державой Старого Света.
К концу XIX века Россия была «европейской» по форме, но оставалась «вне» Европы психологически и культурно. Ее народ находился в плену мифов о «евразийской особости» и исторической избранности. Как и США, Россия была одновременно страной европейской и неевропейской. Можно лишь удивляться, сколь синхронно два государства отказались от крепостничества и рабства, пережили период острых споров о своей роли в мире (дискуссии славянофилов и западников в России, изоляционистов и экспансионистов в Америке). Все изменилось после Первой мировой войны, итоги которой открыли всемирно-исторические цели и перспективы как перед Соединенными Штатами, так и перед Россией, которая в результате мощных потрясений 1917–1922 годов стала Союзом Советских Социалистических Республик.
На протяжении большей части ХХ столетия Советский Союз и США были государствами, сущностное сходство которых еще не осмыслено надлежащим образом. Две великие «идеологические» державы, исполненные ощущения собственной великой исторической миссии, – единственные страны, названия которых не содержали даже малейшего указания на исторические и национальные корни. Их увлекали перспективы бесклассового и вненационального общества («плавильный котел» в США и «новая историческая общность людей» в СССР). Они схожим образом использовали силу «универсальных» идей (свобода и демократия – в США, ликвидация эксплуатации и социальная справедливость – в СССР). Их очаровывали горизонты технического прогресса и собственная территориальная безграничность. Победив во Второй мировой войне, обе доказали самим себе и всем остальным силу собственных идеологий и прочность социальных основ, широту возможностей дальнейшего развития.
Однако итоги ХХ века оказались для двух сверхдержав совершенно различными. Это не противоречит утверждению об их сходстве, а скорее говорит о несинхронности его проявлений. Соединенные Штаты, как общество менее этатистское (и в этом отношении более «европейское», чем Советский Союз), не искали искусственной мобилизации и отчасти поэтому смогли не столько победить, сколько пережить Советский Союз. Но и сегодня ни Россия, ни Соединенные Штаты, в отличие от европейских стран, не позиционируют себя как «одни из многих» государств многообразного мира и менее всего стремятся быть «нормальными» в европейском понимании. К каким последствиям приведет все это в наступившем столетии, пока сложно даже предположить.
ОТНОШЕНИЕ К МИРУ
Отношение к миру у Соединенных Штатов и России также удивительно схоже. Это обусловлено историей обеих европейских «окраин», сочетающей в себе, во-первых, продолжительные периоды экспансии, во-вторых, известную заданность пространства, на которое распространялось их влияние, и, в-третьих, присущее им в критические моменты превалирование политического могущества над экономическим.
Стремление к экспансии – характерная черта почти всех европейских государств; их завоевания сравнимы разве что с нашествиями кочевников в IV–XIII столетиях. Более того, когда экспансии азиатских народов шли на убыль (последними можно считать походы арабов в VII–X веках и турок в XV–XVII веках), расширение европейских империй только активизировалось. В этом отношении развитие России и США отличается от исторического развития стран Западной Европы. С одной стороны, их возвышение шло не вопреки успехам Европы, а экспансия и России, и Соединенных Штатов происходила не за счет земель, которые входили во владения европейцев. С другой стороны, в отличие от европейских стран – Испании, Франции и Великобритании, – ни Россия, ни США не создали глобальных империй в европейском понимании; они превратились в «континентальные» державы и не стремились владеть территориями далеко за пределами своих границ. Это определяет принципиальное отличие России и Америки от Европы: страны Старого Света уже прошли пик своей экспансии, тогда как в России многие полагают (а в США, пожалуй, даже уверены), что еще не достигли своего политического «зенита». Противоположность европейского и «окраинного» подходов хорошо отражается в политической риторике наших дней.
Что касается «заданности пространства», то в XIX столетии и в первой половине XX века Россия и Соединенные Штаты не имели того глобального присутствия в мире, какое обеспечили себе Великобритания и Франция, а в более отдаленном прошлом – Испания, Португалия и Голландия. Вплоть до Второй мировой войны Америке не были известны методы строительства заморских империй. Примечательно, что, как только СССР и США укрепились в военном отношении, их соперничество стало приводить к серьезным военным конфликтам на мировой периферии – от Корейского полуострова и Индокитая до Египта и Кубы. Это тоже отличало их от европейцев, не сходившихся друг с другом в колониальных войнах с конца XVIII столетия. Сверхдержавы выстраивали свою политику, ориентируясь прежде всего на геополитические интересы и идеологические цели, в то время как европейцы стремились добиться хозяйственных выгод. Уход европейцев из колоний сделал последние ареной борьбы между США и СССР, которая в итоге привела к истощению и краху Советский Союз. В наши дни советский путь повторяют с мазохистской увлеченностью Соединенные Штаты.
Такое историческое наследие искажает восприятие мира как Россией, так и Америкой. Обе страны склонны переоценивать значение фактора силы в международных отношениях. Российские и американские стратеги исходят из того, что врага следует уничтожать, а не подчинять. Правы те, кто различает Америку и Европу как «зону Марса» и «зону Венеры» (Россия, безусловно, также входит в «зону Марса»). Кроме того, и Москва, и Вашингтон считают себя центрами мировой политики, а к остальному миру относятся как к пространству, где могут найтись союзники, но никогда – образцы для подражания. Время от времени они задают себе вопрос «Кто наши союзники?», но никогда не переводят его в плоскость «Чьими союзниками можем стать мы сами?».
Эта высокомерная спесь не свойственна странам современной Европы, что делает их гораздо более приспособленными к политическим реалиям XXI века. И Россия, и США рассматривают внешний мир в первую очередь в качестве источника угроз; риторика их нынешних руководителей подчеркивает это с такой ясностью, что потребность в комментариях отпадает сама собой. Европейцы, напротив, считают происходящее в мире источником скорее вызовов, чем прямых опасностей, и действуют соответственно. Наконец, в отличие от США, которые навязывают миру свои ценности, и России, претендующей на оригинальное видение политических контуров будущего, европейцы подчеркивают: их модель ценна прежде всего оригинальностью и уникальностью, они не претендуют на то, чтобы быть образцом для остального мира.
Экономическое развитие не только России, но и Соединенных Штатов отстает от их политических претензий. В начале XX века Великобритания и Франция были крупнейшими нетто-экспортерами товаров и капитала. Ни Россия, ни Америка не могут похвастаться ничем подобным. Опыт СССР показал, сколь опасен отрыв политики от экономических возможностей; Соединенные Штаты начинают ощущать это в наши дни, и этому ощущению, похоже, суждено обостряться.
ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО, ГРАЖДАНИН И ГОСУДАРСТВО
Социальная структура, взаимное позиционирование человека и общества, отношения между гражданином и государством, глубина социализации – на примере этих проблем также несложно проследить близость «окраин» друг к другу и их отличия от европейского «центра», хотя иногда они менее заметны, чем в сфере геополитики.
Единственный пункт, по которому нет явного сходства между Россией и Америкой, – отношения между человеком и государством. В США власть отчасти отделена от общества, но не враждебна ему. Баланс интересов народа и правительства издавна находили через судебные решения; поэтому Америка – это скорее страна прецедентов, нежели законов. Власти крайне озабочены внутренней безопасностью: в тюрьмах и в камерах предварительного заключения находятся 2,09 млн человек, или 715 на 100 тыс. жителей – в семь раз больше, чем в ЕС (103 на 100 тыс. жителей). В России государство – своего рода антипод общества. Власть у нас никогда не воспринималась как нечто, проистекающее из воли народа и воплощающее ее; престиж участия во власти велик, но доверие к чиновникам минимально.
Власть в России не уравновешена ни экономической состоятельностью граждан, ни независимой судебной системой, но желание отказаться от «сильного государства» выражено в обществе слабо. Как и в США, власть у нас не слишком озабочена тем, чтобы помогать гражданам. Она предпочитает заниматься обеспечением «безопасности» (ее жесткость заметна повсюду: почти как в США, в России в местах лишения свободы находятся 526 человек на 100 тыс. жителей, а до 15 % активной рабочей силы занято в Вооруженных силах, госбезопасности, органах обеспечения правопорядка, а также в частных охранных или сыскных агентствах).
В Европе государству отводится иная роль. Во-первых, доля ВВП, перераспределяемая через бюджеты разных уровней, составляет в Европейском союзе 47,8 %, тогда как в США – 28 %, а в России – 29 %. Во-вторых, доля расходов на обеспечение внешней и внутренней безопасности составляет здесь 3–4 % ВВП, в то время как в России и Америке – почти 10 %. В-третьих, европейские государства более ориентированы на решение социальных проблем, чем американское и российское; в странах ЕС на эти цели расходуется до 60 % бюджетных средств, тогда как в США – 38 %, а в России – всего 18 %. На протяжении столетий европейцы выработали в себе чувство уважения к закону и относятся к власти как к их исполнителю, как к «слуге сообщества». В Америке (в меньшей мере) и в России (в большей) государство оторвано от общества и хочет задавать его цели; большинство населения не ждет от него помощи и разными способами стремится сократить масштаб своих обязательств перед ним.
Место государства в обществе определяется отношениями между людьми, и здесь отличия «центра» от «окраин» более заметны. Сегодняшние Америка и Россия – жесткие индивидуалистские общества, похожие на Европу если не конца XIX века, то первых послевоенных лет. О чем бы ни рассуждали адепты «евразийскости», сложно говорить о коллективизме общества, в котором заборы воздвигаются не только вокруг вилл богачей, но и даже вокруг могил бедняков на деревенских кладбищах; в котором народ давно разучился формулировать собственный интерес иначе как по подсказке власти; в котором не вызывает протеста невиданное имущественное неравенство. Самый точный индикатор «общинности» – коэффициент Джини, который в России и США практически одинаков: ныне 10 % самых обеспеченных граждан владеют в России в 16 раз большей долей национального богатства, чем наименее обеспеченные 10 %; в США этот показатель составляет 14,8 раза, тогда как в 15 странах ЕС – всего 7,6.
Ответом общества на индивидуализм становится поиск суррогатов коллективности – и тут вспоминают о религии, в отношении которой европейцы движутся в одном направлении, а американцы и россияне – в противоположном. До Первой мировой войны религиозность всех трех обществ была сравнимой; сегодня в европейских государствах граждане, называющие себя религиозными, составляют меньшинство в 12–17 %. В Америке же, как и в новой России, число жителей, считающих, что религия играет в их жизни «важную» или «очень важную» роль, устойчиво растет.
Элиты обеих стран все чаще рассматривают религиозные практики в контексте решения политических задач. Ни в одной европейской стране глава государства не пытается, подобно Джорджу Бушу-младшему, объяснять свои внешнеполитические шаги указаниями Господа; нигде в Европе первосвященник не сочтет достойным, в отличие от патриарха Алексия II, благодарить президента за прекрасную жизнь своей паствы. США и Россия с большим отрывом лидируют по масштабам трансляции церковных проповедей и служб; в обеих странах активно развиваются те направления христианства, которые лежат в основе национальной идентичности. Америка и Россия «соревнуются» и в привлечении «высших сил» для решения экономических задач: американцы напоминают каждому, кто пожелает расплатиться долларами, что in God we trust, а российские топ-менеджеры, кажется, всерьез хотят преобразить автомобильную промышленность принесением на АвтоВАЗ мощей св. Иоанна Крестителя.
Завершая этот раздел, рискну сказать, что Европа постепенно превращается в своего рода сообщество личностей, а обе «окраины» активно используют религиозно-мессианские мотивы, укрепляя этим сомнительным образом свою идентичность.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ
Экономика и деньги – вот что, пожалуй, в наибольшей мере сближает сегодня «окраины», противопоставляя их «центру». В Америке, а с недавнего времени и в России деньги являются объектом поклонения, мерилом успеха и главным критерием человеческой значимости. Отсюда – растущее социальное расслоение и неэффективность экономики, ориентированной на прибыль, а не на максимизацию общественной полезности. В отличие от Европы, где доходы директоров компаний превышают уровень зарплат их работников не более чем в 30 раз, в США руководители зарабатывают в 160–250 раз больше своих работников, в России же разрыв еще ощутимее. Характерно, что такие вознаграждения не отражают экономической успешности; Европа, которая в последние годы должна была бы из-за социальных издержек оказаться неконкурентоспособной, обнаружила, напротив, невиданную эффективность. В первые годы нового столетия ЕС производит в 1,1 раза больше автомобилей, чем США; в 1,6 раза больше продукции химической и в 1,75 раза – фармацевтической промышленности; в 2 раза больше стали; в текстильной и легкой индустрии разрыв еще больше.
Россия же на протяжении 1990-х вообще перестала существовать для мира как промышленная держава, превратившись в «экономику трубы». Конечно, в этом мало общего с Америкой, переключившейся на информационный сектор, но нельзя не признать, что в конце ХХ века «окраины» практически «самоликвидировались» как индустриальные регионы. Правительства обеих стран стремятся контролировать не производство, а транспортную, информационную и финансовую инфраструктуры. В США это проявляется в прогрессирующем увеличении роли финансовых, банковских и биржевых услуг и контроле над глобальными информационными сетями, в России – в трубопроводной «сверхдержавности» и назойливо повторяемой идее «моста» между Европой и Азией, которым могла бы стать страна в наступившем столетии. Однако история показывает, что сохранять политическое влияние в условиях неконкурентоспособности и упадка промышленного производства пока не получалось ни у одной из великих наций, чье влияние выходило далеко за их границы.
Это не значит, что «окраины» отстали, а «центр» вырвался вперед, но экономическое развитие Европы в наши дни выглядит гораздо более сбалансированным, чем России или Соединенных Штатов. И это проявляется не только в интенсивном хозяйственном росте, постоянном сокращении продолжительности рабочего времени, ужесточении экологических стандартов и сбалансированности внешней торговли, но и в распространении высокотехнологичной продукции, разработанной за пределами Европейского союза. Не секрет, что в США распространенность мобильной связи сегодня составляет 56 %, тогда как в ЕС – почти 100 %, что только 19 % новых американских автомобилей оснащаются системой позиционирования на местности, в то время как в Европе – 65 %, и т. д. Похоже, что в превращении технологических достижений в инструмент повышения качества жизни европейцы не знали и не знают себе равных…
В США и России человек воспринимается как потребитель. Его стремление – купить больше, дешевле и по возможности лучшего качества. Экономия не приветствуется. Основной аргумент американских рекламных кампаний – «теперь вы можете за ту же цену получить больше!» (вторую котлетку в гамбургере, на треть больше колы и т. п.). Когда потребительский бум выдыхается, его поддерживают массовым кредитованием. У нас эти тенденции воспроизводятся в тех группах населения, которые приближаются к западным стандартам потребления. Сегодня Россия – самый выгодный рынок для международных торговых сетей. Продажа товаров в кредит растет на 30–40 % ежегодно; так же увеличиваются и объемы продаж дорогих автомобилей.
Россия тут идет даже впереди Америки: если там вызывают восторги разного рода «истории успеха», повествующие, как человек добился богатства и известности, то в России культовыми стали богатство и известность, как таковые, вне зависимости от их источника. Телевидение, газеты и журналы умиляются выходкам «новых русских», а с недавних пор – и чиновников. Америка и Россия схожи и в том, что у них особое значение придается понятию «роскошь», причем нередко только она и отличает представителей «элиты» от «низов», во всех прочих отношениях похожих как две капли воды. В США, куда бы вы ни кинули взор, какой бы телеканал ни включили, наиболее часто встречающимся словом будет luxury. Оно относится к домам во Флориде, собранным из гипсокартонных конструкций; к джипам, сиденья которых напоминают диваны начала прошлого века; к любой одежде, кроме джинсов; почти ко всем гостиницам, кроме тех, что расположены у больших автострад. В России «роскошь» превращена в «элитность» (что еще раз подчеркивает идентификацию богатства и статуса в общественном сознании). «Элитным» у нас становится все – от бижутерии и косметики до ресторанов, от автомобилей до квартир и домов.
Все это диссонирует с европейским подходом: слово «элитный» здесь вообще отсутствует в рекламном лексиконе, понятие luxury встречается крайне редко (обычно его заменяют разные версии термина upscale), а исключительность чего-либо подчеркивается в первую очередь его малодоступностью или «закрытостью» (например, тех клубов, которые издавна и традиционно именуются private, но никак не elitist).
Еще одна особенность, присущая как Америке, так и России, но чуждая Европе – мелкий и крупный обман, ощущение которого сопровождает новичка, не привыкшего к реалиям страны. Например, в США все цены указаны без налогов, которые удорожают покупку иногда почти на четверть. Особенно обескураживает сфера обслуживания с повсеместно распространенными «рекомендованными чаевыми» (suggested gratuity), прибавляющими до 20 % к ресторанному чеку средней стоимости. Ситуация, когда пассажир платит таксисту двадцать долларов при указанных на счетчике пятнадцати и в ответ слышит: «А где чаевые?» – стала обыденной и не вызывает удивления. В России роль американских барменов и таксистов выполняют клерки и госслужащие – не секрет, что размер «низовой» коррупции составляет от 10 до 15 % ВВП.
Когда я бываю в Америке, мне кажется, что в сравнении с Европой эта страна представляет собой даже не «окраину», а самую что ни есть провинцию – со всеми присущими ей чертами, неумело прикрытыми красивой упаковкой. В России такие же ощущения возникают у иностранцев, пытающихся понять особенности местной реальности, – правда, не сразу же, а по мере того, как они начинают втягиваться в нашу повседневную жизнь, переставая судить о ней только по витринам магазинов.
* * *
В завершение отмечу еще одно красноречивое обстоятельство. Принято считать, что Соединенные Штаты сделали великой страной люди, которыми двигала «американская мечта» – мечта о собственном деле или карьерном росте и, разумеется, о финансовом благополучии. Ее распространенность объясняет отсутствие в Америке социальных движений, столь характерных для Европы: европейскому стремлению к равенству результатов американцы предпочитают пусть иллюзорное, но равенство возможностей. В России сегодня также не наблюдается оживления эгалитаристских движений. Не стоит ли за этим надежда, подобная той, что так успешно сдерживает развитие социальных движений в США? Мне кажется, что здесь есть параллели, если и не явно обусловленные сходством как американской, так и российской «мечты», то проявляющиеся в том, как россияне и американцы организуют свои общества.
В обществе американской «мечты» преклонение перед успехом не означает почитания всех успешных. Отношение к капиталистам может быть критичным, но в то же время сам капитализм, как воплощение личной независимости, автономности и свободы, оказывается «вне подозрений». «Российская мечта» похожа на американскую – только в наших представлениях об обществе центром выступает не рынок, а государство. Ныне никто не вызывает в обществе такого презрения, как коррумпированные представители власти. Но президент, назначивший часть из них и создавший условия для неподотчетности остальных, обладает огромным запасом доверия как олицетворение государства. Ну чем не отношение американцев к процветающим капиталистам и к капитализму, как таковому? «Государевы люди» в логике россиянина могут быть противны, но государство почти всегда остается незапятнанным.
Таким образом, в какой-то мере наш подход схож с американским: да, власть в России с безразличием относится к своим гражданам, но значительная их часть так же наивно полагает, что сможет к ней приобщиться, как разносчик газет в провинциальном американском городке надеется стать миллионером. Даже российские демократы в начале 1990-х годов разработали авторитарную по своей сути Конституцию – отчасти и потому, что писали ее «под себя», а не для страны. Именно такое предпочтение радужных иллюзий сиюминутной основательной нормальности разительно отличает русских и американцев от европейцев и придает им сходство. Оно и не удивительно – ведь в любом мегаполисе легко отличить коренных горожан от провинциалов, а сами провинциалы всегда так похожи друг на друга...

США и Россия: отношения сквозь призму идеологий
Леон Арон
© "Россия в глобальной политике". № 3, Май - Июнь 2006
Леон Арон – директор российских исследований Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute).
Резюме По сравнению с Советским Союзом во внешней политике России просматриваются прагматизм, стремление к «свободе рук». Не связывать себя абстрактными принципами, а маневрировать. Не вступать в «идеологические» альянсы, а «работать» на двусторонней основе. Долгосрочные результаты менее важны, нежели процесс поддержания контактов, сегодняшняя роль Москвы и те дивиденды, которые можно получить сейчас.
Шарль де Голль сказал однажды, что у стран нет друзей, а есть только интересы. Он забыл уточнить: это интересы, как они видятся и интерпретируются элитами (в авторитарных режимах) или, если речь идет о демократиях, элитами и общественным мнением.
В свою очередь, трактовка национальных интересов определяется идеологией власти, то есть представлением лидеров о том, как следует жить и чего добиваться их стране. Поэтому отношения одного государства с другим, как правило, отражают место последнего в его собственной системе координат, а также глубинную сущность и внутриполитические приоритеты его режима.
Сегодняшние связи между Соединенными Штатами и Россией не исключение. Тот факт, что в результате политики, проводимой каждым из этих государств, отношения между ними ухудшаются (и, по всей видимости, продолжат ухудшаться, как минимум, в течение следующих трех лет), не является следствием ни заговора, ни чьего-то злого умысла. Корни и динамика этого процесса – в том, как режимы в Москве и Вашингтоне воплощают стратегические повестки дня на основе выбранных идеологий, и в том, какими видятся – опять же через идеологические призмы – ответы партнера на свои действия.
ВЗОРВАННЫЕ АКСИОМЫ
У нынешней идеологии Вашингтона два источника, два часто накладывающихся друг на друга лейтмотива. Первый – это трагедия 11 сентября 2001 года. С того дня Белый дом ни на минуту не оставляла озабоченность, связанная с угрозой исламского экстремизма, с возможностью повторения теракта и перспективой передачи террористам оружия массового уничтожения (в первую очередь ядерного) нестабильными, фундаменталистскими, настроенными против Америки государствами.
Другое «родовое пятно» этой администрации – ее неоконсерватизм. В разговорах о чуть ли не заговорщическом, большевистском единодушии «неоконов», об их якобы почти кукловодческом контроле над Белым домом много чуши. Институт, где работает автор настоящих заметок, часто называют «мозговым центром неоконсерватизма», и изнутри эти домыслы выглядят, мягко говоря, весьма далекими от реальности.
Если какие-то постулаты «неоконсервативной идеологии» во внешней политике и существуют, то главный из них можно сформулировать следующим образом: интересы и безопасность Америки гораздо легче обеспечивать в мире, где торжествует политическая свобода. Отсюда и принятие, по крайней мере как идеала, инаугурационной (1961) речи президента-демократа Джона Кеннеди: «Пусть каждая страна мира, желает ли она нам добра или зла, знает, что мы заплатим любую цену, не согнемся под любой ношей, выстоим перед любой трудностью, поддержим любого друга и окажем сопротивление любому врагу, лишь бы выжила и победила свобода». Для неоконсерваторов принципиальной является связь между тем, как государства ведут себя внутри страны, и их внешней политикой.
В этом смысле показательна эволюция госсекретаря Кондолизы Райс. Еще с тех пор как она работала над докторской диссертацией, посвященной Советской армии в период подавления Пражской весны (1968), одними из главных ее научных интересов являлись военные аспекты американо-советских отношений и контроль над вооружениями. Она была выдвиженцем генерала Брента Скоукрофта – ведущего «реалиста» Вашингтона, помощника президента Джорджа Буша-старшего по национальной безопасности. Последний назначил Райс советником по СССР. В августе 1991 года – в ответ на всплеск национально-освободительных движений в советских республиках и демократическую революцию в России – Буш в Киеве грозно предупредил украинцев об опасности «самоубийственного национализма». Прозванная «цыпленком по-киевски» (Chicken Kiev), эта речь навсегда вошла в арсенал неоконсервативных критиков как пример зашоренности «реалистов», отсутствия у них политического и исторического «слуха».
Скоyкрофт олицетворял собой взгляд на стабильность как на кардинальную ценность и цель американской внешней политики. В 1998-м Райс начала обучать тогдашнего губернатора штата Техас Джорджа Буша-младшего внешней политике. Судя по речам «ученика» в ходе президентской кампании и по сигналам из Белого дома в первые девять месяцев правления новой администрации, «реализм» в ней явно преобладал. Неважно, что там у русских за государство: советское тоталитарное, новое демократическое, авторитарное китайского типа или вовсе, по терминологии Райс, «несостоявшееся». Разбираться долго, да и незачем. Важно, сколько у них стратегических ракет с ядерными боеголовками. Вот об этом и будем говорить – и этим, в общем-то, взаимная повестка дня и исчерпывается. (Вскоре после прихода к власти Буша-младшего один из архитекторов американо-российских отношений в администрации Билла Клинтона с нескрываемым раздражением жаловался в узком кругу, что в ходе «передачи власти» от Клинтона к Бушу Райс демонстрировала подчеркнутое невнимание к внутренней российской проблематике.)
11 сентября 2001 года взорвало аксиомы реализма. Поддержание статус-кво вдруг обернулось неприемлемым риском. Произошло не что иное, как смена парадигм. Президент Буш и его помощник по национальной безопасности неожиданно для себя стали неоконсерваторами.
Америка, которая еще год, месяц, неделю назад почивала на лаврах победы в холодной войне – самая сильная, неуязвимая и абсолютно самодостаточная держава, – упала с олимпа на жесткую и холодную землю, кровоточащая, испуганная, одинокая и озирающаяся по сторонам в поисках друзей. Именно друзей, а не бизнес-партнеров наподобие Саудовской Аравии, взрастившей 15 из 19 террористов, атаковавших США.
И вот тут Россия вышла на первый план – решительно и уверенно, как будто ждала этого момента и всю «домашнюю работу» не только приготовила, но и отшлифовала до блеска. Звонок Владимира Путина Джорджу Бушу в первые минуты после нападения; согласие Москвы не только на использование российского воздушного пространства самолетами Соединенных Штатов и НАТО, но и нa размещение их баз в Центральной Азии; сотрудничество спецслужб; использование российских разведданных по Афганиcтану и обширных российских связей с антиталибским Северным альянсом. И все это, что называется, на одном дыхании: решительно, щедро, не ставя предварительных условий, не торгуясь, не требуя ничего взамен. (Заодно Россия свернула свою военно-морскую базу в Камрани и закрыла радиолокационную станцию на Кубе.)
Когда сущность режимов и их идеология вдруг стали важны для новоиспеченных неоконсерваторов из Белого дома (отсюда лозунг «Если надо, будем менять режимы»), стал важен и внутренний порядок России, а подсчет ракет превратился в задачу третьестепенную. Выяснилось, что Россия осени-2001 – это вовсе не Китай. Что там есть и политические свободы, и свобода вероисповеданий, и многопартийность, и тогда еще реальная оппозиция, и свободная пресса, и неподцензурная культура. А курс на либеральные реформы в экономике осуществляется вполне серьезно, грамотно и с размахом.
Именно это совпадение базовых ценностей и, как результат, многих главных (хотя даже тогда далеко не всех) и наиболее насущных национальных интересов придавали российско-американским отношениям, как казалось, характер долговременного, стратегического союзничества.
Но, согласно любимому историей (и Энгельсом) парадоксу, в триумфе уже вызревали семена поражения. Когда российская власть сменила приоритеты внутренней и соответственно внешней политики, преградой в отношениях между двумя странами стала та самая неоконсервативная доминанта в определении американских национальных интересов, которая ранее привела к небывалому с конца Второй мировой войны сближению Москвы и Вашингтона и к посещению российским лидером ранчо Кроуфорд, принадлежащего чете Бушей.
НОВЫЙ КУРС МОСКВЫ
Начиная примерно со второй половины 2003 года становится все более очевидным: режим Владимира Путина – это не исправление «перекосов» 1990-х при продолжении (более последовательном, «чистом» и «цивилизованном») стратегической линии Бориса Ельцина. Наоборот, доминирующая идеология словно бы переполнялась глубоким стыдом за «хаос» 1990-х годов, проявившийся прежде всего в ослаблении государства. То, что и хаос, и слабость государства – непременные спутники всех великих революций, видимо, было либо неизвестно, либо отвергнуто с порога.
В этой перспективе и внутренняя, и внешняя политика виделись как результат заговора, продукт изощренных политтехнологий, «проплаченных» олигархами, а не как следствие сознательного и свободного, хотя и реализованного не самым лучшим образом выбора большинства россиян. Выбора, подтвержденного и избранием Ельцина на пост президента тогда еще РСФСР в июне 1991-го, и результатами референдума в апреле 1993-го, и судьбоносным голосованием 1996-го, и вполне еще свободной избирательной кампанией-1999, когда, похоже, навсегда было похоронено народно-патриотическое левое большинство в Госдуме.
Снова восторжествовали традиционные для России постулаты: государство тождественно обществу; все, что хорошо для государства, априори хорошо для страны; укрепление государства есть укрепление общества. Судя по их политике, только два лидера в российской истории, Александр II и Борис Ельцин, осознавали, что ослабление роли государства способно в определенных обстоятельствах и только в долгосрочной перспективе укрепить общество. Петр I и Иосиф Сталин довели до крайних пределов противоположную тенденцию.
Следовательно, чиновник (конечно же, просвещенный, умный, работящий и, разумеется, неподкупный) – это гораздо более эффективный и последовательный двигатель прогресса общества, чем свободная пресса (такая продажная, падкая на сенсации и пекущаяся о прибыли, а не об интересах государства), избиратель (такой наивный, необразованный и переменчивый), независимый судья (такой взяточник) или, боже упаси, частный предприниматель.
А раз так, видимо, заключили в Кремле, проведенная в 1990-e годы децентрализация политики и экономики была в принципе неадекватной и во многом даже вредной. Следует реанимировать роль государства, занять «командные высоты» экономики, вернуть себе «бриллианты» из экономической «короны» и навсегда утвердить контроль исполнительной власти над всеми другими ее ветвями, закрепив ведущую роль Кремля в политической сфере.
Последовавшие изменения во внешней политике лежали в русле той же логики. В целом прозападная политика предыдущего режима рассматривалась теперь Кремлем не как следствие общности интересов и не как поиски пути к «общечеловеческим ценностям», к «европейскому дому» или места в союзе «цивилизованных» государств. Всё это – яковлевско-горбачёвское, шеварднадзевское, ельцинское, уходящее корнями в период гласности, – было подвергнуто идеологической ревизии. Развал СССР назвали самой большой геополитической катастрофой ХХ века. Отсюда и новые императивы внешней политики: движение на Запад не форсировать и «жертв» ему не приносить (например, в том, что касается политических свобод внутри страны или отношений с пророссийскими диктатурами в СНГ). Там, где возможно, Россия будет пытаться восстанавливать и укреплять прежние связи на бывшей советской территории. Те новые государства, которые окажут содействие в этом процессе, будут поощрены; те, что препятствуют, – наказаны.
Конечно, это не возвращение к политике Советского Союза. Например, в решение метазадачи по восстановлению общности постсоветского пространства (и российской сверхдержавной гегемонии в регионе) органически вписывается один из императивов национальной безопасности, свойственный всем великим континентальным державам в истории – от Вавилона, Персии, Китая, Рима до Соединенных Штатов вплоть до 70-х годов прошлого века: стабильность на границах и дружественные (а лучше вассальные) режимы по периметру. Отсюда и российский эквивалент поддержки «сукиных сыновей, но наших сукиных сыновей» – фраза, которая прочно вошла в лексикон внешней политики США (так Франклин Делано Рузвельт высказался в отношении никарагуанского диктатора Анастасио Сомосы. – Ред.). Поддержка Кремлем «последнего диктатора Европы», Лукашенко, встречает в Белом доме раздражение и непонимание. Москва не хуже, а, пожалуй, и гораздо лучше Вашингтона знает об одиозности белорусского режима, не говоря уже о личных качествах «батьки», но считает «негатив» в отношениях с Западом приемлемой ценой на пути к достижению поставленной цели.
В отличие от Советского Союза, во внешней политике России легко просматриваются прагматизм, стремление к «свободе рук», к положению над схваткой, к классической Realpolitik. Не связывать себя абстрактными принципами («западная цивилизация», «свобода», «права человека»), а маневрировать. Не вступать в «идеологические» альянсы, а «работать» со странами главным образом на двусторонней основе. Для современной России долгосрочные результаты менее важны, нежели процесс установления и поддержания контактов, сегодняшняя роль России и те дивиденды, которые они приносят сейчас. Как говорил Троцкий, цель – ничто, движение – всё.
Россия прибегает к тактике, известной в бизнесе как asset leveraging: наиболее эффективное размещение активов. Акцент делается на областях «сравнительных преимуществ», будь то ядерные технологии либо передовые системы обычных вооружений и, конечно же, энергетика. Неотъемлемой частью новой российской внешней политики стал дипломатический эквивалент арбитражa, т. е. попытки заработать на структурных «пробуксовках» механизма ценообразования, на разнице цен за один и тот же продукт на разных рынках: маневрирование на лезвии ножа (и чем острее, тем лучше).
Использованием сравнительного преимущества обусловлены, например, поставки вооружений в Китай – на самый большой рынок сбыта российских военных технологий: новейшей авиации (включая грузовой самолет-гигант Ил-76 и заправочный Ил-78), кораблей, подлодок. Первые в истории российско-китайские учения прошли в августе 2005-го с участием свыше 10 тысяч военнослужащих. А что касается раздражения в Вашингтоне, обязавшемся защищать Тайвань в случае нападения Пекина, или опасности продажи оружия геополитическому сопернику (который до сих пор не признаёт «неравноправные договоры» 1858 и 1860 годов, отдавшие России огромные куски Сибири, а в следующее десятилетие может достичь паритета с Россией по ядерному потенциалу), то риск оправдывается, видимо, выполнением глобальной задачи по исправлению «перекосов» 1990-х – обретением «самостоятельности» на мировой арене, престижа и миллиардов долларов.
Соглашение о поставке Сирии – тоталитарному режиму, поддерживающему терроризм, – тактических противовоздушных систем SA-18 рассматривается как восстановление позиций на Ближнем Востоке, утраченных после развала Советского Союза. Визит руководства движения ХАМАС в Москву, кроме всего прочего, был и попыткой арбитража в надежде на важные уступки (скажем, отказ от перманентной войны с Израилем) и, как следствие, на утверждение репутации России в качестве незаменимого медиатора конфликтов между «Востоком» и «Западом». Как любил повторять Наполеон (а вслед за ним Ленин), «On s’engage et puis on voit!» – «Ввяжемся в бой, а дальше будет видно!».
«Новый курс» во внешней политике Москвы наиболее отчетливо проявился, пожалуй, в ее отношениях с Ираном. Именно они обусловили самую серьезную на сегодняшний день ссору с Вашингтоном. После возобновления в декабре прошлого года продажи Тегерану обычного вооружения, приостановленной комиссией Гор – Черномырдин по настоятельной просьбе Соединенных Штатов летом 1995-го (до этого Россия за пять лет продала Ирану на два миллиарда долларов самолетов, танков и подводных лодок), ему были поставлены мобильные ракетные системы противовоздушной обороны Тор-М1, истребители МиГ-29 и корабли береговой охраны на общую сумму приблизительно миллиард долларов.
Поскольку золотовалютные запасы России приближаются к 300 миллиардам долларов, выручка для нее, конечно, далеко не главное.
Ситуация вокруг Ирана используется для достижения той же метацели. По словам московского эксперта Раджаба Сафарова (и, по-видимому, по разумению кремлевских архитекторов этой политики), Иран предоставляет Москве «уникальный и исторический шанс вернуться на мировую арену в качестве ключевого игрока и вновь рожденной сверхдержавы. Если Россия будет твердо защищать интересы Ирана в этом конфликте... она немедленно вернет себе престиж в мусульманском мире и на всей мировой арене... И никакие финансовые предложения со стороны Соединенных Штатов не смогут изменить стратегию».
Отсюда вытекает тактика, применяемая Россией в ходе переговоров постоянных членов Совета Безопасности ООН (Великобритания, Россия, Китай, США, Франция) и Германии с Ираном: как можно дольше откладывать «момент истины», защищая статус-кво и оттягивая «продажу» товара (российской поддержки), чтобы увеличить его цену. А то, что лидер Ирана публично провозглашает веру в двенадцатого имама, который явит себя после всемирной катастрофы (читай: ядерной войны) и грозится стереть Израиль с лица земли, – это эмпиреи, от лукaвого, не для сегодняшнего дня.
НЕНАДЕЖНЫЕ ЯКОРЯ
B иные времена такая политика Москвы, возможно, и не вызывала бы серьезных проблем в отношениях с Вашингтоном. В конце концов, привыкли же там (хотя, конечно, не без раздражения) к дипломатии Франции, которая после утраты статуса великой державы практиковала схожий прагматизм и дипломатический арбитраж в отношениях с главными блоками – участниками холодной войны. Но времена не те и не те ценности. Такая политика чревата тем, что даже после увязания в иракском болоте она будет неприемлема для американского внешнеполитического истеблишмента (за исключением изоляционистов-маргиналов с обоих флангов). Koсa «постсентябрьского» активизма США – с его акцентом на свободу и демократию как центральные элементы национальной безопасности и на «распространение демократии» в качестве одного из ключевых средств ее обеспечения – нашла на камень постсоветской и постимперской реставрации России, суть которой заключается в экономической и политической рецентрализации и Realpolitik за рубежом.
Вследствие ценностного размежевания Россия и Америка принялись дрейфовать в противоположных направлениях. Корабли начали отдаляться друг от друга. Но полной потери визуального контакта пока еще не произошло: ее предотвращают якоря – главные «активы» одной стороны, отвечающие стратегическим интересам другой.
«Активы» России имеют центральное значение для решения четырех долговременных и стратегических задач, стоящих перед Вашингтоном: победа в глобальной войне с терроризмом; предотвращение распространения ядерного оружия; обеспечение энергетической безопасности; развитие общности интересовв отношении Китая, в неизбежность столкновения с которым уверена значительная часть внешнеполитических элит США.
Кстати, ключ к трениям внутри администрации, истоки разнобоя в российской политике Соединенных Штатов и риторической сумятицы, так часто раздражающей Москву, отнюдь не в персоналиях: Дик Чейни, Кондолиза Райс, Эрик Эделман на одной стороне, Джордж Буш и Томас Грэм – на другой. Причина кроется именно в разнящихся оценках важности российских «активов» по сравнению с «пассивами» внутренней политики Кремля, в неизбежной амбивалентности имиджа России с точки зрения сформировавшейся после 11 сентября системы национальных интересов США. Преобладает то одна, то другая составляющая: «геополитическая», в центре которой интересы-«якоря», или «неоконсервативнaя», для которой важны прежде всего этатистские тенденции внутри России.
Что до Москвы, то в ее первостепенных стратегических интересах Америка фигурирует, во-первых, как союзник в борьбе с мусульманским терроризмом, включая прежде всего чеченских боевиков. Во-вторых, от Соединенных Штатов ждали понимания «особой роли» (и соответственно особых интересов) России на постсоветском пространстве, где проживает 25 миллионов этнических русских и которое обогревается, освещается и снабжаeтся (до последнего времени практически в кредит) энергией за счет российских газа, нефти и электричества. В-третьих, Россия рассчитывала на поддержку ее интеграции в мировую экономическую систему, начиная с ВТО.
Но, пожалуй, самый главный американский «актив», самое ценное, что Соединенные Штаты могут дать России, – это уважение и равноправие. Как бы ни клеймили Америку полуофициальные пропагандисты в прокремлевских газетах и на телеканалах, что бы там ни говорилось о «смене вех» и ориентиров, о Европе, Азии и Евразии – для народа, равно как и для элит, паритет с Америкой (не важно в чем – в армиях, континентальных ракетах, спутниках, мясе, кукурузе, демократии, темпах роста экономики), ее уважение к России всегда – при Ленине, Сталине, Хрущёве, Брежневе, Горбачёве и Ельцине – были одним из главных легитимирующих внутриполитических факторов. По гамбургскому счету национального достоинства никто – ни Европа, ни Азия, ни Германия, ни Китай, ни Франция, ни Япония – и близко не стоит.
Этот перечень коренных взаимных интересов, конечно же, не нов. Новостью последних лет стало то, что «активы», не подпитываемые более совпадением хотя бы нескольких главных идеологических составляющих, начали быстро обесцениваться. Цепи якорей ржавеют. То, что раньше относилось бы к разряду легкорешаемых технических проблем, сейчас становится основанием для глубоких и долгих обид и серьезных ссор, число которых возрастает с каждым витком порочного круга.
Так, с точки зрения Вашингтона (и американского общественного мнения, что гораздо важнее в долгосрочной перспективе), за прошедший год образ России как союзника в борьбе с терроризмом существенно скомпрометирован. Здесь и заявка Москвы на особые отношения с движением ХАМАС, и поставки ракет Сирии, истребителей МиГ-29 и вертолетов Ми-24 Судану, практикующему террор (и даже, как в случае Дарфура, геноцид) в отношении собственного населения.
Что касается нераспространения ядерного оружия, то способность России содействовать разрешению северокорейского кризиса, оказывая влияние на своего бывшего клиента – Пхеньян, мягко говоря, не оправдала надежд. Разочарование это, однако, бледнеет по сравнению с последствиями позиции по иранскому вопросу. Создается все более устойчивое впечатление, что Москва недооценивает риск для своих отношений с США (а теперь уже и с Европой), играя роль дипломатического защитника и поставщика передовых обычных вооружений и гражданской ядерной технологии режиму, который открыто призывает к атакам на Соединенные Штаты, финансирует, вооружает и обучает террористов, а с недавнего времени публично заявляет о намерении заняться обогащением урана для производства ядерного оружия.
Возможно, Россия уже прошла «точку невозврата», после которой, вновь говоря на языке бизнеса, никакое хеджирование уже не сможет предотвратить серьезные потери при ликвидации занятых ею рыночных «позиций». Не желая ставить под удар встречу лидеров стран «Большой восьмерки», Россия в конечном итоге, видимо, проголосует в Совете Безопасности ООН за санкции против Ирана или, по крайней мере, воздержится. Последний почти что наверняка ответит выходом из режима нераспространения и в итоге автоматически вызовет расширение санкций. Они могут включать запрет на сотрудничество с Тегераном не только в гражданском атомном строительстве, но и в сферах, связанных с обычными вооружениями, финансами, инвестициями в неядерную энергетику (газ). Во всех этих областях, начиная с сооружения ядерного реактора в Бушере стоимостью больше миллиарда долларов, Россия сегодня «вложилась» более глубоко и объемно, чем кто бы то ни было. И как бы Москва ни повела себя при этом весьма вероятном сценарии, едва ли ей удастся избежать долговременного урона в престиже (не говоря уже об ущербе материальном).
Что касается энергетической безопасности Америки, то, когда Кремль, несмотря на лоббирование даже на уровне Белого дома, наложил вето на строительство частного трубопровода Западная Сибирь – Мурманск, надежды Вашингтона на существенное замещение части импорта нефти из Персидского залива прямыми поставками из России рассеялись. Тревоги по поводу надежности и, главное, устойчивости роста российского нефтяного экспорта усилились после фактического огосударствления компаний ЮКОС и «Сибнефть», в результате которого темпы роста добычи упали с 8 % в среднем (показатель за предыдущие семь лет) до 2 % в 2005 году. Впервые с 1999-го объем российских поставок на мировой рынок сократился в абсолютной величине.
Не успел Запад переварить кратковременное прекращение поставок газа в Украину и снижение (вследствие воровства газа украинской стороной) давления в трубах, по которым газ поступает в Европейский союз, как в апреле нынешнего года Москва выступила с серией угрожающих заявлений – прямо-таки очередь «веером от живота» со стратегических высот российской энергетики и политики. Речь шла о возможности сокращений поставок нефти и газа в Западную Европу (и, наоборот, их роста на азиатском направлении), если последняя и впредь будет с недостаточным энтузиазмом откликаться на планы «Газпрома» и российских нефтяников по выходу на европейский розничный рынок. Об этом говорили в Москве Алексей Миллер и Семён Вайншток, возглавляющие «Газпром» и «Транснефть» соответственно, а спустя два дня – Владимир Путин в Томске. (Вайншток даже назвал количество нефти – 30 млн тонн в год, – которое перебросят с запада на восток.)
И вот уже Кондолиза Райс в Турции высказывает опасения по поводу российской газовой «монополии» и призывает к строительству в обход России газового трубопровода параллельно нефтепроводу Баку – Супса – Джейхан. В Белом доме, наступая на горло неоконсервативной песне, принимают унаследовавшего азербайджанский «престол» Ильхама Алиева, а вице-президент США Чейни расхваливает в Астане «стратегическое партнерство», обращаясь к пожизненному, по всей видимости, президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, набравшему 91 % голосов на последних выборах. (После этих выборов один из главных политических соперников Назарбаева был убит агентами казахстанских спецслужб, а другой арестован.) При этом, несмотря на ухаживания Вашингтона, Астана пока не транспортирует нефть по трубопроводу Баку – Джейхан и, так же как и Ашхабад, не выразила заинтересованность в газопроводе, альтернативном газпромовскому.
Наконец, ввиду того что политика России в отношении Китая делает акцент на продаже ему вооружения и приоритетном снабжении энергией, американо-российское сотрудничество в деле «сдерживания» Поднебесной выглядит весьма иллюзорным, даже если скептически относиться к заявлениям Москвы и Пекина о незыблемости их дружбы и их совместной оппозиции «однополярному» миру.
Так же интенсивно и заметно в России обесцениваются американские «активы». У Москвы создается впечатление, будто «особые интересы» России на постсоветском пространстве вместо «понимания» встречают сознательное пренебрежение. Aнтиавторитарныe «цветные» революции на территории СНГ воспринимаются как нацеленные против России и ставятся в вину Вашингтону. Начисто забыв совсем недавнюю историю своей страны, Кремль, похоже, не может представить себе подлинного народного протеста, не замышленного и не проплаченного со стороны. Сказывается атмосфера политического цинизма, столь характерного для периодов реставраций, будь то эпоха Карла II в Англии либо времена Наполеона III во Франции. Лобовую атаку на свои интересы Москва видит и в форсировании приема в НАТО Украины и Грузии – вслед за молниеносным предоставлением членства в альянсе странам Балтии.
Не оправдались и расчеты Москвы, по крайней мере, на моральную поддержку со стороны США в борьбе с терроризмом на территории России. Вместо того чтобы оказать помощь или на худой конец смолчать, и Госдепартамент, и неправительственные организации, и СМИ продолжают критиковать нарушения прав человека в Чечне и отказываются (как, впрочем, и большинство россиян) воспринимать политику «чеченизации» («кадыризации») конфликта как надежный выход из тупика. Кроме того, следуя примеру Великобритании, Соединенные Штаты недвусмысленно заявили о нежелании сотрудничать с Москвой в выдаче лиц, обвиняемых Россией в пособничестве чеченским террористам.
Еще менее устойчивым оказался в глазах Москвы третий стратегический «актив» США – помощь в интеграции в глобальную экономику. Наоборот, Америка оказалась, пожалуй, самым крупным камнем преткновения на пути к членству России в ВТО. Москва винит официальный Вашингтон, хотя здесь администрация Буша не задает тона и явно идет в фарватере могущественных деловых интересов. Американские компании требуют принять действенные меры по борьбе с повальным воровством интеллектуальной собственности – особенно это касается музыкальной продукции, фильмов и компьютерных программ, только в 2005 году стоивших американским правообладателям около двух миллиардов долларов. А банки добиваются права открывать не только дочерние компании, но и отделения.
Трудности со вступлением в ВТО вновь разбередили в Москве обиду в связи с поправкой Джексона – Вэника, болезненной занозой, сидящей в двусторонних отношениях уже почти 15 лет. Закон запрещает предоставлять статус наибольшего благоприятствования в торговле странам с нерыночной экономикой, которые ограничивают право граждан на эмиграцию. Хотя постсоветская Россия сняла все ограничения на выезд за рубеж и на эмиграцию и уже по крайней мере лет десять производит большую часть валового продукта в негосударственном секторе (в отличие от Китая, имеющего этот статус с 2000 года, несмотря на очевидные нарушения обоих условий), Америка продолжает ущемлять национальное достоинство России вопреки своему же законодательству.
Разрушительные сами по себе, все эти несбывшиеся ожидания подтачивают самый важный для Москвы «актив» – сознание паритета с Америкой и уважения с ее стороны. И вот уже даже российские либералы призывают к ускоренному созданию и развертыванию стратегических ядерных ракет с кассетными боеголовками класса «Тополь-М» – главным образом лишь для того, чтобы заставить Америку снова начать переговоры о взаимном сокращении ядерных потенциалов! «Конечно, на Россию никто нападать не собирается, – откровенно объяснил эту позицию один из ее главных сторонников эксперт Алексей Арбатов, – но и вести переговоры с ней отказываются». После того как двумя месяцами позже прозвучало Послание Президента РФ Федеральному собранию, этот подход, похоже, вошел в официальную политику.
ЖДАТЬ ЛИ БУРИ?
Отчуждение между Вашингтоном и Москвой сохранится и, по всей вероятности, будет нарастать по меньшей мере до 2009-го, когда в обеих странах придут к власти новые администрации. Правда, и в этом случае динамика вряд ли изменится менее чем за год-полтора. Рост напряжения связан с политическим календарем: и в Соединенных Штатах, и в России практически одновременно развернутся президентские кампании, в ходе которых внешняя политика, как правило, перестает быть эзотерической областью, где властвуют эксперты-брамины, и становится частью политического кулачного боя.
В Америке, где начиная с выборов-1996 Россию «теряют» каждые четыре года (но потом, после президентских выборов, благополучно «находят»), критика Буша за «потерю» начнется раньше обычного: выборы в Государственную думу РФ в декабре 2007-го США будут рассматривать под микроскопом, и трудно представить себе расклад, при котором не обнаружилось бы множество моментов, неприятных с точки зрения демократических процедур.
Кроме того, Москве сильно не повезло с личностным фактором: самый популярный на сегодняшний день республиканский претендент на высший государственный пост – сенатор Джон Маккейн, для которого Россия, естественно «потерянная», стала рефреном в избирательной кампании 1999– 2000 годов и который по сей день не утратил все крепнущий критический запал. Маккейну (как, впрочем, и другим кандидатам) Россия необходима, чтобы продемонстрировать собственную осведомленность в вопросах внешней политики и осознание ее моральной составляющей, а это было непременным условием всех успешных президентских кампаний последних 25 лет – от Рональда Рейгана до Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего. (Недооценка данного фактора оказалась в 1992-м одной из главных причин поражения Буша-старшего, обвиненного Клинтоном в том, что тот «приласкал» «мясников с площади Тяньаньмэнь».) В этом контексте высказывания Чейни в Вильнюсе 4 мая нынешнего года можно, по крайней мере отчасти, интерпретировать как внутриполитическую тактику: превeнтивный удар, «выпуск пара», громоотвод. Уж лучше мы атакуем за два месяца до саммита «Большой воcьмерки», чем Джон Маккейн – за два дня до питерской встречи.
Но критика Маккейна, который попридержит лошадей из соображений партийной лояльности, ни в какое сравнение не идет с той бурей, что обрушат на «пророссийский» Белый дом демократы (скорее всего, бывший губернатор Вирджинии Марк Уорнер и, несомненно, Хиллари Клинтон), – точно так же, как это делали республиканцы в 1998–2000 годах, когда Россия (вернее, ее реальные, но раздутые порой до абсурда изъяны) стала дубиной для охаживания Клинтона. Основное направление грядущей атаки предугадать несложно: мол, в 1990-е годы, при Билле и Борисе, Россия двигалась по правильному пути и мы дружили, но пришли республиканцы-неоконсерваторы и все испортили, вследствие чего Россия оказалась «потерянной», сошедшей с рельсов демократии, и вместо горячей дружбы мы получили в лучшем случае «холодный мир».
Со своей стороны официальный помазанник Кремля на президентство (да и остальные кандидаты) не сможет не откликнуться и не добавить свои, как говорила гоголевская Коробочка, «забранки» к той дозе антиамериканизма, которую изначально пропишут его кампании политтехнологи.
И все же «лобовая» конфронтация и новая холодная война представляются весьма маловероятными – по крайней мере по четырем причинам.
Во-первых, несмотря на эрозию, геостратегические «активы», о которых мы говорили, далеки от оскудения и продолжают служить своего рода рамкой, очерчивающей базовые отношения между обеими странами.
Во-вторых, сформированные в 1992–1993 годах цели российской внешней и оборонной политики – Россия – региональная сверхдержава, Россия – глобальная ядерная сверхдержава и, главное для Америки, Россия – одна из великих держав (но не сверхдержава, политически соперничающая с США по всему миру) – остаются неизменными. Хотя они могут периодически раздражать Вашингтон, но вряд ли вызовут глубокую тревогу за жизненные интересы нации.
В-третьих, несмотря на склонность Кремля играть мускулами, Россия, в отличие от Советского Союза и нынешнего Китая, не «ревизионистская» держава, постоянно стремящаяся изменить мировой баланс сил в свою пользу. Для этого нужна идеология и, как результат, система приоритетов, которых в Москве сегодня нет и, судя по всему, не предвидится. Какая уж там идеология, если, защищая с пеной у рта права Ирана на «мирное освоение ядерной энергии» и на сопротивление «силовым мерам давления», Россия одновременно запускает на своей ракете-носителе с дальневосточного космодрома «Дальний» израильский спутник-шпион, чья первостепенная задача – оперативный мониторинг создания иранской ядерной бомбы!
Доля ВВП (3 %), идущая в сегодняшней, накачанной нефтяным богатством России на оборону, сегодня даже меньше, чем в 1992–1997 годах, когда Российская Федерация унаследовала от Советского Союза абсолютно пустую казну, и по меньшей мере в десять раз меньше, чем в СССР 1985-го. В абсолютных величинах, рассчитанных на 2005 год по паритету покупательной способности, затраты России на оборону (47,77 млрд дол.) в одиннадцать раз с лишним меньше, чем в США (522 млрд дол.).
Самый же важный фактор противодействия новой холодной войне – это как раз тот, который кремлевские стратеги с презрением давно сбросили со счетов: общественное мнение. Ни американцы, ни россияне не поддержат свои элиты в этом начинании, поскольку не сочтут его необходимым.
Что американцы знали о Советском Союзе? То, что там нельзя (или опасно) верить в Бога и ходить в церковь; что могут посадить в тюрьму за «крамольные» речи или за чтение недозволенных книг; что это диктатура, при которой нельзя проголосовать так, как хочешь, организовать политическую партию, выйти на демонстрацию, бастовать или уехать за границу; что Москва оккупирует Восточную Европу и готовится к войне с Западом. И этого было достаточно, чтобы дать элитам мандат на ведение холодной войны и жертвовать триллионами долларов, а порой и жизнями американцев и их союзников. В нюансы не вникали, как обычно оставляя это занятие элитам.
В конце 1980-х – начале 1990-х годов «простые» американцы узнали, что ситуация в Советском Союзе изменилось. Вопреки, мягко говоря, странной квалификации России в разного рода «индексах свобод» (например, в столь часто цитируемых годовых отчетах организации Freedom House, с 2004-го почему-то помещающих Россию в одну категорию с Северной Кореей, Ираном, Саудовской Аравией и Ливией), они сегодня знают: еще далеко до черты, за которой Россия превратится во врага, разразится холодная война и нужно будет снова впрягаться в телегу немыслимых расходов на «сдерживание». Можно ходить и в церковь, и в синагогу; ездить за границу; писать, печатать, читать и говорить что угодно. И в демонстрациях участвовать, и бастовать, и голосовать за того, кто понравится; и Восточной Европе никто не угрожает, а бывшие страны – члены Варшавского договора и даже бывшие союзные республики вступили или вступают в НАТО.
Остальное по-прежнему детали, заботы элит, еще далеко не собравшиеся в критическую массу, способную изменить стереотип, который сложился в национальном общественном мнении почти пятнадцать лет назад. Как показал опрос американского общественного мнения в феврале текущего года, Россия – десятая в списке из 22 наиболее популярных стран: 54 % американцев оценили ее позитивно, причем Франции досталось столько же голосов, а Китаю – на 10 % меньше. По прошлогоднему опросу фирмы Harris, только 8% американцев считают Россию «врагом».
В России, несмотря на периодические всплески антиамериканизма в связи с Ираком, олимпиадами, «цветными» революциями, ситуация в принципе такая же. По результатам, пожалуй, самых авторитетных опросов, проводимых Pew Global Attitudes Projects (Вашингтон) и посвященных имиджу Соединенных Штатов в шестнадцати странах, граждане России заняли пятое место (52 %) по степени их положительного отношения к Америке (после Индии, Польши, Канады и Великобритании, опередив союзников США по НАТО – Германию, Испанию, Нидерланды и Турцию). Согласно опросу, проведенному Левада-центром, в марте 2006-го, 66 % россиян заявили, что относятся к США очень хорошо или хорошо (против 17 %, которые относятся плохо или очень плохо) – пропорция, практически не меняющаяся с декабря 2001 года. (Что же касается американского народа, то число «хорошо относящихся» зашкаливает за 80 % с февраля 2000-го.)
Так что корабль не пойдет ко дну. Но готовьтесь к сильной качке. И тошноте. Наденьте спасательные жилеты и не поддавайтесь панике.

Газ в Европе: есть ли альтернатива?
© "Россия в глобальной политике". № 1, Январь - Февраль 2006
Аскар Губайдуллин получил степень доктора наук в области энергетических технологий в Королевском технологическом институте (Швеция). В настоящее время работает в качестве консультанта в энергетическом секторе Франции. Надя Кампанер – научный сотрудник Центра европейских исследований при Университете Париж-III Новой Сорбонны.
Резюме Российско-украинский газовый конфликт вызвал в Европейском союзе новую волну дискуссий о надежности энергоснабжения. Основными целями политики ЕС в этой области провозглашаются конкурентоспособность, устойчивость и безопасность. Но примирить их между собой – задача чрезвычайно сложная.
Недавний газовый кризис между Россией и Украиной вызвал в Европейском союзе новую вспышку дебатов о надежности энергоснабжения. Хотя перебои с поставками топлива в некоторые страны ЕС носили кратковременный характер, европейские СМИ не стесняли себя в выражениях, обвиняя Россию в развязывании «газовой войны», применении «энергетического оружия» и проявлении «имперских амбиций». При этом практически обходились молчанием роль Киева и истинные причины кризиса.
Многочисленные комментаторы ввели в оборот термин «тревожный звонок», подразумевая, что пришло время переосмыслить энергетическую политику Евросоюза и принять меры по сокращению зависимости от российских энергоносителей. Следует ли теперь ждать радикальных перемен в стратегии Европейского союза?
ИСТОЧНИКИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭНЕРГИИ
Надежность энергоснабжения уже несколько лет является одним из приоритетов политики ЕС. Причин для этого много: политическая нестабильность на Ближнем Востоке, угроза терроризма, рост цен на нефть наряду с резким подъемом энергопотребления в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Опережающий рост потребления газа сделал особенно актуальной проблему надежности поставок этого вида топлива. В 2000 году Европейская комиссия выпустила документ под названием Зеленая книга «К европейской стратегии безопасности энергоснабжения», призванный стимулировать дискуссию. Эта публикация стала первой попыткой сформулировать на наднациональном уровне всеобъемлющий и согласованный подход к проблемам энергетической безопасности. Зеленая книга констатирует, что доля внешних источников в энергобалансе Евросоюза неизбежно будет расти, так что реальная задача заключается не столько в сокращении зависимости, сколько в снижении связанных с ней рисков – путем диверсификации и сокращения спроса.
В документе признается, что «сфера влияния Европейского союза на условия поставок энергии ограниченна; по сути, Евросоюз имеет возможность вмешиваться только в условия спроса, в основном способствуя энергосбережению в зданиях и транспортном секторе». Ожидается, что к 2020-му зависимость от внешних источников топлива вырастет с 50 до 70 %, а от импортируемого природного газа – до 80 %: именно газ является предпочтительным видом топлива для электростанций. По официальным данным, доля газа среди видов первичного топлива в последние десять лет непрерывно растет и сейчас составляет 24 % от общего спроса на энергоносители. Основными поставщиками газа в настоящее время являются Россия, Норвегия и Алжир. Истощение запасов в Северном море еще больше усилит зависимость от импорта: объем газа, импортируемого ЕС-30 (25 государств-членов плюс Норвегия, Швейцария, Болгария, Румыния и Турция), может вырасти с 200 млрд куб. м в 2001 году до 650 млрд куб. м в 2030-м. Доля импорта за тот же период может увеличиться с 38 % до примерно 70 %, бОльшая его часть будет поступать из России и Алжира.
Расширение Европейского союза повысило уровень зависимости от импорта энергоресурсов из России: в настоящее время ЕС-25 импортирует оттуда примерно 50 % всего газа (до расширения – 41 %). Планы по свертыванию ядерной энергетики в некоторых государствах – членах Евросоюза, таких, как Швеция и Германия, предусматривают частичную замену атомных электростанций газовыми. Что касается «новичков», ожидается, что после закрытия устаревших и загрязняющих окружающую среду угольных электростанций в Польше, Чехии, Эстонии и Болгарии зависимость этих стран от российского газа возрастет. Закрытие АЭС в Литве, Словакии и Болгарии (странах, которые в значительной степени полагаются на атомную энергетику при производстве электроэнергии) вызовет дополнительное повышение спроса на импортное голубое топливо.
В 2004 году основными импортерами российского газа были Германия (39 млрд куб. м), Италия (24 млрд куб. м) и Франция (12 млрд куб. м), на долю которых в совокупности приходится почти половина всего европейского импорта. Но их импортный портфель диверсифицирован: Германия получает из России примерно 39 % всего газа, Италия – около 30 %, а Франция – 26 %. Страны Балтии и Словакия практически полностью полагаются на российский газ; Австрия, Польша и Венгрия – более чем на 70 %. Испания, Португалия, Бельгия, Дания, Ирландия, Швеция и Великобритания вообще пока не импортируют газ из России. Зеленая книга прогнозирует неизбежный рост зависимости от российского газа, ведь Россия обладает третьей частью всех мировых запасов. Тем не менее важно подчеркнуть, что в ближайшем десятилетии доля российского газа (25 %) в общем потреблении ЕС-25 вряд ли существенно изменится, поскольку по мере предполагаемого роста импорта будет расти и потребление. Так что опасения об усугубляющейся зависимости от российского газа явно преувеличены.
Если во Франции газовые электростанции производят только 4 % электроэнергии, то в Германии и Италии эта доля составляет порядка 11 % и 37 % соответственно (в 2002 году по ЕС-25 – 18 %). Несмотря на данные различия, государства – члены Евросоюза, по мнению Европейской комиссии, сталкиваются с одинаковыми проблемами в сфере энергетической безопасности. Предвидя дальнейшую интеграцию их рынков и растущую взаимозависимость, Еврокомиссия рекомендует предпринять согласованные действия.
Российско-украинский газовый конфликт позволил Брюсселю вновь поднять этот вопрос. Однако каждое государство стремится сохранить за собой контроль в энергетической области. Кроме того, в соответствии с Директивой Европейского совета о мерах по обеспечению бесперебойных поставок газа (Директива 2004/67/EC) газовая безопасность остается в сфере компетенции национальных правительств, которые не намерены делиться полномочиями. Согласно упомянутому документу, каждое государство должно обеспечивать надлежащую защиту на случаи перебоев с поставками газа, крайне низких температур и исключительно высокого спроса на газ. Национальные правительства отвечают за принятие необходимых мер (например, создание газохранилищ). Ситуация в энергетической сфере наглядно иллюстрирует наличие двух конкурирующих подходов, которые существуют в Европейском сообществе с момента его основания: межправительственный (на уровне государств) и наднациональный (на уровне Сообщества). В результате расширения ЕС процесс выработки единой энергетической политики еще более осложнился.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ: НОВЫЕ ТЕМЫ
Как отмечалось выше, Европейская комиссия признает возможности влияния Европейского союза на внешние поставки энергоносителей весьма ограниченными. Для обеспечения бесперебойного снабжения необходимы стратегическое партнерство и взаимодействие с основными странами-экспортерами. Именно с этой целью в октябре 2000-го был инициирован диалог ЕС и России по проблемам энергетики. Особо при этом подчеркивалась взаимная зависимость: Евросоюз нуждается в энергии, в то время как России требуются инвестиции и технологии. Обе стороны одинаково озабочены проблемой стабильности энергетического рынка: ЕС нужны надежные поставки, а России – надежные рынки экспорта.
Одно из важнейших разногласий в ходе диалога касалось долгосрочных контрактов, под которыми Европейский союз понимает контракт на поставки газа на срок «более 10 лет» (ст. 2 Директивы Европейского совета 2004/67/EC). Начиная с 1970-х годов основу торговых отношений между европейскими компаниями и российским «Газпромом» составляют долгосрочные контракты по принципу «бери или плати». (Клиент соглашается произвести оплату за определенное минимальное количество газа, даже если в действительности он использует меньше.)
Европейская комиссия подняла вопрос об этих контрактах, поскольку утверждалось, что они сдерживают развитие конкурентного рынка. Однако произошло это в тот момент, когда «Газпрому» требовались колоссальные инвестиции в разработку новых сибирских месторождений, а также в модернизацию устаревшей инфраструктуры. С точки зрения российских экспертов, устойчивое развитие газовой отрасли, а значит, и бесперебойность поставок могут быть гарантированы только при наличии такого рода контрактов.
Европейской комиссии пришлось признать их важность даже в контексте либерализованного энергетического рынка. БОльшая часть газа по-прежнему продается на основе долгосрочных контрактов с привязкой к ценам на нефть. Эти цены сравнительно мало подвержены изменению под влиянием кратковременных нарушений поставок, таких, как, например, во время украинского кризиса.
Диалог направлен на построение общего европейского энергетического пространства. Однако гармонизация политики Европы и России продвигается медленно. Дело в том, что Европейский союз является сторонником либеральных рыночных принципов, способствующих развитию конкурентного внутреннего рынка при ограничении возможности вмешательства со стороны государства. В «Энергетической стратегии России на период до 2020 года» особый упор, напротив, делается на роль государства. Более того, Москва не подписала Транзитный протокол к Энергетической хартии, чего добивается ЕС, а Договор к Энергетической хартии (1994) до сих пор не ратифицирован Государственной думой. Эти вопросы, так же, как и вопрос о либерализации российского газового рынка, вновь встанут в связи с председательством России в «Большой восьмерке», одним из приоритетов которого объявлена энергетическая безопасность.
Энергодиалог изначально был ориентирован прежде всего на поставщиков, тогда как проблемам транзитных государств уделялось недостаточное внимание. Новогодний газовый кризис выявил опасность чрезмерной зависимости от единственной страны транзита, обладающей квазимонополией на поставки в Европу. Примерно 80 % российского газа проходит через территорию Украины. В 1990-е воровство сырья, предназначенного для Западной Европы, и проблема неплатежей подорвали доверие к Украине как надежной стране транзита. Серьезную озабоченность вызывает и высокая степень износа газотранспортной системы. Это побудило «Газпром» заняться поиском альтернативных путей транспортировки.
Стремление к диверсификации маршрутов явилось основанием для строительства трубопроводов «Голубой поток» (16 млрд куб. м в год), а также Ямал – Европа в обход Украины. Предположительно к 2010 году Северо-Европейский газопровод стоимостью 5 млрд евро сможет напрямую перекачивать по дну Балтийского моря в Европу до 55 млрд куб. м, то есть около трети текущего годового экспорта «Газпрома». В ближайшее время транзит российского газа будет по-прежнему осуществляться через Украину, но в долгосрочной перспективе ее роль снизится.
ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
Важность диверсификации подчеркивается постоянно, начиная с энергетического кризиса 1970-х. В последние годы Россия внесла значительный вклад в диверсификацию поставок нефти с Ближнего Востока. Теперь, однако, Европа обращается как раз к Ближнему Востоку в попытке снизить зависимость от поставок российского газа. Сразу после завершения украинско-российского газового кризиса комиссар Евросоюза по энергетике Андрис Пибалгс заявил, что «Россия была надежным партнером и останется таковым, но нам следует позаботиться о долгосрочном обеспечении бесперебойности поставок газа в Европу и при необходимости диверсифицировать их».
Однако геологические реалии таковы, что выбор невелик. Помимо России традиционными поставщиками газа на европейский рынок являются Норвегия (около 22 %, в перспективе доля будет сокращаться) и Алжир (примерно 23 %). По данным статистического обзора British Petroleum за 2004 год, обе страны располагают лишь 4 % разведанных мировых запасов и, полагаясь только на них, невозможно удовлетворить прогнозируемый спрос.
Вторые по величине после России газовые месторождения находятся в Иране (15 % разведанных мировых запасов газа), третье место занимает крохотное государство Персидского залива Катар (14,7 %). Добыча газа в этих двух странах пока находится в процессе становления, но потенциал ее очень велик. Свой вклад в удовлетворение европейского спроса способны внести африканские поставщики – Алжир, Ангола, Ливия, Египет и Нигерия, а также страны Центральной Азии и Южного Кавказа – Казахстан, Туркмения и Азербайджан. Ни одна из них, как известно, не является эталоном ни демократии, ни политической стабильности.
Газ в отличие от нефти транспортируется в основном по трубопроводам, строительство которых требует значительных инвестиций и занимает несколько лет. Осуществление крупных нефтегазовых проектов может осложниться геополитическими проблемами. Так, например, в соответствии с американским законом, принятым в 1996-м, все иностранные государства, инвестирующие в Иран более 20 млн долларов, становятся объектами санкций со стороны США. Тем не менее существует масштабный проект «Набукко», предусматривающий строительство трубопровода из Каспийского бассейна в Австрию через Турцию. Его реализация позволит ежегодно перекачивать до 30 млрд куб. м газа из Ирана и Центральной Азии. Проект получил поддержку Европейской комиссии, но окончательное решение еще не принято. Ряд европейских энергетических компаний – австрийская OMV, немецкий гигант E.ON Ruhrgas, французская TotalFinaElf и итальянская ENI – планируют инвестиции в проекты добычи природного газа в Иране.
В то же время китайские энергетические компании уже принимают активное участие в ряде крупнейших проектов в Иране. Так, например, согласно Меморандуму о взаимопонимании между Ираном и КНР, подписанному в 2004 году, китайская государственная нефтегазовая компания Sinopec обязуется закупать 250 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) в течении 30 лет. Сумма сделки составляет 70 млрд долларов. Индия также достигла договоренности об импорте иранского СПГ и продвигает проекты по транспортировке газа для удовлетворения своего быстро растущего спроса. Даже Турция, давний и надежный союзник Соединенных Штатов, в 1996-м заключила, несмотря на мощное сопротивление Вашингтона, 25-летнее соглашение с Ираном на сумму 30 млрд долларов. Рано или поздно Иран может превратиться в важного поставщика природного газа и в Европу.
Катар уже сегодня занимает четвертое место по объемам экспорта СПГ. Доля данного вида сырья в торговле газом пока незначительна из-за высокой стоимости и сложной технологии производства. Экспорт СПГ предусматривает строительство установок для сжижения газа и последующей регазификации, а его транспортировка требует наличия специальных танкеров-метановозов. Торговля СПГ ведет свою историю с 1960-х годов, когда Франция и Великобритания начали импортировать сырье из Алжира. В настоящее время она ограничивается главным образом странами Средиземноморского бассейна, но к 2010-му объемов его поставок в Европу предполагается увеличить с нынешних 60 млрд куб. м до 160 млрд куб. м в год. Уже строится десяток регазификационных терминалов, а также планируются новые. Кроме Катара топливо на эти терминалы будут поставлять Египет, Нигерия и Ангола. Поскольку стоимость всей цепочки использования СПГ быстро сокращается, его конкурентоспособность растет, и будущее данного вида топлива выглядит перспективным.
ЕСТЬ ЛИ ЗАМЕНА ГАЗУ?
Однако самым оптимальным путем освобождения от энергозависимости остается снижение потребления энергии. Новая Зеленая книга 2005 года, посвященная исключительно эффективности использования энергии, озаглавлена «Делать больше, используя меньше». В ней поставлена цель снизить к 2020-му энергопотребление не менее чем на 20 %. Другим приоритетом становится дальнейшая поддержка использования возобновляемых источников энергии – биомассы, гидро и солнечной энергии, энергии ветра, причем последняя является наиболее быстро развивающимся и предпочтительным со многих точек зрения источником электричества. Правда, пока заметную долю электроснабжения за счет ветра получает только Дания.
Одним из важнейших преимуществ возобновляемых энергоресурсов является нулевая эмиссия парниковых газов. Недостатки же заключаются в том, что получение таких энергоресурсов зависит от погоды и стоят они дороже, чем традиционные виды ископаемого топлива. Цель ЕС – увеличить к 2010 году долю возобновляемых энергоресурсов до 12 % от всех источников энергии.
Возможным способом снижения зависимости от внешних поставок представляется строительство атомных электростанций. Дебаты о будущем атомной энергетики разгорелись вновь в свете взлетевших цен на нефть, обязательств, принятых в соответствии с требованиями Киотского протокола, и недавних перебоев с поставками газа. Напомним, что самая амбициозная в мире программа развития ядерной энергетики появилась во Франции в 1970-х и стала непосредственной реакцией на первый нефтяной шок. Тогда этот путь признавался наилучшим решением проблемы энергобезопасности, поскольку снижал зависимость от импорта нефти. Сегодня Франция самостоятельно обеспечивает половину своих энергетических нужд по сравнению с 25 % тридцать лет тому назад. Однако прогресс данной отрасли в общеевропейском масштабе ограничивается ее неоднозначным восприятием в обществе и сформировавшимся общественным мнением, которое нужно менять.
Очевидно, более пристальное внимание будет уделено угольной промышленности. Цена угля относительно стабильна, а его запасы наиболее обширны и диверсифицированы по сравнению с другими видами ископаемого топлива. Существуют готовые к применению передовые технологии, такие, как газификация угля и другие, гораздо более эффективные и экологичные, чем те, что применяются на традиционных угольных электростанциях. Исследование перспектив развития энергетики, опубликованное Европейской комиссией, показало, что использование газа имеет пределы. Прогнозируется, что рост спроса на газ продолжится до 2015 года, после чего наступит стабилизация. Причина заключается в снижении конкурентоспособности «голубого топлива» по сравнению с углем: с 2000-го цена на газ удвоилась, цена же на уголь относительно стабильна. Это превращает импортируемый уголь в экономически оправданную альтернативу. Разработка экологически чистых угольных технологий является одной из приоритетных задач Седьмой Рамочной программы научно-технического развития ЕС на 2007–2013 годы.
В долгосрочной перспективе технологический прорыв будут обеспечивать альтернативные источники энергии. Термоядерный синтез, водород и топливные элементы помогут решению основных энергетических проблем. Во Франции в 1970-е был популярен лозунг «У нас нет нефти, зато есть идеи». Но чтобы превратиться в технологию, идея должна быть подкреплена соответствующим финансированием. Двадцать пять лет назад Европейская комиссия 66 % всего бюджета на исследования и разработки тратила на энергетику. Именно благодаря этому Европа стала более чистой, безопасной и процветающей. Сейчас фактический уровень финансирования таких исследований упал до 11,6 %. В результате Европа может попасть в зависимость от импорта не только энергоресурсов, но и технологий.
Весной 2006-го ожидается публикация новой Зеленой книги – «Безопасная, конкурентоспособная и устойчивая европейская энергетическая политика». Радикальные изменения маловероятны. Заголовок документа отражает три столпа действующей стратегии: конкурентный энергетический рынок, устойчивое развитие и бесперебойность поставок. Очевидно, продолжатся усилия по созданию действительно конкурентного общего энергетического рынка. Больше внимания будет уделяться энергосбережению и возобновляемым энергоресурсам. Это, в свою очередь, способно привести к повышению уровня надежности энергообеспечения. Однако примирить эти три зачастую противоречащие друг другу цели – задача непростая.
НАДЕЖНОСТЬ БУДУЩИХ ПОСТАВОК
В то время как основное внимание прессы привлекали к себе политические аспекты российско-украинского газового кризиса, было упущено из виду то обстоятельство, что давний спор о ценах обострился вскоре после либерализации акций «Газпрома». Рынок ценных бумаг положительно отреагировал на заключение газовой сделки, капитализация компании возросла.
По мнению Джонатана Стерна, директора исследовательской программы по газу при Оксфордском институте энергетики, «чтобы избавиться от страха перед Россией, достаточно обратиться к истории, которая свидетельствует о весьма высокой степени надежности России как поставщика, а также напомнить себе о том, что вопрос об экспорте газа в Европу всегда являлся скорее экономическим, чем политическим. Людям свойственно недооценивать важность денег и тот факт, что Россия зависит от своих экспортных доходов».
Представители европейской газовой индустрии считают «Газпром» надежным партнером, чьи поставки газа последние 40 лет отличались «образцовой стабильностью». К 2010-му «Газпром» планирует увеличить экспорт газа в Европу с нынешних 150 млрд до 180–190 млрд куб. м. Однако фактический уровень его добычи не меняется и вряд ли в обозримом будущем сравняется с достигнутым в советский период пиком 1991 года. Поскольку добыча на крупнейших месторождениях в Западной Сибири будет снижаться, требуются огромные инвестиции в разработку новых на полуострове Ямал или арктическом шельфе. Стоимость добычи в этих отдаленных северных районах значительно выше, а технологии сложнее.
Несколько десятков лет назад Запад сомневался в способности Советского Союза успешно освоить с нуля обширные сибирские месторождения. Быстрое освоение стало возможным главным образом благодаря выдающейся организации и гигантским человеческим и финансовым ресурсам, выделенным для подъема газовой индустрии. С той поры Россия преобразилась, но поставленная задача выглядит не менее сложной и трудноразрешимой. Потребление газа растет и на внутреннем рынке. Российская экономика известна своей чрезмерной энергоемкостью (приблизительно в три раза выше, чем в среднем по ЕС), следовательно, для обеспечения экономического роста газа будет сжигаться больше. Справится ли газовый гигант и с договорными обязательствами, и с удовлетворением растущего внутреннего спроса?
Поскольку газовый кризис привлек пристальное внимание к вопросам энергетики и в Европейском союзе, и в России, остается надеяться, что он послужит «тревожным звонком» для руководителей с обеих сторон.

Искушение авторитаризмом
© "Россия в глобальной политике". № 5, Сентябрь - Октябрь 2005
Ральф Дарендорф – англо-германский социолог, член британской Палаты лордов, в прошлом видный немецкий политик, ректор Лондонской школы экономики, руководитель Колледжа св. Энтони в Оксфорде. В основе данной статьи – выступление на конференции «От “Солидарности” к свободе», посвященной 25-летию движения «Солидарность» (Варшава, август 2005 г.).
Резюме В условиях авторитаризма люди не испытывают давления со стороны властей до тех пор, пока безропотно решают личные проблемы и не мешают государственным чиновникам заниматься своими делами.
На протяжении всего ХХ века Европа боролась с великими искушениями тоталитаризма. Фашизм и коммунизм, две мощные тоталитарные идеологии, тянули ее в бездну несвободы. Сегодня, к счастью, не осталось ни одного их оплота: фашизм потерпел крах в 1945 году, а в 1989-м рухнул коммунизм, пытавшийся создать альтернативу либеральному устройству общества.
Обратный отсчет истории тоталитаризма начался с создания в 1980 году польского профсоюза «Солидарность». Свержение диктатуры везде происходило по-разному, и не всегда революция была столь же «бархатной», как в Польше, которая подала пример практически мирной, не сопровождавшейся кровопролитием смены режима.
Конечно, еще остаются Куба и Северная Корея; в разных частях земного шара продолжают существовать и другие государства, управляемые безнравственными диктаторами. Но после 1989-го тоталитаризм в буквальном смысле слова вряд ли способен где-либо вновь заявить о себе. Я имею в виду тотальную мобилизацию общества, проводимую во имя квазирелигиозной идеологии какой-либо могущественной партией, заполучившей в свое распоряжение универсальные инструменты беспощадных преследований и принуждения.
Все это, однако, не означает, что мы приблизились к концу истории нашего мира. После завершения жесткой конфронтации времен холодной войны история фактически началась заново. Окончание бесплодной конфронтации распахнуло двери глобализации и целому спектру разнообразных свобод. В то же время история в очередной раз продемонстрировала двусмысленность, точнее, даже двойственность человеческих устремлений.
Новое начало истории вызвало к жизни и новые угрозы свободе – правда, не столь серьезные, как тоталитаризм. Такие угрозы требуют бдительности и деятельной защиты тех ценностей, которые возобладали сначала в Польше в 1980-м, а потом во всей Европе в 1989 году.
Особую опасность несут угрозы, порождаемые крушением надежд. Весной 1990-го, после продолжительной беседы с тогдашним польским президентом Войцехом Ярузельским, я высказал предположение, что, столкнувшись с трудностями переходного периода, посткоммунистическим странам придется пройти долгий путь через «долину слез». Речь шла о том отрезке времени, когда старые структуры, в первую очередь в экономике, оказались демонтированы, а новые еще не возникли. Уже тогда для меня было очевидно: прежде чем жизнь в этих государствах станет лучше, произойдет заметное ухудшение. Ведь так случалось при любой смене режима, даже в Германии после валютной реформы 1948 года.
Тогда же я утверждал, что путешествие через эту «юдоль печали» будет долгим и четырех-пяти лет, срока одного парламентского созыва, не хватит для того, чтобы выбраться на торную дорогу. В процессе перестройки надежды людей на демократию – по сути, на свободу – подвергнутся суровым испытаниям. И возможно, люди даже захотят вернуться в атмосферу определенности, которая существовала при рухнувшем старом строе и к которой они наверняка будут испытывать чувство ностальгии.
Спустя полтора десятилетия после памятного 1989-го подобные настроения наблюдаются почти во всех посткоммунистических странах. Наверное, это естественно: нельзя требовать от людей, чтобы после всех тягот и сомнений последних лет они продолжали безоговорочно верить обещаниям, сулящим процветание. Новейшая история Польши, например, не раз демонстрировала, чем чревата политика, уходящая корнями в эпоху крушения надежд, когда старое уже кануло в Лету, а новое еще не утвердилось. Но польский народ не терял надежду, долго странствуя через «долину слез», и сегодня его оптимизм впервые начинает вознаграждаться. Стала, наконец, реальностью постоянно подпитывавшая эту надежду перспектива вступления Польши в Европейский союз.
Важнейшую роль сыграли так называемые копенгагенские критерии, установленные в 1993 году в качестве необходимых условий для вступления той или иной страны в Евросоюз. Эти критерии демократии, власти закона и рыночной экономики продемонстрировали выдающийся образец позитивного вмешательства во внутренние дела других государств. Одним из примечательных и уникальных аспектов всего процесса присоединения к ЕС, можно сказать, стала очевидная приостановка принципа незыблемости суверенитета, действующего уже более 300 лет.
Прежде мои опасения были связаны с тем, что крушение надежд вызовет к жизни новые формы фашизма. Однако теперь я убежден: риск подобного развития событий в странах – членах Европейского союза незначителен. А вот к востоку от его границ такая опасность, и весьма реальная, существует. И чем дальше от нас расположены страны, находящиеся в процессе всеобъемлющей модернизации, тем глубже разочарования, испытываемые людьми, и тем более весьма нешуточная опасность угрожает свободе. Это характерно для некоторых латиноамериканских государств, но наиболее актуальную проблему представляют собой азиатские страны и, по сути, весь мусульманский мир. Причина кроется не в исламе как религии, а в повсеместной утрате иллюзий, особенно в среде молодежи, охватившей население стран, уже вкушающих соблазнительные плоды модернизации, но не способных обеспечить ими всех сограждан.
Страны с запоздалой модернизацией неизбежно вступают в такую фазу развития, при которой старые ценности и структуры традиционного общества утрачивают свою силу, а новые еще не успевают оформиться. Люди видят образцы нового «западного» мира, понимая, однако, что не являются его частью. В гигантской «долине слез» вершатся великие преобразования. Они порождают миллионы разочарованных, чьи сердца полны негодования по отношению к современному миру, обманувшему их ожидания. Кое-кто из обиженных рассчитывает добиться успеха, покидая свою страну несбывшихся надежд и отправляясь в поисках счастья в Соединенные Штаты или Европу, где одни из них преуспевают, а другие снова терпят неудачу.
Эти люди – тот самый материал, из которого проповедники ненависти готовят свое ядовитое зелье. Таким проповедником был Гитлер, который раньше других оценил потенциал рухнувших надежд и воспользовался тяжелейшим кризисом в Веймарской республике. Однако современные глашатаи ненависти (а они, конечно же, действуют не только в мусульманском мире), как правило, не способны привлечь под свои знамена бОльшую часть населения. Но им удается мобилизовать отдельных индивидов и вовлекать их в безнадежную войну, которую мы сегодня называем терроризмом.
Наверное, следует изобрести какой-нибудь другой термин. Терроризм исторически ассоциируется с распознаваемыми целями, обычно тесно связанными с тем, чтО мы, к несчастью, стали называть самоопределением народов. Лидеры движений, боровшихся за право своего народа самому решать собственную судьбу, также апеллировали к неоправдавшимся надеждам для достижения личных целей. Но самая большая опасность нашего времени — мощная атака на ценности Просвещения и либеральное гражданское общество. В конечном итоге эта атака, несомненно, обречена на провал. Смесь современного оружия и ценностей, отрицающих сегодняшние реалии, почти ни на что не годится. Но пока политика опирается на разочарованных и обиженных, она всерьез угрожает свободному миру.
В некоторых странах «политика рухнувших надежд» помогает порочным режимам удерживать власть. Так было в Ираке при Саддаме Хусейне, но могут появиться и другие режимы, похожие на саддамовский. Поэтому тем из нас, кто верит в либеральный порядок, следует задуматься о путях устранения этой угрозы. На мой взгляд, одним из основных пунктов повестки дня мирового сообщества, и прежде всего Организации Объединенных Наций, должен стать вопрос об управляемом вмешательстве во внутренние дела злонамеренных тиранических режимов.
Ведь такие режимы не только наносят вред гражданам своих стран, но, как правило, опасны и для окружающих государств. Их правители вполне могут стремиться к обладанию собственным оружием массового уничтожения. Мы не имеем права позволить им добиться этого, хотя пока нет действенных способов борьбы с такой угрозой. И мы еще не знаем, как нам, которым судьба уготовила жребий жить в свободном мире, следует организовать себя, чтобы наиболее эффективно противостоять терроризму. Борьба против террора, похоже, способствует нарастанию авторитаризма, тем самым только укрепляя тенденцию, так или иначе свойственную многим демократиям.
«Ползучий» авторитаризм подразумевает постепенное сведение на нет участия граждан в управлении своими делами: инициатива в принятии решений незаметно переходит к исполнительной власти – к правительству, подотчетным квазигосударственным организациям и учреждениям и к тем органам, которые выходят из-под контроля известной системы сдержек и противовесов. Правительства под сурдинку лишают граждан элементарных прав вплоть до нарушения принципа личной неприкосновенности. Посягая на права человека и гражданина, они пытаются присвоить себе всё больше полномочий. Словом, на наших глазах происходит то, что можно назвать похищением демократии и власти закона.
Авторитаризм — это не тоталитаризм. Люди в условиях авторитаризма не испытывают давления со стороны властей до тех пор, пока безропотно решают личные проблемы и не мешают государственным чиновникам заниматься своими делами. Как ни удивительно, иногда усиление авторитарной власти на руку и самому терроризму.
Но в любом случае новую тенденцию нарастания авторитаризма в свободном мире необходимо остановить. В деле свободы не может быть поставлена точка – ведь демократия и власть закона здесь не ограждены от опасности. И хотя нынешние угрозы не столь явные и очевидные, как в эпоху тоталитаризма, это не должно нас успокаивать. Важнейший урок, преподанный нам польским движением «Солидарность», состоит в том, что люди, стремящиеся к либеральному порядку и жаждущие его процветания, должны что-то делать для нейтрализации всех возможных угроз. Ни одна Конституция не сможет обеспечить нам наши основные права. Единственная гарантия – это мы сами.

Инвесторы после Майдана
© "Россия в глобальной политике". № 5, Сентябрь - Октябрь 2005
А.С. Еганян – управляющий партнер, юридическая фирма «Вегас-Лекс».
Резюме Российский бизнес сегодня столкнулся с необходимостью не прятаться за спину государства, а самому активно включиться в борьбу за защиту своих интересов и внешнеполитических позиций страны.
В последнее время российский бизнес сталкивается в странах СНГ с серьезными трудностями. За минувший год Грузию, Украину, Киргизию (а фактически и Молдавию) накрыла волна «цветных» революций, и в результате эти государства, которые отечественные корпорации еще недавно считали своей вотчиной, вдруг оказались недружественной территорией. В штаб-квартиры российских компаний поступают предложения пересмотреть ранее заключенные тарифные соглашения, активы фактически замораживаются, звучат обвинения в коррупционных связях со свергнутыми режимами, следуют указания снизить цены, доплатить за чересчур «дешевые» покупки. Говорится даже и об угрозе деприватизации.
Политическая стабильность – рай для инвесторов?
И общественность, и политики, и сами бизнесмены связывают новые риски именно с последствиями «цветных» революций. На самом деле российские инвесторы подвергались и подвергаются политическому давлению и в таких вполне стабильных странах, как Белоруссия, Туркменистан, Узбекистан. Еще один пример – Казахстан. Эту республику обычно выделяют среди прочих государств СНГ как «рай для инвесторов». А «цветными» революциями здесь и не пахнет, хотя президентские выборы не за горами.
Тем не менее даже политическая стабильность не гарантирует соблюдения прав инвесторов. Так, одновременно с принятием в 2003 году казахстанского Закона «Об инвестициях» (в его разработке принимали участие Совет иностранных инвесторов, казахстанские представительства Американской торговой палаты, Европейской ассоциации бизнеса, Ассоциация нефтяников Казахстана) была отменена «легендарная» статья 6 ранее действовавшего Закона «Об иностранных инвестициях» от 1994-го. В соответствии с ней иностранные инвесторы получили ряд преимуществ, в частности гарантировалась стабильность законодательного регулирования при реализации долгосрочных инвестиционных проектов в недропользовании.
Вместе с тем беспокойство вызывают поправки, внесенные в конце прошлого года в республиканский Закон «О недрах и недропользовании» от 1996 года. Согласно этим поправкам, государство получило приоритетное право на выкуп долей участия в проектах по добыче полезных ископаемых. Государство, таким образом, стремится оговорить для себя возможность участвовать в любой сделке и проекте, при этом инвесторам приходится запрашивать разрешение на каждую операцию со своими активами. Яркий пример применения данной нормы – история продажи компанией British Gas своей доли (16,7 %) в проекте разработки месторождения Кашаган. О намерении сделать это BG объявила еще до внесения изменений в закон, которые, собственно, и были предложены правительством на фоне продолжавшихся жестких переговоров с этой компанией. В результате в конце марта текущего года BG продала 50 % своей доли государству, а остаток – другим участникам консорциума. Государство заплатило за «свою» половину пакета 639 млн дол., причем общая сумма сделки составила 1,8 млрд долларов. А не так давно президент Казахстана заявил, что не позднее чем через 30 лет контроль над нефтяными богатствами должен вернуться к государству.
Так что дело вовсе не в «цветных» революциях, а в очевидной тенденции. Национальные элиты стран СНГ прилагают все больше усилий в стремлении взять под свой контроль наиболее привлекательные местные активы, а судебные системы подвержены сильному экономическому и политическому давлению. При таком взгляде на проблему оказывается, что разговоры о деприватизации в Украине – это лишь одна из множества форм борьбы местных элит (и связанного с ними крепнущего национального бизнеса) за право хозяйничать на своей территории. Соответственно российские инвесторы обречены сталкиваться со все более ощутимыми проявлениями экономического национализма даже в самых стабильных с политической точки зрения государствах.
Российский бизнес стоит перед выбором: отстаивать ли свои интересы, как это подобает игрокам, претендующим на глобальный статус, или же обратиться к привычному методу – достижению закулисных договоренностей с местными властями? Создается впечатление, что в общем и целом наши предприниматели склоняются ко второй опции. К примеру, в последние месяцы российские компании одна за другой объявляют о новых инвестиционных проектах в Украине, несмотря на все разговоры о деприватизации. С одной стороны, они надеются, что политические риски касаются только крупнейших акторов, приобретших стратегические активы при поддержке бывшего руководства страны. С другой – и сами налаживают «продуктивные» отношения с чиновниками, пользуясь неразберихой в новом украинском руководстве. Но является ли такая тактика решением проблемы? Ведь не исключено, что после очередной перетряски правительства «дружественные» чиновники потеряют свои посты, и тогда списать на «цветные» революции неспособность компаний отстаивать свои интересы правовыми методами не удастся.
Новая жизнь «случайных» соглашений
Начиная с середины 1990-х Россия заключила со странами СНГ ряд межправительственных соглашений о поощрении и взаимной защите инвестиций и капиталовложений. В итоге российские бизнесмены имеют сегодня в своем распоряжении такие же международно-правовые механизмы защиты своих интересов за рубежом, как и их западные коллеги.
Такие соглашения весьма распространены в международной практике, в том числе и в отношениях России со многими странами дальнего зарубежья. Не зря крупные корпорации, принимая решение об инвестировании в те или иные регионы мира, рассматривают наличие подобного рода межправительственных соглашений в качестве одной из основных гарантий сохранности и возвратности вложений. Вслед за Чехией, Мексикой, Аргентиной, Малайзией в действенности таких документов убедились на собственном опыте многие страны СНГ: Украина, Узбекистан, Казахстан и др.
В рамках СНГ Россия заключила двусторонние соглашения о защите инвестиций с Украиной, Казахстаном, Таджикистаном, Узбекистаном, Арменией, Молдавией, однако полностью они ратифицированы лишь с Украиной и Казахстаном. За пределами СНГ такие соглашения подписаны у нас с Турцией, Литвой, Болгарией, Грецией, Албанией, Чехией, Хорватией, Македонией, Кубой, Румынией, Югославией.
В основе такого рода межправительственных соглашений лежит обязательство каждой из сторон поощрять у себя инвестиционную деятельность инвесторов из другого государства. Более того, стороны гарантируют полную и безусловную правовую защиту инвестиций на своих территориях. Эти обязательства носят не просто декларативный характер: в действительности любой инвестор, «обиженный» теми или иными действиями государства, на территории которого он осуществил инвестиции, имеет право непосредственно адресовать ему свои требования.
Фактически речь идет о недопустимости со стороны государства и его представителей (государственные органы, госкомпании и др.) каких-либо действий, направленных на возможное ущемление прав и интересов инвесторов. Под «полной и безусловной» правовой защитой подразумевается, например, недопустимость экспроприации, национализации, дискриминации в любой форме, в том числе действий, препятствующих управлению и распоряжению своими инвестициями. Потенциально это и необеспечение государством адекватного судебного покрытия в национальной юрисдикции или исполнения судебных актов.
В целом каждая из стран – участниц соглашения обязана обеспечить инвестициям, осуществленным инвестором из другой страны-участницы, и деятельности, связанной с такими инвестициями, режим не менее благоприятный, чем тот, какой предоставляется собственным инвесторам или инвесторам из любого иного государства. При этом исключается применение любых дискриминационных мер, препятствующих управлению и распоряжению инвестициями. Естественно, речь идет о вложениях не только в госконтракты, госактивы или госкомпании, но и в частный сектор. Если инвестор изменит объем, существо и форму своих инвестиций, то это не повлияет на их характер в качестве инвестиций, на которые распространяется межправительственное соглашение об их защите. Кроме того, государство гарантирует инвестору беспрепятственное перемещение финансовых потоков (как «тела» инвестиций, так и доходов, займов и пр.) сразу же после оплаты налоговых обязательств.
Одно из основных обязательств привлекающего инвестиции государства – гарантия полной и безусловной правовой защиты вложений. Естественно, речь идет и об обеспечении надлежащего уровня судебного покрытия инвестиционных операций, а также о наличии адекватной системы исполнительного производства. Таким образом, если государство ущемит права инвесторов, но решит придать этому действию бЧльшую легитимность, прикрываясь решением национального суда, то адекватность и юридическая состоятельность такого решения также могут стать предметом разбирательства в рамках спора «инвестор – государство».
За последние годы различными международными арбитражными институтами рассмотрено несколько инвестиционных споров в отношении, например, Украины. Наиболее известные из них – иски компании Generation Ukraine Inc. против Украины на сумму 9,5 млрд дол., компании Monde Re против Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и Украины на сумму 88 млн дол., литовского инвестора Tokios Tokeles против Украины на сумму около 7 млн дол., американского гражданина Джозефа Чарлза Лемира против Украины. В случае положительного решения отвечать за действия государства, его органов и корпораций приходится госбюджету.
Особенно важны условия исполнения принятых международными арбитражными трибуналами инвестиционных решений, прописанные в соглашениях. Во-первых, в самих соглашениях стороны отмечают, что подобное арбитражное решение будет признаваться окончательным всеми сторонами процесса. Это – весьма важное дополнение, поскольку существенно минимизирует, хотя и не сводит на нет возможности пересмотра арбитражных решений в национальных судах. Например, при попытке обжаловать решение Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты в национальной судебной системе Швеции наверняка возникнут существенные проблемы.
Во-вторых, в межправительственных соглашениях стороны признаюЂт обязательность для себя подобного арбитражного решения и обязуются исполнить его добровольно. Принцип добровольности весьма важен в подобной ситуации. Но как быть, если проигравшая сторона не выполняет своих обязательств?
На этот случай существует практика принудительного исполнения таких решений в соответствии с нью-йоркской Конвенцией об исполнении решений международных арбитражей. Оно может быть проведено против активов государства, находящихся за рубежом (недвижимость, счета, движимое имущество и т. д.). Иными словами, именно госбюджет всегда отвечает за нарушение прав инвесторов, которые тем самым избавляются от необходимости искать конкретного виновника нанесенного ущерба и взыскивать с него средства. Более того, бывало, что взыскание оказывалось направленным и против активов государственных корпораций (в том числе и украинских, и казахстанских).
Международное право в данном контексте – это не только и не столько «дубина» для выбивания компенсации за пропавшие инвестиции. В первую очередь подобные соглашения представляют собой инструмент «мягкого» давления на государство со стороны инвесторов.
Например, соглашениями предусмотрен обязательный период предварительных переговоров после возникновения конфликта. Инвестор должен уведомить о конфликте надлежащего представителя государства, т. е. компетентный госорган, потом ему предоставляется шесть месяцев для того, чтобы подготовиться к делу (хотя в реальности подготовка начинается намного раньше). Но этот срок устанавливается прежде всего и для того, чтобы попытаться достичь мирового урегулирования с государством: обязанность сторон предпринять такую попытку напрямую прописана в соглашениях. Только после того как конфликт не удастся разрешить путем переговоров, стороны вправе обратиться в арбитражный трибунал.
Подобные процедуры, конечно, могут быть весьма продолжительны: в среднем они занимают год-полтора, что, с другой стороны, может оказаться на руку российским инвесторам, поскольку позволит им вести подготовку к разбирательствам в рамках этих соглашений, не афишируя своих действий перед местными властями и продолжая переговоры. Если последние увенчаются успехом, ничто не мешает инвесторам в любой момент заключить мировую.
Сама возможность обращения к этим международным соглашениям вынудит быть более сговорчивыми правительства стран СНГ, которые пока ведут себя с российскими инвесторами так, как будто уверены в своей безнаказанности.
На протяжении последних лет отечественный бизнес демонстрировал как способность добиваться желаемого результата на мировой арене, так и умение играть при этом по принятым там правилам. Это было особенно заметно на фоне не всегда расторопных и действенных шагов государственных органов, ответственных за представление интересов страны за рубежом.
Российский бизнес не должен прятаться за спину государства – ему самому следует активно включиться в борьбу за защиту своих интересов и внешнеполитических позиций страны. Победа в этой борьбе вовсе не обязательно достанется тому, кто сильнее. Успеха добьется тот, кто лучше овладеет правилами игры на мировой арене.

Российские углеводороды и мировые рынки
© "Россия в глобальной политике". № 5, Сентябрь - Октябрь 2005
А.А. Арбатов – заместитель председателя Совета по изучению производительных сил Министерства экономического развития и торговли и Российской академии наук. М.А. Белова – эксперт департамента энергетики Института энергетики и финансов, В.И. Фейгин – главный директор Института энергетики и финансов.
Резюме Важная роль России на мировой арене в значительной степени обусловлена богатством ее природных ресурсов. Успешное участие в современном мировом разделении труда предполагает полноценное использование подобных преимуществ.
Важная роль России на мировой арене в значительной степени обусловлена богатством ее природных ресурсов. На территории России сосредоточено около 13 % всех мировых разведанных запасов нефти и 34 % запасов природного газа. Успешное участие в современном мировом разделении труда предполагает полноценное использование подобных преимуществ, хотя и не должно сводиться к нему.
Ежегодное производство первичных энергоресурсов в стране составляет более 12 % от общего мирового производства. На долю топливно-энергетического комплекса (ТЭК) приходится сегодня около четверти производства валового внутреннего продукта (ВВП) России и трети объема промышленного производства, около половины доходов федерального бюджета, экспорта и валютных поступлений страны. В отличие от большинства стран – экспортеров углеводородов, в России имеется крупный внутренний рынок их переработки и потребления. Важно, чтобы внешний спрос не входил в противоречие с динамикой и приоритетами внутреннего рынка.
СИТУАЦИЯ НА ОСНОВНЫХ МИРОВЫХ РЫНКАХ УГЛЕВОДОРОДОВ
В последние полтора десятилетия на мировом рынке нефти происходило наращивание ежегодных темпов прироста потребления нефти. В период с 1991 по 2000 год этот показатель увеличился на 9,8 млн бар./сут., а в 2001–2004 годах – на 6,3 млн бар./сут. При этом рынок был сбалансирован, а вот в том, что касалось спроса и предложения, ключевая роль отводилась на том или ином этапе разным регионам.
Если в начале указанного периода спрос расширялся за счет роста объемов потребления нефти в Северной Америке, Европе и странах Азии, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), то в последние годы лидерство по темпам роста перешло к Китаю. Годовой прирост увеличился там с 0,32 до 0,4 млн бар./сут, в то время как в Северной Америке этот показатель упал с 0,5 до 0,3 млн бар./сут, в Европе – с 0,2 до 0,15 млн бар./сут, а в азиатских странах – членах ОЭСР приблизился к нулю.
Растущий спрос начала 1990-х в основном удовлетворялся за счет увеличения добычи нефти в государствах, входящих в Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК): среднегодовой темп роста составлял 0,6 млн бар./сут. В странах же бывшего СССР наблюдалось значительное падение объемов добычи. Однако к началу XXI века ситуация в корне изменилась: при сохранении среднегодовых темпов увеличения добычи нефти в странах ОПЕК, падении объемов добычи в Европе и замедлении темпов роста в Северной Америке именно Россия стала главным стабилизатором мирового рынка нефти.
В 2002–2004 годах на фоне беспрецедентного роста нефтяных цен среднегодовые темпы прироста потребления удвоились, достигнув 2 %. В прошлом году при среднегодовой цене нефти марки Brent 38,3 дол./бар. потребление нефти в мире увеличилось на 3,3 %. Однако сочетание высоких цен и замедления темпов роста мировой экономики может привести к снижению темпов прироста потребления нефти в 2005–2006 годах до 2,5–2,7 % и ниже.
Тем не менее в течение последних 2–3 лет темпы увеличения спроса на рынках превысили ожидания, поскольку в полной мере не были учтены ни фактор «новых экономик» – прежде всего Китая и в значительной мере Индии, ни быстрый рост в этих странах промышленного производства, в том числе энергоемкого (например, черная металлургия, производство цемента и т. п.), ни растущее потребление (например, начавшаяся в Китае автомобилизация). Если процессы бурного экономического подъема этих стран продолжатся и будут сопровождаться ростом среднего класса и формированием характерного для него стандарта жизни и потребностей, то общее увеличение спроса может опережать рост суммарного мирового ВВП – явление, не отмечавшееся с 1970-х.
Конечно, трудно предположить, что быстрый рост цен и спроса составят долговременную устойчивую тенденцию. Параллельное существование этих двух явлений, как таковое, несет в себе противоречие. Высокие цены позволяют как осваивать новые, ранее считавшиеся нерентабельными ресурсы нефти, так и расширять круг ее заменителей. Последнее может особенно сильно повлиять на снижение спроса.
Что касается предложения, то с ним пока не все так безоблачно, как представляется. Освоение новых месторождений требует больше времени и средств, при этом добыча не всегда способна вовремя восполнить продукцию истощающихся месторождений.
Неясность с ресурсной базой, резкое снижение числа вновь открытых крупных нефтяных ресурсов (и фактическое отсутствие новых нефтеносных провинций, в прошлом служивших основным фактором развития глобальной нефтедобычи) добавили нервозности и иррациональности игрокам на рынке, повысили обеспокоенность политических кругов. Не вызывает оптимизма и уровень политической стабильности в целом ряде основных стран-экспортеров. Скорее всего, тенденция к увеличению спроса сохранится, но темп роста будет подвержен резким колебаниям как в силу внутренних и внешних конфликтов, так и по причине возможного появления новых быстроразвивающихся экономик.
В 1980–1990 годы преодоление последствий нефтяных кризисов, обусловленных эмбарго со стороны арабских стран или договоренностями стран – членов ОПЕК об уровнях добычи, связывалось с развитием ликвидного глобального рынка нефти и соответствующими инструментами преимущественно краткосрочного характера. Однако в последнее время упор делается на построение двусторонних преференциальных связей между потребителями и поставщиками нефти, что особенно характерно как для политики США последних лет, так и для «нефтяной дипломатии» Китая и Индии, активной и по-своему тоже глобальной.
Рекордные цены на нефть и соответственно на газ (на либерализованных рынках цены на газ связаны также и с высоким спросом на него) способны в определенной степени «развернуть» ситуацию или уменьшить степень ее драматизма, но вряд ли приведут к радикальным переменам в краткосрочной перспективе. С другой стороны, до сих пор, как известно, развитым странам удавалось так или иначе справляться с угрозами такого рода, и на этом простом доводе основывают свою позицию ряд оптимистов.
«НЕФТЯНЫЕ» ПОЗИЦИИ РОССИИ
С 2000 по 2004 год Россия, выступая на мировом рынке нефти в качестве главного стабилизирующего фактора, обеспечила самый высокий прирост добычи в мире – в три раза выше, чем у ОПЕК. Однако ввиду падения в последние месяцы темпов прироста добычи нефти и воздействия других, более фундаментальных факторов Россия вряд ли сможет в дальнейшем сохранить эту роль, хотя и продолжит оказывать существенное влияние на развитие мирового рынка.
К настоящему моменту в России уже открыто и разведано более трех тысяч месторождений углеводородного сырья, причем разрабатывается примерно половина из них. Более половины российской нефтедобычи и более 90 % добычи газа сосредоточены в районе Волго-Урала и Западной Сибири. Большинство этих месторождений отличаются высокой степенью выработанности, поэтому возникает необходимость развивать и альтернативные регионы добычи. В долгосрочной перспективе такими приоритетными регионами нефте- и газодобычи являются Тимано-Печора, полуостров Ямал, западная часть арктического шельфа, Каспийский шельф, Прикаспий, Восточная Сибирь и Дальний Восток. Однако в обозримой перспективе в России не ожидается открытия нефтегазоносной провинции, сопоставимой по масштабам с Волго-Уральской или тем более с Западно-Сибирской и способной кардинально повлиять на уровень добычи. Другие центры нефтедобычи будут в основном смягчать последствия истощения наиболее крупных старых центров. Поэтому в ближайшее десятилетие вероятно снижение темпов роста добычи с их последующей стабилизацией. При этом не исключаются колебания в ту или другую сторону, вызванные конъюнктурой мирового рынка.
Экспорт нефти из России зависит как от добычи нефти, так и от ее потребления на внутреннем рынке. Внутреннее потребление нефти растет медленно вследствие резкого падения производства наиболее энергоемких отраслей. Поэтому доля экспорта нефти и нефтепродуктов еще долго будет превалировать над долей внутреннего потребления в российской нефтедобыче. Тем не менее экономический рост в условиях неразвитости энергосберегающих технологий приведет к росту внутреннего потребления.
Основные районы нефтедобычи связаны единой системой нефтепроводов акционерной компании «Транснефть», которая обеспечивает транспортировку 95 % нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) России, а также к экспортным терминалам по системе нефтепроводов «Дружба» и через глубоководные нефтеналивные терминалы на Черном и Балтийском морях.
Потенциально Россия имеет возможность выхода на все три крупнейших мировых рынка нефти и нефтепродуктов – европейский, североамериканский и рынок Юго-Восточной и Южной Азии. Но пока наша страна наиболее тесно связана с европейским рынком (включая республики бывшего СССР). До 70-х годов прошлого столетия бЧльшая часть нефти добывалась в европейской части России, после освоения Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции ее транспортная инфраструктура была подключена к уже сложившимся мощностям, ориентированным на европейский рынок. Исключение составляли только восточное и южное ответвления, сравнительно незначительные по своим возможностям (они поставляют нефть на Омский, Ачинский, Ангарский и центральноазиатские НПЗ бывшего СССР).
Постепенно растут поставки нефти на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). На этом рынке преобладают поставки в Китай, они же обеспечивают и основной прирост. При нынешней степени разведанности и уровня разработки ресурсов Восточной Сибири (и даже с учетом поставок из Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции) экспорт нефти из России в страны АТР может составить 60–70 млн т, что не превысит 15 % объема китайского потребления. Таким образом, Россия не только будет не в состоянии удовлетворить потребности стран АТР в нефти, но и рискует вообще потерять этот рынок в случае промедления с развитием транспортной инфраструктуры или сахалинских проектов. Вместе с тем большая емкость нефтяного рынка АТР позволяет рассчитывать на рост экспорта российской нефти в ряд стран этого региона.
Если после 2010 года в основных нефтепроизводящих странах АТР – Китае, Индонезии, Малайзии, Австралии – произойдет, как ожидается, снижение добычи, то для удовлетворения растущего здесь спроса на нефть потребуется значительное увеличение поставок из других районов мира. Главным источником окажется Ближний Восток, также увеличится объем импорта из Северной и Центральной Африки, будут организованы крупномасштабные поставки из Центральной Азии (в том числе из Каспийского региона) и России.
До сооружения Восточного нефтепровода Россия планирует дальнейшее наращивание железнодорожных поставок нефти в КНР. В целом экспорт нефти в Китай по железной дороге в этом году составит более 11 млн т. К 2010-му железнодорожные поставки нефти российских компаний в КНР должны увеличиться до 20 млн т/г. В перспективе возможно увеличение этого показателя до 30 млн т/г. Сдерживающим фактором являются железнодорожные тарифы. Однако, по информации РАО «Российские железные дороги», при возрастающих объемах транспортировки нефти через Забайкальск предусматривается возможность уменьшения тарифа с 72 дол./т до 30. Что, кстати, может сделать железнодорожный маршрут более привлекательным по сравнению с «восточной трубой».
На американском рынке главным потребителем российской нефти являются США, но эти поставки не играют заметной роли (в 2004 году они составили всего 7,3 млн т – 4 % суммарного российского нефтяного экспорта). По словам президента «Транснефти» Семена Вайнштока, США не готовы гарантировать достаточные объемы закупки российской нефти. Более того, у компании «нет уверенности в том, что США действительно требуются не только заявленные 30 млн., но и даже 20 млн т российской нефти».
Европейский рынок нефти является наиболее «скромным» по объемам потребления, ценам и темпам роста. Тем не менее сложившаяся транспортная инфраструктура продолжает поддерживать российско-европейские «нефтяные» связи. На этом направлении возникают проблемы Черноморских проливов, прохождения танкеров в Финском заливе, Балтийском море и Датских проливах. Благоприятное для России решение этих вопросов позволит закрепить ее роль стабильного масштабного поставщика нефти на европейский рынок. Россия заинтересована в том, чтобы в максимальной степени осуществлять экспорт нефти со своей территории непосредственно потребителю, сокращая транзит. Поэтому она будет стремиться к сохранению имеющихся трубопроводных и терминальных мощностей и их наращиванию (расширение Балтийской трубопроводной системы, строительство терминалов в Варандее, Индиге, на Кольском полуострове). Только в порту Приморск на Балтийском море, ориентированном на увеличение экспорта в Европу, предусматривается развитие мощностей до 62 млн. т в год.
Обсуждаемый сейчас вопрос о перенасыщенности европейского рынка тяжелой высокосернистой нефтью, к которой относится российская экспортная смесь Urals, кардинально разрешим только путем раздельной транспортировки различных сортов нефти. А этого, в свою очередь, можно добиться через строительство новых нефтепроводов из районов, в которых добываются малосернистые сорта. Перенасыщенность европейского рынка – не столько следствие увеличения предложения, сколько результат роста цен на саму нефть. В период относительно низких цен за рубежом было введено в действие значительное количество перерабатывающих мощностей, ориентированных на тяжелую сернистую нефть, относительно дешевую. Разница в цене в 2–4 дол./бар. делала сложные и дорогие процессы переработки экономически эффективными. Когда цены удвоились и даже утроились, подобная разница в цене утратила всякий смысл и соответствующие перерабатывающие мощности стали выводиться из эксплуатации, как неконкурентоспособные. Выжившим предприятиям пришлось установить разницу в цене в размере 6–8 долларов против стандартных сортов. Остается ждать снижения цен до прежнего уровня, что маловероятно, или строить новые трубопроводы для транспортировки более дорогих сортов нефти.
Конечно, есть еще один вариант – перерабатывать всю высокосернистую нефть в России, но он потребует не только осуществления крупной технической программы модернизации нефтепереработки в районе Урала и Поволжья, но и принятия эффективных политических и законодательных решений. Дело в том, что в данном случае целые компании будут отключены от экспорта своей нефти и это потребует компенсации за счет тех компаний, которые выигрывают от такого решения.
В настоящее время правительство РФ предусматривает максимально увеличить экспорт на растущий рынок АТР, переадресовав туда значительную часть поставок со стагнирующего европейского рынка. Эту, безусловно, актуальную задачу можно решить разными способами: интенсифицировать поставки железнодорожным транспортом, реанимировать «спящие» сахалинские проекты и возобновить работы на других перспективных участках шельфа Охотского моря, использовать возможности строящегося нефтепровода Казахстан – Китай, воспользоваться нефтяным потенциалом Восточной Сибири. Как уже упоминалось выше, принято решение первоначально транспортировать нефть из Западной Сибири, что при предполагаемых тарифах ставит нефтяные компании в трудное положение. При всем оптимизме руководства страны успех этого предприятия далеко не очевиден – прежде всего из-за неопределенности с сырьевой базой Восточной Сибири.
НЕФТЕПРОДУКТЫ: СДЕЛАНО В РОССИИ
В условиях относительно низких внутренних цен на сырье и отсутствия возможности существенно увеличить экспорт нефти многие российские компании вплотную занялись наращиванием производства нефтепродуктов и продажи их за рубеж. Основные экспортные продукты – мазут (45 % экспорта) и дизтопливо. Экспорт бензина (5 % в структуре экспорта в физическом объеме и около 6,5 % в структуре экспортной выручки) пока относительно невыгоден, так как внутри страны на него существует устойчивый платежеспособный спрос по достаточно привлекательным для поставщиков ценам. Кроме того, введение в Европе еще более жестких требований к качеству нефтепродуктов заставляет российские компании все больше тратить на модернизацию перерабатывающих мощностей.
В Энергетической стратегии страны до 2020 года об увеличении поставок за рубеж нефтепродуктов и переработке растущей части предназначенных на экспорт объемов нефти говорится как об одном из важных приоритетов.
Оператором соответствующих статей экспорта по нефтепродуктопроводам является государственная компания «Транснефтепродукт» (ТНП). По сравнению с «Транснефтью», контролирующей подавляющую часть нефтяного транспорта и экспорта, позиции ТНП скромнее: более 23 % российского транспорта светлых нефтепродуктов, около 60 % экспорта дизельного топлива и примерно четверть экспортного автобензина. Остальные нефтепродукты вывозятся железнодорожным транспортом, который фактически составляет конкуренцию ТНП. Одна из причин такого положения кроется в проблеме сохранения качества нефтепродуктов при их транспортировке по трубопроводам ТНП.
Большинство российских НПЗ в настоящее время проводят модернизацию, с тем чтобы наладить выпуск моторных топлив, соответствующих европейским стандартам качества. Поэтому есть основание предполагать, что через несколько лет произойдет значительный рост экспорта светлых нефтепродуктов. Соответственно должна увеличиться и пропускная способность магистральных нефтепродуктопроводов, принадлежащих ТНП. Компания «Транснефтепродукт» активизировала свою деятельность по развитию экспортных мощностей. Предусматривается реализация ряда проектов, позволяющих вывести магистральные продуктопроводы на побережье Балтийского и Черного морей, снизить зависимость российского экспорта нефтепродуктов от транзита по территории сопредельных стран и повысить коммерческую эффективность поставок. Особенно важную роль здесь способен сыграть проект «Север»: в результате его реализации появится новый экспортный нефтепродуктопровод к российскому побережью Балтийского моря. Как по маршруту, так и по концепции он аналогичен Балтийской трубопроводной системе, успешно решающей задачу минимизации транзита нефти через третьи страны. Кроме того, российские компании намерены расширять участие в собственности и управлении ряда европейских нефтеперерабатывающих и сбытовых организаций.
Что же касается восточного вектора, то в прошлом году из России в страны АТР было поставлено около 7 млн т нефтепродуктов, в основном дизельного топлива и мазута. В дальнейшем объем экспорта может быть доведен до 10–12 млн т, но только при условии значительного повышения качества продукции.
СИТУАЦИЯ С ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
Добыча. По разведанным запасам газа Россия занимает первое место в мире (приблизительно 34 % мировых запасов). На Западную Сибирь приходится 76 %, на Урало-Поволжье – 8 %, на районы Европейского Севера – 1 %, на Восточную Сибирь – 3 %, на Дальний Восток – 3 %, на шельф – 8 %. В настоящее время более 90 % добычи газа обеспечивают уникальные крупные месторождения. На долю Уренгойского, Ямбургского и Медвежьего месторождений приходится больше половины газа, добываемого ОАО «Газпром», и примерно 65 % всего российского газа. Однако эти три месторождения постепенно вырабатываются.
В настоящее время «Газпром» занят разработкой сразу нескольких новых проектов по добыче газа: на Дальнем Востоке, полуострове Ямал, арктическом шельфе и некоторых других. Их реализация потребует строительства новых и реконструкции действующих газотранспортных мощностей, а себестоимость добычи будет возрастать.
Инфраструктура. Единая система газоснабжения (ЕСГ) России, принадлежащая ОАО «Газпром», является крупнейшей в мире системой транспортировки газа. Ее протяженность – более 153,3 тыс. км, при этом возраст и состояние инфраструктуры требуют все более пристального внимания. Пропускная способность ЕСГ превышает 600 млрд куб. м, но уже начиная с 2006-го предполагается ее увеличение.
Экспорт и импорт газа. «Газпром» осуществляет экспорт газа в страны Центральной и Западной Европы преимущественно в рамках долгосрочных контрактов. Евросоюз – основной покупатель российского газа; крупными импортерами являются такие страны, как Германия, Италия, Франция, Венгрия, Словакия, Чехия, Польша. Значительная доля приходится на Турцию. В ближайшие годы ожидается существенное увеличение экспортных поставок в Великобританию. В дополнение к собственному производству «Газпром» на основании среднесрочных и долгосрочных контрактов закупает газ у независимых производителей и продает его потребителям, в том числе и на экспорт.
Рынки. Европейский рынок испытывает потребность в увеличении поставок российского газа. Емкость этого рынка устойчиво растет (в прошлом году потребление газа странами – членами ЕС-25 составило порядка 470 млрд куб. м, а к 2010-му, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), достигнет 610–640 млрд куб. м). Проведение странами Европейского союза политики жестких ограничений на выбросы парниковых газов в соответствии с Киотским протоколом, а также неспособность возобновляемых источников энергии конкурировать с традиционными также повлечет за собой рост потребления газа в Европе. Возможно, эта тенденция изменится, если будут приняты решения в пользу развития атомной энергетики. Пока же прогнозы на 2020 год показывают, что зависимость ЕС от импорта природного газа возрастет с нынешних 40 % до 70–80 % объема потребления, при этом доля российского газа в объеме импорта может увеличиться с нынешних 26 % до 40–50 %.
Конечно, такая степень зависимости и даже ее вероятность вынуждают резко повысить уровень взаимодействия и вести поиск новых форм сотрудничества в энергетической (и прежде всего газовой) сфере.
ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ
Северо-Европейский газопровод (СЕГ). Его реализация позволит освоить принципиально новый маршрут (по дну Балтийского моря от Выборга до побережья Германии) экспорта в Европу, диверсифицировать экспортные потоки, напрямую связать газотранспортные сети России и стран Балтийского региона с общеевропейской газовой сетью. Отличительной особенностью СЕГ является отсутствие на его пути транзитных государств, что снижает как страновые риски, так и стоимость транспортировки российского газа, одновременно повышая надежность его поставок на экспорт. Проектом предусмотрено строительство по договоренности морских газопроводов – отводов для подачи газа потребителям других стран – членов Евросоюза. Начало поставок по СЕГ запланировано на 2010-й, максимальная производительность составит 55 млрд куб. м/г.;
проекты, которые призваны решить важнейшие задачи, обозначенные в Энергетической стратегии России на период до 2020 года. Их цель – формирование и развитие нефтегазового комплекса Восточной Сибири и Дальнего Востока, реализация перспективных проектов с возможным выходом России на Азиатско-Тихоокеанский энергетический рынок.
В настоящее время к внесению на рассмотрение правительства готовится Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР. Авторы программы (а готовилась она не Министерством промышленности и энергетики, а «Газпромом») предлагают сделать ставку на сахалинские проекты и почти полностью заморозить разработку уникальных Ковыктинского и Чаяндинского месторождений. Полная реализация сахалинских проектов позволит создать новую крупную базу нефтегазодобычи для обеспечения углеводородами российского Дальнего Востока и стран АТР вплоть до западного побережья американского континента;
газопровод Ямал – Европа, предназначенный для обеспечения контрактных и перспективных поставок природного газа в Европу. Полуостров Ямал – один из наиболее перспективных нефтегазоносных районов Западной Сибири, наиболее важный из новых стратегических регионов «Газпрома». Здесь открыто 26 месторождений, их разведанные запасы газа составляют 10,4 трлн куб. м, извлекаемые запасы конденсата – 228,3 млн т, извлекаемые запасы нефти – 291,8 млн т.
На первом этапе реализации проекта в качестве сырьевой базы используются действующие и новые месторождения Надым-Пур-Тазовского региона Тюменской области. В дальнейшем газ будет подаваться с Бованенковского месторождения на полуострове Ямал. Протяженность трассы газопровода на первом этапе – 2 675 км, проектный объем транспортировки газа по первой нитке – порядка 33 млрд куб. м/г.
Поставки сжиженного природного газа (СПГ). В связи с возрастающим спросом на газ на всех основных рынках (США, Европа, Азия) и постоянным снижением стоимости производства и транспортировки СПГ (на 35–50 % за последние 10 лет) в России ведутся интенсивные работы по подготовке и реализации крупных проектов производства и поставки СПГ на все основные мировые рынки. Это, например, штокмановский проект, который позволит поставлять СПГ, произведенный на базе Штокмановского газоконденсатного месторождения, на рынки сбыта в Европе, на побережье Мексиканского залива и на Восточное побережье США. Ожидается, что эксплуатация этого месторождения, запасы которого превышают 3 трлн куб. м газа, начнется в 2010-м, а годовая добыча достигнет ориентировочно 67,5 млрд куб. м/г. Кроме того, разрабатываются проекты создания комплекса по сжижению газа на побережье Балтийского моря в Ленинградской области, а также технико-экономические обоснования морской поставки сжатого природного газа как в отдельные регионы РФ (Калининградская область), так и на экспорт.
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Важнейшим фактором изменения внешнеэкономической среды для газовой отрасли России становятся либерализация европейского рынка газа, интенсивное формирование новых производителей в Северной и Западной Африке, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, а также рост атлантического и дальневосточного рынков вкупе с созданием сетевого рынка газа в Китае.
В течение нескольких лет потребители российских углеводородов настаивают на строительстве энергетических мостов и приглашают к полномасштабному сотрудничеству в области энергетики. Однако пока все сводится к экспорту энергоресурсов из России и участию иностранных компаний в российских добывающих проектах. Необходимо менять тип взаимоотношений – перейти от простых поставок сырья к сотрудничеству в области переработки энергоресурсов, а впоследствии и к широкому взаимодействию в инвестиционной сфере.
Построить современную развитую экономику возможно только при максимально эффективном использовании возможностей выработки продукции с высокой добавленной стоимостью, и Россия неизбежно будет все активнее продвигаться в этом направлении. Учитывая традиции взаимодействия в предыдущие эпохи, экономический потенциал стран – потребителей российских углеводородов и их постоянную заинтересованность в углублении партнерства с РФ, можно ожидать, что зарубежный бизнес станет важнейшим участником этих процессов. Участие в российских проектах обеспечит энергоемкие производства наших зарубежных партнеров продукцией высоких переделов, что создаст мощный синергетический эффект для экономик обеих сторон.
Бесспорно, большиЂм потенциалом обладают также проекты, связанные с энергосбережением за счет внедрения современных технологий, процессов и оборудования: они будут способствовать формированию экспортных энергоресурсов. При этом, однако, во многих случаях может потребоваться адаптация применяемых средств к российской среде, включая ценовые условия и возможности потребителей/покупателей; для этого крайне важны взаимодействие с российскими партнерами и нахождение эффективных форм включения «российского компонента».
Между тем ключевым условием активизации сотрудничества России и зарубежных партнеров в энергетической сфере является сближение законодательно-нормативных баз. Так, есть необходимость в дополнительном регулировании вопросов по трансграничным трубопроводам, например таких, как обмен информацией и порядок взаимодействия при чрезвычайных происшествиях. Следует также учитывать обязательства России по действующим международным соглашениям и перспективу заключения новых договоренностей. В частности, Договор к Энергетической хартии может потребовать уточнения правил использования транзитных мощностей.
Другой аспект связан с продвижением интеграционных процессов на постсоветском пространстве, в основе которых лежат «стыковка» инфраструктурных комплексов, взаимные поставки и транзит энергоносителей. Правда, здесь все более существенную и не всегда позитивную роль играет политическая составляющая.


Заключительный акт: занавес опускается?
© "Россия в глобальной политике". № 4, Июль - Август 2005
А.Л. Адамишин – Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ, в прошлом заместитель министра иностранных дел СССР, первый заместитель министра иностранных дел РФ, член научно-консультативного совета журнала «Россия в глобальной политике».
Резюме Тридцать лет назад арсенал международной политики пополнился новым инструментом: понятие «права человека» и гуманитарная проблематика были закреплены в Заключительном акте хельсинкского Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Тогда мало кто из подписантов представлял себе роль, которую предстоит сыграть «третьей корзине» в мировой истории.
1 августа 1975 года вошло в историю как день подписания Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Этот документ, принятый в Хельсинки на высшем уровне, был призван оказать долговременное воздействие на международную политику. Спустя 30 лет можно утверждать, что он действительно явился одним из мощных катализаторов тектонических перемен, до неузнаваемости изменивших европейский и мировой политический ландшафт. Но каких?
Выдвигая идею форума, Советский Союз стремился на многосторонней основе застолбить политические и территориальные итоги Второй мировой войны и послевоенного развития. Другими словами, закрепить раздел Европы между двумя блоками. К тому моменту было уже очевидно, что продвинуть дальше на запад «позиции социализма» едва ли удастся. Значит, в Старом Свете следовало зафиксировать статус-кво.
Перескакивая через три десятилетия сразу к ключевому выводу, приходится признать: «нерушимые» границы, вроде бы навсегда утвержденные в столице Финляндии, не пережили глубокий кризис, охвативший коммунистическую систему во второй половине 1980-х. Сегодня в хельсинкском процессе участвуют 55 государств вместо изначальных 35. Все новички – это бывшие составные части трех расколовшихся стран-основателей: СССР, СФРЮ, ЧССР. А вот единственная интеграция, которую стремились не допустить подписанием Заключительного акта, – объединение Германии – как раз состоялась.
В общем, то, ради чего все и затевалось еще в середине 60-х годов прошлого века, не выполнено. Зато на авансцену вышла тематика, поначалу казавшаяся многим у нас чем-то вроде довеска, – вопрос о соблюдении прав человека и вообще «третья (гуманитарная) корзина». Значимость этого аспекта межгосударственных отношений впервые была подчеркнута именно в Заключительном акте. Ныне он «прописан» в основном арсенале международной политики. И если честно с ним обращаться, роль такого инструмента может быть весьма полезной.
ИСТОКИ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОГО ПРОЦЕССА
Согласно распространенной версии, автором идеи созыва общеевропейского совещания был сам министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко. Предлагавшаяся форма вполне отражала бюрократический образ тогдашнего мышления: что-то вроде партийного собрания, спроецированного вовне. Тем не менее задумку нельзя было не назвать удачной. Ее реализация позволила бы затвердить границы в Европе, обойдя такой сложный и не решенный на тот момент вопрос, как отсутствие мирного договора с Германией. К тому же лозунг «Европейцы – за один стол» являлся выигрышным и с пропагандистской точки зрения.
Доподлинно могу засвидетельствовать, что первый зондаж относительно реакции Запада на эту идею действительно провел глава советской дипломатии. Произошло это в апреле 1966-го в ходе его бесед с итальянскими руководителями в Риме, где автор этих строк был переводчиком. Итальянцы, с которыми Москву связывали тогда «особые отношения» (достаточно вспомнить договор о строительстве автогиганта в Тольятти), предложение советского министра поддержали сразу. Правда, искушенные потомки древних римлян сразу внесли поправку, попросив добавить к советской формулировке «совещание по безопасности в Европе» слова «и сотрудничеству». Причин для возражений не было, но дальний прицел западных партнеров проявился позже – ведь именно из «сотрудничества» возник потом в числе прочего вопрос о правах человека.
Кроме того, СССР согласился на участие в совещании США, которых поначалу приглашать не собирались. Однако без Соединенных Штатов, страны, подписавшей Ялтинские и Потсдамское соглашения, одного из гарантов Четырехстороннего соглашения по Западному Берлину, проект умер бы, не родившись. Чтобы американцы не слишком выбивались из общего ряда, решили пригласить еще и Канаду. В таком измененном виде советская идея была одобрена специальной декларацией Политического консультативного комитета Организации Варшавского договора. Теперь речь шла уже о совместной инициативе социалистических стран.
Воплощение этого проекта в жизнь заняло долгое время. Ударом по нему стали события в Чехословакии летом 1968 года, однако общеевропейский процесс хотя и замедлился, но не остановился. Новыми стимулами стала «восточная политика» западногерманского канцлера Вилли Брандта и договоры, заключенные Польшей и Советским Союзом с ФРГ в 1970-м. Чтобы преодолеть скептическое отношение западных партнеров, использовался весь арсенал двусторонних средств, прежде всего «обработка» на высшем уровне. Среди последних с идеей проведения общеевропейского совещания согласились США – после переговоров президента Ричарда Никсона в Москве в мае 1972-го и подписания Договора ОСВ-1. До этого и Никсон, и особенно его могущественный госсекретарь Генри Киссинджер не скрывали негативного отношения к европейской затее.
В ноябре 1972 года в Хельсинки начались многосторонние консультации на уровне послов, растянувшиеся почти на девять месяцев. Наконец в начале июля 1973-го в столице Финляндии собрались министры иностранных дел 35 стран. Столь представительной ассамблеи в Европе не видели со времен Венского конгресса (1814–1815), «светлого праздника всех дипломатий мира». Первый этап общеевропейского совещания получился удачным: было решено письменно оформить договоренности о том, как жить в Европе дальше.
Выполнение этой невероятно тяжелой задачи заняло почти два года – до июля 1975 года. Итоговый документ, названный на завершающей стадии работы Заключительным актом, писался 35 перьями. (В том числе, кстати, и ватиканским: Святой престол участвовал в столь крупном международном «слете» впервые с 1824-го.) При этом если кто-то один не соглашался с какими-либо пассажами или фразами, то они не проходили. Никогда еще принцип консенсуса, представляющий собой высшее проявление демократии, не применялся в таком масштабе. Уверен, что подобное повторится отнюдь не скоро, а возможно, и никогда. Потрясает к тому же и всеобъемлющий характер документа. Заключительному акту удалось охватить всё: от принципа нерушимости границ и различных военных аспектов безопасности до детально расписанных конкретных вопросов экономического и гуманитарного сотрудничества и специального раздела Follow Up to the Conference – договоренности о дальнейшем развитии процесса.
КАК РАБОТАЛА СОВЕТСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ
Второй этап совещания проходил в Женеве. Советскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Анатолий Ковалев. Этот талантливый человек передовых убеждений собрал сильную команду, пригласив в нее лучших сотрудников различных ведомств. Стены его кабинета в «бункере» – мрачном здании, где заседали европейцы-переговорщики, – были сплошь завешаны разграфленными полотнищами бумаги: туда заносились согласованные, или, как их называли, «зарегистрированные» куски будущего шедевра. Их приносили гонцы, заседавшие в различных комитетах и комиссиях. То, что не было «зарегистрировано», оставалось в скобках: их раскрытие осуществлялось по древнеримскому принципу взаимных уступок Do ut des – «Даю, чтобы ты дал».
Два месяца проработал там в командировке и я. Споры шли не только вокруг предложений, но и отдельных слов. Обсуждаем мы, скажем, в своем кругу параграф, касающийся права наций распоряжаться своей судьбой: «Все народы всегда имеют право…». Осторожного Ковалева смущает слово «всегда». «Анатолий Гаврилович, – говорю, – даже в песне Лебедева-Кумача поется: «человек всегда имеет право…». «Хороший довод», – успокаивается глава делегации. Он постоянно ведет мысленный диалог с Москвой. Получить ее «добро» – дело не менее сложное, чем договориться с 34 партнерами. Вот этой «внутренней дипломатии», по утверждению министра Громыко, более важной, чем внешняя, я насмотрелся вдоволь.
В МИДе на уровне заместителей министра за совещание отвечал Игорь Земсков, по воззрениям антипод Ковалева (Громыко любил создавать подобного рода пары). Я же, выросший за время подготовки совещания до начальника управления, числился главным ответственным на рабочем уровне, «мальчиком за всё», так сказать. И верно, почти всё, касавшееся по мидовской линии женевского этапа, прошло через мои руки. В каком-то смысле и через ноги, ибо наше управление находилось на Гоголевском бульваре и часто приходилось нестись на Смоленскую площадь и обратно. Самым трудным в работе было обеспечить одобрение либеральных подходов Ковалева, да так, чтобы ортодоксальный комар носа не подточил.
В соответствии с избранной стратегией Советский Союз и (с разной степенью убежденности) наши союзники по Варшавскому договору добивались безусловного утверждения принципа нерушимости границ, из чего вытекало бы, что территориально-политическое устройство Европы, как оно сложилось к тому времени, не может быть изменено. Это, в свою очередь, закрепило бы раскол Германии и нахождение ГДР в социалистическом лагере. Мы как бы повернули шахматную доску: в первый послевоенный период именно Москва выступала за объединение Германии, а Вашингтон, да и весь Запад, не афишируя этого, весьма активно действовал против. Американцы не без оснований полагали, что удержать в своей орбите объединенную Германию окажется значительно труднее. Подавление в течение десятилетий стремления немцев к единой Германии – это тщательно скрываемый скелет в американском шкафу. (Кстати, союзники Западной Германии согласились на воссоединение только тогда, когда события приняли необратимый характер. ГДР сама прекратила свое существование, но даже в тот момент объединение германской нации беспокоило многих на Западе.)
В ходе подготовки Заключительного акта немцы, и не только в ФРГ, подоплеку понимали прекрасно. Формулировка принципа нерушимости границ вызывала наиболее жесткие споры. Отвергать его с порога, разумеется, никто и не намеревался. Мысль о территориальных притязаниях была ненавистна Европе, прошедшей через ужасные войны. Но и похоронить мечту о воссоединении немцы не могли, сколько бы ни говорилось об отсутствии у них духа реваншизма. Выход нашли в так называемой мирной оговорке, предусматривавшей возможность изменения границ между государствами по их полюбовной договоренности. С теоретической точки зрения такую договоренность нельзя оспорить, но кто же на практике даст ФРГ согласие? ГДР – никогда, мы – тем более, да и Запад будет не в восторге… Никто не мог даже представить себе, что произойдет с Советским Союзом через какие-то полтора десятка лет.
«ТРЕТЬЯ КОРЗИНА»
Демонстрируя добрую волю в вопросе закрепления территориальных и общественно-политических реалий в Европе, Запад рассчитывал на встречные уступки в том, что касалось внутренних советских порядков. Это обуславливалось, конечно, не стремлением к тому, чтобы граждане Советского Союза жили в более демократическом государстве. Западные лидеры полагали: если советская политика будет более предсказуемой и в большей степени опираться на общий с Западом понятийный аппарат, то безопасность от этого только выиграет.
То, чего добивалось советское руководство, – это минимизировать «цену», апеллируя к принципу невмешательства во внутренние дела. Как чеканно выразился в одном из выступлений Громыко, «внутренние порядки, внутренние законы – это черта у ворот каждого государства, перед которой другие должны остановиться». Для меня до сих пор остается загадкой, каким образом Заключительный акт с его гуманитарными «ересями» успешно прошел через Политбюро ЦК КПСС. Некоторые мемуаристы считают, что там просто недооценили взрывоопасность той «мины», которую «третья корзина» закладывала под советскую идеологическую конструкцию. Не думаю, что дело в этом. Политики консервативного толка, а их в высшем руководстве страны было большинство, не могли не заметить столь явный «подрыв устоев». Но они промолчали. Причина: общеевропейскому совещанию покровительствовал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, в ту пору еще вполне энергичный и адекватный лидер. Его настрой определяли в свою очередь наиболее профессиональные из советских партаппаратчиков – толковые, пишущие (что всегда ценилось особо), честные, а главное, действительно радеющие об интересах страны.
Эти «дети ХХ съезда» считали, что продвижение в сторону соблюдения прав человека – не уступка Западу, а необходимый залог развития страны; что демократические преобразования давным-давно назрели и что если их подтолкнет внешняя политика, то честь ей за это и хвала.
И разве не в интересах СССР было попытаться превратить Европу из зоны своего самого острого противоборства с Западом в дружественный регион, материализовать политику разрядки, в том числе в военной сфере, наладить столь необходимое сотрудничество? Фронтовика Брежнева особенно прельщала возможность подвести коллективный итог войне, торжественно открыть вместе с руководителями европейских государств, США и Канады новую страницу в истории Европы. Принятие на высшем уровне Заключительного акта в ходе третьего этапа совещания обещало стать (и стало) подлинным апофеозом политики разрядки. А без противовеса – шагов в области прав человека – Запад на это никогда не пойдет, говорили, и абсолютно справедливо, Брежневу его советники. Круг таких людей был, конечно, очень узок. Но некоторые из них находились на постах, позволявших влиять на высшую политику.
Кто решился бы пойти против генсека? Политбюро ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета СССР, Совет министров СССР в совместном документе дали высочайшую оценку результатам общеевропейского совещания. И они того стоили.
Неприятности для либералов начались позже, когда улеглась эйфория и помощники «ястребов» в советском руководстве внимательно прочли Заключительный акт. Оказалось, что среди десяти принципов, которыми подписавшим документ государствам отныне надлежало руководствоваться, фигурирует такая заповедь, как «уважение прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений». Выходит, это уже не является нашим внутренним делом, мы должны перед кем-то отчитываться? А как относиться к таким положениям, как облегчение доступа к информации, воссоединение семей, приглашение наблюдателей на военные маневры? Оговорки, причем существенные, которыми снабдил документ мудрый Ковалев, в расчет не брались.
Ортодоксы упрекали «голубей»: вы заплатили Западу «третьей корзиной» за то, что страна и так имела, – территориальную целостность в Европе, существование ГДР. Запад же, утверждали они, получил лазейки для вмешательства во внутренние дела СССР, а посему отбивать вражеские поползновения теперь будет сложнее.
Втихомолку были сделаны некоторые оргвыводы, в частности, в отношении главного закопёрщика – Ковалева. Правда, мягкие: его всего лишь «прокатили» на выборах в ЦК. Основной же негласный вывод – спустить на тормозах гуманитарные и иные неподходящие договоренности, тем более что они, как и все другие в Заключительном акте, носят не обязывающий международно-правовой, а морально-политический характер. Как после партсобрания: поговорили и разошлись...
Надо сказать, что интуиция не обманула консерваторов. Действительно, обязательства, пусть и формально, но всё же взятые на себя Москвой, довольно скоро превратились в средство давления. Причем не только извне, но и изнутри – со стороны движения правозащитников, которые апеллировали как раз к хельсинкскому Заключительному акту. Когда же во второй половине 1970-х разрядку сменило новое резкое похолодание, понятие «права человека» вообще оказалось одним из таранов, что использовались американцами против «империи зла». Это позволяет нашим деятелям антизападного толка и по сей день говорить о том, что СССР-де привела к краху та «слабина», которую руководство с подачи либералов дало в 1975 году. В реальности дело обстоит с точностью до наоборот. Фатальными стали не принятые обязательства, а отказ Москвы идти путем, предначертанным в Заключительном акте, и втягивание Советского Союза в еще один, ставший непосильным виток противостояния с Западом.
ПОСЛЕ ХЕЛЬСИНКИ
Триумфальное завершение хельсинкского форума многими было представлено как похороны холодной войны. «Ведьма», однако, оказалась живучей, и впоследствии, как мы знаем, ее погребали еще много раз. Достигнув пика в момент подписания Заключительного акта, общеевропейский процесс далее развивался скорее в сторону затухания. Вопреки всем надеждам, в нашей внутренней жизни практически ничего не изменилось. Однако во внешнеполитической сфере оживились двусторонние, прежде всего экономические, отношения и политические контакты, началось и «дозированное» трансграничное общение между рядовыми гражданами. Было подписано первое долгосрочное (до 2003 года) соглашение о поставках в Европу природного газа из СССР. В Европе международный климат тоже улучшился: например, Италия и Югославия окончательно договорились о Триесте.
Одновременно Москву все громче обвиняли в несоблюдении Заключительного акта, который нередко подавался широкой публике как документ, состоящий лишь из одной «третьей корзины», да и то не всей. Первая после Хельсинки встреча стран – участниц совещания (Белград, 1977–1978), созванная с целью продолжить процесс, свелась к топтанию на месте.
В конце 1970-х для разрядки и ее адептов наступили совсем уж тяжкие времена. По обе стороны разделительной линии между Востоком и Западом тон все больше задавали круги, не заинтересованные в серьезном ослаблении напряженности. Думаю, что в глубине души советское руководство не верило, что на Земле есть место для двух общественных систем. Многие поколения руководителей были воспитаны в духе «кто кого закопает». Отсюда вытекало, что разрядка – дело преходящее: нас, мол, обманут, так что дальше реализации определенного минимума идти не стоит, да и классовый противник поступит так же. Наращивание вооружений неминуемо, хотя кое-какие ограничения не повредили бы. Могущественный ВПК такая постановка вопроса вполне устраивала.
Разрядка в понимании тридцатилетней давности совершенно исключала какую-либо «идеологическую конвергенцию». Невзирая на подписанный Заключительный акт слова «права человека» продолжали писать в кавычках, сопровождая их эпитетом «так называемые». Разговор об общечеловеческих ценностях начался много позже – с приходом Михаила Горбачёва и началом перестройки.
Наконец, статус-кво поддерживали только в Европе, во многих других регионах шла ожесточенная борьба – в Юго-Восточной Азии, Центральной Америке (Никарагуа), Африке (Ангола). Так, спустя всего лишь несколько месяцев после подписания Заключительного акта на «социалистический путь развития» стала Ангола во главе с «марксистом» Агостиньо Нето, что произошло при военно-политической поддержке Москвы и Гаваны и вызвало на Западе бурю возмущения. А с декабря 1979 года, когда началась афганская кампания, небо потемнело всерьез. С приходом к власти в США Рональда Рейгана американцы решили, что задача сокрушить стратегического конкурента не столь уже невыполнима. Сжатие тисков гонки вооружений в сочетании с массированным давлением именно по линии несоблюдения прав человека оказалось весьма эффективным.
В той обстановке хельсинкский процесс едва не приказал долго жить. Вторая встреча в рамках Заключительного акта – в Мадриде (1980–1983) – больше походила на затянувшуюся на три года стычку. И немудрено – ведь она проходила на фоне действий советских войск в Афганистане, бойкота московской Олимпиады, конфликта вокруг размещения ракет средней дальности в Европе, введения военного положения в Польше и, наконец, событий вокруг сбитого южнокорейского «Боинга».
Спасителем общеевропейского процесса снова стал генеральный секретарь ЦК КПСС, на этот раз Юрий Андропов. Советскую делегацию в Мадриде возглавлял Леонид Ильичев – человек, безусловно, неординарный, но взглядов отнюдь не «голубиных». (Позже его заменил на этом посту Анатолий Ковалев.) С американцами, потерявшими интерес к общеевропейскому процессу, правда, за исключением случаев, когда появлялся повод «прижать» нас по гуманитарной части, он действовал очень жестко. Дело могло кончиться либо принятием сугубо формального итогового документа, либо вообще констатацией (как предлагали США) того факта, что договориться не удалось. Из частого общения с министром (я был тогда заведующим 1-м Европейским отделом, куда входит Испания) делаю четкий вывод, что Громыко не считает такой вариант неприемлемым.
Это означало бы, что торпедируется созыв Конференции по военной разрядке и разоружению в Европе, за который мы боролись несколько лет, а истощившийся общеевропейский ручеек вовсе перестанет течь. Понимаю, чем может грозить вынос сора из избы, но все же решаюсь позвонить Анатолию Блатову – помощнику Андропова. Анатолий Иванович драматизма ситуации не чувствует, ибо – старый аппаратный прием – до него доходят не все депеши, но суть дела схватывает мгновенно. На следующий день перезванивает: «Тревожный сигнал возымел действие». Я это уже понял: шеф развернулся на 180 градусов. В конечном счете провала Мадридской встречи удалось избежать, а вышеназванная конференция открылась в январе 1984-го в Стокгольме.
А может быть, зря спасали общеевропейский процесс? В тот раз – точно не зря, поскольку политическая обстановка и так была настолько накалена, что еще один удар мог оказаться роковым. Андропов понимал, что «захлопнуть» разрядку не в наших интересах. В принципе же подобный вопрос подспудно ставился неоднократно: мол, политическая задача выполнена, нерушимость обеспечена, а от всяких добавок и продолжений – одна морока.
Перестройка сняла на время сомнения. Хельсинкские договоренности начали выполнять у нас по тем разделам, которые раньше клали под сукно, и от перемен страна только выигрывала. К примеру, сколько можно было терпеть такой постыдный, к тому же затратный анахронизм, как глушение иностранных радиостанций? Полностью это прекратили лишь в 1988 году, когда Горбачёв уже три года находился у власти. Это стало одной из наших «уступок», способствовавших успешному завершению третьей общеевропейской встречи (Вена, ноябрь 1986 – январь 1989). Обсуждение проблем прав человека с американцами имело менее конфронтационный характер. Мой тогдашний визави, заместитель госсекретаря США по гуманитарным делам Ричард Шифтер, до сих пор считает, что взаимодействие по этим вопросам сыграло решающую роль в успехе встречи. (Одним из направлений, которое я курировал в МИДе, став в 1986 году замминистра, являлись права человека. Впервые эти слова стали употребляться без кавычек.)
Взявшись за создание правового государства, Горбачёв и команда исправляли целый ряд несправедливостей и несуразностей, свойственных советскому обществу. Это было наше внутреннее дело, наша собственная инициатива, фактически нам не требовались импульсы извне. Одновременно это обусловило пик общеевропейской активности. Мы замахнулись даже на проведение Московского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ и успешно провели-таки (в сентябре 1991-го!) один из ее этапов.
А вот самый крупный международный документ того периода – Хартия для новой Европы, принятая на встрече в верхах в рамках СБСЕ в Париже (ноябрь 1990 года), сыграла, по моему мнению, скорее отрицательную роль. В общий европейский дом она так никого и не привела, ожидания породила завышенные и, строго говоря, неисполнимые по определению, затуманила видение подлинных европейских проблем – воссоединения Германии, развала социалистического лагеря, прогрессирующего ослабления СССР.
МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ
После ухода со сцены Советского Союза общеевропейский процесс стал терять смысл. Идея Хельсинки, по сути, служила договоренностям между Востоком и Западом тогда, когда под этим понимали две общественные системы. Первоначальный замысел повис в воздухе, как только данное деление исчезло, причем скорее вопреки принципам нерушимости границ и территориальной целостности, установленным в Заключительном акте, чем в соответствии с ними.
Как правило, даже очень хорошим международным договоренностям не суждена долгая жизнь. Не гербовая бумага, а соотношение сил определяет ситуацию. Продлить жизнь процессу не помогла и его трансформация в институт: с 1 января 1995 года СБСЕ преобразовано в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ); впрочем, до конца институционализация так и не доведена. Расширение организации за счет всех бывших республик СССР также не привело к обретению новой цели и повестки дня. За десять лет своего существования ОБСЕ принесла России мало реальной пользы, а в последнее время и вовсе превратилась в орган, миссия которого ограничивается вынесением вердиктов об уровне демократичности выборов на постсоветском пространстве. Причем даже с учетом того, что большинство государств на территории бывшего Советского Союза не могут похвастаться достижениями в области демократии, объективность и неангажированность ОБСЕ вызывает сомнение.
Похоронить ОБСЕ рука не поднимется – жаль уникального евроазиатского форума, где по-прежнему действует принцип консенсуса. Россия имеет там право вето и использовала его, хотя и не так часто, как когда-то в ООН. С другой стороны, нельзя бесконечно оставаться пленниками своей, даже самой прекрасной идеи. Европа и мир изменились радикально. ОБСЕ находится в конце списка международных организаций, посредством которых Россия реализует собственные национальные интересы. Во всяком случае, ее позиции там много ниже Европейского союза или НАТО, отношения с которыми представляют собой пусть и нелегкое, но регулярное, практическое и приносящее свои плоды взаимодействие.
ОБСЕ не стала и уже вряд ли станет основным фактором формирования комплексной, охватывающей все аспекты – от военного до гуманитарного – безопасности в Европе. Сегодня преобладает мелкотемье, не соответствующее изначальному «замаху» этой организации. Не случайно, что после Стамбульской встречи-1999 больше не прошло ни одного саммита в рамках ОБСЕ.
Что ждет эту структуру? Либо хельсинкскому процессу не останется ничего другого, как купаться в лучах прошлой славы, ссылаясь на беспрецедентный опыт совместной работы, на заслуги в деле улучшения общего климата в Европе и продвижения разрядки и сотрудничества, на приобщение к большой политике значительного числа государств, в том числе нейтральных. Либо ОБСЕ трансформируется в сугубо специализированную организацию по выполнению действительно важной задачи – содействия демократическим преобразованиям, правовой модернизации, защите прав человека. Но для этого необходима ее собственная перестройка, такая, которая устроила бы все государства-участники. Консенсус так консенсус.

Реформы нельзя закончить
© "Россия в глобальной политике". № 2, Март - Апрель 2005
Лешек Бальцерович – председатель Национального банка Республики Польша, ранее – министр финансов и вице-премьер польского правительства.
Резюме Нет ни одного примера страны, которая находилось бы в лучшем положении только потому, что ей удалось осуществить меньше рыночных реформ. Более того, залог успешного развития не только переходных, но и весьма продвинутых государств заключается как раз в том, что реформы никогда не заканчиваются.
12 декабря 1981 года я в должности вице-председателя Польского экономического общества приехал в Брюссель на международную конференцию. На следующее утро в теленовостях сообщили, что в Польше введено военное положение. Иностранные коллеги в один голос призывали меня не возвращаться в Варшаву. Я не последовал этому совету, не питая, однако, в тот момент никаких надежд на лучшее.
Восьмидесятые обещали стать мрачным временем реакции и жестких мер по укреплению режима. Никто из моих друзей и единомышленников, в принципе достаточно хорошо информированных о ситуации в польской, да и в советской экономике, не мог тогда предположить, что через какие-нибудь четыре года в СССР начнутся радикальные перемены, которые еще в текущем десятилетии приведут к краху коммунизма в Центральной и Восточной Европе. Представить себе развитие событий по такому сценарию было невозможно, даже обладая самым изощренным воображением.
Скажу честно: несмотря на весь богатый опыт, приобретенный за истекший период, я до сих пор не могу однозначно сказать, почему «социалистический лагерь» рухнул так быстро. Конечно, уже в 1970-х годах стало понятно, что коммунистический строй тормозит любой прогресс и способен только на то, чтобы воспроизводить застой. С точки зрения экономической науки это было очевидно, как был очевиден и коренной порок того мессианского учения, которое Карл Маркс почему-то называл наукой. Маркс утверждал, что развития можно добиться, лишив людей экономической свободы. Если бы марксизм оставался не более чем интеллектуальным течением в среде левых университетских профессоров, многие, наверное, до сих пор всерьез рассматривали бы предлагаемый им путь в качестве возможной альтернативы рыночному хозяйству. Но практический опыт строительства социализма продемонстрировал (и это, пожалуй, единственный положительный результат зловещего эксперимента), что отказ от частной собственности – путь к неизбежному упадку и, напротив, поощрение предпринимательской инициативы – способ двигаться вперед. Так что в исторической перспективе тоталитарные системы, основанные на плановой экономике, были обречены.
Однако порочность социально-экономической базы той или иной системы является необходимым, но не достаточным условием ее устранения. Известно немало режимов, которые ничуть не лучше и не эффективнее тех, что существовали в странах «народной демократии», но при этом они выживают и даже по-своему устойчивы. Северная Корея, Куба и Бирма являются наиболее наглядными примерами такого рода.
Крушение советского блока, безусловно, результат стечения целого ряда обстоятельств. И все же одним из ключевых является фактор личности, роль которой, кстати, всегда недооценивалась марксистами. Займи место Михаила Горбачёва человек с иными взглядами и чертами характера (а это было вполне вероятно, учитывая ситуацию в тогдашнем Политбюро), и попытки вдохнуть новую жизнь в агонизирующий строй придали бы развитию событий совсем другое направление. Нет сомнений в том, что рано или поздно все закончилось бы примерно тем же, однако сроки, а главное – цена перемен оказались бы совершенно иными.
Сомневаюсь, что, инициируя весной 1985-го «ускорение социально-экономического развития на основе научно-технического прогресса», Горбачёв предвидел практические последствия этих лозунгов. Но генеральный секретарь дал первоначальный импульс, а дальше процесс начал стремительно развиваться сам собой.
Мировая история знает немало примеров, когда из-за отсутствия «локомотива», лидера преобразований упускались реальные назревшие реформы. Есть, впрочем, и совершенно противоположные случаи, когда наличие сильной и яркой личности способно компенсировать частичное отсутствие объективных условий для революционных изменений. В эпоху крушения социализма недостатка в подобных фигурах не было. Очевидно, именно в этом и заключается высшая историческая справедливость: в решающий момент сторонники перемен оказались, как личности, намного сильнее и энергичнее тех, кто пытался сохранить статус-кво.
Масштаб трансформаций, охвативших Европу и Евразию в последние два десятилетия, настолько велик, что споры об этом грандиозном переломе не затихнут еще многие годы. Одна из постоянных тем дискуссий – универсальны ли по своему характеру экономические рецепты, или в каждом конкретном случае следовало и следует идти особым путем?
Существует прямая аналогия между экономической политикой и медициной. Если двум разным пациентам, например китайцу и русскому, ставят один и тот же диагноз, им прописывают одинаковую терапию. Лечение экономических недугов точно так же предполагает наличие универсальных рецептов. Конечно, между китайцем, русским, поляком, эстонцем и казахом достаточно различий, но только не с точки зрения экономики. Мировая экономика представляет собой единое пространство, которое функционирует по одним и тем же законам, а сами эти законы вытекают из основополагающих свойств человеческой природы. Той природы, в которой прекрасно разбирался Адам Смит.
В 1980-е годы мы с группой коллег, не надеясь ни на какие перемены в Польше, очень серьезно изучали зарубежный, в частности латиноамериканский, опыт реформ. Такая работа не выходила за рамки научной дискуссии, но она оказалась весьма кстати в 1989-м, когда нам пришлось взяться за практические преобразования. К тому моменту сложилась группа единомышленников, мнения которых совпадали по принципиальным вопросам – необходимости либерализации, приватизации, жесткой монетарной политики. И хотя в практической деятельности мы, разумеется, столкнулись с многочисленными проблемами, предвидеть которые не могли, у нас уже имелся общий план действий. Главное, мы отдавали себе отчет: чтобы реформы увенчались успехом, они должны быть нацелены не на косметические изменения, не на «совершенствование» социализма с целью придания ему «человеческого лица», а на коренное переустройство плановой экономики. Именно такой подход и являлся единственно верным для любой из постсоциалистических стран.
Бессмысленно оспаривать наличие серьезного разрыва в уровне развития между разными странами бывшего советского блока – этот разрыв особенно ощутим, если сравнивать условия экономической деятельности, масштабы неравенства, эффективность систем здравоохранения и образования, степень защиты окружающей среды и т. д. В одних странах положение за годы реформ существенно улучшилось, в других – претерпело менее заметные изменения, в третьих – даже ухудшилось. Это вовсе не означает, что одни нации больше приспособлены к свободному рынку, а другие – меньше. Иное дело, что дает себя знать различие стартовых условий. Но на основе многочисленных эмпирических исследований легко прийти и к другому выводу: чем больше рыночных, ограничивающих государственное вмешательство, реформ проводится правительством, чем последовательнее они воплощаются в жизнь, тем выше достигнутые результаты. Нет ни одного примера страны, которая находилась бы в лучшем положении только потому, что ей удалось осуществить меньше рыночных реформ.
В любом государстве всегда присутствует обширный популистский фронт, который под разными предлогами, в том числе и ссылаясь на «национальную самобытность», противодействует реформам, предлагая взамен всевозможные «чудодейственные» средства для решения проблем. Успех зависит от того, способно ли общество дать организованный отпор популистам, не позволить им увести нацию в сторону от назревших преобразований.
Более того, залог успешного развития заключается как раз в том, что реформы никогда не заканчиваются. При этом представление о том, что они проводятся только под эгидой государства, является устаревшим. Государственное вмешательство следует ограничить настолько, чтобы предоставить свободу действий остальным участникам экономической жизни для самостоятельного реформирования и адаптирования к требованиям рынка.
Все наиболее динамичные экономики мира объединяет одно общее качество: в них никогда не прекращаются преобразования. Двигатель развития всякой свободной экономики – предприятия, и если они хотят быть конкурентоспособными, то должны постоянно развиваться, трансформироваться. В условиях современного глобального хозяйства невозможно стать победителем раз и навсегда, свое место надо постоянно отстаивать в мирной, но жесткой борьбе. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить список крупнейших американских корпораций двадцатилетней давности с их сегодняшним списком: многие тогдашние флагманы, не выдержав конкуренции, сошли со сцены и уступили место другим.
Реформы – это необходимое условие прогресса не только переходных, но и состоявшихся, мощных экономик. Там, где реформы замедляются, вскоре начинается отставание. К примеру, сегодня проблемы испытывают такие столпы – основатели Европейского союза, как Германия, Франция, Италия. Почему? Потому что там вовремя не были проведены важные реформы – между прочим, те самые, что в рамках подготовки к вступлению в ЕС были осуществлены в большинстве постсоциалистических стран: в Германии – реформа рынка труда, во Франции и Италии – реформа социальной сферы. Иная ситуация в Великобритании, Дании, Финляндии – странах, которые в силу разных причин были вынуждены в свое время пойти на болезненные преобразования.
Европу беспокоит ее отставание от Соединенных Штатов. Чтобы сократить его, необходимо последовательно реализовывать принятые ранее решения.
Во-первых, завершить строительство единого рынка, что на практике означает расширение свободного рынка услуг. На сектор услуг приходится более 70 % общеевропейского ВВП, но именно он раздроблен национальными барьерами, попытки же устранить их наталкиваются на противодействие отраслевых лобби в разных странах. А не преодолев протекционистских устремлений, единый рынок не построить.
Во-вторых, поддерживать фискальную дисциплину, то есть строгое выполнение условий Пакта стабильности и роста, против которого высказываются сегодня некоторые крупнейшие страны – члены Евросоюза. Их позиция идет вразрез с теми принципами, соблюдения которых вполне справедливо требовали от государств, вступавших в ЕС.
В-третьих, ограничить субсидирование предприятий из общественных фондов. Чем дальше будет продвигаться процесс преобразований Европейского союза и его отдельных стран-членов в направлении свободного рынка, тем выше шанс догнать Соединенные Штаты.
Я убежден, что в XXI веке успех всегда будет сопутствовать тем, кто сможет реформироваться быстрее и глубже других.
Одна из популярных тем для дискуссий – возможны ли эффективные экономические реформы в условиях авторитарной политической системы? Исследования не дают однозначного ответа, который говорил бы о наличии прямой связи между типом политической системы и темпами развития. Однако надежнее всего – исследовать данный вопрос, обратившись к данным статистики. Страны, успешно осуществившие реформы в условиях диктатуры, можно пересчитать по пальцам: Южная Корея, Тайвань, Чили, возможно, еще две-три. Но это явные исключения, потому что подавляющее большинство диктатур – десятки недемократических режимов в Азии, Африке, Латинской Америке – приводили свои народы к экономическим кризисам, если не катастрофам.
Говорят, что недемократическая власть «твердой руки» – гарантия осуществления реформ в переходный период, а по его завершении, мол, можно провести постепенную демократизацию такого режима. Однако политическая несвобода почти всегда влечет за собой несвободу экономическую, а чрезмерная концентрация власти, не ответственной перед населением, неизбежно наносит урон правовой системе. Сегодня мы сталкиваемся с феноменом лидеров, приходящих к власти формально демократическим путем (как Уго Чавес в Венесуэле или Александр Лукашенко в Белоруссии), но считающих возможным попирать законы. Изъяны же в функционировании правовой системы подрывают незыблемость прав собственности – фундамент любых преобразований.
В процессе реформ должна быть поставлена цель создания правового государства, которое стоит на страже индивидуальной свободы, в том числе экономической, а значит, частной собственности. Страна, в которой собственники не будут уверены в своих правах, никогда не сможет достигнуть нормального развития.

Разговор о будущем
© "Россия в глобальной политике". № 2, Апрель - Июнь 2003
Материал подготовлен Л.М. Григорьевым и А.В. Чаплыгиной по итогам закрытой дискуссии, организованной журналом «Россия в глобальной политике». В ней принимали участие ведущие отечественные специалисты в энергетической области.
Резюме К началу XXI века Россия и Европа экономически больше привязаны друг к другу, чем когда-либо в истории. Энергетический экспорт впервые приобрел для континента столь серьезную роль, и в перспективе она будет возрастать. Россия при этом не меньше зависит от своего главного клиента, чем ЕС – от своего основного поставщика.
Рубеж тысячелетий ознаменовался ростом политических рисков в мировом энергоснабжении. Связаны они и с последствиями событий 11 сентября 2001 года, и с иракской кампанией. Эти факторы, наряду со структурными сдвигами в энергопотреблении (особенно от угля к газу), интеграционными процессами в Европе и на постсоветском пространстве, обусловили повышение интереса к России как крупнейшему в мире экспортеру углеводородов. Основные мировые потребители энергоресурсов (Европейский союз, США, Япония, Китай) потенциально могут даже оказаться конкурентами за право обеспечить будущие поставки газа и нефти из России, а также участвовать в развитии экспортной инфраструктуры страны.
Первым углубленный энергодиалог с Москвой начал Евросоюз. Диалог стартовал на фоне замедления экономического роста в развитых странах и обострения конкуренции на мировых рынках. Россия же после десятилетия упадка обрела к осени 2000-го политическую стабильность и продемонстрировала высокие темпы роста. Признание России страной с рыночной экономикой, хотя и затянувшееся до осени 2002 года, стало частью возврата нашей страны в мировое сообщество на новой пореформенной основе.
Конъюнктура на энергетическом рынке складывается в результате взаимодействия различных, часто противоречащих друг другу интересов стран, энергокомпаний и производителей энергоемкой продукции. Сложность ситуации требует от российских политиков поиска сбалансированного и ответственного решения в пользу долгосрочных национальных интересов. При этом в отношениях с ЕС Москва лишена возможности маневрировать между позициями различных стран: единственным партнером по переговорам выступает Еврокомиссия (исполнительный орган ЕС) выражающая консолидированную волю 15, а в скором будущем и 30 государств. Сама эта позиция – результат сложного согласования интересов правительств (бюджеты), различных директоратов Еврокомиссии (по энергетике и по конкуренции), потребителей, крупных компаний по торговле энергоносителями; и наконец, собственных производителей. Иллюзий быть не должно: партнер станет проявлять максимальное упорство и неуступчивость, отстаивая интересы европейцев в понимании Еврокомиссии. Вести успешный диалог с единой Европой Россия сможет только в том случае, если внутри страны, где тоже есть различные интересы (бюджет, экспортеры энергоносителей, экспортеры энергонасыщенных товаров, экономика в целом как область реинвестирования экспортных доходов), будет достигнут устойчивый консенсус относительно существа национальных интересов в области энергетики.
Европа и Россия – взаимозависимость
Диалог России и ЕС по энергетическим проблемам начался на саммите в Париже в октябре 2000-го, хотя сама идея интеграции нашей страны в европейское экономическое и социальное пространство была включена в Общую стратегию ЕС в отношении России от 4 июня 1999 года. Эти шаги последовали за Соглашением о партнерстве и сотрудничестве, которое вступило в силу в декабре 1997-го, однако не принесло значительных результатов. В мае 2001 и мае 2002 годов вице-премьером правительства России Виктором Христенко и главой генерального директората Еврокомиссии по энергетике и транспорту Франсуа Ламуре были подготовлены два «Обобщающих доклада». Основными целями ЕС в энергодиалоге являются устойчивость энергоснабжения в условиях жестких требований к экологии и повышение конкурентоспособности европейской промышленности.
В ближайшие годы в непосредственной близости от России образуется единый рынок, потенциально включающий в себя 30 стран. (Здесь и далее данные приведены в расчете на 30 стран будущего ЕС: нынешние 15 членов, 12 кандидатов от Центральной и Восточной Европы, Прибалтики и Средиземноморья, а также Турция, Норвегия, Швейцария, поскольку наша политика должна строиться с перспективой на поколения.) Этот массив с 450 миллионами жителей (около 8 % от мирового населения в 2001-м) и 22-процентной долей в мировом ВВП (по паритетам покупательной способности в 2001-м) ввозит преобладающую часть российского энергетического экспорта. Сложилась ситуация, когда столь важные поставки энергии идут из европейской страны, но не регулируются по европейским правилам. И если, например, нефть и газ из Африки, c Ближнего Востока Евросоюз может воспринимать как импорт из отдаленных источников, то близость России позволяет ЕС взглянуть на проблему под углом потенциальной интеграции.
В последние 12 лет реинтеграция России в глобальную экономику при распаде «социалистического лагеря» сопровождалась шоковой ликвидацией значительной части рынков для нашей обрабатывающей промышленности. На мировых рынках машиностроения страна сохранила конкурентные позиции лишь в сфере вооружений и в некоторых отдельных нишах.
Преодоление переходного кризиса, финансирование развития и достижение положительного торгового баланса обеспечиваются сегодня в России за счет небольшого набора энергоемких и энергетических товаров. Интеграция в Европейское экономическое пространство (ЕЭП) через энергетику важна для России как способ ускорения развития, модернизации и – в конечном итоге – относительного сокращения роли энергетического экспорта в национальной экономике.
В 1990-е годы сформировалась устойчивая модель торговых отношений России с Европой. В экспорте доминируют две группы товаров: энергоносители (преимущественно нефть и газ), а также такие энергоемкие товары, как металлы и химическая продукция.
Российский импорт из Европы включает товары потребления, машиностроительную продукцию, а также такую массовую и дорогостоящую услугу, как туризм. Миграция рабочей силы из России в Европу не столь существенна. Движение капиталов характеризуется вывозом его из России в различных формах и ввозом в форме кредитов и облигационных займов (частично собственно российских средств).
К началу XXI века Россия и Европа оказались более привязаны друг к другу экономически, чем когда-либо в истории. Энергетический экспорт впервые приобрел столь серьезную роль в экономике континента, и в перспективе она будет, скорее всего, возрастать. Одновременно ввиду чрезвычайно высокой доли энергоносителей в экспорте (65 %) возникает новый вид зависимости нашей страны. Посол ЕС в Москве Ричард Райт в целом прав, когда подчеркивает, что у России нет иного выбора, кроме постепенного сближения ее нормативной базы с ЕС. В то же время сближение с Европой не снимает вопроса о приспособлении российского бизнеса к реалиям рынков в Азии и других регионах мира, где роль экспорта продукции обрабатывающей промышленности России заметно выше, чем в Европе.
С российской стороны движение в сторону европейского законодательства во многом объективно задано как собственно рыночными реформами, так и ожидаемым вступлением во Всемирную торговую организацию. Правда, вряд ли стоит рассчитывать на возможность селективно брать от соседей те или иные положения вне системы. Но именно энергетические рынки в наименьшей степени подвержены регулированию в ВТО, что делает сферу энергодиалога более инновационной и двусторонней по своей природе. Ожидаемый рост спроса на энергоносители в Европе в последующие 20 лет предполагает капиталовложения со стороны компаний, которые (независимо от страны принадлежности) должны будут продавать энергоносители внутри ЕС, а добывать их вне его. Чем больше схожи условия инвестиционного климата, тем меньше издержки развития бизнеса, о чем заранее печется Еврокомиссия. Специфика многомиллиардных инвестиций в добычу и доставку больших масс энергоносителей на расстояния, исчисляемые в тысячах километров, требует учета политических факторов, коммерческих рисков, длительности строительства, конкуренции не только между компаниями, но и между странами, чье благосостояние зависит от экспорта энергоресурсов.
Существо диалога с Европой невозможно понять без учета объективных тенденций спроса на различные виды энергоносителей в «тридцатке» будущей большой Европы. Последние четверть века Европа быстро смещается от потребления традиционных видов топлива, прежде всего угля и нефти, к газу и отчасти атомной энергии. Если сравнить с 1973-м, последним годом дешевой нефти, то к 2000-му доля угля упала с 25 % до 14 %, нефти – с 60 % до 42 %, доля природного газа выросла с 10,5 % до 23 %; а атомной энергии – с полутора до 15 % с лишним. (Остальное приходится на гидроэлектроэнергию и прочее.) В 1990-х годах по экологическим причинам, а также в связи с требованиями эффективности резко усиливается тенденция к более интенсивному выводу угля и переходу на газ.
Внутри расширенной Европы только Великобритания, Голландия и Норвегия представляют собой величины сколько-нибудь значимые в энергетике. В Голландии пик добычи газа уже пройден. Великобритания, оставаясь экспортером нефти, станет к 2005 году или чуть позже нетто-потребителем газа. В Норвегии добыча нефти стабилизируется, хотя есть перспективы роста добычи газа.
Прогноз спроса на газ в Европе, млрд м3
| 2000 г. | 2010 г. | 2020 г. | |
| ЕС-15 | 400 | 470–550 | 540–660 |
| Новые страны-члены | 100 | 130–170 | 170–240 |
| ЕС-30 | 500 | 600–720 | 700–900 |
| Добыча в ЕС-30 | 310 | 300 | 250–310 |
| Импорт в ЕС-30 | 190 | 300–420 | 450–590 |
Экспертная оценка – международные источники дают разброс показателей в пределах 10–15 %. Под новыми странами-членами подразумеваются Болгария, Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Чехия, Швейцария, Эстония.
Если в мире потребление газа за последнее десятилетие выросло на 20 %, то в Европе – почти на 40 %. Правда, европейские страны прилагают усилия по развитию собственных возобновляемых ресурсов (энергия ветра, биомасса, солнечная энергия). Однако в обозримой перспективе использование возобновляемых видов энергоносителей не решит энергетические проблемы. Появились теории роста при стабильных, не увеличивающихся объемах энергии. Франция и Германия добились в этом направлении успехов, но темпы их роста оставались низкими, к тому же одновременно приходилось увеличивать долю газа. Так что повышения спроса на российский газ можно ожидать и в условиях стабильного общего потребления энергии.
Решение основных проблем своего энергетического сектора – повышение конкурентоспособности продукции ЕС и минимизация негативного влияния на окружающую среду – Европа видит в увеличении доли газа в энергобалансе. Это подразумевает переход на импортный ресурс: к 2020 году от 60 % до 70 % газоснабжения Европы будет обеспечиваться за счет импорта. И один из его главных источников – импорт из России и СНГ.
Реформы энергетических рынков Eвропы
Европейские рынки электроэнергии и газа переживают реформы, которые сначала назывались дерегулированием, а теперь – либерализацией. До недавнего времени в таких странах, как Франция и Италия, доминировали национальные монополии, защищенные государством. В Германии, где действует строгое антимонопольное законодательство, ключевые позиции занимали несколько крупнейших компаний. Подобная структура газовой отрасли была связана с тем, что ее развитие на протяжении последних 30 лет (активное использование газа в Европе началось в 70-е) происходило при непосредственном участии государства. Газ поступал преимущественно из внешних источников на основании межправительственных соглашений. Мощная инфраструктура доставки и потребления газа создавалась с помощью всевозможных преференций, в результате в данной сфере действовали экономические механизмы, от которых давно отказались в других отраслях.
Дорогие энергоресурсы – один из серьезнейших минусов для конкурентоспособности Европы. Решение этой проблемы пытаются найти на путях сокращения доли посредников, либерализации рынка и пр. Успешная либерализация газового рынка была проведена в Великобритании, но там этот процесс облегчало наличие собственных месторождений и отсутствие столь сложной налоговой системы, как на континенте.
Другой пример – либерализация электроэнергетики ЕС. Ранее каждая страна полагалась на самодостаточность: для Германии основой ее был уголь, для Италии – мазут и так далее. Это противоречило основополагающим принципам Европейского союза (единство рынков, конкуренция в масштабах ЕС и т.п.), и реформы в электроэнергетике в последние годы развивались стремительно. Там, где физически возможны перетоки, страны с избыточным внутренним производством электроэнергии стали экспортировать ее за границу, что привело к падению цен до 50 %. Избыток мощностей электроэнергетики существует сейчас во всей Центральной и Северной Европе. Сложившиеся в результате этого низкие цены (например, в Германии – 2,5 цента за кВт) отражают, видимо, только переменную часть затрат и не способствуют окупаемости новых мощностей. По оценкам, потребность в новых инвестициях в электроэнергетику ЕС может появиться не ранее 2010 года, тогда и цены могут вырасти. Именно поэтому в Европе пока не наблюдается серьезной активности в связи с вопросом о выходе на единый рынок РАО «ЕЭС России». Этот пункт энергодиалога пока в тени, но интерес к нему может повыситься, когда при нынешнем низком уровне инвестиций возникнет угроза нехватки мощностей. Важно, что либерализация электроэнергетического рынка ЕС произошла в условиях избытка мощностей и на базе собственного производства внутри ЕС – в этом существенное отличие от ситуации с газом.
Директивы ЕС, направленные одновременно на либерализацию и создание единого общеевропейского рынка (1996 год – электроэнергетика, 1998-й – газ), запустили процессы, которые на десятилетия вперед будут влиять на условия поставок энергоносителей. В 2002 году было принято решение, что процесс либерализации завершится в 2005-м (а не в 2008-м, как планировалось изначально). За разделением счетов по видам деятельности следует организационное разделение компаний, являющихся одновременно крупными газотранспортными и газосбытовыми, на два самостоятельных типа компаний.
Решение ЕС носило политический характер и предусматривало запуск процесса либерализации, не слишком вдаваясь в такие вопросы, как налоги, поведение поставщиков и др. Логика процесса предусматривала право потребителя на доступ к транспортным мощностям, на заключение и перезаключение любых контрактов. Но, как оказалось, газовый рынок нелегко вписать в подобные схемы. Он никогда не базировался на биржевой торговле, его основу составляют устойчивые долгосрочные связи. Торговля газом (кроме сжиженного природного газа) невозможна без системы крайне дорогостоящих трубопроводов, требует долгосрочных вложений как в трубы, так и в добычу. Переходя от рынка поставщиков к созданию рынка покупателей, Еврокомиссия рассчитывает одновременно решить две проблемы: добиться надежности долгосрочных поставок (с вероятным значительным ростом объемов импорта) и снижения цен на газ для крупных потребителей (химия и энергетика) и населения.
Либерализация газового рынка идет не слишком быстро и с трудом. Если в электроэнергетике производителями являются местные и довольно мощные компании, обладающие реальной конкурентоспособностью на общеевропейском рынке, то в газовой отрасли местные компании не склонны разрушать сложившиеся связи, а поставщики представляют собой внешний по отношению к ЕС фактор. Крупные покупатели и транспортировщики газа поняли, что им больше не гарантирована комфортная ситуация в рамках национальных границ, и стараются закрепиться на новом рынке. Но даже крупнейшие из этих компаний, такие, как Ruhrgas, недостаточно велики, чтобы легко стать общеевропейским игроком. Идет крупная реструктуризация, происходит покупка компаний, имеют место попытки создания альянсов. Рынок реагирует на либерализацию не лобовой конкуренцией и снижением цен, как это бывает в других случаях, а реорганизацией и укрупнением компаний. Для нас важно, что речь идет о начальной стадии длительного динамического процесса, а не о сложившейся системе, к которой можно было бы приспосабливаться. Внешним поставщикам трудно рассчитать саму эффективность крупных долгосрочных вложений в добычу и транспортировку газа, поскольку условия на европейском рынке постоянно меняются.
Готовится вторая газовая директива ЕС. Первая директива была нелегким компромиссом между отдельными странами, что нашло отражение в положении о взаимности (синхронизация степени открытости энергетических рынков страны А и страны Б друг другу). Сейчас это положение является частью внутреннего регулирования ЕС, затем может стать элементом единого экономического пространства (например, для Норвегии), а впоследствии важным элементом энергодиалога между ЕС и Россией.
Примером изменений в позиции ЕС в процессе внутренней трансформации может служить история с Транзитным протоколом к Энергетической хартии, подписанной Россией в 1994 году, но еще не ратифицированной. Комплекс вопросов регулирования транзита сам по себе сложен: положения о наличных мощностях, о тарифах за транзит, о «праве первого отказа» в отношении сторон действующего транзита и т. д. По существу, обсуждалась прозрачность для российского поставщика процедур доставки газа в страны ЕС в рамках долгосрочных контрактов, то есть де-факто «дедушкина оговорка».
Совсем иная ситуация сложилась в отношении вопроса о применимости Транзитного протокола к странам – членам ЕС. Вопрос этот возник достаточно неожиданно осенью 2001-го, когда делегация Евросоюза предложила внести в текст этого протокола конкретное указание о применении его к ЕС как единому образованию. Согласно этой поправке о «региональных экономических объединениях», под определение понятия транзита подпадают только такие случаи перемещения энергоносителей, когда они пересекают территорию ЕС как целое. Тем самым ЕС снимает с себя связанные с транзитом обязательства в отношении внешних поставщиков, поскольку движение газа должно будет регулироваться внутренними законами ЕС, а не международным договором. Такое понимание транзита означает, что в отношении экспорта газа из России оно будет применяться в считанном числе случаев – например, транзит через страны ЕС в Швейцарию. С учетом расширения ЕС в 2004 году в данном случае для экспортируемых российских энергоносителей сфера применимости положений Транзитного протокола практически сводится к транзиту через Белоруссию, Молдавию и Украину, а эти вопросы могут решаться и на двусторонней основе. В то же время вопросы транзита энергоносителей через Россию из третьих стран стали бы покрываться этим протоколом в полной мере, что сделало бы его международным договором о транзите через территорию России.
Попытки поставщиков сохранить долгосрочные газовые контракты и ясность своих перспектив вполне сродни желаниям западных инвесторов найти в России устойчивый инвестиционный климат, получить «дедушкину оговорку» по крупным контрактам или заключить контракт на условиях раздела продукции. Трудные переговоры о содержании будущего режима торговли газом в ЕС шли несколько лет. За это время со скрипом, но все-таки во «Втором обобщающем докладе» Христенко и Ламуре была подтверждена важность долгосрочности контрактов: «Комиссия ясно понимает незаменимость долгосрочных контрактов на условии “бери или плати”». (Неясно, является ли это окончательной позицией Еврокомиссии, – антимонопольный директорат имеет особое мнение.)
Важное отличие газового рынка от нефтяного – это очень высокая доля транспортных издержек. Прежний баланс интересов между поставщиками и потребителями базировался на том, что производитель газа имел гарантированный многолетний сбыт и мог рассчитывать на окупаемость инвестиций. Ценовой риск у поставщика оставался, поскольку газовые цены привязаны к нефтяной корзине, что не позволяет давать четких прогнозов. Но зато поставщику не приходилось думать о розничном сбыте. Теперь газотранспортные компании ожидает трудный период адаптации, сократится число посредников.
В будущем российские поставщики смогут вести конкурентную борьбу за конечного потребителя, но риск увеличивается. Это потребует высокой эффективности управления и проработки нового подхода, доступа к местной инфраструктуре. В принципе поставщики могут и остаться в выигрыше, но твердо предсказать это невозможно. Уход от долгосрочных контрактов, переход на биржевую торговлю, на краткосрочные сделки являются одной из основных целей либерализации. И хотя политически существование долгосрочных контрактов пока подтверждено в ходе энергодиалога, в будущем определение цены на основе краткосрочных сделок – как спотовый рынок на нефтяном рынке – может переложить риски на производителя. В этом случае газотранспортная компания берет свой тариф, а разница между спотовой ценой и тарифом окажется выручкой производителя газа. Последняя может колебаться столь же заметно, как и цена нефти. Если это цель либерализации ЕС, то для обеспечения такого рынка желателен избыток газа на основных региональных рынках. Цена поставки газа в Германию (115 дол.) при высокой цене на нефть (23 дол. за баррель) гарантирует достаточно высокую прибыль. Но в случае 16 дол. за баррель нефти цена газа опускается до 80 дол., что за вычетом стоимости доставки дает 10—15 долларов. На месторождении многие новые проекты этой цены уже не выдержат. Высокие риски поставщиков с учетом коммерческого риска неизбежно отражаются на желании инвестировать.
В настоящий момент определяется будущее инвестиций в снабжение развитых или быстро развивающихся стран с большой потребностью не столько в нефти, сколько именно в природном газе. Европейское пространство – попытка объединения ради повышения конкурентоспособности континента в соперничестве с Юго-Восточной Азией (включая Китай) и НАФТА. Либеральный рынок, конкуренция среди его участников – это принятые в Европе принципы. Однако высокая цена газа для конечных потребителей в Европе – результат не столько дорогого импорта, сколько внутриевропейской системы перераспределения и высокого налогообложения.
Газ, поставляемый в центр Европы примерно по 100 дол. за тысячу кубометров, доходит по цепочке до конечного потребителя по цене 120–150 для крупных и 300–350 дол. для отдаленных и мелких потребителей. Разница между ценой поставки энергетического сырья и конечными ценами для потребителей обусловлена налоговой и социальной политикой. За счет налогов на энергоносители частично решаются социальные задачи или поддерживаются капиталовложения в энергетику следующего поколения, хотя несбалансированность налоговых систем разных стран ЕС является очевидным препятствием для торговли энергоресурсами. В каком-то смысле за счет полученных прибылей и налогов осуществляется модернизация Европы. Этому надо учиться, и это надо использовать в целях собственного развития, сделать предметом энергодиалога.
Защита экономических интересов Европы должна превратиться во взвешенную и надежную защиту интересов всех участников единого экономического пространства, если уж Россия решает к нему присоединиться. Скорость внутренних изменений в ЕС растет, и требуется все более глубокий анализ ожидаемых последствий этих изменений для России и ее компаний, чтобы четко представлять себе состояние нашего основного рынка сбыта на следующее поколение.
Российские интересы и перспективы
Формулирование целей российской энергетической политики в Европе, масштабы нашего участия в снабжении ЕС, ограничения и риски в этом процессе, использование доходов от экспорта для развития страны – на все эти принципиальные вопросы четкие ответы еще не получены. Вряд ли кто-то в России сомневается в том, что цель торговли энергоресурсами – не максимизация объема экспорта того или иного отдельного энергоносителя, а получение и реинвестирование стабильных доходов в долгосрочном плане (на 20–30 лет). Изначально позиция России была проста: как часть Европы, Российская Федерация несет определенную долю ответственности за энергетическую безопасность континента. Поэтому она вступила в энергодиалог с ЕС и готова рассматривать возможности увеличения поставок энергии при определенных условиях:
* дополнительные поставки электроэнергии сопровождаются инвестициями и передачей России технологий;
* особое внимание уделяется технологиям сбережения энергии, которое рассматривается как самостоятельный источник расширения поставок;
* свобода транзита всех наших энергоносителей в ЕС-15 через Восточную Европу (которая сейчас растворяется в ЕС);
* расширение поставок энергии охватывает не только первичные энергоносители, но и электроэнергию (в том числе с АЭС), ядерное топливо, энергоемкие товары (удобрения, металлы), нефтепродукты и так далее.
В области нефти и угля значительное число частных российских компаний конкурируют на европейском рынке, стремясь закрепиться в Восточной Европе перед ее вхождением в ЕС. Доля бывшего СССР в европейском импорте нефти составляет примерно 37 %. С учетом проектов по выходу российской нефти на рынки США и Китая эта доля будет расти, скорее всего, за счет экспорта казахстанского сырья. Российские компании, видимо, будут увеличивать поставки нефтепродуктов, хотя не обязательно с российских НПЗ. В этом смысле врастание российского бизнеса в ЕЭП идет полным ходом.
В области электроэнергии Россия заинтересована в создании мостов в Европу для повышения устойчивости систем энергоснабжения, возможности маневрировать ресурсами в течение дня, обеспечивать выход вероятного (вследствие реформы электроэнергетики) избытка мощностей на рынки Европы. Программа строительства АЭС в России может иметь и экспортную составляющую. Ситуация по ядерному топливу – отдельная проблема, потому что в данном случае все соответствующие закупки лицензируются и тем самым искусственно сдерживается доля российского экспорта, хотя это и нарушает статью 22-ю СПС. Рано или поздно российская сторона должна будет сформулировать свои приоритеты в отношении всех видов и форм поставок на экспорт.
Внутренние интересы России по тарифам на электроэнергию и газ состоят в том, чтобы избежать серьезного конфликта между экспортерами металлов и удобрений, с одной стороны, экспортерами чистой энергии – с другой, и бюджетом – с третьей. Современная система ценообразования в газовой отрасли построена на том, что вся наша газовая инфраструктура была создана в 1970–80-е годы за счет государства и в ущерб другим социальным факторам. Чтобы создать экспортную отрасль, деньги «изымались» из других отраслей и из сферы потребления населения. Советский Союз ежегодно вкладывал в газовую промышленность порядка 10–12 млрд дол. Кажущаяся дешевизна тарифов сегодня – это игнорирование стоимости строительства тогдашней инфраструктуры. Условно можно сказать, что дешевый газ внутри страны есть не только результат наших естественных преимуществ (богатые ресурсы), но и «подарок» от жителей СССР: все построено на их скрытые сбережения.
Недавно Еврокомиссия выдвинула определенные требования именно в этой области по переговорам о вступлении в ВТО. Позиция ЕС выражена комиссаром по торговле Паскалем Лами: «Ключевым вопросом для ЕС является вопрос двойного ценообразования на энергопродукты. Стоимость энергии в России искусственно занижена. Стоимость природного газа составляет лишь одну шестую мировой цены. В результате низкие цены приводят к ежегодному субсидированию российской промышленности в размере около $5 млрд. Производители могут экспортировать свои товары по неоправданно низким ценам. Этот вопрос слишком важен для ЕС, чтобы игнорировать его» (цитируется по газете «Коммерсант»).
В Евросоюзе, судя по всему, хотят, чтобы российские энергонасыщенные товары стоили дороже. В печать просачивались неофициальные сведения, что целью переговоров со стороны ЕС является цена 45–60 дол. за тысячу кубометров для российской промышленности. В результате наши энергетики получили бы больше доходов для вложения в экспортные проекты, а конкуренция для европейской металлургической и химической промышленности снизилась бы.
Резкое повышение тарифов на газ стало бы в России, во-первых, разовым ценовым шоком внутри экономики, для которой крайне важно в ближайшие годы сократить уровень инфляции. Во-вторых, здесь не учитывается эффект кросс-субсидирования промышленностью российского частного потребителя в условиях колоссального социального неравенства. Заметим, что различие между уровнем ВВП на душу населения в ЕС и России (21 тысяча дол. к 2,5 тысячи по текущим курсам) слишком велико, чтобы его можно было бы игнорировать в контексте европейского экономического пространства. Наконец, для России важны процессы либерализации внутреннего рынка газа и электроэнергии, которые приведут к естественному росту тарифов, возможно, до уровня в 40 дол. против сегодняшней цифры в 21 дол., названной в неопубликованном докладе Всемирного банка по этому вопросу (приводится по The Financial Times).
Российская позиция состоит в том, что низкие внутренние цены на энергию – естественное преимущество богатой ресурсами страны. Иными словами, население, которое десятилетиями инвестировало (через плановую систему) в развитие энергетики, имеет право на более низкие энергетические цены. Россия сегодня в основном добывает еще «старый советский» газ, но замещает его частично «новым российским». Растет потребность в ремонте трубопроводов, а с 2010 года нужно будет осуществлять масштабные проекты – освоение новых регионов и строительство транспортных систем. Повторить вложения в советских масштабах при нынешних ценах (не только низких внутренних, но и экспортных, скажем, 100 дол.) сложно, поскольку значительная часть новых ресурсов газа пойдет на замещения выбытия, а не на прирост объемов.
Для долгосрочного планирования нужны ответы на целый ряд политических вопросов. Важно знать: как будет работать консорциум на Украине и сможет ли он обновить трубы в разумные сроки? Тянуть ли балтийскую трубу в обход всех стран, что приведет к росту начальной стоимости проекта, но позволит сократить территориальные тарифы? Получат ли в процессе реформы газовой отрасли нефтяные и другие компании приемлемые финансовые условия для добычи газа внутри России? Опыт США, например, подсказывает, что для рационального долгосрочного использования энергоресурсов целесообразно осваивать малые и средние месторождения. Новый газ нефтяных компаний или небольших месторождений, разрабатываемых независимыми компаниями, в будущем мог бы помочь упорядочить газовый баланс страны и разгрузить экспортные направления. Этой же цели объективно служит и программа строительства АЭС, которая снижает будущий спрос на газ в европейской части России.
Отдельной проблемой является вопрос о том, какую долю внутреннего потребления газа ЕС готов допустить из одного источника. Официально ограничений нет, но на уровне рекомендаций говорится о 30 %, особенно в связи с большой зависимостью от российского газа будущих членов ЕС. В Большую Европу Россия поставляет сейчас 36 % газа (31 % приходится на Великобританию, 16 % на Норвегию, далее по убывающей идут Алжир, Нидерланды, Нигерия), причем внутренняя добыча ЕС, скорее всего, не превысит в обозримом будущем 300 млрд кубометров. В целях сохранения своей доли (порядка 30 %) на расширяющемся европейском рынке требуется увеличение поставок с 130 млрд куб. м до 200–210 в 2010 году. Это означает необходимость строительства примерно трех ниток трубопроводов (по 30 млрд куб. м в год каждая) и расширение добычи до уровня обеспечения таких поставок плюс учет постепенного оживления спроса в России и СНГ. В этом случае остается неясной возможность одновременного выхода на другие экспортные рынки.
Трудным вопросом остается и соотношение между поставками собственных энергоресурсов и транзитом «чужих» в Европу. Россия, конечно, будет обеспечивать пропуск энергоресурсов через свою территорию. С точки зрения обслуживания старого «советского» капитала, вложенного в трубопроводный транспорт, при различных моделях ценообразования тарифы должны бы включать стоимость его обновления.
Учитывая будущую ситуацию в ЕС-30, Еврокомиссия пытается создать в перспективе «рынок покупателя» (то есть избыток предложения) газа в ЕС путем вывода на рынок максимальных объемов сырья из отдаленных регионов: Ирана, Катара, Нигерии, Центральной Азии. При этом создать избыток могут только сами страны или компании-поставщики, если они пойдут на «опережающие» долгосрочные инвестиции в расчете на быстро растущий европейский рынок. Альтернативой для поставщиков является переход на производство сжиженного газа, что позволит экспортировать его на весь мировой рынок, как это сложилось постепенно в нефтяной промышленности. Правда, стоимость доставки пока высока, а первоначальные вложения в строительство заводов и причалов сравнимы по стоимости с новыми газопроводами. Поскольку речь идет об огромных затратах, цена ошибки в прогнозе для инвесторов здесь поистине колоссальна.
Российский энергетический экспорт в Европу пока не имеет альтернативы для обеих сторон. Необходимо определиться с экспортными приоритетами, маршрутами, стоимостью и источниками финансирования проектов. До сих пор публично не проводилось сколько-нибудь детальной проработки схем и источников крупных европейских инвестиций в экономику России. При этом нужно четко понимать, что ответственные решения по стратегии сотрудничества придется принимать, не дожидаясь, пока российская правовая среда «дорастет» до европейских стандартов. Либо поставщики, желающие расширять экспорт, инвестируют сами и несут все риски, выбирая, на какой рынок им ориентироваться. Либо европейцы инвестируют свои средства, получив гарантии того, что добываемое сырье будет поступать именно в ЕС. Чем выше неопределенность с будущими условиями продаж в Европе, тем сложнее мобилизовать для таких проектов финансовые ресурсы.
Обязанности, которые накладывает на Россию участие в общем экономическом пространстве, должны дополняться правами. Например, инфраструктурные гранты ЕС на развитие бедных районов могли бы быть частью совместного финансирования в развитие России там, где вложения в добычу энергоресурсов затрагивают экологию и условия жизни местного населения.
Мы исходим из того, что в ближайшее десятилетие ЕС и Россия будут двигаться к формированию общего экономического пространства, предусматривающего более глубокую интеграцию. Но они сохранят различия, взаимно дополняя друг друга именно на энергетическом рынке. Россия имеет полное моральное право больше знать о будущем газового рынка в Европе, поскольку всегда, даже в условиях тяжелого кризиса 1990-х годов, оставалась абсолютно надежным партнером по устойчивому снабжению континента энергией.
Решение вопроса об инвестициях в добычу и экспорт энергоресурсов возвращает нас к целям Энергетической стратегии России в целом. В большинстве стран при выработке долгосрочной стратегии необходимо учитывать меньшее количество факторов. Это одна, максимум две энергетические отрасли, обрабатывающая промышленность (цена на энергоносители), интересы населения (тарифы) и государства (налоги). В России же полноценных энергетических отраслей сразу четыре (электричество, нефть, газ, уголь), их интересы где-то совпадают, а где-то конфликтуют, причем формы собственности на компании разных секторов различны.
Речь идет о существенных для населения вопросах, поэтому России жизненно необходима долгосрочная энергетическая политика, стратегия собственного развития, увязанная с ее внешнеэкономическими аспектами, а значит, и с энергодиалогом Россия – ЕС. В конечном итоге государство, озабоченное модернизацией экономики России в целом, будет интересовать не физический объем экспорта и даже не его стоимостной объем, а реинвестируемые в развитие российской экономики доходы от экспорта.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

























