Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
Иран расширит торговые связи с Малайзией
Руководитель Центра стратегических исследований Совета по целесообразности Ирана Али-Акбар Велаяти, в четверг, призвал к расширению экономических отношений и сотрудничества между Тегераном Куала-Лумпуром, поскольку обе страны имеют избыток мощности для достижения этих целей.
Велаяти заявил об этом на встрече с премьер - министром Малайзии Наджибом Разаком в Путраджайе в четверг, как сообщает IRNA.
"Иран и Малайзия, в качестве двух влиятельных стран Азии, любят консолидированные и прочные отношения, которые они должны использовать для расширения, диверсификации и продвижения, сказал Велаяти.
«Газпром нефть» начала эксплуатацию десятой скважины на месторождении Бадра в Ираке
Дебит запущенной скважины — 6527 баррелей в сутки, после ее запуска объем добычи нефти на месторождении увеличился до 67 тыс. баррелей в сутки. Наряду с другими скважинами Р-07 эксплуатируется фонтанным способом.
Ранее в 2016 году на месторождении Бадра были введены в эксплуатацию три скважины, общим дебитом 24 тысячи баррелей в сутки. В настоящее время продолжается бурение четырех скважин Р-10, BD-2, P-14, P-19, завершение строительства которых ожидается в начале 2017 года.
«Газпром нефть» продолжает строительство нефтяной и газовой инфраструктуры на месторождении Бадра. В частности, строительно-монтажные работы по возведению первой линии подготовки попутного нефтяного газа газового завода завершены на 60%.
На Центральном пункте подготовки нефти месторождения в июне построена третья технологическая линия, что позволило увеличить потенциальную мощность установки подготовки нефти до заложенного в проекте уровня 115 тысяч баррелей в сутки.
По состоянию на вторую декаду июля общая накопленная добыча с начала разработки месторождения Бадра составила 2,9 млн тонн нефти, с начала года — 1,2 млн тонн нефти.
Месторождение Бадра находится в провинции Вассит на востоке Ирака. Геологические запасы Бадры оцениваются в 3 млрд баррелей нефти. Проект разработки рассчитан на 20 лет с возможным продлением на пять лет. Контракт с правительством Ирака подписан в январе 2010 года консорциумом в составе «Газпром нефти» (в статусе оператора), Kogas (Корея), Petronas (Малайзия), ТРАО (Турция). Доля участия «Газпром нефти» в проекте составляет 30%, Kogas — 22,5%, Petronas — 15%, ТРАО — 7,5%. Доля иракского правительства, которое представлено иракской Геологоразведочной компанией (Oil Exploration Company, OEC), — 25%.
Пальмовое масло не пользуется активным спросом
Производство пальмового масла в странах топ производителях восстанавливается после засушливых погодных условий, спровоцированных климатическим явлением Эль-Ниньо. В начале текущего года погодный фактор обеспечивал стабильный рост экспортных цен малазийского пальмового масла, достигших своего пика в апреле – 720 долл./тонну.
Однако сейчас высокие запасы пальмового масла у производителей, а также у основных импортеров (Индия, Китай), скупивших его значительный объем еще до перехода Эль-Ниньо в активную стадию, оказывают давление на цены, пишет сайт Agrimoney.
С начала июня цена потеряла в среднем 15%, при этом дополнительное давление оказал виток снижения на рынке сои, наряду с более существенным восстановлением производства пальмового масла в Малайзии и Индонезии, чем ожидалось ранее. При этом спрос у импортеров на масла производителей оставался на невысоком уровне.
В июне производство пальмового масла, как в Малайзии, так и в Индонезии, выросло в среднем на 12% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом экспортные отгрузки снизились за этот период до своего минимума с 2008г. – в Малайзии на 12%, в Индонезии на 16% по сравнению с майскими объемами.
Кроме того, правительство Малайзии продолжает медлить с принятием новых стандартов содержания пальмового масла в производстве биотоплива, которое могло бы увеличить его ежемесячное потребление и оказать некоторую поддержку ценам.
Крит является одним из 10 лучших мест мира, где стоит поселиться на пенсии, согласно исследованию Live and Invest Overseas Index в 2016 году.
Топ-10 был сформирован с учётом 12-ти категорий: климата, стоимости жизни, языка, организации досуга, условий окружающей среды, диаспоры, медицинского обслуживания, инфраструктуры, недвижимости, жилищных условий, безопасности и налогового режима.
Что касается греческого острова, жители Крита известны своим долголетием благодаря образу жизни и критскому питанию. Несмотря на непростую ситуацию в экономике Греции, стоимость жизни на острове гораздо ниже, чем в других регионах мира.
Кроме Крита, в десятку вошли Алгарве (Португалия), Валлетта (Мальта), Пуэрто-Вальярта (Мексика), Кайо (Белиз), Любляна (Словения), Кота-Кинабалу (Малайзия), Плайя-дель-Кармен (Мексика), Лас-Терренас (Доминиканская Республика) и Амбра Caye (Белиз).
Угроза с моря
Юрий Тавровский
Международный трибунал, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге по иску правительства Филиппин, 12 июля постановил, что КНР "не имеет исторического права" на спорные территории в Южно-Китайском море…
Этому территориальному спору — уже много веков, поскольку эти места всегда использовались для отдыха моряков. Здесь проходил знаменитый морской Шёлковый путь. Но это глубокая история, когда Китай был мощным государством, чьи корабли господствовали в южных морях Мирового океана. С середины XVIII века наступил период ослабления Китая, который длился до разгрома японцев во Второй мировой и до победы коммунистов в гражданской войне.
Еще в 1948 году, то есть до победы коммунистов в гражданской войне и провозглашения КНР, гоминьдановское правительство провело на карте Южно-Китайского моря так называемую "девятипунктирную линию", которой были обозначены желаемые границы Китая на этом направлении. Но всерьёз о них вспомнили только после 2009 года, когда в Вашингтоне обеспокоились экономическим возвышением Китая и возможностью его "конвертации" в военно-политическую плоскость. Тогда Обамой была провозглашена стратегия сдерживания Пекина под названием "Поворота к Азии", американцы стали перебрасывать свои военные корабли и самолёты в этот район, разжигать территориальные споры с КНР. Одним из традиционных ещё со времён американо-испанской войны 1908 года союзников США в Юго-Восточной Азии являются Филиппины. Это государство в 2013 году подало свою заявку в арбитраж, которая, как все и ожидали, после долгой процедуры рассмотрения была удовлетворена. Де-факто всем участникам спора, а не только Китаю или Филиппинам, что-то да принадлежало: Тайвань контролирует один большой остров, Филиппины — несколько мелких островов, есть острова у Вьетнама, Малайзии. Пока Китай был слаб, эти острова занимали все, кому не лень, даже Кувейт.
Конечно, свою роль играют и запасы углеводородов, и рыбные ресурсы. Но для главных сторон конфликта — а это, безусловно, США и КНР — самым важным является стратегическое значение спорных островов, которые на многие сотни километров удалены от китайского побережья. И если их выстроить "в цепочку", то получится морская "великая стена", которая отделит Китай от цепочки островов, которую контролируют США восточнее: это Маршалловы острова, Марианские и ряд других. То есть китайцы строят выдвинутый рубеж своей стратегической обороны. При этом, конечно, задевая интересы других государств и понимая, что следствием такой политики будут конфликты с ними, в которые неизбежно вмешаются США. Но Пекину жизненно важно защитить своё побережье от "угрозы с моря", где США сосредотачивают две трети своего военного флота и 60% авиации, перенося центр тяжести своей геостратегии в азиатско-тихоокеанский регион, где цель №1 — это Китай, а цель №2 — Россия, наши дальневосточные, сибирские районы. Обама не случайно хотел прекратить и иракскую войну, и противостояние с Ираном — именно для того, чтобы перебросить силы на "линию главного фронта".
Но, конечно, чтобы использовать силу против Китая или даже угрожать возможностью такого использования, было необходимо хоть какое-то правовое и формально "международное" обоснование. Решение гаагского арбитража такое основание американцам дало, и Вашингтон с Пекином по этому поводу уже обменялись весьма жётскими заявлениями. Дело идёт, конечно, не к "большой" китайско-американской войне, но ведь любой "управляемый конфликт", где в качестве "пушечного мяса" будут задействованы Филиппины, Вьетнам или Малайзия, за которыми будут стоять Штаты, может в такую войну перерасти
У США нет ни одного квадратного сантиметра земли в Южно-Китайском море, а, согласно достигнутой в 2002 году между КНР и АСЕАН договорённости, третьи страны вообще не имеют в регионе права голоса, и любые споры должны решаться преимущественно на двусторонней основе. Поэтому привлечение к данной проблеме гаагского арбитража нарушает ранее достигнутые договорённости. Поэтому в Пекине и говорят, что готовы сесть с филиппинцами и вьетнамцами за стол переговоров, как это уже неоднократно происходило. С вьетнамцами, например, договорились о том, что китайские буровые вышки будут передвинуты за пределы спорных вод. С Филиппинами была достигнута предварительная договорённость, что те не будут никуда жаловаться, но потом из Вашигтона поднажали — и Филиппины подали заявку в Гаагу. Причём заявку подавал в 2013 году президент Акино, который недавно потерпел поражение на выборах, новый президент Дутерте говорит: ребята, не шумите, мы с китайцами будем договариваться сами. Но в США отвечают: "Поздно, всё уже оплачено" — и, конечно, могут заставить филиппинцев пойти на шаги, которые, по большому счёту, противоречат их национальным интересам.
Иран продемонстрирует достижения фармацевтики во Вьетнаме
Иран впервые примет участие в 16-ой Международной выставке медицины, больниц и фармацевтики "Medipharm Expo", которая пройдет во вьетнамском городе Хошимин 11-13 августа этого года.
Выставка "Medipharm Expo" - это крупнейшее событие в области фармацевтической продукции и медицинского оборудования в Юго-Восточной Азии.
Согласно информации, размещенной на сайте выставки, 280 предприятий с 350 стендами заявили о своем участии в мероприятии, в том числе гигантские корпорации и ведущие мировые производители из таких стран, как США, Франция, Германия, Италия, Япония, Пакистан, Украина, Белоруссия, Египет, Индия, Венгрия, Казахстан, Иран, Сингапур, Корея, Тайвань, Таиланд и Китай.
Изюминкой выставки будут стенды Ирана, Казахстана, Японии, Кореи, Малайзии, Китая, Тайваня, Индии, Пакистана и Вьетнама.
Иран будет иметь свой первый опыт работы на выставке, и представит свои фармацевтические продукты с целью выйти на вьетнамский и региональный рынок.
Во время визита бывшего президента Вьетнама Чыонг Тан Шанга в Иран в марте 2016 года, обе страны договорились содействовать увеличению объема двусторонних торговых сделок до $ 2 млрд. в течение пяти лет.
Иран стремится экспортировать фармацевтической продукции на сумму почти 1,5 млрд. долларов до 2025 года, в рамках своего 20-летнего Плана развития.
В 2015 г. экспорт вьетнамской лесопромышленной продукции в Великобританию достиг $270 млн
Выход Великобритании из Европейского союза может оказать негативное влияние на вьетнамских экспортеров древесины и изделий из нее, сообщает издание VnExpress International.
По оценкам экспертов, активность на рынке жилищного строительства в Великобритании снизится, что приведет к падению потребления изделий из древесины (в первую очередь — импортных) и окажет прямое воздействие на лесопромышленный сектор Вьетнама. Экспортные цены могут упасть на 5-7%.
Вьетнам, Малайзия и Индонезия играют заметную роль на британском рынке продукции деревообработки. Стоимость поставок из Вьетнама в 2015 г. достигла $270 млн (для сравнения: в 2012-м — $181 млн). Однако, по оценкам специалистов, в ближайшие годы снижение может составить до $50 млн.
Пекин принял американский вызов в Южно-Китайском море
Елена ПУСТОВОЙТОВА
Оставшееся почти незамеченным в средствах массой информации «окончательное решение» третейского суда в Гааге по спору в Южно-Китайском море очень скоро будут считать началом холодной войны США и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Созывая в 1899 году все государства Европы, Азии и Северной Америки на первую в мировой истории мирную конференцию в Гаагу – мелкий городишко с населением в 100 тысяч человек, российский император Николай II видел, что в Европе дело идёт к войне. На призыв самого могущественного монарха Европы собрались представители 26 государств от США до Сиама: Османская империя, Германия, Австро-Венгрия, Италия, Франция, Испания, Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Швейцария, Швеция, Дания, Болгария, Сербия, Черногория, Греция, Португалия, Лихтенштейн, Люксембург, Япония, Китай, Персия, Мексика...
И тогда в Гааге договорились мирно преодолевать международные противоречия, а уж коли разгорится война – вести её гуманно, «по закону и обычаям». А ещё договорились не метать снаряды и взрывчатые вещества с воздушных шаров, не применять снаряды с отравляющими веществами, не использовать пули, изменяющие направление в теле человека. Тогда же, на волне дипломатической борьбы за всеобщий мир, инициатором которой стала Российская империя, был создан в Гааге и Международный третейский суд для решения споров между государствами…
Всё оказалось напрасно. Первая мировая разразилась уже через 15 лет, а постоянная палата Международного третейского суда (ППТС) - старейшая организация для разрешения международных споров – очень быстро превратилась в служанку Соединённых Штатов.
Сегодня ППТС не является отправляющим правосудие органом. Это лишь список лиц, из которых стороны спора в каждом случае выбирают арбитров, учреждая таким образом суд. Если быть точным, постоянная палата Международного третейского суда судом в прямом значении этого слова не является.
Что и заявил Пекин в ответ на «окончательное решение», принятое по обращению в ППТС Филиппин и утверждающее, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море в пределах «линии девяти пунктиров».
Филиппины обратились в Международный третейский суд ещё три года назад. Обратились в одностороннем порядке и после долгих консультаций с Вашингтоном. Поэтому Пекин с самого начала отказался принимать участие в разбирательстве - судей он не выбирал, да и сам «территориальный спор» в Южно-Китайском море считает политическим заказом США.
Издание Diplomacy and Defence, предвидя решение третейского суда, опубликовало аналитическую статью, в которой прямо указывается на то, что Филиппины действуют в данном вопросе по указке Госдепа США в момент, когда отношения между Пекином и Вашингтоном всё более обостряются. Исследователь из Китайского центра по изучению современного мира Чжао Мингао пишет: «Пекин и Вашингтон должны создать новый механизм для контролирования рисков… чтобы не навредить остальному миру». Чтобы не превратить глубокие различия между двумя странами в повод для конфронтации. Несколько дней назад на очередном заседании Стратегического и экономического диалога между Китаем и США (SED), ежегодно проходящем в Пекине, председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что обе стороны должны тщательно избегать конфликтов.
Однако сам диалог в очередной раз стал местом предъявления счетов. США требуют от Китая уменьшить производство стали, которая конкурирует с американской. Требуют соблюдать право на интеллектуальную собственность (самый прибыльный товар из США). Американский министр финансов добавил к стали ещё и алюминий, производимый в Поднебесной. Американские «короткие деньги» рвутся на китайский рынок, а Пекин говорит им «нет», закрывая для американских инвестиций целые отрасли производства. Экономическая война разрастается, интересы сторон не совпадают, в чём-то они диаметрально противоположны, а нового Николая II с его империей на горизонте нет.
А тут ещё и Южно-Китайское море, которое американцы не хотят считать китайским…
Джон Керри призывал на заседании SED не решать проблемы в одностороннем порядке. Так ведь Пекин был бы не против, если бы в Вашингтоне учитывали двухтысячелетнее присутствие китайцев на спорных островах, если бы американская дипломатия признавала Международное морское право с его территориальными водами – 370 морских миль плюс шельф, если бы адмирал Гарри Харрис с 3-м, 5-м и 7-м флотами не советовал Пекину «уменьшить в Южно-Китайском море свою активность».
Сразу же после вынесения решения в Гааге глава Пентагона Эштон Картер обсудил с министром обороны Филиппин Делфин Лорензану новые обстоятельства. Стало понятно, почему всего пару месяцев назад министры обороны обеих стран встречались на американском авианосце «Джон Стеннис» в Южно-Китайском море. Ни в Вашингтоне, ни в Маниле не скрывают, что второй за полгода визит Картера на авианосец – предупреждение Китаю.
Итак, Китай остаётся с Соединёнными Штатами один на один. Но готов ли он позволить Вашингтону командовать в собственных территориальных водах?
Похоже, не готов. Территориальный суверенитет, а также права и интересы Китая в Южно-Китайском море ни при каких обстоятельствах не должны быть подвержены влиянию решения арбитража, инициированного по просьбе Филиппин, заявил 12 июня председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, участвовавшими в саммите Евросоюз – Китай.
А это значит, что Пекин принял американский вызов.
Декан Института финансов Реньминьского университета Китая Ванг Вен опубликовал в издании Diplomacy and Defence статью, в которой разоблачает «десять мифов», распространяемых западными СМИ. Южно-Китайское море, спорщиками за острова в котором выступают Вьетнам, Малайзия, Бруней, Филиппины и Тайвань, было морем мира и спокойствия, пока там не появились «стратегические интересы США». И не Китай нарушил международное право (это миф), а Филиппины нарушили Декларацию о правилах поведения сторон в Южно-Китайском море (статья 4), подписанную всеми странами этого региона и предполагающую решение споров между спорящими на основах дружелюбия и консультаций.
Миф номер два гласит, что «линия девяти пунктиров», начертанная Пекином еще в 1948 году, противоречит морскому праву. Однако эта линия не регулируется Международным морским правом, её начертание опирается на исторические права Китая на освоенные китайцами территории, в том числе и островные. Линия была установлена по итогам Второй мировой войны, вернувшей Китаю территориальный суверенитет в бассейне Южно-Китайского моря. При этом Китай не претендует на всё море целиком – это тоже один миф, созданный американскими пропагандистами.
А ещё, утверждает китайский автор, есть мифы о том, что китайцы препятствуют свободной навигации, готовятся изменить «статус-кво» моря, усиливают своё военное присутствие и так далее. Мифов много, а причина их появления одна: Америка, нашпиговавшая этой район мира военными базами и авианосцами, никак не хочет потесниться в чужом доме.

Возможна ли корейская война?
Илья Топчий
Независимый эксперт
Корейский полуостров сегодня — одно из самых милитаризированных мест на планете. Здесь пересекаются интересы не только обоих корейских государств, но и таких крупных держав, как США, КНР и Россия. Силы, которые могут быть задействованы в возможном конфликте на довольно ограниченном пространстве со сложным рельефом, поистине впечатляют.
Однако перспективы крупного военного столкновения сомнительны — шансы на легкую победу у каждой из сторон слишком малы. Но в случае возникновения такого противостояния, каков будет вероятный итог второй корейской войны — стремительный блицкриг или позиционная бойня?
Как перед грозой
В начале третьей декады февраля 2016 г. несколько западных периодических изданий анонсировали очередные плановые учения на Корейском полуострове, которые продолжались с 7 марта по 30 апреля. В рамках совместных учений под кодовыми названиями «Key Resolve» и «Foal Eagle» предполагалось задействовать 290 тыс. южнокорейских и около 15 тыс. американских солдат (США разместили дополнительные бригаду морской пехоты и авиационную бригаду), а также авианосную ударную группу во главе с авианосцем «Стеннис» и атомную подлодку «Северная Каролина».
Цель учений — традиционная тренировка взаимодействия южнокорейских и американских войск на случай угрозы войны с КНДР, а также отработка тактических приемов и технических новинок.
Следует отметить, что учения носят плановый характер, т.е. устраиваются ежегодно в период с февраля по апрель (с 2002 г., ранее проводились в октябре–ноябре). При этом мобилизационные мероприятия в Республике Корея не проводятся, крупные подкрепления из США не перебрасываются. Например, бригада морской пехоты — это преимущественно 2100 штыков 31-го экспедиционного батальона с Окинавы.
Тем не менее сразу началось нагнетание истерии вокруг «крупнейших учений данного класса», «первого участия авианосца в учениях» и возможной второй корейской войны. Инициаторами выступили западные СМИ, которых поддержали отечественные средства массовой информации.
На самом деле эти утверждения не соответствовали действительности. В самых крупных учениях «Foal Eagle», проводившихся с 25 октября по 3 ноября 2000 г., участвовали 500 тыс. южнокорейских и 30 тыс. американских военнослужащих. Авианосные группы привлекались в 2005, 2006, 2008 и 2011 гг.
Война на Корейском полуострове формально не прекращалась с 1950 г. 27 июля 1953 г. было заключено только перемирие. Мирного договора между двумя Кореями до сих пор не существует, и они юридически по-прежнему находятся в состоянии войны.
Такая ситуация типична для возникновения конфликтов. Подобные учения часто носят провокационный характер. Провокацией может служить, например, перемещение крупных военно-морских сил в спорных районах или территориальных водах КНДР с отработкой высадки десанта или проведением учебных стрельб. В 2010 г. обстрелу северокорейской артиллерией острова Енпхендо предшествовали подстрекательские стрельбы в районе так называемой северной разграничительной линии, не признанной Пхеньяном.
Риторика аналогична. Сеул и Вашингтон утверждают, что учения призваны отразить возможное вторжение северян, а КНДР, в свою очередь, обещает море огня захватчикам, превентивный ядерный удар и сыплет оскорблениями в адрес Пак Кын Хе, президента Республики Корея.
Но насколько вероятна большая горячая война сегодня? Следует учитывать, что реакция КНДР, по некоторым данным, есть следствие того, что с Пхеньяном никто не хочет вести переговоры. А стрельбы ракетами в Японском море — результат намерений США разместить на территории Республики Корея установки THAAD (эта идея активно лоббировалась последние полтора года), позволяющие перехватывать баллистические ракеты.
Север и Юг
Следует отметить, что в течение последних 18 лет численность вооруженных сил сторон на полуострове сокращалась. Северяне начали сокращения первыми (еще в 1998 г.), южане последовали их примеру совсем недавно (в 2013 г.).
Для КНДР необходимость роспуска войск была вызвана прежде всего экономическими причинами. Распад СССР, экономические санкции вкупе с утраченными экономическими связями с КНР, которые не успели восстановить, привели к тяжелой внутренней ситуации в стране в 1990-е гг. [1]. Эти же факторы, наряду со слабостью производственного базиса КНДР, породили и военно-техническое отставание.
Угроза иностранного вторжения, ставшая особенно явной в 1994–1996 гг. в связи с политикой президента США Билла Клинтона, заставила наращивать военный потенциал и расходы на оборону. В 1997 г. в исследовании «Country Book», проводившемся под эгидой ЦРУ, отмечалось наличие только в одной Корейской народной армии (без ВВС, ВМФ, внутренних, пограничных и специальных войск) 15 армейских корпусов — пехотных, механизированных, танкового и артиллерийских. В их составе насчитывалось 37 дивизий, 104 отдельные бригады, а также ряд полков и батальонов корпусного подчинения [2].
В 1998 г. началась череда сокращений. 2 ноября 1998 г. был распущен один армейский корпус, в 2003–2006 гг. такая же участь постигла еще 5 сухопутных корпусов [3]. В 2010 г. были реформированы силы специальных операций (отдельный вид вооруженных сил КНДР), принявшие современный облик.
В результате войска были сокращены примерно на 200 тыс. человек. Реальное количество вооруженных сил КНДР на сегодня составляет 600–650 тыс. военнослужащих (в основном сухопутных частей) при небольших ВВС, ВМФ, спецназе, внутренних и пограничных войсках (1, 2).
Почему же в СМИ нагнетается миф о «миллионной армии» КНДР? Причина банальна: пропаганда. Образ врага можно создать, сильно преувеличив исходящую от него военную угрозу. Это делается даже на уровне научных исследований через определенные манипуляции, например, с организационно-штатными структурами. Характерный пример — северокорейские силы специального назначения. Когда один и тот же американский исследователь пишет в одном месте о численности батальона в 450 человек, а в другом сообщает о 5 ротах по 25, что вместе с частями батальонного подчинения не дает больше 150 человек в батальоне, это выглядит, мягко говоря, подозрительно [4].
Наряду с сокращением, проводилось перевооружение армии, прежде всего танковых и артиллерийских подразделений. Работа танковой промышленности КНДР позволила оснастить войска новыми (по северокорейским меркам) образцами техники, созданными на базе советских и китайских моделей, — танками серий «Чонма», «Чучхе» и «Сонгун». Они составили до половины из 4 тыс. находящихся на вооружении или хранящихся на консервации образцов. Сотрудничество с китайскими и пакистанскими разработчиками вооружений (по некоторым данным [5], систематические стрельбы «в море» стали следствием применения не новых тактических ракет малой дальности, а аналоговых реактивных систем залпового огня особо крупного калибра) дало импульс развитию артиллерийских систем залпового огня. Речь идет о 300-миллиметровых, продемонстрированных на параде, и, возможно, 370-ти и 400-миллиметровых РСЗО, способных поражать не только Сеул, но и базы противника в глубине страны.
Министерство обороны Республики Корея не спешило за своими оппонентами. В период 1998–2013 г., когда на Севере происходили масштабные преобразования, на Юге сохраняли численность войск на уровне 670–680 тыс. человек и активно наращивали оборонные расходы. Разница в величинах военных бюджетов составила 8–10 раз не в пользу КНДР в 1990-х годах и 33 раза в 2013 г. [6].
Только в 2013 г. был принят план сокращения вооруженных сил на 190 тыс. военного персонала к 2030 г. В 2014 г. численность войск, согласно Белой книге Министерства обороны РК, составила порядка 630 тыс. человек при примерно 2800 танках, 3826 боевых бронированных машинах и более 4 тыс. артиллерийских системах. Нельзя исключать, что указанные данные занижены: в документе перечислены 33 развернутых и 14 находящихся в резерве дивизий, а также 6 отдельных командований и части армейского и корпусного подчинения, что дает не менее 100 тыс. неучтенных только сухопутных войск.
Таким образом, сегодня на Корейском полуострове армия мирного времени южан имеет некоторое количественное и подавляющее качественное превосходство над армией мирного времени северян. При этом у Республики Корея мобилизационный и технический потенциал (несопоставимые по размерам и техническому уровню авиация и флот, вдвое больше населения) намного превосходит северокорейский.
Современный массовый боевой опыт у обеих стран отсутствует. В ноябре 2013 г. в профильной блогосфере появились данные о 15 вертолетчиках и 11–15 офицерах-артиллеристах КНДР, участвующих в боевых действиях в Сирии, однако они не были подтверждены. Участие ВС Республики Корея также ограничивается малыми миротворческими миссиями.
Прочие участники
США. Возможное участие этой сверхдержавы в конфликте наиболее очевидно. Оно обусловлено так называемым операционным планом 5015, принятым еще в 1990-х годах при президенте Б. Клинтоне. Документ предусматривает развертывание на полуострове в 90-дневный срок 690-тысячной американской группировки, 160 военных судов и 2500 самолетов «для отражения северокорейской агрессии». Из общего состава группировки 90 тыс. офицеров и солдат — бойцы 3-й и 4-й дивизий морской пехоты, что фактически означает половину всего Корпуса морской пехоты США.
Российская Федерация. Россия — правопреемница СССР, однако Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, заключенный между СССР и КНДР в 1961 г., прекратил свое действие. Новый Договор о сотрудничестве от 9 февраля 2000 г. не предусматривает ракетно-ядерной гарантии со стороны Российской Федерации.
На сегодня российско-корейские отношения в военной сфере должным образом не сформированы, модель поведения правительства России в случае второй корейской войны остается туманной. К настоящему времени подписан ряд соглашений в военной сфере, однако соглашение о военном сотрудничестве от 10 декабря 2014 г. так и осталось на бумаге.
КНР. На сегодня Китай — безусловный союзник КНДР. 4 китайские армии (3 общевойсковых и 1 танковая) общей численностью около 250 тыс. штыков развернуты в приграничной полосе, готовые прийти на помощь. Пекин совсем не радуют перспективы получить мощную единую Корею у себя на рубежах и комплексы THAAD, способные перехватывать китайские баллистические ракеты.
Северокорейские 300-миллиметровые системы залпового огня с парада — явное заимствование китайских наработок на базе советской РСЗО «Смерч».
Следует отметить, что Пекин относится к Пхеньяну с определенной долей скептицизма, хотя и понимает стремление КНДР играть самостоятельную роль в регионе.
Япония, Австралия, Тайвань. Эти страны — сторонники США в возможном конфликте на Дальнем Востоке — развертывают свои подразделения на основании соответствующих международных соглашений в рамках Тихоокеанского командования Соединенных Штатов (USPACOM). 1 июня 2014 г. Япония приняла поправки к 9-й «мирной» статье Конституции (ранее запрещавшей применение Сил самообороны страны за рубежом), которые дают право на «коллективную самооборону».
Будет ли война?
В настоящее время, несмотря на заявленную оборонительную концепцию, планы США и РК в отношении КНДР носят наступательный характер. В апреле 2013 г. в прессу даже просочились материалы штабных игр, в ходе которых страну под условным названием «Северный Браунлэнд» предполагалось оккупировать за 56 дней силами 90-тысячной группировки. Следует отметить, что такой сценарий противоречит оценкам минимального ущерба от операции, сделанным Пентагоном в 1994 г. Согласно этим оценкам, за первые 90 суток вторжения потери составят 52 тыс. американских и 490 тыс. южнокорейских солдат [7].
В то же время оперативное построение войск КНДР носит оборонительный характер. Примерно 40% всех северокорейских сил сосредоточено в приграничной полосе вдоль демилитаризованной зоны (ДМЗ), остальные располагаются во второй линии в глубине страны в качестве мобильных резервов или прикрывают побережье [2].
Такой взаимный порядок обусловлен, во-первых, сложным рельефом полуострова, который не способствует наступательным операциям. Плотность и концентрация войск превышают все уставные нормы. Местность сильно пересечена горами и реками и представляет собой несколько тесных горных проходов, а число мест высадки с моря в силу сложной гидрографии ограничено. В случае конфликта в бой вступят фактически только передние части колонн. Остальным частям просто негде будет развернуться — по горам они не объедут, через головы своих пройти не сумеют.
Во-вторых, он обусловлен соотношением сил. Мобилизационный потенциал КНДР сами южнокорейцы оценивают в 600 тыс. подготовленных резервистов и 400 тыс. территориальных ополченцев. Всего с китайским подкреплением — не более 1,9 млн штыков. США и Республика Корея без помощи союзников способны выставить в совокупности не менее 2,5 млн человек под ружьем [8].
С точки зрения элементарной стратегии возможны два варианта войны с КНДР: на сокрушение и на измор противника.
Война на сокрушение предусматривает проведение полного комплекса мобилизационных мероприятий с осуществлением глубокого вторжения на территорию КНДР. Она чрезвычайно затратна (в плане потерь и ресурсов) и не имеет ощутимого шанса на успех, под которым подразумевается полный разгром противника и захват его территории. Стратегически такая война будет представлять собой проламывание обороны северокорейских войск по коридору на узловую станцию Коксан, с развитием на Пхеньян, Вонсан или Кэсон, а также пробивание вдоль узкой восточной прибрежной полосы на Вонсан, т.е. вскрытие мощного укрепрайона, эшелонированного в глубину. В ходе боев будут перемалываться резервы КНР и КНДР по мере их подхода. Флот США–РК будет играть вспомогательную роль (обстрелы, диверсии). Возможность масштабной высадки десанта в тылу северян сомнительна в силу ограниченности числа мест для высадки и плотного их прикрытия. Срок операции составит от 2 до 6 месяцев. Успешный результат не гарантирован.
Стоит пояснить на примере. Десант в тылу вряд ли возможен, поскольку в КНДР буквально всего несколько глубоководных портов, к которым сложно подобраться и которые легко минируются. Да и высадка большой армии — задача нетривиальная: даже высадившись и закрепившись на плацдарме, группировка в несколько десятков тысяч войск окажется перед фронтом превосходящих сил противника, который сможет выжигать ее посредством артиллерии на узком пятачке. Снабжение же данной группировки по морю будет затруднено — останутся проблемы с подходами. Получится аналог операции в Галлиполи 1915 г. — с очень большими потерями и нулевым результатом.
Война на измор (истощение) более предпочтительна для коалиции США–РК. Она позволит минимизировать затраты, нанеся противнику наибольший экономический ущерб (экономическая база КНДР слаба, запасы топлива и ГСМ для войск ограничены). Такая война будет представлять собой бомбардировки и борьбу с авиацией и ПВО противника на всю глубину территории страны: удары по городам и промышленным объектам северян, обстрелы и контрбатарейная дуэль вдоль ДМЗ, вылазки спецназа в труднодоступных районах, обстрелы и диверсии силами флота со стороны моря. Недостаток выбранного формата боевых действий — страна-противник (КНДР) и ее атомная программа уничтожены не будут. Срок операции не определен.
Для последних лет характерны горные, сопоставимые по условиям местности конфликты — Ливия (западный участок), Коканг (в Мьянме), апрельская война в Карабахе. Нигде нет массовых вторжений, никто не гонит большие колонны в ущелья, где их легко зажать и истребить огнем. Наоборот, небольшие силы налегке занимают высоты, откуда с помощью противотанковых и переносных зенитных ракетных комплексов выбивают технику противника и корректируют огонь артиллерии.
Таким образом, в случае начала второй корейской войны командование USPACOM окажется перед выбором: либо кровопролитное сражение с неясным результатом с целью полного уничтожения КНДР как государственного образования, либо приграничный конфликт с последующим заключением перемирия и экономическим истощением северян. Целесообразность того или иного варианта способна определить только большая политика. При этом следует помнить, что, во-первых, ядерный потенциал сторон на полуострове не определен, во-вторых, США до недавнего времени также имели тактическое ядерное оружие на юге Кореи (как минимум до 1991 г., 100 зарядов по открытым данным).
Представляется, что война на Корейском полуострове сегодня скорее нереальна. Западная коалиция (США, Республика Корея и все страны, чьи вооруженные силы перейдут под начало USPACOM) вряд ли готова к тем огромным потерям и ресурсным затратам, которые потребуются для полного военного разгрома КНДР.
Политические дивиденды можно получить и от стратегии «войны на измор». Но такая форма противостояния более перспективна несколько в других местах. Корейский полуостров не находится на пересечении жизненно важных путей, таких, например, как Малаккский пролив или Персидский залив, и превращать его в горячую точку целесообразности нет. Оказать же давление на Китай (действительная цель подобной агрессии) можно, втянув его в военную кампанию в Мьянме или на горной границе с Вьетнамом, где вообще нет необходимости задействовать американских солдат.
Вместе с тем для восточной коалиции КНР–КНДР наступление также вряд ли возможно. КНДР обладает слишком малыми запасами ГСМ и слабой логистикой (грузовиками и железными дорогами для подвоза всего необходимого), чтобы атаковать миллионной группировкой на большую глубину территории. Как показывает опыт современных конфликтов, в горных проходах такая армия вытянется в длину на несколько сотен километров. Учитывая тот факт, что все горные проходы перекрыты множеством укреплений, и враг превосходит во всем, а в небе господствует, можно утверждать, что такое вторжение задохнется само собой.
* * *
В заключение можно сделать несколько выводов.
1. Война в привычном понимании (вторжение больших масс войск с уничтожением КНДР как государства — объекта атаки) вряд ли возможна в силу следующих обстоятельств: большие ресурсные затраты и потери; сложность рельефа; высокая насыщенность войсками перспективного театра военных действий; сомнительность достижения целей.
2. Политическая цель возможной войны против КНДР — оказание давления на КНР — достижима с меньшими затратами в ряде других мест вдоль периметра китайской границы.
3. Наиболее перспективной моделью войны представляется кампания «на измор», с истощением КНДР в приграничных артиллерийских дуэлях, бомбардировках и рейдах спецназа.
4. Возможные стратегические цели войны (уничтожение ядерного потенциала КНДР как объекта атаки) достижимы в военном плане лишь в случае варианта войны в привычном понимании (см. вывод 1). Однако прямое военное вторжение вряд ли приведет к достижению таких целей. 5. Тактические приемы перспективной второй корейской войны будут базироваться на уроках последних горных военных кампаний (Ливия, Коканг, апрельская война в Карабахе).
1. Kang H. Ici, c’est le paradis: Une enfance en Corйe du Nord. Michel Lafon, 2004.
2. North Korea Country Book. 1997. P. 33–147. URL: https://fas.org/nuke/guide/dprk/nkor.pdf
3. Bermudez J. // KPA Journal. 2010, July. № 7.
4. Данные о численности взводов, батальонов и рот см.: Bermudez J. North Korean Special Forces. Naval Institute Press, 1998. P. 182.
5. Washington Post, «North "bribed its way to nuclear statehood"» // The Japan Times, July 8, 2011. P. 4; Jane’s Defence Weekly, 27 November 2002.
6. По крайней мере, такие данные привел директор Управления военной разведки Республики Корея в своем заявлении от 6 ноября 2013 г. (http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_northkorea/610084.html)
7. Avoiding the Apocalypse: The Future of the Two Koreas. Peterson Institute. P. 149–150.
8. Даже устаревшие материалы учений начала 1990-х годов свидетельствовали о возможности южан призвать 1240 тыс. человек в тридцатидневный срок. См.: Savada A.M., Shaw W. (eds.) South Korea: A Country Study. Diane Publishing, 1997.
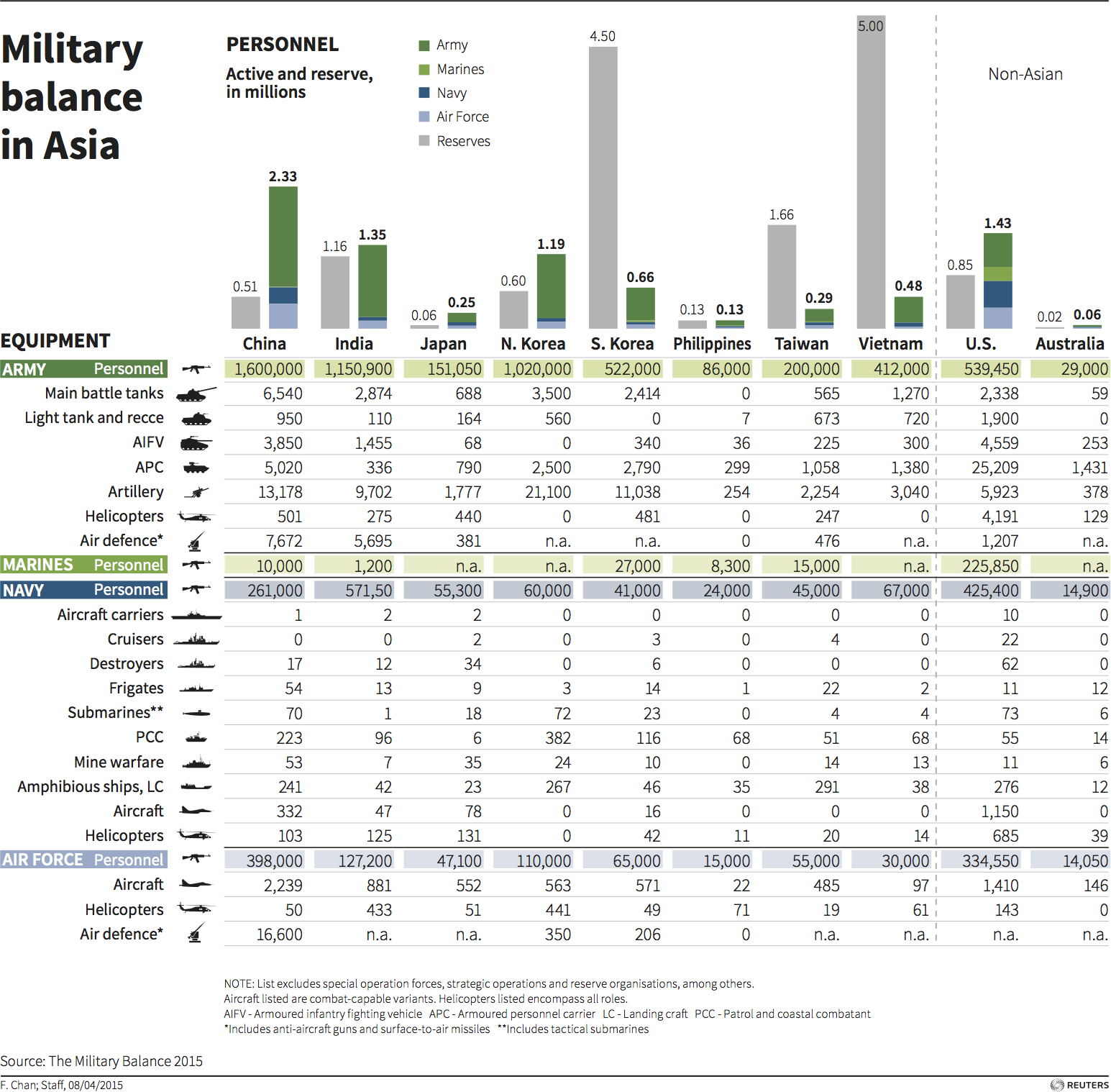
Производство и запасы пальмового масла в Малайзии увеличились
В июне т.г. запасы пальмового масла в Малайзии выросли впервые за последние 7 месяцев и, согласно оценке аналитиков MPOB, по состоянию на конец месяца составили 1,78 млн. тонн, что на 7,7% ваше в сравнении с майским показателем.
Производство указанной продукции в стране, по оценкам экспертов, также увеличилось в сравнении с результатом мая – на 12,3%, до 1,53 млн. тонн. При этом экспорт пальмового масла из Малайзии в июне сократился на 11,7% - до четырехмесячного минимума в 1,13 млн. тонн.
Стоит отметить, что рост производства пальмового масла в стране при снижении спроса на него уже отразился на ценах на продукцию, которые на текущей неделе опустились до минимального уровня, начиная с конца сентября 2015 г.
Гаага отказала Китаю в островах
Суд в Гааге отверг претензии Пекина на акваторию Южно-Китайского моря
Александр Братерский, Дарья Зорилэ
Палата Третейского суда в Гааге отвергла претензии Пекина на акваторию Южно-Китайского моря, где Китай активно занимался строительством насыпных островов для укрепления своей военной мощи. От решения выигрывают соседи Китая, недовольные стремлением страны к гегемонии в регионе. Ситуация также на руку США, которые не раз давали понять своими военными маневрами, что против территориальных притязаний КНР.
Гаагский суд во вторник удовлетворил иск Филиппин, которые протестовали против притязаний Китая на 80% акватории Южно-Китайского моря. Таким образом, суд отверг так называемую «девятипунктирную демаркационную линию», которую Китай провел в Южно-Китайском море.
КНР же утверждает, что эта часть моря принадлежит стране по праву, и приводит как доказательство морские карты прошлого века.
Гаагский суд признал эти претензии необоснованными. «Несмотря на то что китайские корабли и рыбаки, так же как и рыбаки других стран, исторически использовали острова в Южно-Китайском море для промысла, нет никаких данных о том, что Китай обладает эксклюзивным правом контролировать эти территории», — гласит текст вердикта. В нем также говорится, что у КНР «нет юридического основания» требовать прав пользования ресурсами, находящимися в пределах «девятипунктирной линии».
Кроме того, суд постановил, что строительство китайских искусственных островов в районе архипелага Спратли нарушает экологическую обстановку в районе Южно-Китайского моря. Такие острова не являются полноценными с юридической точки зрения и не образуют полноценных экономических зон, говорится в решении Гаагского суда.
Великая морская стена
Вблизи группы островов Спратли архипелага в юго-западной части Южно-Китайского моря расположена группа коралловых рифов, укреплением которых активно занимается Китай. Пекин неоднократно утверждал, что лишь проводит необходимые работы по укреплению рифов.
Однако эксперты считают, что КНР может разместить на них объекты электронной разведки — например, системы раннего предупреждения ракетного нападения.
На снимках из космоса, сделанных американскими спутниками, видно, что КНР в последние месяцы значительно увеличила размер насыпных островов и число военных объектов на их территории. По мнению Пентагона, Китай хочет превратить группу островов в военный плацдарм для контроля над Южно-Китайским морем.
Пекин также заинтересован и в экономическом контроле над акваторией: через нее ежегодно проходят коммерческие грузы на сумму $5 млрд.
Ранее главком Тихоокеанского флота США адмирал Гарри Харрис заявил о том, что, согласно данным спутников, Китай «возводит великую стену из песка»: гавани, вертолетные площадки, здания, пирсы и взлетно-посадочную полосу. На воды Южно-Китайского моря претендуют также Вьетнам, Бруней, Филиппины и Малайзия. Вьетнам в последнее время стал активно укреплять отношения с США из-за опасений эскалации конфликта с КНР.
Строгий суд
Реакция Китая на вердикт суда была резко негативной. Официальное новостное агентство Китая «Синьхуа» заявило, что это решение безосновательно. На прошлой неделе состоялся разговор министра иностранных дел Китая Ван И и госсекретаря США Джона Керри. В нем Ван И предостерег Вашингтон от действий, которые могут нарушить суверенитет КНР.
Пекин недавно провел военные учения в Южно-Китайском море, в которых участвовали два ракетных эсминца и один ракетный фрегат. В то же время в заявлении китайского МИДа отмечается, что Пекин «готов на основе уважения исторических фактов, на основе международного права, путем переговоров и консультаций мирно решать соответствующие споры по Южно-Китайскому морю со странами, напрямую относящимися к этому».
Китайские маневры были ответом на действия американских ВМС, которые неоднократно нарушали китайскую демаркационную линию в Южно-Китайском море. Каждый раз это вызывало бурную реакцию властей КНР.
Эксперт РСМД, специалист по Вьетнаму Антон Цветов называет решение суда «жестким».
«Наблюдатели ожидали, что решение будет не в пользу Китая, но были и те, кто предполагал формулировки, которые бы позволили КНР в будущем гибко отреагировать на вердикт и красиво отступить», — рассказал эксперт «Газете.Ru».
Он отмечает, что принятое судом решение не оставляет КНР места для маневра. По словам Цветова, ключевым вопросом остаются дальнейшие действия Пекина — ходили слухи, что страна может в ответ на решение суда выйти из конвенции, которая обязывает Китай уважать решение гаагского правосудия. «Но это, конечно, экстремальный вариант, и Пекин вряд ли на это произойдет, — добавил Цветов. — Реакция будет остро негативной, но может быть «размазана» по времени».
От решения, считает Цветов, выигрывают соседи Китая, у которых появился «туз в рукаве». «Эту карту они могут согласиться сбросить в обмен на какие-то послабления со стороны КНР», — добавил эксперт.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что в странах тропического и субтропического климата в течение последних лет продолжается эпидемиологическое неблагополучие по лихорадке Денге.
Лихорадка Денге широко распространена в Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индонезия, Китай, Малайзия, Япония, Вьетнам, Мьянма, Сингапур, Филиппины), Индии, Африке (Мозамбик, Судан, Египет), в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки (Мексика, Гондурас, Коста-Рика, Пуэрто-Рико, Панама, Бразилия и др.)
В 2016 году в Малайзии зарегистрирован подъем заболеваемости лихорадкой Денге. Количество пострадавших составило 55 тысяч человек, из них свыше 100 – с летальным исходом. В Перу с начала 2016 года зарегистрировано свыше 25 тысяч случаев классической тяжелой формы.
Кроме этого, на острове Пхукет (Таиланд) в текущем году заболеваемость лихорадкой Денге увеличилась более чем в три раза. Аналогичная ситуация в Йемене, где за период с марта по июль текущего года зарегистрировано 20 летальных случаев, общее число заболевших превысило 1,5 тысячи человек.
Страны Юго-Восточной Азии пользуются особой популярностью у российских туристов.
В этой связи в последние годы в Российской Федерации стали регистрироваться завозные случаи лихорадки Денге: в 2012 году – 63 случая, в 2013 году – 170, в 2014 году – 105 случаев, в 2015 году – 136, за 1 полугодие 2016 года – более 70. Заражение происходило при посещении Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Бангладеш, Гонконга, Мальдивских островов.
Лихорадка Денге - вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов. Симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.
Основными переносчиками лихорадки Денге являются комары Aedes aegypti. В отсутствии переносчика больной человек не представляет эпидемиологической опасности.
В целях профилактики лихорадки Денге и других геморрагических лихорадок с трансмиссивным путем передачи среди российских туристов, выезжающих в Перу, Таиланд, Индонезию, Индию, Вьетнам, Бангладеш, Гонконг, Малайзию и другие страны с тропическим климатом, необходимо:
· при выезде в страны тропического климата интересоваться о возможности заражения геморрагическими лихорадками с трансмиссивным путем заражения;
· использовать индивидуальные средства защиты, такие как: оконные противомоскитные сетки, пологи, одежда с длинными рукавами, обработанные инсектицидом материалы, репелленты;
· по возвращении при повышении температуры информировать врача о факте пребывания в стране с тропическим климатом.
Ситуация остается на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Япония в поисках тепла
Дмитрий Бокарев
Как известно, Япония – третья экономика мира – крайне небогата углеводородами. В каком-то смысле это парадокс: ведь в наше время нефть и газ являются основой процветания любого государства. Тем не менее Страна восходящего солнца пока справляется, ввозя нефть танкерами с Ближнего Востока, сжиженный природный газ (СПГ) – из Австралии, Индонезии, Малайзии и с того же Ближнего Востока. Также Японии нужен каменный уголь для ТЭЦ. Его поставляют Австралия, Индонезия и Китай. До недавнего времени большие надежды возлагались на атомную энергетику, но после трагедии на станции «Фукусима-1» в 2011 г. японская АЭ едва не была свернута. Потрясенная катастрофой японская общественность потребовала тогда закрыть все японские атомные станции, а не менее шокированное японское правительство с готовностью к этому приступило.
Сейчас, когда эмоции схлынули и вернулась способность трезво оценивать свои возможности, Япония осознала, что совсем без АЭ обойтись не удастся, и атомные станции, пройдя многочисленные проверки и усовершенствования, потихоньку вновь начинают открываться. Однако, наученная горьким опытом, страна многократно увеличила усилия по поиску источников углеводородного топлива, причем желательно, чтобы эти источники были поближе и понадежнее. Из ближневосточных стран, например, до Японии путь неблизкий, а значит, более затратный, что непременно скажется на стоимости драгоценного товара. Тем более горький опыт последних десятилетий показывает, что практически в любой стране Ближнего Востока в любой момент может вспыхнуть война или революция – и тогда прощай, нефть… Таким образом, самыми удобным экспортером углеводородов становится Россия.
Танкерные поставки СПГ с Сахалина в Японию начались весной 2009 г., вскоре после открытия сахалинского завода по производству СПГ в ходе осуществления проекта «Сахалин-2». Это, пожалуй, лучший маршрут из всех, по которым в Страну восходящего солнца доставляется топливо. Для РФ это сотрудничество также выгодно: ведь Япония – один из крупнейших потребителей СПГ в мире, и особенно приятна возможность торговать с ней без вовлечения посредников.
Несмотря на выгоды сотрудничества с Россией и учитывая немалое количество других поставщиков, Япония продолжает поиск новых экспортеров, поскольку ее стратегия энергетической безопасности сводится к принципу «чем больше, тем лучше». Не остается без внимания и Средняя Азия. Активные усилия для укрепления позиций в среднеазиатском регионе Токио предпринимает с 2006 г., когда была принята та самая «национальная энергетическая стратегия», требующая от японского правительства усиливать сотрудничество со странами с большими углеводородными ресурсами. В том же году состоялись переговоры на уровне МИД Японии с коллегами из Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в рамках форума «Центральная Азия плюс Япония». Речь там велась о совместном развитии и обеспечении безопасности региона, в том числе безопасности нефтеперевозок. Также японский представитель заявил о готовности страны финансировать строительство дорог и трубопроводов для доставки нефти к Индийскому океану с последующей транспортировкой в Японию (планы сооружения трубопроводов для доставки нефти и газа на Японские острова периодически возникают еще с 1990-х годов. Так, изначально планировали, что газопровод «Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай» продлится и до Японии, но на это не хватило денег. Или желания Китая). Осенью 2006 г. тогдашний японский премьер-министр Дзюнъитиро Коидзуми совершил визиты в Казахстан и Узбекистан, перед которыми открыто сказал, что его цель – расширить круг поставщиков нефти и газа в Японию и снизить зависимость от Ближнего Востока.
За прошедшее десятилетие достичь желаемого влияния в Средней Азии Японии пока не удалось — в регионе по-прежнему лидирует Китай. Новая атака была предпринята в конце октября 2015 г., когда состоялось нашумевшее азиатское турне премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Он посетил Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан, а также Монголию. По сообщениям японских СМИ, вместе с Синдзо Абэ отправилась целая делегация, состоявшая из представителей деловых кругов Японии. В результате поездки были заключены контракты на огромные суммы. В одну только экономику Туркменистана Япония решила вложить более $18 млрд.
Визит японского премьера в Туркменистан хотелось бы отметить особо. Запасов туркменского газа достаточно, чтобы снабжать едва ли не всю Азию (и не только Азию – европейские страны также проявляют интерес к поставкам). До недавних пор его основным покупателем была Россия, перепродававшая газ в Европу. Однако из-за разногласий, начавшихся в 2009 г., «Газпром» резко сократил закупки, и Туркмения была вынуждена искать других партнеров. Этой возможностью поспешила воспользоваться КНР. Китай согласился покупать газ на менее выгодных для Туркменистана условиях, чем Россия, но выбора у туркменского правительства уже не было. Газопровод «Туркменистан-Китай» был запущен в эксплуатацию в 2009 г. Однако поиск новых покупателей продолжался. В 2010 г. начал работу газопровод «Туркмения-Иран», но объем газа, на который он рассчитан, значительно меньше, чем продается в Китай: максимум 12 млрд кубометров в год. Таким образом, можно сказать, что дела у Туркменистана идут не очень хорошо, если учесть, что торговля углеводородами – его главный источник доходов.
Исправить положение могло бы осуществление проекта «ТАПИ» – трубопровода, по которому туркменский газ пойдет в Афганистан, Пакистан и Индию. Тут и решила помочь Япония, фактически взяв на себя финансирование проекта. Транзакционным советником и одним из главных инвесторов «ТАПИ» выступает Азиатский банк развития. Хоть АБР и международная организация, но его крупнейший акционер – Япония, и руководили им всегда японские граждане. Кроме АБР, «ТАПИ» финансируют и другие японские корпорации. По-видимому, идея гигантского трубопровода, который бы заменил танкеры (или хотя бы сократил их путь), по-прежнему владеет умами японских политиков, и проект «ТАПИ» – ее очередное воплощение. Однако о сроках его реализации пока можно только гадать – ведь газопровод будет должен пройти через Афганистан, а для этого как минимум там должна прекратиться война. Все же японских политиков и бизнесменов сложно заподозрить в безрассудстве, и, раз они вкладываются в «ТАПИ», значит, у них есть на то основания.
Пока же туркменский газ поставляется в Японию танкерами. Такой способ доставки дороже и медленнее, чем трубопроводом, но других вариантов нет. Так или иначе, в ближайшее время поставки туркменского газа в Японию заметно возрастут, – ведь во время прошлогоднего турне Синдзо Абэ мощнейшие японские корпорации, такие как Mitsubishi, Chiyoda, Itochu и др., вошли в число разработчиков крупнейшего туркменского месторождения Галкыныш. Впрочем, есть мнение, что газ, добытый в Туркменистане, Япония может передать «Газпрому», взамен получив соответствующие объемы по более удобному пути с Сахалина. Это было бы разумно и выгодно для всех сторон, в том числе и для Туркменистана, который при японском посредничестве мог бы возобновить торговлю с Россией.
В любом случае совершенно очевидно, что Япония основательно закрепилась в Туркменистане, который, возможно, станет плацдармом для дальнейшего распространения японского влияния в Средней Азии.
19,2 млн пассажиров определили лучшие авиакомпании мира
Престижный рейтинг Skytrax возглавила Emirates, а в Восточной Европе наивысшие оценки получил «Аэрофлот»
Британское исследовательское агентство Skytrax, специализирующееся на изучении качества авиационных услуг, объявило победителей своей ежегодной премии среди авиакомпаний. Церемония награждения прошла в Великобритании, в рамках второго дня работы аэрокосмического салона в Фарнборо.
С августа 2015 года по май 2016 года 19,2 млн пассажиров в 104 странах мира оценивали 280 авиакомпаний по 41 показателям эффективности.
«В 2016 качество работы авиаперевозчиков оценивали 19,5 миллионов пассажиров по всему миру. В опросах принимали участие путешественники ста национальностей. В этом смысле эти награды можно назвать призами пассажирских симпатий», - говорит президент рейтингового агентства Skytrax Эдвард Плейстед.
В результате суммирования баллов на основе проведенных опросов среди пассажиров авиакомпанией года признана Emirates из ОАЭ. Перевозчик уже в четвертый раз получил эту награду. В 2015 году Emirates занимала пятое место в аналогичном рейтинге. Ранее авиакомпания уже трижды признавалась лучшей на планете (в 2001, 2002 и 2013 годах). Кроме того Emirates названа лучшей в категории «Самые увлекательные развлечения на борту» (World’s Best Inflight Entertainment) и «Лучший персонал в салоне» (World’s Best Cabin Staff ).
Второе место у Qatar Airways (Катар), примечательно, что в 2015 году катарский перевозчик лидировал в рейтинге Skytrax. Кроме того Qatar Airways признана лидером отрасли в номинации «Лучший бизнес-класс» и «Лучший интерьер бизнес-класса». Третье место в рейтинге Skytrax - у Singapore Airlines (Сингапур), четвертое - Cathay Pacific (Гонконг). Японская ANA - All Nippon Airways замыкает пятерку лучших авиакомпаний мира.
Далее в рейтинге Топ-10 лучших авиакомпаний мира фигурируют Etihad Airways (ОАЭ), Turkish Airlines (Турция), EVA Air (Тайвань), Qantas Airways (Австралия) и Lufthansa (Германия).
«Ближневосточные авиакомпании продолжают доминировать», - констатировал после церемонии награждения генеральный директор Skytrax Эдвард Плейстед. Он также отметил влияние Virgin America в Северной Америке, а Turkish Airlines назвал «большим фаворитом».
«Аэрофлот - российские авиалинии» удостоен награды «Лучшая авиакомпания Восточной Европы». Это четвертая подряд и пятая в истории премия перевозчика в этой номинации. Кроме того, в общем рейтинге «Аэрофлот» поднялся с 46-го места в прошлом году на 40-й позицию в 2016-м. Российской авиакомпании удалось обойти в общем рейтинге таких перевозчиков, как Vietnam Airlines, Iberia, Alitalia, Brussels Airlines, American Airlines и др.
Лучшим в мире лоукостером признана AirAsia (Малайзия), лучший сервис в аэропорту предлагает ANA - All Nippon Airways. По уборке салонов первая в мире Cathay Pacific Airways, а лучшие стюардессы и стюарды у Garuda Indonesia. Альянса года - Star Alliance. С точки зрения организация досуга, пассажиры назвали лучшей Thomson Airways, а с позиций внедренных в этом году улучшений, Thai Airways.
Как сообщал Gudok.ru год назад топ-10 рейтинга Skytrax выглядела следующим образом:
1. Qatar Airways
2. Singapore Airlines
3. Cathay Pacific Airways
4. Turkish Airlines
5. Emirates
6. Etihad Airways
7. ANA All Nippon Airways
8. Garuda Indonesia
9. EVA Air
10. Qantas Airways
46-е место занимал «Аэрофлот - российские авиалинии», а 68-е- «Трансаэро». Год назад «Аэрофлот» также победил в номинации «Лучшая авиакомпания Восточной Европы».
Впервые рейтинг World Airline Awards был составлен агентством Skytrax в 1999 году. Эта премия в мировой гражданской авиации считается эквивалентом «Оскара». Лауреаты награды определяются по итогам крупнейшего в мире онлайн-голосования пассажиров из более чем ста стран. Соискателями премии становятся порядка 250 перевозчиков мира.
Emirates Airlines - одна из крупнейших мировых авиакомпаний, базируется в Дубаи (ОАЭ). Создана в 1985 году высшим руководством эмирата Дубаи для развития туризма и инфраструктуры Арабских Эмиратов. Принадлежит Emirates Group и является крупнейшей авиакомпанией в мире по географическому охвату, выполняя рейсы в 81 страну по 154 направлениям. Emirates эксплуатирует авиапарк, состоящий из широкофюзеляжных самолётов. Авиакомпания является крупнейшим эксплуатантом моделей Boeing 777 (131 самолет) и Airbus A380 (62 самолетов эксплуатируется, всего заказано 140). За время существования Emirates выиграла уже 20 премий Skytrax в различных номинациях.
ПАО «Аэрофлот» — крупнейшая авиакомпания и национальный авиаперевозчик России, начавший работу в 1923 году. «Аэрофлот» - российские авиалинии», наряду с авиакомпаниями «Россия», «Аврора» и «Победа», входит в Группу компаний «Аэрофлот».
Авиаперевозчик базируется в московском аэропорту Шереметьево, осуществляет полеты в 123 пункта 52 стран (по России — 43 пункта).
По состоянию на 30 апреля 2016 года парк авиакомпании «Аэрофлот» насчитывал 167 воздушных судов (Airbus А320, А330, Boeing 737, Boeing 777 и Sukhoi SuperJet-100).
В 2015 году «Аэрофлот» перевез 26,1 млн человек, что на 10,6% больше, чем в 2014 году.
Выручка ПАО «Аэрофлот» по РСБУ за 2015 год составила 366,3 млрд руб., что на 32% больше, чем в 2014 году. Компания получила 18,9 млрд руб. убытка против 14 млрд руб. чистой прибыли в 2014 году.
51% акций ПАО «Аэрофлот» владеет Правительство РФ. 49% акций принадлежат юридическим и физическим лицам, в том числе сотрудникам компании.
Константин Пукемов
Чем «БРЕКСИТ» угрожает странам АСЕАН?
Наталия Рогожина
Состоявшийся недавно референдум в Великобритании о выходе из Евросоюза вызвал озабоченность во всем мире, в том числе и у стран Юго-Восточной Азии. И это неудивительно, учитывая высокий уровень их интеграции в мировую экономику, которую всколыхнули итоги прошедшего голосования. Это побудило страны АСЕАН оценить возможные последствия этого события с точки зрения своих интересов национальной и региональной безопасности, сохраняя при этом осторожность в прогнозировании развития ситуации.
Индонезийские эксперты сходятся во мнении, что «БРЕКСИТ» не окажет прямого воздействия на экономику страны в ближайшем будущем, принимая во внимание незначительный объем торгового оборота между странами – 2,35 млрд долл. в 2015 г. в сравнении с 31 млрд долл. с Японией и 24 млрд долл. с США. Индонезийский экспорт в Великобританию в том же году не превысил показателя 1% (1,5 млрд долл.) от общего объема экспорта – 150 млрд долл. Инвестиции Великобритании в страну составили в том же году 503,2 млн долл. Однако затянувшийся политический кризис в Европе может оказать серьезное влияние на экономику Индонезии, прежде всего в плане сокращения экспорта сырья в Евросоюз и притока иностранных инвестиций. Оцениваются и возможные риски для фондового рынка. По мнению министра иностранных дел страны Ретно Л.П. Марсуди (Retno L.P. Marsudi), многое будет зависеть от результатов предстоящего соглашения между Великобританией и Евросоюзом, в том числе и в части выполнения целого ряда договоров, касающихся и Индонезии, таких как Соглашение между Индонезией и Евросоюзом об экономическом сотрудничестве (Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), План действий по борьбе с нелегальными лесоразработками (Forest Law Enforcement, Governance and Trade Action Plan). Индонезийский экономист Винарно Заин (Winarno Zain) считает, что сделанные в бюджете страны прогнозы относительно роста ВНП, курса валют и цен на нефть потребуют корректировки с учетом новых политических реалий в мире.
Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун (Lee Hsien Loong) назвал голосование в Великобритании «поворотным моментом» и призвал правительство внимательно отслеживать развитие ситуации, поскольку никто сейчас не может представить всех последствий принятого народом Великобритании решения. Такое внимание к «БРЕКСИТУ» объясняется тем, что Сингапур в гораздо большей степени, чем другие страны АСЕАН привязан к экономике Великобритании. Экспорт в эту страну, который в основном представлен услугами, дает 2% ВНП. Сингапур является крупнейшим торговым партнером Великобритании в ЮВА, занимая пятое место в списке стран, не входящих в состав Европейского Союза, и пятым по величине рынком экспорта услуг за пределами ЕС.
Воздействие «БРЕКСИТА» на экономику города-страны может проявиться в снижении стоимости местной валюты, сокращении объема экспорта в Европу, в потере доходности местных компаний. На Великобританию приходится три четверти сингапурских инвестиций в Европейский Союз, преимущественно в недвижимость, инфраструктуру и регулируемые активы (regulated assets). Однако в целом потери Сингапура будут зависеть от ущерба, нанесенного европейскому рынку выходом Великобритании из Европейского Союза.
Понимая значение экономических и торговых связей с Сингапуром, глава дипломатической миссии Великобритании Скотт Вайтман (Scott Wightman) попытался успокоить местных бизнесменов, заверив их в том, что страны останутся важными деловыми партнерами. По его словам, «нет причин думать, что решение, принятое народом Великобритании, может сказаться на привлекательности страны для сингапурских инвестиций, так же как Сингапура для английских». Сегодня на рынке Сингапура работают 1000 компаний Великобритании.
И все же отношение Сингапура к референдуму неоднозначно, о чем можно судить по комментарию премьера Ли в Facebook: «Мы все живем в глобализированном, взаимозависимом мире. Стремление высвободиться, быть менее зависимым от других, быть полностью свободным в своих действиях вполне понятно. Однако в реальности для многих стран выключение из этого процесса, «уход в себя», в национализм, скорее всего, означает меньше безопасности, меньше процветания и непредсказуемое будущее».
Позиция Филиппин по поводу «БРЕКСИТА» была четко сформулирована и озвучена Серджио Ортис-Луисом (Sergio Ortiz-Luis), председателем торгово-промышленной палаты: «Филиппины пострадают только в том случае, если пострадают США».
Премьер-министр Малайзии Нажиб Разак сделал официальное заявление по итогам референдума в Великобритании, назвав принятое решение «историческим», но с «непредсказуемыми последствиями», и заверил деловое сообщество, что отношения между странами не претерпят изменений. Малайзийские экономисты уверены в том, что национальный рынок способен адаптироваться к изменившейся внешнеэкономической и политической ситуации, но долгосрочные последствия «БРЕКСИТА» сегодня трудно оценить во всей полноте, несмотря на то, что в торговом обороте Малайзии на Великобританию приходится только 1%. По мнению министра торговли Мустапы Мухамеда (Mustapa Mohamed), Малайзия, которая ведет уже давно переговоры о свободной торговле с Европейским Союзом, может использовать складывающуюся ситуацию в собственных интересах и ускорить подписание соответствующего договора с Великобританией. То, чего больше всего опасаются предприниматели в Малайзии, так это возможного раскола Европейского Союза и снижения темпов его экономического роста в случае, если другие европейские страны последуют примеру Великобритании. Последствием этого может стать сокращение малайзийского экспорта на 10,1%.
В Таиланде считают, что «БРЕКСИТ» может привести к сокращению числа туристов из Великобритании и в целом из европейских стран в течение ближайших трех месяцев в связи с изменением курса валют. В прошлом году страну посетило 5,6 млн европейцев, из них 946 тыс. приходилось на жителей Великобритании. Что касается снижения стоимости ценных бумаг и курса бата, то, по мнению Виратай Сантипрабхоб (Veerathai Santiprabhob), главы Банка Таиланда, этот процесс стабилизируется в ближайшее время, и правительство держит ситуацию под полным контролем. Не предвидят эксперты кардинальных изменений и в сфере внешней торговли, поскольку доля Великобритании в торговом обороте страны составляет всего 2%.
Для Вьетнама, который является активным торговым партнером европейских стран (второй по величине экспортный рынок после США), выход Великобритании из ЕС может привести к снижению его экспорта. Причина – в изменении курса валют и снижении конкурентоспособности вьетнамского экспорта, объем которого в Великобританию может сократиться на 10%, или на 460 млн долл. (в 2014 г. он составил 4,6 млрд долл.). Внешнеэкономическое положение Вьетнама может усугубиться в случае ухудшения ситуации (под влиянием «БРЕКСИТА») на финансовом рынке Китая, к которому сильно привязана экономика Вьетнама. В этом случае, как отмечается в докладе Вьеткомбанка (Vietcombank), подготовленном по итогам «БРЕКСИТ», у Центрального банка может не хватить средств для поддержания курса донга. В результате «БРЕКСИТА» могут пострадать инвестиционный и фондовый рынки страны.
Однако, как считают некоторые эксперты в регионе, выход Великобритании из Евросоюза может предоставить странам АСЕАН ряд преимуществ в плане создания благоприятных условий для заключения с ней соглашения о свободной торговле и для привлечения её инвестиций, что будет способствовать укреплению с ней торгово-экономических отношений. Уже сегодня большинство стран ЮВА считают Великобританию своим стратегическим партнером. И тем не менее сегодня можно дать лишь приблизительные оценки воздействия «БРЕКСИТА» на экономику стран ЮВА, которые будут корректироваться с учетом новых взаимоотношений между Евросоюзом и Великобританией.
Хэнк Ивакура (Pacific Cellulose) стал официальным торговым представителем Kotkamills японском рынке, об этом говорится в полученном Lesprom Network пресс-релизе.
Он будет заниматься продвижением потребительской картонной упаковки, произведенной на предприятиях финской компании. На протяжении последних пяти лет Хэнк Ивакура специализировался на продажах матовой журнальной бумаги Solaris в Японии, Kotkamills производит эту бумагу с 1987 г.
Kotkamills основана в 1872 г., специализируется на производстве мелованной бумаги, бумаги для ламинирования, упаковочной продукции, а также обработке пиломатериалов. Комбинаты компании расположены в Финляндии (Котка, Иматра) и в Малайзии.
В апреле 2016 г. США увеличили импорт мебели на 5%
Импорт деревянной мебели в США в апреле 2016 г. вырос в годовом исчислении на 5%, достигнув $1,27 млрд, об этом сообщает министерство торговли страны.
После заметного мартовского падения стоимость зарубежных поставок в апреле увеличилась почти на 20%. В сравнении с первым весенним месяцем импорт китайской мебели в США вырос на 40% до $555,1 млн, вьетнамской — на 33% до $239,7 млн. Поставки из Мексики, Канады, Малайзии и Индонезии снизились незначительно, однако более всего сократила экспорт Индия — сразу на 23% до $18,4 млн.

«Путин считает себя демократом номер один»
Григорий Явлинский рассказал «Газете.Ru» о перспективах демократов на выборах в Госдуму
Владимир Дергачев, Светлана Бабаева, Андрей Винокуров, Александр Орлов
Ветеран российской политики Григорий Явлинский, который, казалось, отошел от дел после того, как ЦИК отказал ему в участии в президентских выборах 2012 года, снова вернулся в активную политику. На прошедшем съезде он возглавил список «Яблока» на выборах в Думу. О «яблочной альтернативе», встрече с президентом, обвинениях в работе на Кремль и решении крымского вопроса Явлинский рассказал «Газете.Ru».
— У вас по рейтингам — 1%.
— Кто вам сказал?
— Левада-центр, ФОМ, ВЦИОМ.
— Это все неважно. Нормальная ситуация для старта. Кампания еще не началась. У парламентских партий вон по 3-4 процента.
— Не поздно ли начинать? За счет чего надеетесь преодолеть барьер в 5% и собрать демократический электорат?
— Мы хотим убедительно показать: в стране можно построить альтернативу по всем ключевым вопросам. Как по вопросам текущей жизни, так и по вопросам большой политики. Альтернатива — это самый главный вопрос для страны.
— А вы уверены, что людям вообще нужна альтернатива?
– Уверен, очень многим людям нужна альтернатива.
— Вы многие годы были той самой альтернативой. За вас голосовали. Потом вы не соглашались идти в правительство. Потом вас «закапывали» с помощью админресурса. Одновременно было разочарование в вас электората. Потому что вы вроде все время альтернатива, за вас голосуешь, а результатов нет. И рано или поздно люди говорят: а зачем вообще за него голосовать?
— Есть много людей, для которых принципиально важно проголосовать за альтернативу. Это не всегда связано с тем, что на следующий день все изменится в стране. Но для них принципиально важно голосовать за другое.
Далее. Никто не знает, что было бы в стране в 90-е годы, если бы не было нас. Какого размера была бы коммунистическая партия, чем закончился бы 93-й, что происходило бы в 96-м году, куда пришла бы война в Чечне и сколько бы там было жертв.
Жизнь гораздо сложнее, чем такое детское: «ай-ай, если вы не «Единая Россия», то зачем вы все нужны». А сейчас разницы между всеми остальными парламентскими партиями и «Единой Россией» никакой. Одна и та же компания.
— Они сами с вами не согласятся.
— А зачем со мной соглашаться? Давайте посмотрим, как они голосуют. Чтобы узнать, что делало «Яблоко» в Думе, надо посмотреть голосование.
— Иногда нужны инструменты, чтобы альтернатива становилась частью жизни. Когда вы были фракцией в Госдуме, у вас была возможность что-то менять. А потом вы просто стали образом. И нужно ли за вас голосовать при вашем 1%, если голос не материализуется в виде последующей фракции в парламенте?
— Тогда вам нужно голосовать за «Единую Россию» — там ваш голос будет материализован, мало не покажется. А мы были фракцией альтернативы, которая, например, на пике кризиса сумела назначить премьер-министром Евгения Примакова — мы убедили президента Бориса Ельцина. И это был единственный человек, который предотвратил беду, когда кризис был в самом разгаре. Мы не пошли к нему работать, потому что он был для нас чужой. Но это было решение, и мы на нем настояли не для себя, но для дела.
— А сейчас?
— Сейчас еще важнее, чем тогда. Исчерпаны все возможности системы. В каждой ее клеточке — ложь и нажива, больше ничего. Спорт открываешь — там нажива. Дети погибли в Карелии — то же самое. Это тупик, система исчерпана. Значит, нужно предложить альтернативу, выход из тупика.
Что мы увидели недавно на Петербургском экономическом форуме? Что ничего нового не будет! Все как есть, только еще более агрессивно, без всяких размышлений. Мы сейчас будем долбиться в эту стену с разбега, а раньше просто упирались лбом.
Приехавшие в Питер немногочисленные иностранцы объяснили: ланчи, завтраки, обеды и ужины — сколько хочешь, а санкции все равно будут, и не надейтесь ни на что. Нужно искать выход из положения.
– И какой это выход?
— Нам нужен другой президент.
– Даже если нам нужен другой президент, это в 2018 году. А у вас кампания в 2016-ом.
— Предлагаете, чтобы за день до выборов президента мы начали об этом говорить, хлопать крылышками, бегать, кудахтать «а что же, кого же, вот Жириновский, Зюганов, Прохоров, еще кто-то? Никого нет, ай-ай!». Так надо? Поздно будет… Сейчас надо этот вопрос включать в повестку политической жизни страны. Потому что главным вопросом всей политической жизни являются президентские выборы. Поиск кандидата и альтернативы.
— С точки зрения менеджмента звучит странно: у вас есть задача — избраться в Думу. А вы говорите: нет, нам нужно менять президента.
— В США люди за два года начинают поиск нового кандидата и проводят праймериз. У нас осталось полтора года, а вы мне рассказываете о том, что главный смысл жизни — соревноваться с Сергеем Мироновым (лидером «Справедливой России»).
Выборы в Думу мы считаем важным делом. Это шаг в сторону изменения системы через президентские выборы. Итог Думских выборов в целом понятен. Все партии кроме нашей будут критиковать только правительство. Все, включая «Единую Россию». Если она получит мало процентов, тогда Путин поменяет (премьера Дмитрия) Медведева.
Но проблема нашей экономики не в экономике, а в политике. Политика в России перпендикулярна развитию экономики. Принимаемые внутри- и внешнеполитические решения эту, мягко выражаясь, не очень работоспособную экономику уничтожают.
Но никто, ни Шувалов, ни Кудрин, не осмелятся это сказать. Вот они приходят на совет к Путину. Путин говорит: «Я Путин, поняли»? Они говорят: «Мы поняли». Он: «Давайте советуйте что-нибудь». Они: «Ну, мы даем вам такой совет – давайте вложим все деньги, какие у нас есть, в экономику». Путин: «Всё украдут». Они: «Ой, да, действительно, мы как-то об этом не подумали».
Потом Кудрин: «Что вы, Владимир Владимирович, не слушайте этих горе-чиновников. Надо создать другую судебную систему». Путин: «В каком смысле?». «Ну, чтобы она была независимой». «От кого? От меня?». «Ну, не от вас, конечно, но… От больших денег». Он говорит: «так, если мы сделаем независимую судебную систему, она к кому первому придет? Всех же посадят! Это мы тоже не можем».
Тогда выходит советник Глазьев, и говорит: «Давайте напечатаем новые деньги, инвестиционные». «А вы когда-нибудь слыхали о сообщающихся сосудах, Глазьев?» «Нет, я это не слышал, я академик». Все, на этом совет закрыт. Потом на форуме министр Улюкаев где-то в кулуарах говорит: «Ну, понимаете, мы ничем не смогли заинтересовать президента. Потому что как в советской пьесе, все говорим то, что он от нас ждет. Что я, что Кудрин, что Борис Титов, что Глазьев».
Тупик очевиден и по выступлению Путина: «Одно из крупнейших наших достижений — это то, что стала лучше работать судебная система, — говорит Владимир Владимирович. — В частности, мы соединили Арбитражный и Верховный Суд». Это же какой шаг! Он, правда, не говорит, куда этот шаг.
А что же нам делать с системой? Я принципиальный противник силовых методов, потому что точно знаю, в результате будет еще хуже. Тогда выбор не слишком большой. Надо через легальные процедуры добиваться существенного изменения, не декоративного. Побеждать на выборах в Думу и настойчиво выстраивать политическую альтернативу. Имея фракцию в Думе человек из 30, мы получим фундамент такой альтернативы.
— Где вы возьмете эти человек 30?
— Мы рассчитываем на 9—10% по спискам и 5-6 одномандатников. За это будем бороться.
— Почему бывший мэр Петразоводска Галина Ширшина и глава партии Эмилия Слабунова идут по спискам, вы сдаете Петрозаводский одномандатный округ власти?
— Слабунова, скорее всего, пойдет в Законодательное Собрание Карелии, а Ширшина — в горсовет Петрозаводска. Одномандатный округ для них не на 100% проходной. Они будут заниматься Думской кампаний в федеральном списке и региональной кампанией: городской и региональной.
«Мы и есть демократический фланг»
— На либеральном фланге есть ПАРНАС, Навальный с «Партией прогресса», «Открытая Россия» Ходорковского и проект омбудсмена Бориса Титова Партия Роста. Кого из них вы считаете союзниками?
— Со всеми, с кем можно не сражаться, мы готовы не сражаться. Мы сразу сказали, что с ПАРНАСом разведем максимальное количество округов и действуем в этом направлении. С Титовым у нас пересечение только в Петербурге из-за того, что там Оксана Дмитриева.
— Если Алексей Навальный призовет к бойкоту выборов, «Яблоко» сильно потеряет в электорате?
— Надеюсь, такой глупости не будет. Но если все же будет, то вспомним, что в Костроме список Демкоалиции с поддержкой Навального получил 2%. Даже Медведев перед выборами сказал: центр политической жизни переехал в Кострому. А на праймериз Демкоалиции весной нынешнего года зарегистрировалось 8 тыс. человек.
— Вы планируете привлечь электорат Навального, Ходорковского, Касьянова?
— Мы хотим привлечь всех. У меня такое впечатление, что Навальный, несмотря на то, что он обратился к Владимиру Владимировичу (пустить Партию Прогресса на выборы — «Газета.Ru»), вряд ли примет участие в выборах. И Михаил Ходорковский тоже вряд ли примет участие.
— Вы как «Единая Россия». Они тоже говорят, что об оппозиции говорить не станут, не хотят пиарить других. Но читателей это интересует, многие хотят объединенный демократический фланг.
— «Яблоко» идет на выборы, мы и есть этот фланг.
— В прошлый раз ваш фланг показал 3% на выборах в Госдуму.
— Да, это 2,5 миллиона избирателей. А вы, кстати, сколько привели избирателей на участки, чтобы ваш фланг получил больше процентов?
— То есть мы должны приводить?
— Конечно, это же для вас делается. Неужели вы думаете, что чего-нибудь дождетесь хорошего для себя, если так и будете просто сидеть и ждать? То, что делает «Яблоко», оно делает не для себя, а для вас. Поэтому, если вы не приведете избирателя, так и будете жить,
В 2011 году мы готовы были представить альтернативу и пойти на президентские выборы. Все говорили ровно то же, что и вы, обаятельно улыбаясь: да зачем это? Нам политики не нужны. Мы вот белые шарики — и по бульварам (имеется в виду протесты против фальсификаций выборов в 2011-2012 годах. — «Газета.Ru»). И хоровод на Садовом кольце. И контролировать, победил ли Путин. У нас такая работа.
— Благодаря тем людям с шариками хотя бы на региональных выборах на следующих циклах мы увидели, что ситуация в день голосования лучше. Не благодаря власти, а благодаря тем, кто вышел тогда на площадь. Они и вам услугу сделали.
— Во-первых, люди вышли на площадь благодаря нашей работе, буквально. Инициаторами и катализаторами процесса были наблюдатели, которых не побоялось выставить «Яблоко».
— Были «Голос», независимые наблюдатели, которые формально шли от других партий.
— От каких?
Там не было других партий. Никто кроме «Яблока» массово наблюдателей не выставил. Сурков им запретил это делать.
Но самая главная задача тогда была другая — по-серьезному предъявить альтернативу на президентских выборах, которые проходили через два месяца. Нужно было сделать максимум на думских выборах, чтобы потом пойти на президентские. Мы попытались. Часть сделали, часть не смогли. В результате получили 6 мая 2012 года (беспорядки на Болотной площади — «Газета.Ru») и полный разгром всего за счет принятых впоследствии законов. И колоссальный сдвиг назад. Уже через сто дней после инаугурации стало ясно: будет полный разгром оппозиции и регресс по всем направлениям.
Короче говоря, лозунг «голосуй за кого угодно, кроме»…и дилетантский отказ от участия в выборах президента в 2012 году, отказ от политики — всё это привело демократическую общественность к гражданскому вымиранию.
Лидерство в «Яблоке» и путь азиатских «тигров»
^
— Вы сказали, вместо того, чтобы ходить с белыми шариками, что, конечно, красиво и весело, нужно заниматься поиском и производством политиков. Ту же реплику мы можем вернуть вам. Вы лидером партии сколько являетесь? Вот и произведите новую линейку политиков для того самого избирателя, которого вы призываете прийти и привести других. Не только страшилками о будущем с Путиным привлекайте, а новыми лицами. А вы продолжаете быть единственным олицетворением партии.
— Вовсе не единственным. Мы надеемся на этих выборах привести в Думу целую когорту людей, которым по 30-40 лет. Посмотрите на другие партии, много ли новых лиц? С ума можно сойти, сколько новых политиков вокруг! А в «Яблоке» — есть.
— Какой запас прочности вы даете сегодняшней власти?
— Большой запас. Но если представить альтернативу, тогда изменится ситуация в целом.
— Вы не верите, что власть способна начать реформы в политике, в экономике, во всех сферах?
— Нет. Это совершенно невозможно. В 1996 году внутри ельцинского курса можно и нужно было создать альтернативу. В целом я считал, что страна движется исторически в правильном направлении, но экономическая политика должна быть другая.
Тогда можно было говорить о реформах, о том, что можно проводить другую экономическую политику в части бюджета и приватизации. А сейчас проблемы иные. Прекращение войны с Украиной. Восстановление взаимодействия и дружеских отношений с Европой. Отмена санкций. Предотвращение опасности большой войны. Прекращение бесконечного вранья по телевизионным каналам. Это не реформы — это смена системы и президента.
Новый президент не должен управлять судами, потому что не будет их боятся. Они к нему не придут. Нынешняя власть никогда не сделает независимую судебную систему, потому что она её боится. А без судебной системы эффективной рыночной экономики не может быть. Как не может быть футбола без правил игры и без судьи.
— Азиатские «тигры» поднимались отнюдь не на либерально-демократических реформах.
— Что ж, поговорим про «тигров». В 1960-1970-е годы поднимались «тигры»: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Южная Корея, Таиланд. В Южной Корее с 1971 года пять раз баллотировался в президенты и через 26 лет, в 1997 году, победил Ким Дэ Чжун. При нем судят двух предыдущих президентов за коррупцию, приговаривают их к смертной казни и он их милует, в экономике ликвидирует чеболи (околовластные финансово-промышленные группы). И Южная Корея становится одной из ведущих экономик мира.
Индонезия. Прилетаешь в Джакарту, садишься в такси и спрашиваешь: кому принадлежит это такси? И водитель говорит: президенту, его семье. Всё так или иначе в стране принадлежит клану власти — президенту и его семье. В результате, страна просто разваливается на куски. Во всех остальных «тиграх» произошло торможение, они сошли с арены. Этот пример свидетельствует: смена политической системы, отказ от коррупции и монополии на власть ведет к появлению эффективной экономики.
Китай это вообще другая история: руководство страны сдало в аренду мировому бизнесу территорию и население, и это привело к тем результатам, которые мы имеем сегодня. Все остальное — механизмы управления этими обстоятельствами. Китай выиграл из-за крайне низкой цены рабочей силы и неограниченной её численности. Сейчас у них будут проблемы, цена рабочей силы выросла, урбанизация достигла насыщения, появляется «ловушка среднего класса». Мы, конечно, можем демонстрировать знание других моделей. Но они к России не имеют никакого отношения.
Пока у нас закон не будет одинаковым для всех, не будет неприкосновенной частной собственности, — в России не будет эффективной экономики. К тому же, сейчас Россия в изоляции, её поставили под удар. Каждый теперь может нас пнуть, установить дополнительные санкции — это и есть тупик.
— И вы убеждены, что мы не выйдем из него, пока Путин у власти?
— Да, он не видит возможности менять систему, не верит, что существуют другие системы. Считает, что у всех точно так же, как у нас. Он говорил про британский референдум о выходе из ЕС: «Вот интересный (премьер Дэвид) Кэмерон. Он сам этого не хочет, зачем тогда объявляет референдум?». Путин не думает, что можно объявить референдум для того, чтобы не просто подтвердить своё мнение, а для того, чтобы узнать, чего хотят люди.
— Вы всерьез считаете реальным радикальный сценарий?
— Полтора года назад я написал большую статью, называется «Осознанный выбор?» Тогда Медведев сказал: да, у нас Крым и санкции, но это осознанный выбор. Я написал: «а вы понимаете, какой выбор сделали, что теперь будут делать с нашей страной? Ее снимут с доски. Нас ограничат в ресурсах настолько, чтобы мы стали третьеразрядной страной. Раз мы непредсказуемые и не соблюдаем правила, то воевать, конечно, не надо, а надо задвинуть куда-нибудь подальше. Как 180-миллионная Нигерия, о которой даже не знает никто. Это не вопрос, что они хорошие, а мы плохие. У нас 1% мирового ВВП, а у тех, кого мы себе противопоставляем — больше 40%.
Про встречу с Путиным и «демократа номер один»
— Вы с Путиным виделись в последний раз в 2011 году. Что тогда вы обсуждали?
— Обсуждал другие варианты развития. Я не сомневался, что он вернется. То, что вам рассказываю, то и ему предлагал. Он сказал, что этого не будет. Без всяких вариантов.
— Зачем тогда он вас пригласил, замерял мнение демократов?
— Нет, мы с ним ровесники, и он себя считает демократом. Поэтому ему не надо узнавать, что думают демократические круги. Он сам демократ номер один. Давно-давно он задал мне вопрос: «Можете сформулировать мне одним предложением, как поднять экономику?» Я не ожидал и, напряженно двигая мозгами, сказал: «свобода и закон». Он подумал и ответил: «этого в России не будет никогда». Я: «Ну, значит, и настоящей экономики тоже не будет никогда». Вот и все. Это то, что я понял за всю свою жизнь.
Настоящая экономика появляется только тогда, когда есть свобода и закон.
— Вы хотите получить фракцию в Думе, чтобы снова поговорить с Путиным?
— Вы сразу делаете вывод в хипстерском духе. Отвечаю. У Путина 50-60 млн поддержки людей, если верить цифрам. Даже если я получу пять миллионов, это вовсе не значит, что человек, у которого 50-60, ядерное оружие, национальная и межнациональная гвардия, будет срочно бежать со мной разговаривать. Не будет.
— Рейтинг одобрения Путина сейчас под 80%. Как вы рассчитываете побеждать его на президентских выборах?
— Когда людей спрашивают, за кого они, они просто никого другого не знают и называют Путина. Многие еще и боятся. Путин не занимается политикой, он занимается избирательной кампанией нон-стоп. То амфоры находит на дне моря, то летает с птицами, то побеждает врагов, ведет «линии» с народом. Когда люди увидят, что есть что-то реальное другое, ситуация начнет меняться. И это вопрос не персоны. Это появление другой парадигмы развития, представляющей будущее.
— Так может Россия любит такую харизматичную, авторитарную политику?
— Может, сегодня это для кого-то и привлекательно. Но проблема в том, что с этим до завтра не доживешь. У нас ситуация уже драматическая. Борьба на выборах не за того или иного кандидата, а за то, например, будут хоть какие-то свободные СМИ, или нет. Это долг всех и вопрос гражданской позиции. Иначе все будет как программы Киселева, Толстого или Соловьева.
Если бы был альтернативный канал, и он работал на другого кандидата, тогда бы в Москве у Киселева не было бы аудитории вообще. Сделайте альтернативное телевидение, и народ просто уйдет с первого и второго канала.
Серьезно говоря, все серьезные российские журналисты и издания должны работать на альтернативу, как работают в последний период избирательной кампании американские СМИ. Сейчас против Дональда Трампа будут работать почти все, и никто не будет говорить: «мы журналисты, мы над схваткой, мы немножко за Трампа, немножко за Клинтон».
— Так может вам яркости, наглости и напора не хватает? «Яблоко» нигде не видно.
— И куда с этим напором? Вон молодые лидеры ходят на некоторые политические телешоу, так там всем, кто говорит критические вещи звук приглушают чтоб и в студии был и не слышно ничего… . Если бы на федеральном канале накануне выборов можно было бы вот так разговаривать, как мы разговариваем с вами, думаю, за три передачи получили бы рейтинг, может быть, не в 50%, но в 7-10%. Только от удивления люди уже проголосуют.
— Так не дадут.
— Будем бороться, искать форматы. Я надеюсь на 9—10% по спискам в Госдуму. Думаю, барьер точно преодолеем.
— Вы уже уходили добровольно из власти. Есть ли вариант, при котором вы можете уйти из нее после избрания в Думу?
— Сейчас такого сказать не могу. Но если, например, Дума будет объявлять войну, то я, конечно, положу мандат. Не хочу быть частью такого решения. Но, надеюсь, такой ситуации не случится.
Крымский вопрос
— Одна из базовых позиций партии «Яблоко» по внешней политике — это крымский вопрос. Ваша партия предлагает международный референдум по Крыму о статусе Крыма. Вы считаете произошедшее аннексией?
— Мы считаем это аннексией, нарушением международных и российских законов и договоренностей. Поэтому Россия должна признать произошедшее нарушением законов. Поскольку между Россией и Украиной этот вопрос не решить, после этого необходима международная конференция по Крыму, с участием европейцев, британцев, американцев, Украины и нас, которые подписывали Будапештский протокол. Я думаю, Турция должна участвовать, ее интересы есть в Крыму. Эта конференция выработает «дорожную карту», возможно, ее частью будет новый, признаваемый международным сообществом референдум.
— Почти все международное сообщество против аннексии, как официально называют произошедшее на Западе. И они, скорее всего, продолжат требовать передать Крым, с референдумом или без референдума. В любом случае, в Крыму большинство пророссийского населения и при новом референдуме будет, скажем, если не 96%, то 70-80% за Россию. Но Украина будет против такого варианта, и продолжать считать это аннексией.
— Международная конференция примет «дорожную карту», договорится по референдуму. А какой уж будет результат, ну, такой и будет признан, всё. На конференции Украина будет обязательным участником. И если она будет возражать, значит, конференция будет искать другое решение. «Дорожная карта» может быть долгой. Есть прецеденты, например, турецкий Кипр. Но другого способа движения вперед нет. И России, и Украине, всем будет сказано, что, друзья, если вы хотите двигаться вперед к политической и экономической интеграции, это дело надо решить. В референдуме может быть много вопросов, в том числе, и о независимости Крыма от Украины. Вы давно были в Крыму, как там?
— Большинство по-прежнему за Россию и боится гуманитарной катастрофы как в Донбассе в случае возврата на Украину.
— Не надо никакой катастрофы. Пока соберут конференцию, примут решение, несколько лет будут готовить референдум. Пока это фантазии на тему, главное признать незаконность аннексии и созвать международную конференцию.
— Вы говорите про альтернативу: хорошие отношения с Украиной и международным сообществом. Кооперация вместо конфликта. Мы далеки от мысли наших властей, что на Западе все враги, но исторически-то все страны ищут свою выгоду, все прагматики. И вы не боитесь, повторения 90-х, когда страна потеряла многие позиции во внешней политике.
— Нет, мы сейчас теряем позиции. Поссорились с Украиной и что приобрели? Ничего, все потеряли. Кормим Донбасс, в том числе и своей кровью. Содержим Крым, но не даем ему развиваться, потому что туда никто не хочет ехать. Сделали крымчан гражданами второго сорта.
— В чем заключается ваша позиция по Донбассу? Вы выступаете за вывод оттуда всех сил?
— Присоединюсь к сторонникам Минских соглашений. Это минимум, что пока можно сделать. Суть в выводе всех незаконных вооруженных формирований и закрытии границы. Донбасская история спровоцирована Россией и Россия несет значительную долю ответственности за все произошедшее.
— Если вы придете к власти, передадите Украине и международному трибуналу в Гааге всех ответственных за то, что там происходило?
— Надо быстрее заканчивать с этой историей. И, кстати говоря, я буду баллотироваться в президенты, а не в прокуроры, потому думаю как закончить конфликт. Надо вывести оттуда все вооруженные формирования, принять исчерпывающие меры, чтобы население было под защитой, не было угрозы расправы, мести, кровопролития. Это будет очень непросто, будут задействованы самые разные международные механизмы, без них справиться невозможно, но, в любом случае, это немедленно надо прекращать.
Решение проблемы Украины заключается в том, чтобы и Россия, и Украина вместе двигались в Европу. Европейский Союз создали, чтобы в Европе не было войны, например, чтобы Германия перестала воевать с Францией. И он доказал свою эффективность. Даже разделение Чехословакии на две страны прошло мирно и спокойно, потому что проходило внутри ЕС.
Такое же решение должно было быть в Югославии, но до этого Европейский Союз тогда не додумался, а провел там совсем другую операцию, и очень зря это сделал, последствия этой ошибки расхлебываются до сих пор. Когда Россия перестанет выдумывать, что она идет в Евразию, вся наркотическая галлюцинация прекратится. Тогда Россия, Украина, Молдова, Беларусь — будут строить европейские государства. Снимется вопрос Крыма, многие образованные крымчане говорят, что они-то хотели бы, вообще-то, быть частью Европы. А из-за того, что Россия решила стать Евразией и двигается в противоположном направлении, произошел разрыв постсоветского пространства. И на линиях разрыва потекла кровь.
— Из-за вашей позиции по Крыму часть спонсоров отпала от партии?
— Есть бизнес, который сказал, что он принципиально не хочет финансировать такую политическую позицию, но основная часть сохранилась. Однако бизнесу страшно финансировать открыто нашу избирательную кампанию.
«Из нашего гнездышка кто только ни повылетал»
— Вы готовы участвовать в праймериз перед президентскими выборами? Провести дебаты с вами, Дмитрием Гудковым, Алексеем Навальным, Михаилом Касьяновым, Михаилом Ходорковским, чтобы найти лучшего лидера.
— Мы разговаривали с Алексеем Навальным в том числе и о президентских выборах. Он спрашивал, если ЕСПЧ отменит его приговоры и его допустят к президентским выбора, что тогда? Я ответил, что тогда мы с ним проведем дебаты, посмотрим, кто сильнее, и решим. Но надо понимать, что в России праймериз это пока крайне неуместное копирование американского опыта. Дебаты можно устраивать с кем угодно. Только они должны быть равноправные и содержательные. Дмитрий Гудков (оппозиционный депутат Госдумы — «Газета.Ru») перспективный молодой человек, надеюсь он не растворится, не исчезнет, будет работать в политике… Я желаю ему успеха, помогу, чем смогу.
Ходорковский вряд ли скоро вернется в Россию. Навальному пока нельзя избираться. Бориса Немцова убили. Касьянов не очень подходящий кандидат. Что делать? Вот ведь проблема.
— В оппозиции были слухи, что «Яблоко» не пошло в Демкоалицию из-за указаний со стороны администрации президента. Что ваша партия для администрации гораздо удобнее, чем Демкоалиция.
— Мне кажется, история попытки создания того, что называли Демкоалицией для администрации президента совершенно прекрасна. Они просто счастливы.
— Почему НОДовцы, прокремлевская молодежь атакуют Касьянова и Навального, но не бегают за вами?
— А вы пригласите их на интервью и спросите. Или поговорите с нашей службой безопасности. Они вам скажут, кто за нами бегает и кто не бегает. Люди, о которых вы спрашиваете, участвуют в государственной травле. Никто не бегал за Немцовым, просто застрелили — и все.
— Вас как главу «Яблока» гостравля касается или нет?
— Касается, как и всех, кто не нравится властям. Все возможно, и ко всему надо быть готовым.
— Нет, почему за вами не бегают активисты радикальных прокремлевских движений. Может быть Кремль считает Касьянова, Навального, Ходорковского более радикальными оппонентами? Какую-то угрозу вы чувствуете?
— Я сталкивался с разного рода ситуациями такого рода неоднократно. Это часть жизни и работы, всё может случиться в любой день. Просто не думаю об этом. В интернете частенько угрожают. Приходится иметь службу безопасности, следить за этим. Но если этим займется государство, никто и ничто не поможет. Против Касьянова этим занимается государство. У него свои отношения с государством. У меня другие. Он был «их» (премьер-министром), а я «их» не был, никогда.
— Власти воспринимают уход из элитных кругов в оппозицию как предательство?
— Власти для меня ничего не делали — я им ничего не должен. Я сам по себе и не появился из их рук. Даже Ельцин не был фигурой, которая меня создала.
— Вы не «их», но во власти много ваших. Например, Ирина Яровая.
— Мы открытая гражданская партия.
Из нашего гнездышка кто только ни повылетал. Вон, многие в Думе. Только в том и суть, что они у нас, с нами расти не захотели, не смогли. Многие из них приходили ко мне и спрашивали: вы можете нам гарантировать прохождение в Думу? Я говорю: нет. Ну, нет, значит, мы уходим к тем, кто может. Они просто хотели быть в Думе. И это всё, что их интересовало.
— А они настолько все беспринципные, что просто перешли в другой стан?
— Да именно. Они особый тип людей, они не политики, конформисты, им лишь бы теплые места. В партии главное, чтобы был преданный общему делу костяк, люди работающие не ради денег и должностей. Есть такие люди, значит, есть партия.
— А вы не боитесь, что в случае очередного поражения часть костяка отвалится?
— Этот костяк не разваливается, как показал опыт. Я, конечно, переживал и сомневался, но мы 13 лет живем вне Думы. Все понимают, что это за система и что в ней возможно, а что нет.
Число голодающих в мире в ближайшие 10 лет снизится более чем вдвое
Георгий Степанов
Цены на еду в мире показали самый значительный месячный рост за четыре года, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Так, индекс цен на продовольствие ФАО в июне вырос по сравнению с майским показателем на 4,2% – до 163,4 пунктов. Рост фиксируется уже пятый месяц подряд, хотя в годовом выражении этот показатель снизился на 1%.
Основной причиной этого стало резкое – на 14,8% – подорожание сахара, сопровождающееся умеренным ростом цен на злаковые растения, молочные продукты и мясо. Снизились только цены на растительные масла, что связано с удешевлением пальмового масла, вызванным снижением спроса и сезонным увеличением производства в Индонезии и Малайзии.
В другом исследовании, которое практически одновременно обнародовал минсельхоз США, говорится, что в ближайшее десятилетие ситуация с голодом в 76 развивающихся странах резко улучшится. Согласно оценкам его экспертов, рост доходов граждан положительно отразится на состоянии продовольственной безопасности в этих странах. По данным ООН, на сегодняшний день 17% населения «третьего мира» не имеют доступа к продуктам питания. К 2026 году цифра сократится до 6%. Таким образом, число голодающих на планете снизится с 609 млн. человек в 2016 году до 251 млн. человек в 2026 году.
Как отмечает минсельхоз США, эти прогнозы основаны на текущих макроэкономических условиях, которые, однако, могут измениться в ближайшем будущем. По расчетам ведомства, в ближайшее десятилетие среднегодовые темпы снижения цен на кукурузу составят 1,6% с учетом инфляции, а пшеницы и риса – 1,3% и 0,3% соответственно.
Что касается России, то в отчетах ФАО она не упоминается. Основным фактором, влияющим на продовольственные цены в нашей стране, остается динамика валютных курсов, заметила в беседе с «НИ» генеральный директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина.
«Возьмем, например, рынок плодоовощной продукции, – говорит собеседница «НИ». – Несмотря на объявленные инвестпроекты по увеличению производства овощей закрытого грунта, по строительству овощехранилищ, мы по-прежнему будем импортировать эти товары, причем за валюту. И по сахару-сырцу уровень цен будет определяться событиями на валютном рынке».
Рынок недвижимости Куала-Лумпура затормозился
В первом квартале 2016 года количество сделок с жилой недвижимостью малазийской столицы упало на 16% по сравнению с четвертым кварталом 2015-го.
Политическая неопределенность, ограничение банковского финансирования и скандал, связанный с премьер-министром страны и государственной компанией 1Malaysia Development Berhad (1MDB) привели к снижению активности местных и иностранных покупателей на рынке недвижимости Куала-Лумпура, пишет The New York Times.
Потенциальные инвесторы отложили сделки и заняли выжидательную позицию. Ведь по данным Prime Global Cities Index от Knight Frank только в марте текущего года цены на местную недвижимость упали на 1,8% годовых. Это резко контрастирует с устойчивым ростом, который наблюдался в последние годы. При этом в 35 других городах, рассмотренных в индексе, квадратные метры подорожали в среднем на 3,6% годовых.
Ранее большинство сделок в Куала-Лумпуре проходило с новыми апартаментами в центральной части города. Сегодня же в условиях конкурентного рынка, чтобы привлечь покупателей, застройщики предлагают скидки, бесплатную обстановку и другие бонусы. А самая высокая покупательская активность наблюдается на рынке вторичной недвижимости, где средняя стоимость объекта на 30% дешевле, чем на рынке «первички».
На иностранцев в Малайзии приходится менее 10% от общего числа покупателей жилья. Среди них большую часть составляют представители Сингапура. При этом в последние несколько лет нарастает активность со стороны китайцев, индонезийцев, японцев и корейцев.
В апреле 2016 г. США увеличили импорт российской лиственной фанеры на 1,2%
В апреле 2016 г. общий объем импорта лиственной фанеры в США снизился по сравнению с мартовскими значениями почти на 10%, составив 211,096 тыс м3, об этом сообщает министерство торговли страны.
Китай сократил поставки на 10% до 101,19 тыс. м3, Индонезия — на 37,4% до 23,38 тыс. м3, Малайзия — на 41,6% до 5,27 тыс. м3. В то же время США увеличили импорт лиственной фанеры из Эквадора на 24% до 6,68 тыс. м3, из Канады — на 12,1% до 17,54 тыс. м3, из России — на 1,2% до 33,17 тыс. м3.
Малайзия. Запасы пальмового масла максимальные за последние семь месяцев
Запасы пальмового масла в Малайзии в июне выросли в первый раз за последние семь месяцев из-за сезонного скачка в производстве и низкого спроса со стороны импортеров в течение Рамадана.
Большие запасы пальмового масла Малайзии, второго по величине производителя пальмового масла в мире после Индонезии, могут повлиять на уровень цен на тропического масла, которые сейчас находятся на отметке 7-месячного минимума на фоне повышения прогнозов производства.
Пальмовое масло Малайзии. Ближайшие перспективы
Запасы пальмового масла в Малайзии увеличились под влиянием снижения мирового спроса на это растительное масло и благодаря восстановлению производства после засухи, вызванной эффектом Эль-Ниньо, о чем уже писал УкрАгроКонсалт.
Так, запасы к концу июня увеличились на 4,2% до 1,72 млн. тонн по сравнению с предыдущим месяцем. Производство сырого пальмового масла выросло на 10% до 1,49 млн. тонн. При этом в июне экспорт снизился на 5,6% до 1,21 млн. тонн и достиг минимального размера, начиная с 2008 года. Это предварительные результаты июня, официальные данные станут известны 12 июля в новом отчете USDA.
По предварительным прогнозам, запасы пальмового масла будут расти и далее, так как производство в самом разгаре. Во втором квартале текущего года цены фьючерсного рынка на эту культуру снижены на 14%. Это самое большое снижение с сентября 2012 года. Снижение спроса на экспорт наряду с более высоким производством будет отрицательно влиять на цены, которые будут варьироваться между 2.300 ринггитов и 2.600 ринггитов на торгах в июле.
Турция: в мае импорт масличных и растительных масел существенно увеличился
По информации аналитиков Oil World, в мае 2016 г. импорт трех ключевых масличных культур в Турцию увеличился более чем в 2 раза – до 339 тыс. тонн против 162 тыс. тонн за аналогичный месяц 2015 г. Из указанного объема наибольшую часть закупок составили соевые бобы - 250 (91) тыс. тонн. Поставки семян подсолнечника в отчетный период возросли на 54% - до 85 тыс. тонн, что является практически максимальным месячным показателем за последние 3 года, прежде всего благодаря активным отгрузкам из Молдовы. В свою очередь, импорт рапса в страну сократился до 4 (10) тыс. тонн.
Кроме того, импорт двух ключевых растительных масел (подсолнечного и пальмового) в Турцию в мае возрос до 126 (97) тыс. тонн на фоне существенного роста отгрузок продукции из России и Малайзии. Так, поставки подсолнечного масла в страну составили 75 (64) тыс. тонн, пальмового – 51 (33) тыс. тонн.
Поставки соевого шрота в указанный период возросли до 42 (26) тыс. тонн, подсолнечного – сократились до 49 (65) тыс. тонн вследствие снижения отгрузок продукции из Украины и России.

«Хождение в бизнес-народ»: Красноярск и Иркутск
Автопробег «Бизнес-Пульс России» продолжает двигаться вглубь страны, а его идейный вдохновитель — основатель компании Support Partners Константин Борисов — делиться с читателями BFM.ru своими наблюдениями о городах, которые ему уже удалось посетить, и о предпринимателях, рассказавших ему о секретах развития своего бизнеса
Следующей точкой вашего маршрута стал Красноярск. Какое впечатление у вас осталось от этого визита?
Константин Борисов: Красноярск — это большой богатый промышленный город, вокруг него расположено множество заводов и производств. Деньги в регионе есть, и это чувствуется, поэтому люди не стремятся массово оттуда уехать.
Там мы встретились с владельцем ресторанного бизнеса, который один из немногих в городе построил его системно с нуля, сам будучи бывшим поваром и официантом. По его словам, в этой сфере выживают только те, для кого это профильный бизнес, а не своеобразная игрушка или подарок для жены на день рождения, чтобы она чем-то занималась. Поэтому его рецепт успешного развития заключается в том, чтобы постоянно образовываться и расти, используя опыт лучших ресторанов и не забывая ездить на международные семинары.
Также мы поговорили с основателем сайта по поиску работы. Он сказал, что Красноярск — это большой промышленный город, где рулят крупные олигархические предприятия, а ему удалось создать крупнейший локальный портал, который приносит прибыль и работает со всем рынком. Причем свой успех он называет везением, потому что долго вкладывал в свое детище силы и средства перед тем, как оно выстрелило. В принципе, у таких компаний есть потенциал для выхода на московский рынок, а это 85% рынка всей страны, но там уже есть свои монополисты. Зато нашему собеседнику удалось диверсифицировать бизнес, используя свою сильную команду программистов. Им удалось запустить экспортное направление по созданию игр для мобильных телефонов, которые продаются в Китай, Малайзию, Корею и Японию, и получать оттуда валютную выручку. Сейчас компания будет заниматься автоматизацией логистического бизнеса в Красноярске, используя своих качественных программистов. Кстати, в кризис они в первую очередь подняли им зарплату, потому что у них всегда есть соблазн уехать в Москву или в Силиконовую долину, а местным предпринимателям жизненно важно удержать такие ценные кадры. Этот регион, как и Иркутск, довольно сложный для технологических стартапов, потому что тяжело привлечь инвестиции и достаточно квалифицированных людей, за которых приходится бороться на локальном рынке.
Вы уже упомянули Иркутск, а это как раз был следующий пункт вашего путешествия. Насколько он отличается от Красноярска?
Константин Борисов: В принципе, они находятся, что называется, на одной волне. В Иркутске меня поразила степень бизнес-патриотизма и любви к региону. Люди верят в город, в то, что они должны развиваться, верят в себя и в то, что кризис — это как пост, время для обновления и возникновения чего-то нового. Иркутск — это еще и туристический центр, отправная точка для всех экскурсий на Байкал. Кроме того, местные предприниматели возрождают традиции русского меценатства, вкладываются в реконструкцию центра города. Например, там возник большой пешеходный район, где восстановили старинные русские избы: их покрасили и внутри в них находятся хорошие рестораны, кафе и бутики. Получилась очень гламурная атмосфера русской деревни. Причем это такая длинная улица, которая была создана без участия бюджетных средств.
В Иркутске мы поговорили с владельцем масло-жировой компании, который рассказал, что у них в приоритете развитие своей команды продаж. Люди становятся ключевым активом, ведь если раньше все росло автоматически, то сейчас в маркетинг необходимо инвестировать. По его мнению, нужно стараться уходить от ценовой конкуренции: на рынке всегда будет тот, кто дешевле, чем ты. Осознав это, компания начала развивать бренды более высокой ценовой категории, говоря, что пусть мы будем стоять не на каждой полке, зато мы будем стоять хорошо.
Представитель лизинговой компании, с которым у нас тоже была встреча, рассказал, что для них основным вызовом стало отсутствие банка, который мог бы их фондировать. Это проблема появилась тогда, когда им был необходим большой первоначальный взнос на покупку нового оборудования. Понятно, что сейчас кредиты стали очень дорогими, поэтому компания решила начать привлекать деньги частных лиц. В итоге, изменения в структуре фондирования позволили им удержаться на плаву и меньше зависеть от банков.
Также нам попался еще один очень интересный пример: когда владелец строительного бизнеса, который в кризис оказался не в лучшем состоянии, решил переключиться на образование. Он открыл иркутский центр профориентации для подростков, в котором дети проходят глубокую психологическую подготовку до поступления в вуз, а также выясняют, к чему у них есть склонности и способности. Эти услуги оплачивают родители, которые понимают, что порядка 60% выпускников не работают по специальности, фактически потратив пять лет своей жизни в университете зря.
Екатерина Надрова
Белоруссия за годы независимости стала "островком безопасности и миролюбия", заявил президент страны Александр Лукашенко в своем поздравлении соотечественникам с связи с Днем Независимости. Белоруссия отмечает День Независимости 3 июля.
"В нынешнем году мы отмечаем юбилей — 25-летие суверенитета нашего государства. Этот праздник воплощает в себе историческую преемственность и выбор самостоятельного пути развития страны, основанного на принципах справедливости, заботы о людях, социально-политической стабильности и многовекторной внешней политики", — говорится в поздравлении, которое приводит пресс-служба президента Белоруссии.
Лукашенко напомнил, что Белоруссия отмечает День Независимости в день освобождения Минска от фашистов в 1944 году. "Судьбоносное значение для нашего народа имеет 3 июля — день освобождения столицы Беларуси от фашистов. В ходе всенародного волеизъявления эта дата стала и Днем Республики. Сегодня мы по традиции отдаем дань уважения и памяти павшим на полях сражений во имя освобождения Родины и чествуем ветеранов Великой Отечественной войны за их ратные и трудовые подвиги", — сказал президент.
"За годы независимости Беларусь добилась хороших результатов в промышленности и сельском хозяйстве, социальной и научной сферах, внешней политике и оборонном комплексе. Она стала островком безопасности и миролюбия, где у граждан есть уверенность в своем будущем и все возможности получить достойное образование, спокойно трудиться и растить детей", — говорится в поздравлении.
В адрес президента Белоруссии и белорусского народа поступают многочисленные поздравления от глав государств, международных организаций, иностранных политических, религиозных и общественных деятелей по случаю Дня Независимости.
Как сообщила пресс-служба Лукашенко, президент России Владимир Путин в своем поздравлении отметил, что "дружба и взаимовыручка, закаленные в суровые годы войны, и сегодня служат надежной основой для союзнических отношений с Беларусью".
"С удовлетворением отмечаю позитивную динамику двустороннего сотрудничества в различных сферах, высокую эффективность партнерского взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ и других многосторонних структур, — говорится в поздравлении президента РФ. — Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодных российско-белорусских связей на благо братских народов наших стран".
В поздравительном послании президенту Лукашенко председателя КНР Си Цзиньпина отмечается, что развитие Белоруссии достигло выдающихся результатов. "Я уделяю большое внимание развитию китайско-белорусских отношений, ожидаю следующей встречи вместе с Вами для углубления обмена мнениями по вопросам, представляющим интерес для обеих сторон, непрерывного наполнения содержанием отношений между двумя странами на благо народов Китая и Беларуси", — отметил Си Цзиньпин.
Поздравительные послания поступили от руководителей государств-членов СНГ, президентов Алжира, Италии, Германии, Польши, Сербии, Швейцарской Конфедерации, Индии, Ирландии, Португалии, Вьетнама, Зимбабве, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Монголии, Судана, Сингапура, Сирии, королей Швеции, Нидерландов, Саудовской Аравии, Таиланда королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, генерал-губернатора Австралии, Верховного Правителя Малайзии, Председателя Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба.
Главу белорусского государства также поздравили Папа Римский Франциск, Князь и Великий Магистр Суверенного Мальтийского Ордена, сообщила пресс-служба президента Белоруссии.
Мемы «Европа» и «Запад» проходят проверку в Азии
Владимир Терехов
Несколько примечательных событий, случившихся в последнее время в АТР, позволяют в очередной раз затронуть тему содержательной стороны нескольких устоявшихся мемов, из которых особую значимость сохраняют “Европа” и “Запад”.
Отражают ли они с окончанием холодной войны какую-либо реальность, или становятся не более чем инструментами в руках ловчил от пропаганды, весьма успешно использующих их в целях одурачивания разного рода самостийных простаков? Не является ли нынешний ЕС с его странными “ценностями” подменой исторической Европы? Что происходит с лидером современного “Запада”, то есть США?
В поисках ответа на обозначенные и схожие вопросы придётся принимать во внимание фактор укоренённости подобных слов в современном политическом дискурсе. Поэтому желательно рассмотреть разнообразные аспекты государственности каждого из нынешних ведущих членов “Европы” (“Запада”), включая их историю, господствующие религии и национальные мифы, общественно-социальное устройство, определить современные экономические и политические интересы.
Однако некие контуры этого ответа можно усмотреть, ограничиваясь наблюдем за поведением отдельных “западников” в современной глобальной игре. Её главным содержанием во всё большей мере становится противостояние США и КНР, географический центр которого смещается в Южно-Китайском море.
В этом плане информативными стали такие последние события в регионе, как саммит G-7, выступление министра обороны Франции Жан-Ив лё Дриана на очередном форуме “Диалог Шангри-Ла”, девятый по счёту визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Китай, очередные военно-морские учения “Малабар”, прошедшие к северу от ЮКМ.
Ключевым моментом политической части “Декларации”, принятой на саммите G-7, стало выражение его участниками “опасений относительно ситуации, складывающейся в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях”, а также подчёркивание “фундаментальной значимости мирных способов разрешения [территориальных] споров” на основе международного права.
Приведенные достаточно нейтральные фразы несомненно учитывают позицию большинства европейских членов G-7, не желающих портить отношения с Китаем путём его прямого обозначения в качестве источника упомянутых “опасений”. Что сплошь и рядом делают в последнее время Вашингтон и Токио.
Из всех крупных европейцев только Франция обнаруживает следы фантомных болей по колониальному прошлому в Юго-Восточной Азии, о чём свидетельствуют выступление министра обороны страны Ж.-И. лё Дриана на форуме “Диалог Шангри-Ла” (прошедшего в начале июня в Сингапуре) и его же последующее посещение Вьетнама, где ему был оказан пышный приём.
Выступая на форуме, он заявил о готовности Франции принять участие в поддержании безопасности в АТР и, в частности, обозначить её “регулярное и ощутимое” присутствие в ЮКМ. При этом Ж.-И. лё Дриан включил в перечень французских партнёров Австралию, США, Сингапур, Малайзию “и даже Японию, а также ряд других” стран.
Китаю среди них места не нашлось. Впрочем, он не был обозначен и в качестве противника Франции в регионе.
В порядке комментария к данному заявлению можно сказать, что если курс Парижа на реанимирование колониальной политики второй половины 19 в. в “ближнем зарубежье” (то есть в Северной и Центральной Африке, а также на Ближнем Востоке) поддаётся хоть какому-то осмыслению, то попытки “вернуться” на почти противоположную сторону земного шара (в условиях абсолютно отличных от того, что было в конце 19 в.) заставляют сомневаться в адекватности новым мировым реалиям нынешнего руководства страны.
Несмотря на относительно нейтральные формулировки выступления французского министра обороны, они спровоцировали в КНР болезненные ассоциации “с вторжением западных стран” на территорию Китая во второй половине 19 в., то есть с временами “опиумных войн”, в которых Франция была одним из основных представителей тогдашнего “Запада”.
Масштабы китайской катастрофы, вызванной “опиумными войнами”, делает их едва ли не самым позорным и преступным эпизодом недавней истории современного “Запада”. Непонятно, зачем сегодня провоцировать подобные ассоциации у второй мировой державы и потенциально крайне выгодного экономического партнёра.
Однако Ж.-И. лё Дриан не ограничился заявлением о начале “регулярного и ощутимого” французского присутствия в ЮКМ. Он пообещал привлечь к этому и некоторые другие страны ЕС, что только усилило настороженность в Китае, вспомнившего о так называемой “коалиции восьми”, подавившей в 1900 г. “боксёрское восстание”.
Интересно, кто из европейцев отзовётся на этот призыв? Великобритания, которая первая вступила в контролируемый Китаем Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, что вызвало шок в США? Или Германия, правительству которой с огромным трудом удалось получить согласие парламента на отправку контингента бундесвера в расположенный вдвое ближе Афганистан?
Очередной успешный визит А. Меркель в КНР, прошедший в середине июня, лишний раз подтвердил абсолютную невозможность военного противостояния Германии со второй мировой державой из-за претензий последней на владение какими-то коралловыми островами с трудно произносимыми названиями, да ещё расположенными “у чёрта на куличках”.
Судя по всему, перед Германией замаячили совсем другие геополитические “заморочки”, связанные с очередным заглатыванием наживки, появившейся в непосредственной близости от неё. Эту наживку украшает фирменная надпись: “Экономическое и военно-политическое лидерство в Европе” (по крайней мере, Восточной).
Как показывает недавняя история, процесс заглатывания указанной наживки – самый надёжный способ разрушения даже иллюзий относительно единства среди ведущих европейцев. В этом плане недавняя ремарка премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона на тему крайне опасных для мира в Европе последствий пресловутого “Брэксита” (то есть потенциального выхода страны из ЕС) приобретает характер зловещего пророчества.
Крайне примечательными представляются особенности политической борьбы, разворачивающейся на территории лидера современного “Запада”. Едва ли не впервые за последние десятилетия в центре этой борьбы оказывается проблематика силового распространения в мире “демократических ценностей” в ущерб решению обостряющихся внутренних проблем.
Указанную проблематику придётся принимать во внимание (в той или иной мере) любому будущему президенту США. Что неизбежно будет способствовать размыванию содержательной стороны мемов “Запад” и “Европа”.
Наконец, необходимо кратко затронуть популярную в последнее время тему “распространения на Азию” зоны ответственности НАТО, то есть военно-политического воплощения тех же мемов. Их авторы и “спонсоры” прикладывают максимум усилий для искусственного продления жизни этого динозавра холодной войны.
Не вызывает сомнения одно: к “азиатскому НАТО”, о котором говорится с начала прошлого десятилетия, нынешнее “европейское НАТО” не будет иметь почти никакого отношения. В АТР, куда смещается мировая политика, свои игры и свои основные её участники. Все они обозначились в ходе очередных военно-морских учений “Малабар”, захвативших акваторию от южного побережья Японии до севера Филиппин.
Непосредственными участниками этих учений стали США, Индия и Япония. Китай, то есть главный объект и цель учений “Малабар”, тоже принял в них косвенное участие, направив разведывательный корабль с целью наблюдения за двумя индийскими фрегатами “объединённой союзнической эскадры”.
При этом китайское судно прошло через один из проливов между островами северной гряды архипелага Рюкю, что в Японии было воспринято как нарушение её территориальных вод.
“Азиатское НАТО” действительно формируется, но с целями, не имеющими никакого отношения к европейским политическим играм. Поэтому вряд ли мы увидим среди его участников кого-либо из значимых европейцев. Даже Францию.

Анатолий Чубайс: государству пока не удалось развернуть бизнес в сторону инноваций.
РОСНАНО долгое время была объектом критики за убыточность, но с 2014 года наконец вышла на прибыль и даже готова платить дивиденды. О том, когда можно ожидать выплат акционерам, какие барьеры препятствуют развитию инноваций в России, что следует сделать правительству для этой отрасли и экономики в целом, каковы планы РОСНАНО на азиатском рынке, а также куда двигаться ВЭБу и за что стоит поставить памятник главе ЦБ, рассказал глава госкомпании Анатолий Чубайс.
— С вашей точки зрения, российскому рынку нанотехнологий и инноваций уделяется достаточно внимания со стороны государства? Нужна ли вам дополнительная поддержка?
— За последние 10 лет государство впервые вошло в эту сферу и создало очень серьезные инструменты поддержки в целом инновационной экономики в стране. По сути, они родились у нас в 2006–2007 годах, когда принимались первые решения на этот счет.
Это было абсолютно правильно и своевременно. Но что не удалось? Государству не удалось по-настоящему развернуть частный бизнес в сторону инновационной экономики.
Государственные институты развития свое дело делают, но этого недостаточно. Чтобы экономику масштаба России по-настоящему сделать инновационной, нужно, чтобы этим по-настоящему заинтересовался частный бизнес, не имеющий отношения ни к РОСНАНО, ни к Сколково, ни к РВК. Этого пока не произошло.
— Что необходимо сделать государству, чтобы заинтересовать частный бизнес?
— Чтобы частный бизнес по-настоящему этим заинтересовался, нужны не столько специальные меры, секторальные, сколько фундаментальные. Речь идет об основах рыночной экономики, которые мы не достроили. Это защита прав частной собственности, независимая судебная система и способность отстоять свои интересы в законном процессе в суде, устойчивая макроэкономическая ситуация, по которой, кстати, есть очень важные положительные сдвиги в настоящее время.
— По вашему мнению, какие шаги необходимо предпринять правительству для того, чтобы экономика страны перешла к росту?
— Эльвира Набиуллина (председатель Банка России — ред.) озвучила цифру, которая способна изменить бизнес-среду в России, — это целевая задача по инфляции на 2017 год в 4%.
За всю новейшую историю России у нас никогда не было 4%. И если Центральный банк в будущем году снизит инфляцию даже не до 4%, а до 5%, то уже за это точно можно поставить памятник Эльвире Сахипзадовне, без всякой иронии, я говорю серьезно.
Инфляция в 4–5% — это другой бизнес-горизонт, это способность увидеть свой бизнес не на год, а минимум на 3–5 лет, это радикальное снижение процентных ставок и увеличение доступности кредитов, и это, конечно, реальная предпосылка для экономического роста.
Но этого недостаточно. Нужны структурные реформы. И они нужны не столько в налоговой или антимонопольной сфере, где базовые институты уже построены, а прежде всего в правоприменительной сфере, где бизнес должен быть уверен в том, что его собственность будет защищена независимо от того, какова его вхожесть в коридоры региональной или федеральной власти. Это основа основ, это то, над чем собирается работать ЦСР под руководством Алексея Кудрина.
— Вы намерены что-то посоветовать господину Кудрину?
— Я не вхожу в органы ЦСР, не являюсь штатным экспертом, но если будут вопросы, с удовольствием готов помочь, но там собраны сильные эксперты, адекватные для поставленных задач.
— Чиновники и эксперты заявляли о необходимости реформирования институтов развития, говорили о недостаточной их эффективности и даже о необходимости закрытия части из них. По вашему мнению, такие институты, как РОСНАНО, Сколково, ВЭБ, работают эффективно?
— Так сложилось, что институты развития были созданы в разные периоды времени и под задачи в общем взаимосвязанные, но недостаточно скоординированные. Это правда. РВК создавалась для развития венчурного бизнеса, мы — для наноиндустрии, Сколково — для своих задач. И в этом смысле я согласен с теми, кто говорит о том, что координацию между институтами развития не вредно бы усилить. И это правильная мысль.
Но неправильной мыслью, с моей точки зрения, является стремление выкопать картошку на следующий день после того, как ее посадили. Дело в том, что инновационная экономика, особенно в реальном секторе, — это штука с циклом минимум 7–8 лет, невозможно в России пройти путь от стартапа до построенного завода, который является самоокупаемым, за меньший срок. В этом смысле тут не выплеснуть бы ребенка с водой, раскачивая эти уже созданные государством институты, лишив их работоспособности.
Судя по последним трендам, какая-то здравая линия тут возобладала. Я не знаю, какие решения будут приняты правительством (в отношении институтов развития — ред.). Кажется, решения будут уточняющего, а не зубодробительного свойства. Это было бы правильно.
— Что вы имеете в виду под усилением координации между институтами развития? Создание некоего органа «над» ними?
— Мне кажется, не очень работоспособным будет создание органа «над», а вот усиление работы правительства в той или иной форме по нашей координации было бы правильным. Причем в двух разрезах. Есть какие-то сферы внутри инновационной экономики, которыми каждый из нас занимается. РВК, например, обеспечивает содействие созданию стартапа через венчурную индустрию, Мы — в наноиндустрии, Сколково тоже занимается. Здесь правильно бы это делать более централизованно.
Помимо этого, институты развития видят внутри инновационной экономики целые вертикальные сектора и институты, которые требуют усиления. Например, важнейший институт, в котором страна нуждается, это private equity индустрия, который в мире занимает до 60% финансового сектора, это институт предоставления капитала, который у нас совсем почти отсутствует.
Банковская система предоставляет кредит, а кто предоставляет капитал? В мире это делает родившаяся за последние 25–30 лет private equity индустрия, частью которой является венчурная индустрия. В России этот институт почти отсутствует, и мы все это видим. Такого рода проблемы требуют решения правительства.
— В рамках ПМЭФ президент РФ заявил о том, что ВЭБу необходимо будет также сосредоточиться на долгосрочных инновационных проектах. Насколько ВЭБ в его непростом состоянии способен справиться с такой задачей?
— ВЭБу придется пройти антикризисный период, болезненный, но неизбежный. Но ничего неразрешимого я не вижу. Однако бессмысленно проходить антикризисный период, не видя цели, куда ты в итоге стремишься. У ВЭБа в инновационной сфере вполне могли бы появиться задачи, которые не может решить ни Сколково, ни РОСНАНО, ни РВК.
Например, я говорил про private equity индустрию, для возникновения которой нужно несколько видов инвесторов. Один из необходимых инвесторов это «фонды фондов», fund of funds (инвестиционный фонд, который вкладывает средства в другие инвестиционные фонды — ред).
Я здесь, в Китае, встречался с президентом одного из таких фондов, которых в Китае более 20. В России нет ни одного. Рассчитывать, что внутри частных структур возникнет fund of funds — малореально. А вот ВЭБу взять на себя задачу создания современного fund of funds, который бы обеспечил поставку капитала в private equity индустрию, которая в свою очередь будет поставлять его в саму экономику, вот эта задача для ВЭБа казалось бы вполне адекватной и правильной.
— У РОСНАНО тоже есть своя специфика, не все проекты быстро дают отдачу, какие-то проекты уже начали приносить финансовую выгоду?
— Конечно, как раз цикл 7–8 лет у нас завершается, еще два-три года он займет, но как раз его завершение дает ту самую отдачу. Нас долго ругали за убыточность. Мы действительно были планово-убыточны до 2017 года включительно, но по факту получили первую прибыль в 2014 году, а в 2015 году получили 17 миллиардов рублей прибыли по МСФО, для нас это прорыв, похоже, мы вошли в топ-30 компаний по прибыли, где есть «Газпром» и нефтяники.
Одновременно мы запускаем новый инвестиционный цикл, который займет не менее 7–8 лет, но не через прямое инвестирование в проекты, а через создание фондов, куда привлекаем соинвесторов. Но это возможно, когда за плечами есть прибыль и удачи в проектах. Иначе бы мы не смогли привлечь внешних инвесторов, а мы привлекли их в размере 16 миллиардов рублей по итогам 2015 года, а по итогам 2016 года мы должны привлечь их на 50 миллиардов рублей.
— Каковы ваши планы по дивидендам? При каком уровне прибыли вы начнете их выплачивать?
— Мы в принципе готовы платить дивиденды, но для этого надо иметь не только прибыль по МСФО, но и по РСБУ, еще нужно соотношение между уставным капиталом и чистыми активами. Мы пока не все соотношения обеспечили. На последнем совете директоров нам было рекомендовано ежеквартально подводить итог, и если в какой- то из кварталов этого года мы все эти соотношения будем правильно обеспечивать, мы готовы выплачивать дивиденды. По первому кварталу мы пока не прошли по одному из этих соотношений.
— Поделитесь, пожалуйста, своим мнением по ситуации в отношении господина Дода, с которым вы знакомы и работали?
— Насколько я понимаю, исключительно по сообщениям СМИ, сформулирован предмет обвинения, я понимаю, что господин Дод (Евгений Дод, экс-глава «Русгидро» — ред.) не признает себя виновным и считает, что все его действия по расчету прибыли были законными и проверенными аудиторами и ревизионной комиссией, причем по такой же методике проводились расчеты по другим годам. В этом смысле я понимаю, что сейчас есть две противоположные позиции. Я очень надеюсь, что разбирательство будет объективным.
— Какие новые проекты РОСНАНО рассматривает с китайскими партнерами? Какой уже объем инвестиций вложен в совместные проекты?
— Мы очень интенсивно взаимодействуем с Китаем. На сегодня создано два венчурных фонда с общим объемом инвестиций 350 миллионов долларов. В ближайшие месяцы мы объявим о первых сделках из этих фондов.
— Какие это сделки?
— Наиболее востребованной сферой в наших фондах является экология. В Китае, да и в России тоже, это острейшая проблема. Во-вторых, это энергоэффективность, и в-третьих, это новые материалы. Хотя этими темами наша работа не исчерпывается. Мы работаем в hi-tech, в реальном секторе практически во всех отраслях без исключения.
Помимо этого, мы продолжаем двигаться вперед в сотрудничестве с китайскими партнерами и собираемся до конца года создать еще два фонда, и общий объем обязательств по нашим китайским проектам достигнет 1 миллиарда долларов. Причем миллиард долларов — это только так называемое первое закрытие. По этим фондам просматривается второе закрытие в диапазоне максимум два-три года. Объем commitment по этим фондам может достичь 2 миллиардов долларов.
Таким образом, на конец года это будет четыре фонда на миллиард долларов и через шаг эти же фонды могут нарастить объем до двух миллиардов долларов.
Такая динамика 350 миллионов — миллиард — два миллиарда — это видимая динамика, которая вполне реалистична для нас.
— Кто станет вашими партнерами по двум новым фондам?
— У нас есть уже партнер «Цинхуа холдинг» — это мощная структура, созданная университетом Цинхуа, с объемом годового дохода в 10 миллиардов долларов. Я сегодня встречался с президентом этой структуры, мы будем продолжать с ней сотрудничество по фондам.
Новые партнеры, которых мы объявим, как только достигнем договоренности, это крупные финансовые структуры федерального и регионального уровня.
— Планируете ли вы расширять присутствие в Азии?
— Мы заинтересованы в расширении сотрудничества. Китай — это базовая страна для нас в Азии. Но у нас есть хорошие заделы в других странах. В приоритете для себя, помимо Китая, мы видим Японию, и очень надеемся на новые политические процессы в российско-японских отношениях; безусловно, это Южная Корея и Сингапур. И этим не ограничиваемся.
У нас есть интересные переговоры с Малайзией, с которой мы также обсуждаем создание совместного фонда, и некоторыми другими странами Юго-Восточного региона.
По новой стратегии РОСНАНО, создание совместных фондов — это базовый инструмент нашей деятельности. Мы должны до 2020 года привлечь 150 миллиардов рублей инвестиций в наноиндустрию России.
— Рассматриваете ли возможность экспорта продукции, произведенной РОСНАНО, на азиатские и другие рынки?
— Есть срез по продукции, а есть срез по бизнесу. По продукции мы во многих случаях рассчитываем на российский рынок, но, скорее, для старта бизнеса, потому что очень часто размер российского рынка недостаточен для того, чтобы создавать серьезного масштаба структуры.
Поэтому российский рынок рассматриваем как вход, а второй шаг — это мировой рынок, в том числе Юго-Восточная Азия. А в ситуации с нынешним курсом рубля такая стратегия становится еще осмысленнее.
А в отношении самих бизнесов мы увидели новый вектор во взаимодействии с Китаем. Если раньше мы говорили о трансфере технологий из-за рубежа в Россию, то в отношениях с Китаем мы видим возможности в обе стороны — это трансфер технологий из Китая в Россию и из России в Китай.
— А что мы им можем предложить?
— У нас есть целый ряд предприятий и бизнесов, которые потенциально могли бы быть востребованы на китайском рынке. Мы сейчас это обсуждаем с партнерами.
Не хотел бы называть конкретные предприятия, но сферы назову — начиная с современных строительных и теплоизоляционных материалов, спрос на которые в Китае гигантский, и заканчивая, например, высоко технологичными материалами для фотоники.
Германия возглавила Индекс эффективности логистики за 2016 год
Новый рейтинг 160 стран указывает на замедление темпов улучшения ситуации в наименее развитых странах
Вашингтон, 28 июня 2016 года – Согласно вышедшему в свет сегодня докладу Группы Всемирного банка, темпы повышения эффективности логистики в наименее развитых странах мира замедлились впервые с 2007 года, в то время как страны с развивающейся экономикой, реализующие комплексные инициативы, продолжают повышать эффективность логистики.
Составной частью публикуемого раз в два года доклада «Налаживание связей для повышения конкурентоспособности: торговая логистика в глобальной экономике» (2016 г.) является Индекс эффективности логистики (LPI), в котором 160 стран мира ранжированы по показателям эффективности торговой логистики. Первое место в этом обновленном рейтинге третий раз подряд заняла Германия. На последнем месте оказалась Сирия.
«Эффективность логистики как в международной, так и во внутренней торговле имеет ключевое значение для экономического роста и конкурентоспособности стран», – заявила Анабель Гонсалес, Старший директор Центра глобальной практики Группы Всемирного банка в области торговли и конкурентоспособности. – «Эффективная логистика обеспечивает людям и компаниям доступ к рынкам и возможностям, помогает достичь более высоких уровней производительности и благополучия. К сожалению, разрыв в показателях эффективности логистики между богатыми и бедными странами сохраняется, и тенденция к постепенному сближению, наблюдавшаяся в период 2007-2014 годов, сменилась на противоположную в случае стран с наихудшими показателями эффективности логистики».
Согласно докладу, основанному на данных опроса более 1200 специалистов по логистике, такие страны, как Кения, Индия и Китай, зарегистрировали более высокие, чем прежде, показатели эффективности. В докладе проводится ранжирование стран по ряду показателей эффективности цепи поставок, включая инфраструктуру, качество обслуживания, надежность отгрузки товаров и эффективность пограничного контроля.
Десятка стран мира с наивысшими показателями эффективности логистики не менялась на протяжении последних шести лет – в нее входят ведущие игроки логистической отрасли. Страны с низким уровнем доходов и наименьшей эффективностью логистики – это зачастую государства, не имеющие выхода к морю, малые островные государства или государства, пережившие вооруженные конфликты. Тем не менее, впервые за историю публикации докладов «Налаживание связей для повышения конкурентоспособности» страны, не имеющие выхода к морю, уже не находятся в заведомо невыгодном положении – об этом свидетельствуют показатели эффективности логистики в Руанде и Уганде: этим странам выгодны скоординированные на региональном уровне меры по совершенствованию торговых коридоров.
Страны с наивысшими показателями эффективности, сгруппированные по уровню доходов
|
Высокий уровень доходов |
Уровень доходов выше среднего |
Уровень доходов ниже среднего |
Низкий уровень доходов |
|
Германия |
Южная Африка |
Индия |
Уганда |
|
Люксембург |
Китай |
Кения |
Танзания |
|
Швеция |
Малайзия |
Египет |
Руанда |
«Смысл эффективности логистики заключается в обеспечении надежности цепей поставок, связывающих экономику стран с рынками. Первостепенные нужды стран с наиболее ограниченными возможностями связаны с созданием инфраструктуры либо существенными улучшениями в работе таможни и пограничного контроля», – подчеркнул Жан-Франсуа Арви, сотрудник Центра глобальной практики Группы Всемирного банка в области торговли и конкурентоспособности и соавтор данного доклада. – «Странам с более эффективными логистическими системами приходится решать обширный комплекс вопросов, связанных, в первую очередь, с развитием и качеством услуг. Кроме того, во всех странах с наивысшими показателями эффективности налажено прочное взаимодействие между государственным и частным секторами в области разработки комплексного подхода к эффективной логистике».
Что касается различных критериев измерения эффективности логистики, то, как явствует из доклада, логистические услуги улучшаются, однако при этом специалистов по логистике меньше всего удовлетворяет состояние железных дорог – независимо от уровня доходов страны. Что касается пограничного контроля, то из всех ведомств, участвующих в этом процессе, наивысшие оценки получили таможенные ведомства, тогда как ведомства, отвечающие за санитарный и фитосанитарный контроль, отстают.
За последние 10 лет приоритеты программ развития логистики изменились, особенно в связи с тем, что замедление роста торговли подталкивает логистическую отрасль к реорганизации своих сетей и внедрению инноваций. Сфера действия мер политики, направленных на повышение эффективности логистики, смещается от решения пограничных проблем в целях упрощения процедур торговли и перевозок к решению проблем эффективности функционирования внутригосударственных систем. Кроме того, логистической отрасли и государственному сектору необходимо решать такие масштабные задачи, как повышение уровня профессионализма и компетентности, и адаптация к замедлению роста торговли. Кроме того, одной из высокоприоритетных задач сейчас является регулирование воздействия цепи поставок на окружающую среду и обеспечение ее устойчивости.
«В этом году, как и прежде, индекс LPI свидетельствует о многогранности реформ и о различии приоритетов, характер которых зависит от степени эффективности логистики в конкретной стране», – пояснил Дэниел Заславски, сотрудник Центра глобальной практики Группы Всемирного банка в области торговли и конкурентоспособности и соавтор данного доклада. – «Сегодня политика в области логистики не ограничивается вопросами упрощения процедур перевозок или торговли. Она является частью более широкой программы, охватывающей услуги, развитие материально-технической базы и инфраструктуры, а также территориальное планирование».
С момента публикации первого индекса LPI и первого доклада «Налаживание связей для повышения конкурентоспособности» их готовит коллектив специалистов Группы Всемирного банка по вопросам торговли при участии Школы экономики Турку и при поддержке Международной федерации экспедиторских ассоциаций (ФИАТА).
Сейдахмет КУТТЫКАДАМ
Хаос в умах и ответственность за культуру
+++ ——
Сейдахмет Куттыкадам — известный казахстанский публицист, философ, главный редактор журнала «Мысль», автор многочисленных публикаций в казахстанских и российских периодических изданиях, а также очень популярных в Казахстане книг «Служение нации» (2009) и «Казахская драма» (2010). В 2015 году в Москве (изд. «Беловодье») вышла его книга «Дао Алтая. Исток человеческой цивилизации» (см. рецензию Льва Аннинского в «ДН» № 2, 2016).
I. КУЛЬТУРА — НЕ РЕНТА
Обстоятельная статья Андрея Русакова «Ответственность культуры и культурное многообразие»1 с ее вулканической лавой обжигающих мыслей — яркий образец растерянного состояния умов интеллигенции на всем постсоветском пространстве, свойственного и мне, о чем можно судить по моему последующему описанию нынешнего состояния культуры в Казахстане.
Причин для этого много: крушение советской империи и последующее крушение демократических надежд, с ним связанное, обман либералов (точнее квазилибералов) и цинизм властей, потерянность самой интеллигенции и озлобленность народа, дикая «прихватизация», при которой кучке рвачей досталось почти все национальное богатство, а «толпе» — по несколько ваучеров, годных только для разового использования, соблазны рынка, оказавшегося дамой по вызову для примитивных «новых» русских, казахов, украинцев... горячо холодная третья мировая война и глобальный кризис всех ценностей — социальных, финансовых, моральных, эстетических, экологических… и, конечно, культурных.
И Зло, торжествующе шагающее по планете.
Когда на мыслящего, ответственного и чувствительного человека обрушиваются такие громадные проблемы, с которыми непонятно как справляться, его сознание инстинктивно ищет главного виновника. Его обнаружение ни в коем случае не помогает решению проблем, но приносит психологическое удовлетворение и примиряет с реальностью. Так на кого же возложить основную ответственность за «годы национального позора» в России (в Казахстане, в Украине, в Молдове…)? На бога? Но он, видимо, скрылся неведомо куда от позора за то, что насозидал. На власти? Но им дела нет до ответственности перед какой-то там историей и голодной неразумной толпой, которую они только во время выборов именуют народом. На козни бесчисленных врагов — явных и тайных, — разыскиваемых ультрапатриотами? Но что это может дать? Краткий нервический патриотический позыв, после которого надо опять возвращаться к своим баранам. На себя? Вы в своем уме? Что может зависеть от меня? Да ничего!
Так на кого же? Ну да, конечно, на хваленую богатую культуру, которую мы так воспевали, так ею гордились, так ее возносили и так на нее молились! Почему же ты, Великая культура, не протянешь нам руку помощи в столь тяжелую минуту? В чем же твое величие и предназначение, если ты безучастно взираешь на наши беды? Молчишь? Есть в тебе червоточинка, потому и молчишь!
И Русаков восклицает: «Если национальная культура воспитывает лишь агрессивных идиотов, тихих обывателей и людей, которые в решающие для страны годы могут лишь наблюдать, рефлексировать и возмущаться, то, быть может, что-то не так с этой культурой? Или — как минимум — в наших с ней отношениях?»
Далее: «…само сочетание слов "национальная культура" указывает на факт вольной или невольной ответственности культуры за историческую судьбу народа, ее создающего и ею создаваемого».
Что можно сказать по поводу всего этого? Нет, не культура ответственна за народ, а интеллигенция — за народ, а народ — за культуру, если он хочет оставаться культурным. Охлаждение отношений со своей культурой — это совокупная вина интеллигенции и народа.
Культура способна нести свет и поддерживать тепло в национальном очаге только тогда, когда ее огонь поддерживается, то есть когда каждое поколение подбрасывает свои «дрова» в этот очаг.
Думаю, не великая русская культура, особо славная величайшей своей литературой «Золотого века», виновата перед современными россиянами, а россияне виноваты в том, что перестали заботиться о ней.
Мы привыкли относиться к народу как к некоему невинному младенцу, который чист и свят и ни за что не отвечает. Но пора относиться к нему как ко взрослому, который ответствен за себя и свою культуру.
Связь между народом и доставшейся ему в наследство от предыдущих поколений культурой не проста. Принято считать, будто национальная культура — это нечто неизменное, данное в вечное пользование народу, — эдакая пожизненная духовная рента.
Но так ли это?
Какая связь между культурами Древней Эллады и нынешней Греции; Древнего Египта — и современного; Древней Сирии — и современной; Вавилона — и Ирака; Карфагена — и Туниса; Древней Нубии — и Судана?..
Только формальная!
Конечно, время меняет все, в том числе и народы. Но перемены переменам рознь. Те народы, которые берегут и поддерживают свою культуру, такие как Китай, Индия, отчасти Иран, сохраняют духовную память и остаются в значительной мере теми же народами.
Народы, в течение нескольких веков не вносившие вклада в свою исконную культуру, теряют связь с ней и не могут оставаться прежними, они становятся другими. Поэтому древние и современные греки, египтяне, сирийцы при общем названии и общей территории — это разные народы.
Связь между культурами России XIX и XXI веков еще не прервана, но связующие их нити истончаются, и если их не укрепить, разрыв возможен.
Фраза Русакова: «Политика глазами культуры — это действия центральной власти и действия против нее» — вызывает исторические реминисценции.
В России почти все исторические и культурные достижения и проблемы упираются в одну личность — Петра I, и о том, что в ней перевешивает — свет или тень, спорят до сих пор. Они так переплетены, что трудно отделить одно от другого, но условно выделим тень и повторим о ней. Разумный и безболезненный переход от одной парадигмы политико-культурного развития к другой предполагает долгую эволюцию. Первый российский император вместо эволюции избрал революцию (потому, видимо, и был любим большевиками) и по историческим меркам в одно мгновение жестоким, силовым методом насадил в России чуждые ей тогда политику и культуру.
Проводницей политики Петра I стала в основном «новая знать», обязанная ему своим выдвижением и готовая выполнять любые его указания.
Российская «культурная душа» взвыла от боли и стала рваться к своей природе, но ее варварскими политическими методами загоняли в прокрустово ложе «европеизации». В результате произошел раскол не только в религиозном, культурном и бытийном планах, но и между сознанием в «голове» государства и душой в «сердце» народа. Олицетворением государственного сознания является политика, души народа — культура. Это разделение сознания и души имело далеко идущие последствия.
Петру I и Екатерине II удалось утвердить новые политические порядки в империи. Они хотели добиться того же и в культуре, но здесь дело ограничилось в основном сбриванием бород, париками и косметикой. Сознанием легче манипулировать, чем душой — здесь силой трудно чего-то добиться.
Об этом по-своему говорит Андрей Русаков.
«В "литературноцентричную эпоху" русская культура вступила со зрелостью Пушкина и разгромом декабристов. Эта родовая травма "вшила" в нее роковое восприятие истории, комплекс общественно-политического поражения, болезненное расщепление взглядов на народ, государство и "образованный класс", резкие перепады от радикализма к верноподданичеству и/или громко декларируемой аполитичности».
Со «вступлением» все верно, но «травма», мне кажется, была нанесена раньше.
Итогом этой долгой, сложной и подспудной борьбы явилось великое чудо — Золотой век русской литературы. Да, писатели России учились технике изложения у европейцев, но это была самобытная литература, отражающая русскую душу. Подражательная никогда не бывает великой. Таким образом, русская душа явственно выразила самостийность и дистанцировалась от российской политики, то есть после этого политика, выражающая государственное сознание, и культура, олицетворяющая душу народа, пошли каждая своим путем. (Не только Гоголь и Салтыков-Щедрин в Золотой век русской литературы изображали власти предержащие не в лучшем виде.) Дворянское сословие несло в себе оба эти начала, порой в пределах одной семьи, и это позволяло избегать антагонизма и сохранять равновесие между ними.
С установлением советской власти, когда большевики уничтожили дворянство как класс, политика и культура окончательно разделились на власть и интеллигенцию, причем культура стала служанкой политики. К чему это приводит на примере Германии точно описал Томас Манн в статье «Культура и политика»: «Политическое безволие немецкого понятия культуры, игнорирование им демократии страшно отомстило за себя: немецкий дух пал жертвой тотальной государственности, которая лишила его не только гражданской, но и нравственной свободы. Если демократия означает, что политическое и социальное следует рассматривать как часть всеобщей проблемы гуманизма, что следует охранять нравственную свободу, защищая свободу гражданскую, то противоположностью, в которую, по законам диалектики, переходит антидемократическое высокомерие духа, является та теория и та глубоко бесчеловечная практика, которая абсолютизирует один из элементов проблемы гуманизма — политику, видит в политике всеобъемлющую тотальность, не желает ничего знать, кроме идеи государства и власти, приносит в жертву этой идее человека и все человеческое и уничтожает всякую свободу. Этот процесс с неумолимой закономерностью ведет к трагическим последствиям».
Я намеренно не прерывал тяжеловесную поступь мысли немецкого гиганта, потому что она касается именно нашей темы и раскрывает ее суть, которая заключается в следующем: при отсутствии демократии культура неизбежно становится жертвой тотальной государственности, а сервилизм — способом ее выживания.
Стоит ли говорить о том, что и в Казахстане, и в России мы видим подтверждение непреложной верности этого вывода.
Для того чтобы разобраться, что со всеми нами происходит, надо понять наше отношение к окружающему миру, к культуре, к оппонентам, к себе, восходящее к феномену советского человека, который сидит во всех нас и будет заметно влиять на ментальность еще нескольких поколений постсоветских людей.
Средний советский человек был неплохо образован, начитан, мог писать интересные статьи, книги и читать умные и содержательные лекции, но все это «в монологе». Он не был приучен к диалогу, полилогу, к разговору или тем более к спору, дискуссии с людьми иного мировоззрения, иной культуры — он тут же терялся и, как правило, переходил на крик.
Советский человек был выращен в идеологически стерильной (насколько это возможно) атмосфере и не имел иммунитета против чуждых влияний.
После падения «железного занавеса» и краха коммунистической идеологии в вакуум, образовавшийся на постсоветском пространстве, хлынули новые веяния и абсолютно иные ценности, среди них деморализующие и разрушительные идеи. Неподготовленные люди потеряли ориентиры, и небольшая группа искусных манипуляторов могла с ними делать все что угодно.
Герман Гессе в «Степном волке» писал: «У каждой эпохи, у каждой культуры, у каждой совокупности обычаев и традиций есть свой уклад, своя подобающая ей суровость и мягкость, своя красота и своя жестокость. Настоящим страданием, адом человеческая жизнь становится только там, где пересекаются две эпохи, две культуры, две религии».
А на постсоветском пространстве жестко столкнулись несколько эпох, несколько культур, несколько религий.
Ко всем этим сложностям добавилось и то, что теперь культуру теснят с двух сторон: политика и массовая культура. В результате кругом культурные руины.
В начале «литературоцентричной эпохи» Андрей Русаков ставит Пушкина, а в конце, представьте, — Высоцкого: «…в русской культуре есть Высоцкий — и значит наше положение далеко не безнадежно». Ироничные умы могут истолковать такую линию как нисходящую и про нашего кумира Высоцкого скажут: «Вот до чего (кого) докатилась великая русская литература!»
Я бы обозначил пределы «литературоцентричной эпохи» фигурами Пушкина и Шолохова. Призову в арбитры Габриэля Гарсиа Маркеса, который писал: «…у вас (у русских) есть прекрасные писатели: Толстой, Достоевский, из современных — Шолохов и Булгаков. Все так называемые "грехи" великого русского писателя Шолохова — явления времени, присущие многим европейским мыслителям, а ее недосягаемый пик — Лев Толстой».
И еще несколько реплик.
1. Высокая культура не подавляет другие «организмы мышления, самосознания и взаимопонимания людей», а развивает их.
2. Мысль Русакова, что повальная и психологически-принудительная русификация в национальных республиках стала предпосылкой русской национальной катастрофы, верна. Хочу ее развить применительно к новым реалиям.
Русские привыкли жить в одной стране и расценили как трагедию то, что после развала СССР их народ разделился и оказался в разных государствах — бывших союзных республиках. (Эмиграция после гражданской войны была идеологической и дисперсной и не воспринималась так болезненно.) И теперь в России говорят о жизни русских в постсоветских государствах только в негативном ключе: русских затирают, русский язык преследуют, русскую историю искажают… Никогда не услышишь ничего позитивного.
Эта медвежья услуга приводит к тому, что местные национал-патриоты начинают твердить: русские в их стране — это потенциальная «пятая колона». А если кто-то из русских заикнется, что нашел там вторую родину и чувствует себя благополучно, в России это рассматривается как национальное предательство. России пора смириться с тем, что случилось, и менять свое отношение к этому вопросу.
Любой великий народ имеет свои диаспоры — китайцы, англичане, испанцы, французы, немцы, индусы… И их метрополии никогда не вмешиваются в дела других государств по поводу своих этнических сородичей. А эти диаспоры, впитывая новую культуру, обогащают материнскую.
Этим я и ограничусь, добавлю лишь следующее. Рассуждения Андрея Русакова интимно-национальные, они пронизаны болью за свой народ, его культуру, его будущее, они покоряют своей отчаянной откровенностью и очень близки мне.
Чем больше будет таких мыслителей, как Андрей Русаков, тем больше надежд, что русская культура воспрянет, а глядя на нее, встрепенутся и другие.
Мои фрагментарные соображения по некоторым вопросам, поставленным Русаковым, не претендуют на основательность и убедительность — это дружеский взгляд такого же «растерянного интеллигента» со стороны на онтологические проблемы российского общества. Читателям, знакомым с тем, что я пишу о казахских национальных проблемах, это должно быть очевидно. Поэтому «спор», который я затеял с Андреем Русаковым, это по существу мой спор с самим собой.
И, видимо, конца ему не будет.
II. КУЛЬТУРА НА ОБОЧИНЕ, ИЛИ ДЕБИЛИЗАЦИЯ НАЦИИ
Теперь о том, что случилось с Казахстаном, после того как пятнадцать союзных республик разбрелись по своим национальным квартирам.
Сетования Андрея Русакова покажутся весенним дождичком по сравнению с грозовым ливнем.
Казахстанские проблемы отличаются от российских своей «готической» спецификой и требуют прямолинейной подачи, без особых метафизических изысков, но тональность у нас с Русаковым, думаю, будет одна.
Как варварски прикончили науку
Вот уже почти четверть века Казахстан живет в суверенном режиме, и что же он обрел за это время? Пожалуй, больше проблем, чем достижений. И ответственность за все это прежде всего на самих казахах.
Над нами нависает много угроз — общее усиление напряженности в мире, терроризм, коррупция, преступность, непрофессионализм и бездарность чиновников, кризис, нищета большей части населения, но наиболее опасной, зловредной и коварной, с долговременными и тяжелыми историческими последствиями является неуклонная дебилизация населения. Лев Толстой говорил: «Много худого на свете, а нет хуже худого разума. Первое худо — худой разум».
Главное достояние любой страны — не природные ресурсы, не мощная промышленность и даже не финансовое благополучие, они — средства, а их целью являются знания, интеллект, дух и здоровье нации. Кстати, если вторые ослабеют, то и первые тут же пошатнутся. И наоборот. С получением независимости наши власти об этом много и высокопарно говорят, но на деле все обстоит по-другому.
Важнейший объективный показатель состояния интеллекта в стране — это наука, а она погублена прямыми действиями властей.
Вместо совершенствования и усиления Академии — символа науки, созданной огромными усилиями Каныша Сатпаева, ее разрушили до основания. Это можно сравнить с удалением переднего отдела человеческого мозга. Человек, в частности, чиновник, без него может есть, пить и веселиться (до тех пор, пока не закончатся природные ресурсы), но мыслить, творить и разумно управлять чем-либо он не может.
Естественно, это касается и всего общества. Для того чтобы окончательно добить науку, высокие звания ее творцов-ученых превратили в посмешище, причем весьма примитивным образом. Ответственнейшее дело научной аттестации, нуждающееся в строжайшем отборе, довели до абсурда, сейчас любой проходимец может стать доктором в любой сфере, лишь заплати требуемую сумму, а кучу званий академиков самых причудливых и экзотических академий можно вообще получить по бросовой цене. В этом мутном море расплодившихся лжедокторов и лжеакадемиков настоящие ученые просто затерялись. А шаманы от науки очень претенциозны и агрессивны, они безжалостно преследуют и затирают настоящих ученых.
Страну наводнили иностранные специалисты и «ученые» — интеллектуальные ландскнехты далеко не высшей пробы, зачастую уступающие нашим, которые к тому же плохо знают местные условия. Но они получают зарплату в 7—8 раз больше, чем казахстанцы, и поэтому смотрят на них свысока.
Долгое время толпы подозрительных зарубежных советников и политтехнологов сновали по коридорам власти и интересовались тем, как у нас принимаются государственные решения, как функционирует экономика, давали какие-то советы (судя по результатам, далеко не самые мудрые) и интересовались, где что есть и как это можно прихватить. (Нет худа без добра: с приходом кризиса, похоже, их немалые заработки были урезаны и количество «интеллектуальных» спецов резко сократилось.)
Самое опасное при таком подходе — это то, что мы сами вручаем свое государственное сознание, политические замыслы и производственные тайны в чужие руки. А это уже выдача важнейших государственных секретов и планов (вычислить которые при наличии исходных данных очень несложно), и как это называется, знает каждый. Нам необходимо в столь ответственном деле опираться на своих ученых, политологов, экспертов и специалистов. Таковые пока в стране есть, только надо уметь их ценить и создать им условия не хуже, чем чужакам. Надо понимать, что политическая деколонизация должна начаться с деколонизации сознания и мысли.
Пожирающий пламень революций в образовании
Что делается в сфере образования, уму непостижимо. В любой просвещенной стране образование и воспитание — наиболее лелеемые системы, и малейшие изменения в них очень долго и тщательно продумываются.
У нас министры образования меняются через год-полтора, и каждый из них совершает свою «революцию», пытаясь отменить предшествующую систему, а затем внедрить свою. Однако никто из них до «строительства» не досидел в своем кресле. Но все они вместе крепко успели поучаствовать в основательном разрушении.
Между тем советская система образования, доставшаяся нам по наследству, была вовсе не так уж плоха, и это хорошо поняли на Западе, особенно в США. Общеизвестно: когда в октябре 1957 года Советский Союз запустил первый в мире спутник Земли, а в апреле 1961 года Юрий Гагарин стал первым космонавтом, американцы были в шоке, решили, что все дело в советской системе образования, бросились ее изучать и немало переняли. А после развала второй супердержавы представители первой, куда перебралось много советских специалистов, получили практическую возможность сравнить уровень знаний двух школ и пришли к мнению, что если сами они сильны в узких отраслях, то советские — в широких, то есть в междисциплинарных, что очень ценно.
Прежде чем казахским разрушителям приниматься за свое ужасное дело, надо было разобраться и понять, откуда прорастают корни нашего образования. Каждая современная система образования плоть от плоти науки, культуры и истории своих стран, и даже у большевиков, которые камня на камне не оставили во многих сферах от имперского наследия России, хватило ума не обрывать преемственность науки и образования.
А исторически российские системы науки и образования базировались на немецких, кстати, позволивших Германии не только догнать ушедшие далеко вперед в свое время Францию и Великобританию, но и перегнать их.
Советские чиновники сферы образования сохранили в основном эту систему, только добавили к ней немного от скандинавской и американской моделей, ну а в гуманитарные предметы, разумеется, — изрядную долю коммунистической идеологии, в классической своей основе тоже западной.
По-существу это была западная модель образования, разумеется, пронизанная российским духом, и она, несмотря на тоталитарные тиски, в общем-то успешно работала.
Наши же горе-«реформаторы» не понимали, что с корнем вырывают цветущее западное древо, адаптированное к нашим условиям, и вместо него втыкают в землю несколько самых разных кустиков, грубо вырванных из современной европейской почвы без корней и к тому же непривычных к совершенно другому, нашему, климату. Естественно, они не могли прижиться.
Нам не надо было радикально менять сложившуюся успешную систему, а следовало убрать из нее тенденциозные идеологические напластования (в основном, из гуманитарных дисциплин) и осторожно привнести кое-какие добавления от современных финской (кстати, наследницы российской и ученицы советской систем), японской и сингапурской образовательных систем и национальный колорит (главным образом — в историю, литературу и географию).
Наша нынешняя разрушенная, неразумно усложненная и запутанная система образования стиснута к тому же множеством запретов, ее душит засилье бумаготворчества и бюрократической цензуры. Учителям, преподавателям и профессорам некогда заниматься учащимися и студентами, они почти все свое время тратят на составление бесчисленного количества бумаг, которые никому не нужны и тщательно рассматриваются в поисках ошибок только тогда, когда кого-то надо освободить от должности.
В образовании нельзя забывать притчу о лошади, которую можно привести к источнику, но нельзя заставить ее пить. О потрясающе низком уровне многих наших так называемых учебников и методических пособий много говорится, заставить школьников и студентов пить из таких источников весьма трудно, да и не полезно.
Все лучшие вузы во все времена обладали академическими свободами и были очагами вольнодумия. Они всегда находились в определенной оппозиции к действующим властям. И это нормально. Образованные и пытливые молодые люди в силу новизны и свежести взгляда тоньше видят недостатки существующего порядка. Проходит время, они взрослеют, от многих радикальных идей отказываются, но вносят в существующую систему рациональные и взвешенные изменения, а их дети в это время бунтуют против их установок, обвиняя в консерватизме, и, глядя на них, родители вспоминают свой юношеский максимализм и относятся к ним с пониманием. Американские, французские и многие другие европейские бунтари 60-х годов прошлого века спокойно вписались в существующие государственные структуры, но при этом модернизировали их. Так идет вечное обновление общества и жизни.
Казахская мудрость гласит: «Затравленный щенок не может стать волкодавом». Каждый человек с опытом может вспомнить множество примеров, подтверждающих это, я приведу два. Отто фон Бисмарк был одним из самых отчаянных бунтарей в своей студенческой юности и доставлял много проблем прусской полиции, но именно он объединил сотни мелких немецких княжеств и создал Великую Германскую империю.
В нашей отечественной истории тархан2 Жанибек Кошкарулы был в юности непослушным и отчаянным забиякой, но повзрослев, стал крупным полководцем и выдающимся дипломатом, сыгравшим огромную роль в освобождении Степи от врагов.
Поэтому свою молодежь мы должны воспитывать в вольном и свободном духе, с пониманием относиться к их бунтарству, осторожно и умело вводя ее в цивилизованные рамки без разнузданности и нигилизма. Иначе мы получим закомплексованных и инфантильных людей, боящихся собственной тени и не способных принимать самостоятельные решения.
О последствиях бесконечных «революций» и самодурства чиновников в образовании можно судить по их плодам. У многих молодых людей, окончивших наши школы, непрочные знания быстро выветриваются, и уже к 30 годам они не имеют представления о литературе, не помнят элементарных физических законов, не могут совершать простейшие арифметические действия в уме, их представления о географии находятся на уровне ХIV века, а исторические знания состоят в основном из мифов. Не лучше обстоит дело с выпускниками вузов, большинство из них имеет слабое представление о своей профессии.
Телеящик Пандоры
В древней иранской мифологии говорится о магическом хрустальном шаре, который показывал события, происходившие где-то очень далеко. Когда появилось телевидение, люди радовались тому, что легенда превратилась в явь, и им казалось, что оно значительно расширит горизонты культуры. Но, увы, телевидение, в частности наше республиканское, стало главным орудием формирования дебилов. На всех его каналах беспрестанно визжат, вопят и пляшут, устраивают низкопробные шоу, гонят «мыльные оперы» в сотни серий, не от мелодраматических коллизий, а от уровня которых хочется горько плакать, а в промежутках между ними вещают шаманы и гадалки. Почти нет образовательных, политических, экономических, культурных и научно-популярных программ. По сравнению с нашими вульгарными и развязными телешоуменами Эллочка Людоедка — сногсшибательная интеллектуалка.
И здесь имеет место пагубная практика. Российские теледеятели все худшее перенимают на Западе, а мы — у России, естественно, на порядок гаже. Неужели у наших теледеятелей не хватает своих мозгов даже на подобную низкопробную продукцию? Главной «интеллектуальной» пищей сейчас стали телесплетни, в основном вокруг многочисленных мнимых «звезд». На «капустниках», посиделках и встречах российской «богемы» по телевидению слышится постоянный смех, и невольно задаешься вопросом: над чем же они смеются? Наверное, над убогостью собственных шуток. А для нашей «богемы» — это нечто запредельно шикарное, она пытается все это повторить, но получается убожество вдвойне.
В мире были и есть великие артисты, они очень редки, особенно сейчас, и я преклоняюсь перед ними. Но в целом артисты во все времена и во всех странах не относились к самому высокому культурному сословию в обществе.
Только в ХХ веке с развитием средств массовой информации и индустрии развлечений, в особенности кино и телевидения, они стали превращаться в идолов. Над их потребительским образом стали работать специалисты, их научили держаться на публике и ловко вставлять в свою речь заранее заготовленные реплики, но от этого их общий интеллектуальный уровень не вырос (я не имею в виду таких актеров, как Алла Демидова, они — редкое исключение). Тем не менее именно из них делают кумиов.
Артисты, конечно, нужны, но не в таком количестве и не такого профессионального качества. Сколько же у нас молодых людей хочет быть артистами! Но простите, кто их всех будет кормить, когда закончатся природные ресурсы? Обществу прежде всего нужны ученые, инженеры, аграрии, экономисты, бизнесмены, журналисты, юристы… и деятели культуры, культуры высокой, несущей духовность.
Именно умелой пропаганде этих и других важных профессий, а также демонстрации опыта успешных реформ в других странах надо уделять больше внимания.
Еще два бича нашего телевидения — это реклама и ужасы. Некоторые страны сейчас изгоняют рекламу с телевидения или выделяют ей отдельное время, а многие подумывают это сделать. Пора бы и нам задуматься.
Наши новости — это в основном репортажи о катастрофах, войнах, убийствах во всех концах света. Вся эта информация еще более подавляет и без того озабоченных собственными тяжелыми проблемами наших сограждан. Что нам дает вся эта муть? Неужели, если мы не узнаем, что где-то за тридевять земель какой-то маньяк убил десять человек, мы не сможем жить? Вы скажете: так формируются теленовости во всех странах. Но если все сошли с ума, нам что, обязательно присоединяться к ним? Телевидению следует уделять больше внимания не ужастикам, а культурным и духовным достижениям других стран и пропаганде своей культуры, обогащающей нас.
Это не значит, что мы, подобно страусу, должны зарыть голову в песок, не желая видеть проблем этого мира. Нет, о них надо рассказывать, если они касаются нашей страны и наших граждан, а обо всех остальных событиях надо сообщать (для наших фобиоманов) в особых программах и в аналитическом стиле.
Наше телевидение извращает вкусы телезрителей, приучая их к пошлым шуткам и банальностям, произносимым с важным видом, отучая их от серьезных и глубоких тем, и менять эту ситуацию будет нелегко. Многие казахстанцы поначалу не смогут понять и принять передачи, требующие напряжения и сосредоточенности ума, но у нас нет иного выхода, надо настойчиво и терпеливо вести свою линию, если мы хотим иметь образованный и культурный народ, а не бездумную толпу.
Напомню два примера из Платона о мере истинной и высокой духовности и культуры.
Первый. Платон говорил, что чем меньше человек знает, тем больше он изображает из себя всезнайку, чем больше он знает, тем яснее представляет себе, как мало он знает. И Платон иллюстрировал это рисунком. Наши знания представляют собой внутреннюю площадь малого круга, а все что за его пределами — это наше незнание. Чем меньше круг, тем меньше объем знаний. Когда у человека нулевые знания, он уверен, что нет ничего в этом мире, чего бы он не знал, а когда человек обладает огромными знаниями, он понимает, как мало ему ведомо из бесконечного космоса знаний.
Вспомним и слова Сократа: «Я знаю только то, что ничего не знаю!»
Второй. Платон считал: чем содержательнее и интереснее представление в театре, тем благоговейнее оно должно восприниматься и тем большая тишина должна царить среди зрителей. Иначе глубокое переживание и очищение души искусством, позже названное его учеником Аристотелем катарсисом, невозможно. Поэтому он был против аплодисментов, считая их признаком вульгарности. Сейчас восторги выражаются не только аплодисментами, но и визгами, воплями, мяуканием и топотом ног. Увы, каковы времена, таковы и нравы.
Отцы и дети, деды и внуки
Вечная проблема отцов и детей обсуждается с шумерских времен, и, как правило, молодежь изображается не достойной свершений старших поколений. Но каковы сейчас отцы и деды?
Золотой телец, причем не заработанный, а украденный стал их кумиром, он разлагает, подрывает родственные, дружеские и общественные связи.
Лао-цзы говорил: если во дворцах постоянно веселятся и празднуют, значит, народ бедствует. И это воистину касается нас: в стране царит немыслимый пир во время великой чумы. Государство задыхается от громадного множества проблем: мы почти ничего не производим, мы попали в долговую кабалу к другим странам, экология в ужасном состоянии, аул умирает, старики брошены, молодежь забыта, культура гибнет и т.д. и т.п., а верхушка все поет и пляшет, проводит бесчисленные тои, фестивали, конкурсы, конференции, симпозиумы на самую широкую ногу в… рваных штиблетах.
Создается впечатление, что власть имущие в этом угаре полностью потеряли чувство реальности. Народ нищенствует, а они берутся за множество помпезных государственных проектов, в реализации которых львиная доля выделенных средств отдается иностранным специалистам. Тем самым ущемляются свои, и им прививается комплекс неполноценности. А между тем у нас много способных людей, которые могли бы ту же работу сделать не хуже, если не лучше.
Не будет большим преувеличением сказать, что западные и подражающие им восточные модернисты и постмодернисты в значительной мере выложились в своих экспериментах, и ожидать от них нового не приходится. И здесь оригинальные национальные идеи наших специалистов могли бы сказать свое слово в градостроительстве, архитектуре, дизайне, живописи, музыке… в мировом искусстве в целом. Но для этого надо дать им простор для творчества, постепенно приучать их смело воплощать свои идеи.
Одной из изощренных форм колониального закабаления была циничная кадровая политика, когда метрополия на подконтрольных территориях не подпускала к реальной власти, к фундаментальной науке, к управлению крупной промышленностью талантливых представителей коренной национальности, и даже к культурной деятельности их привлекали с осторожностью, подозревая в национальном уклонизме, а вместо них выдвигали усердных бездарей.
Казалось бы, с получением независимости от этой практики надо было уйти, но, увы, она сохранилась и продолжает по инерции свое разлагающее действие. Правда, вопреки этой тенденции в последнее время выдвинулся ряд способных чиновников высшего ранга, но этот ряд короткий, и, глядя на их подавляющее большинство, диву даешься, как эти серенькие люди, которым нельзя доверить управление даже маленьким аулом, добрались до высоких постов. И такие бездарные высшие чиновники судят о народе по своему уровню, между тем как у нас, при всех его недостатках, талантливый и грамотный народ, которому, к сожалению, не дают раскрыть свой потенциал еще с детства и юности.
Меня нередко приглашают на встречи с разными коллективами, и — особенно если это молодежная аудитория — я никогда не отказываю. И я вижу много чрезвычайно одаренных молодых людей от 16 до 23 лет. (И в других поколениях нашего народа было немало талантливых ребят, но чиновники и обыватели гасили их.) Они очень любознательны, у них горят глаза, они ищут объяснения всему, но, увы, учителя и родители в огромном большинстве своем не могут им доступно объяснить (боясь обвинений в оппозиционности при откровенном изложении фактов), что реально происходит в стране, регионе и мире.
Эти ребята самостоятельны и умны, трудолюбивы и настойчивы, многие из них сами поступают в лучшие вузы дома и за границей и, где бы ни находились, поддерживают связи друг с другом и живо интересуются событиями в своей стране. Но если их не поддержать, они увянут, как и предыдущие поколения.
В основном это дети городских интеллигентов. Увы, аул, который до того оправдывал слова Бальзака «таланты рождаются в провинции и умирают в столице», ныне редко выдвигает способных молодых людей. И это не вина заброшенного аула, а его беда, в которой виноваты власти.
Как мы потеряли аксакалов
Мы говорили о воспитании молодежи, но, как выясняется, необходимо заняться и просвещением аксакалов, которые должны быть достойны своего традиционного статуса. Это не шутка.
Года два назад в одной газете вышла статья «Стариков много, а аксакалов нет», то есть нет достойных, мудрых и уважаемых всем народом старцев — выразителей его духовных чаяний. Автор приводил много примеров суетливого, недостойного и угоднического поведения стариков перед чиновниками и верно ставил актуальный вопрос. Но ответа не предложил. Причин, почему у нас сейчас почти нет достойных аксакалов, много. Тоталитарный строй, вытравление национального самосознания, уничтожение культурной элиты — это в прошлом. А в настоящем — то, что хамовитые и аморальные рвачи захватили почти все национальное достояние, а совестливые, образованные и высококультурные люди оказались в униженном положении.
Но кроме политических и социальных причин исчезновения традиционного института аксакалов есть и поколенческие, связанные с новой эпохой, иной культурой мышления и воспитания.
В былые времена повсеместно носители народной мудрости обладали сакральным знанием, они являлись хранителями обычаев, просвещали людей, глубоко разбирались в том, как функционирует общество, и принимали прямое участие во всех его делах, пользуясь непререкаемым авторитетом. Однако такие мудрецы той поры, как Хаммурапи, Соломон, Сократ, Конфуций, Ашока, Марк Аврелий, и наши — Коркыт, аль-Фараби, Асан Кайгы, Бухар жырау — уже не могут играть былой роли в обществе, так как все сильно изменилось: время, люди, духовные и культурные ценности, материальные запросы, образ жизни и представления о мире, а самое главное — появились вездесущие СМИ.
В Новое время на место мудрецов-пастырей пришли властители дум с несколько иным механизмом воздействия на общество: они должны были обладать харизмой, иметь широкие знания, разбираться во всех сложностях современной жизни, уметь их лаконично и ясно разъяснять, быть социальными психологами и публичными людьми и умело пользоваться СМИ. И что особенно важно: они обязаны были знать коренные интересы народа и постоянно и твердо их отстаивать.
Увы, в наше оскудевшее время в мире нет таких властителей дум, как Вольтер, Гёте, Лев Толстой, Бернард Шоу, Тагор, а в рамках нашей страны — Абай. И на безрыбье появляются раки с претензиями китов.
В одночасье стариков не переделаешь в аксакалов, для этого требуется индивидуальная работа над собой продолжительностью в человеческую жизнь и постоянная потребность общества.
Интеллект — главный ресурс страны
«Если бог хочет погубить, он лишает разума», — говорили древние мудрецы. Но бог никогда не наказывает целый народ. Поэтому вдумчивых людей не покидает ощущение, что кто-то настолько ловко манипулирует нашими власть имущими, что достигает двойного результата: лишая их разума, заставляет целенаправленно вытравливать разум из своего народа. Невольно задумываешься: а может, то, о чем упорно твердят конспирологи, не такой уж бред?
Население Земли стремительно растет, на ней становится тесно, страны с богатыми природными ресурсами и большими территориями — предмет завистливых взоров великих держав. Прямой захват чужих стран сейчас уже редко практикуется, но завоевывать их экономически и культурно считается допустимым. А что для этого требуется? Добиться того, чтобы в них дебильное правительство управляло дебильным населением, и тогда с этой страной и ее богатствами можно делать что угодно
Однако не следует впадать в истерику и портить отношения с мировыми гигантами, обвиняя их в заговорах, надо прежде всего навести порядок в собственной «правительственной голове», а уж затем и в стране. И если мы станем умно, твердо и последовательно отстаивать свои национальные интересы, все будут с нами считаться.
Помехой на пути к этому являются отечественные последователи маркизы де Помпадур, заявлявшей: «После нас хоть потоп!» Таким наплевать на народ, главное — обеспечить своих детей и внуков на сто поколений вперед. Но неправедно нажитые деньги несут на себе клеймо проклятия и развращают, и этой участи не избежать даже их правнукам...
Демосфен двадцать четыре века назад заметил: нельзя, занимаясь мелкими и ничтожными делами, приобрести великий и юношески смелый образ мыслей, равно как наоборот, занимаясь блестящими и прекрасными делами, нельзя иметь ничтожный и низменный образ мыслей.
Наше правительство абсолютно не уделяет внимания острейшим проблемам страны, оно только и занято постоянным переформированием министерств и пересадкой чиновников из одного кресла в другое с такой скоростью, что им не успевают менять таблички.
Ошалевшие высшие чиновники всячески изображают бурную деятельность, но ее результаты говорят сами за себя. Приведу один из последних примеров.
Правительство решило перенять опыт Ли Куан Ю. Этот покойный сингапурский патриарх, будучи премьер-министром, составил для своей администрации список примерно из двух тысяч талантливых и способных сингапурцев, работающих в разных отраслях, и лично следил за карьерным ростом лучших из лучших, так называемых «золотой и серебряной сотен». И если у кого-нибудь из них происходил сбой, он тут же выяснял причину. В случае намеренного выживания таланта его начальником Ли Куан Ю строго наказывал этого чиновника, так как считал его вредителем государства. Такая справедливая кадровая политика является одним из эффективнейших методов борьбы с бездарями и коррупционерами. Вот и наше правительство задумало провести масштабную операцию по уничтожению их огромной армии в своем составе и в низовых звеньях.
Отборные части гвардейского корпуса «А» бросаются в лобовую атаку, корпус «Б» заходит с флангов, а партизанский корпус «В» атакует с тыла. Вся правительственная и официозная пресса ярко и подробно сообщала о перипетиях этой грандиозной битвы. Но вот шум утих, пыль улеглась, дым рассеялся, и разведка донесла, что все эти отважные корпуса… перешли на сторону врага и число бездарей и коррупционеров в среде чиновников удвоилось. Читатели, конечно, догадались, что корпуса «А» и «Б» — это подобие сингапурских «золотой и серебряной сотен», а о том, насколько разные результаты они принесли здесь и там, можно судить по благосостоянию народов Казахстана и Сингапура.
Так же «успешно» идет борьба по сокращению тьмы чиновников, она напоминает битву с мифической гидрой: ей отрубают одну голову, вместо нее вырастают две.
Бесчисленным чиновникам все время повышают и без того немалую зарплату (при том, что уровень жизни народа все стремительнее падает), и это делается для того, чтобы они меньше воровали. Но коррупция, наоборот, постоянно растет. В таких условиях надо бы вообще перестать платить зарплату чиновникам, а за занимаемые ими должности даже брать официальную плату — в зависимости от доходности места. Уверяю вас, тогда коррупция стала бы контролируемой, так как чиновники строго следили бы друг за другом, и государственный бюджет быстро бы вырос.
Говорить о демократии сейчас бесполезно, но можно же помнить об элементарной истине, что не народ существует для правительства, а правительство — для народа. И самым объективным критерием эффективности правительства является благосостояние народа. У нас же положение дел год от года хуже, и это наглядно отражается на состоянии населения.
Как известно, «в здоровом теле — здоровый дух», поэтому важнейшим фактором для страны является хорошее состояние здоровья населения, которое формируется прежде всего образом жизни, качеством питания и распространением физической культуры.
Увы, казахстанцы едят в большинстве своем завозные продукты очень плохого качества, а заниматься физической культурой им почти негде. Последствия налицо: 80% молодежи не годится к военному призыву, у них неустойчивая психика (мы занимаем одно из первых мест в мире по суициду), и они не могут даже один раз подтянуться на турнике. Что говорить о взрослом населении, оно почти поголовно больно.
Катастрофическая ситуация с экологией — отдельная и большая тема.
Жестокая реальность нашего времени в том, что наш народ и наша страна тяжело больны целым набором тяжелых и запущенных болезней. И во всем виноваты мы сами. Это народ должен понять, пока не поздно. Лекарством от всех этих болезней являются культура и высокий интеллект нации, и их мы еще можем сохранить и укрепить. Но для этого народ должен заставить правительство сделать решение этой задачи главной своей целью.
Напомню старую, как мир, истину — только знание сделает нас сильными, независимыми и свободными.
А злой дух делячества и грабежа, который овладел и нашими нуворишами, разрушает все — людей, общества и даже великие империи. Гилберт Честертон описал, почему погибла известная супердержава древности: «Карфаген пал потому, что дельцы до безумия безразличны к истинному гению. Они не верят в душу и потому в конце концов перестают верить в разум».
Сохраним же свой разум, чтобы сохранить свою страну, свой народ, свою культуру и себя.
III. ПОИСКИ УТЕРЯННОГО ЗДРАВОГО СМЫСЛА
Андрей Русаков поднял важнейшие и сложнейшие вопросы, связанные с культурой, которые касаются не только России, но и всего постсоветского пространства.
Я по-своему пытался принять участие в его размышлениях. Но в воздухе всегда висит один и тот же русский вопрос: «Что делать, друзья?!»
Мне, скромному кочевнику-казаху, трудно предложить нечто такое, что было бы новым для наших друзей — россиян. (О том, что нужно казахстанцам, я постоянно говорю у себя на родине.) Но рискуя повториться, хочу сделать два предложения.
Первое. Провести анализ успешного выхода стран из послевоенной разрухи — Германии, Японии, Франции, Италии и прежде всего самой России; из постколониальной анархии — Сингапура, Южной Кореи и Малайзии; и эволюционный переход от плана к рынку — Китая (это только на первый взгляд запоздалая тема).
Здесь речь идет в основном о политике и экономике, но без них культура ничего не сможет сделать.
У России достаточно глубоких научных умов и опытных экспертов, способных на основании такого анализа и с учетом местных условий разработать комплекс эффективных экономических и политических программ. А как только Россия возьмет верный курс, Казахстан и другие последуют за ней.
Второе. Обществу следует отвоевать телевидение и печать, убрать оттуда насилие, тупость, содомию, рекламу и ввести образование, науку, высокое искусство и гуманизм. СМИ обязаны воспитывать людей образованных, с широким кругозором, способных понимать разные мировоззрения и смотреть на себя глазами других.
Разговоры о том, что телевидение и печать не влияют на воспитание и стиль поведения людей, — коварное лукавство.
Этот план выглядит чересчур уж простым, но если вспомнить о реформах в странах, успешно вышедших из разрухи и хаоса, они работают. И как тут не вспомнить слова Лао-цзы, сказанные двадцать семь веков назад: «То, что я говорю, настолько просто и так легко сделать, но никто этого не понимает и не может сделать». Поэтому повторение вечных и здравых истин в новой оболочке — удел интеллигенции.
Род человеческий делится на две категории: подавляющее «мудрое» большинство, которое считает людей иррациональными, неразумными, эгоистичными и жалкими поклонниками «золотого тельца», что в конце концов приведет их к апокалипсису; и наивное меньшинство, верующее в культуру, в разум человека, в его способность извлекать уроки из жизненного опыта и в возможность рационального обустройства жизни не только в отдельной стране, но и в мире.
До сих пор «мудрецы» оказывались правы, а «простачки» ошибались: даже разумные люди в интересах своих стран боролись друг с другом и старались обмануть партнеров, а всякая мразь повсеместно объединялась. В итоге разум подавлял разум, культура деградировала, а зло множилось.
В век глобальных кризисов это становится особенно опасным, так как угрожает основам существования всего человечества.
От имени «простачков» предлагаю вспомнить древнюю и наивную арийскую притчу о птице Симург — священной птице, принесшей с неба на землю побег древа жизни.
Давным-давно существовала птичья страна, и однажды в ней началась великая смута. Правители перестали заботиться о подданных, подданные перестали чтить законы, птицы забыли о морали, младшие перестали уважать старших, старшие не заботились о младших.
И тогда на птичьем курултае старая сова сказала: «Слышала я в детстве, что где-то далеко-далеко, за семью морями и семью горами, живет мудрая и вещая птица Симург, надо лететь к ней за советом».
Все птицы единогласно поддержали это предложение. Часть птиц оставили для присмотра за старыми и больными, а остальные дружно полетели в указанном совой направлении. Летели долго, но никто из тех, кто встречался в пути, не слышал ни о какой птице Симург, тогда их ряды стали редеть: вначале отстали слабые телом, а затем — слабые духом. Уже пролетели через семь морей и семь гор. Тогда объявились неверующие: мол, все это сказки, никакой такой птицы нет, — и повернули назад.
Осталось только 30 птиц, которые упорно летели вперед, несмотря ни на что. Их непреклонная воля и бесконечная вера в свою цель настолько сплотили их, что они почувствовали себя единым целым и в какой-то момент поняли, что они вместе и есть птица Симург. Свою цель они нашли в своем единстве, после чего вернулись домой и навели там порядок.
Смысл этой притчи в том, что мудрая и вещая птица Симург, сотворив жизнь на земле, поселилась в душах смелых, целеустремленных и высоких духом людей, и она до сих пор жива, надо только беспрестанно и неутомимо искать ее в своих сердцах.
Ни в Казахстане, ни в России, нигде на постсоветском пространстве, ни во всем мире никто не придет со стороны и не решит наши проблемы. Их обязаны решить мы сами — в единстве людей разума, духа и культуры!
___________________
1 См. «Дружба народов», 2016, № 1.
2 Тархан — привилегированное сословие тюркской знати (Прим. ред.).
Дружба Народов 2016, 6
С 29 сентября 2016 г. откроется прямое авиасообщение Гуанчжоу – Малакка. Рейс будут обслуживать лайнеры авиакомпании "Китайские южные авиалинии".
Гуанчжоу является административным центром южно-китайской провинции Гуандун, а Малакка – город в Малайзии. Примечательно, что в марте 2016 г. Малайзия ввела безвизовый режим для китайских граждан, приезжающих на 15 дней.
Чартерный рейс будет выполняться раз в пять дней самолетами Boeing 737-700 и Airbus А319.
С началом лета 2016 г. "Китайские южные авиалинии" открыли более 20 рейсов в направлении Юго-Восточной Азии.
Ранее сообщалось, что в 2015 г. объем внутренних авиаперевозок в Поднебесной вырос на 10,8%, на авиалиниях между Китаем и США – на 8-10%, между КНР и странами Европы – на 7-9%, а странами Азиатско-Тихоокеанского региона – на 2-4%. Количество транспортных аэропортов Китая превышает 230, а объем пассажироперевозок – 450 млн человек.
В ближайшие 20 лет Поднебесная станет крупнейшим рынком гражданской авиации. К 2034 г. спрос на самолеты в Китае достигнет 6020 единиц. Их суммарная стоимость составит $870 млрд. По количеству сданных в эксплуатацию самолетов и рыночной стоимости Китай займет более 16% мирового рынка.
Москва. Лето. Собаки прилетели
Екатерина САЖНЕВА
На конкурсах собачьей красоты волнуются не только участники действа. Для владельцев четвероногих наступает самая настоящая «валидольная» пора. Всемирная выставка собак, впервые проходящая в Москве, не исключение.
— Многие животные прекрасно понимают, куда их привозят и что им предстоит. Есть и такие, что обожают подобные шоу и гордятся не меньше хозяина, когда одерживают победу, — рассказывает Яна Стрельцова, известный заводчик аргентинских догов и миниатюрных бультерьеров. На нынешнем соревновании она выставила обе породы.
Ежегодно в мире проходят десятки, а то и сотни собачьих выставок. Причем не только универсальных, как национальные чемпионаты, первенства Европы, других континентов и планеты, куда привозят все породы, но и специализированные: скажем, «Атибокс» для боксеров или EuDDC для немецких догов. Иногда такие моновыставки ценятся ничуть не меньше. «Разумеется, мы знаем всех своих, в Москве соберемся и организуем небольшое пати для заводчиков миниатюрных бультерьеров», — добавляет Стрельцова.
Удовольствие показать любимца и попытаться получить титул — конечно, не из дешевых. Так, сами владельцы называют суммы до нескольких тысяч евро, в зависимости от дальности места проведения выставки и ее условий. Хотя денежных призов почти не бывает — лишь гордость за то, что воспитал чемпиона. «Собаки — это наши дети. И мы заинтересованы в том, чтобы наш труд оценили и признали во всем мире», — уверяют бывалые собаководы.
— Есть ли договорное судейство? Бывает, не скрою, всякое, — размышляет Ольга Серова, заводчик джек-расселов. — Но лично я не стала бы платить, для меня гораздо важнее получить объективную оценку своей упорной работы.
Собаки из питомника Ольги, кстати, ветеринара с 20-летним стажем, живут от Малайзии до Швеции. «К сожалению, расселы сегодня очень модная порода, она в тренде, и поэтому развелось много недобросовестных граждан, которые вяжут кого ни попадя в надежде озолотиться», — переживает заводчица.
При этом, подчеркивает Ольга Серова, далеко не всегда собака без титула однозначно плоха. «Можно найти приличного щенка в определенных фермерских хозяйствах за нормальные деньги. Если ваша цель, конечно, иметь друга, а не медали в родословную», — наставляют специалисты.
В ринге собака должна продемонстрировать характерные движения для своего вида, показать себя в статике, некоторые мелкие породы ставят на стол для осмотра. Также эксперты оценивают зубы. Но как объяснить псу, зачем ему вообще надо идти по красной дорожке да еще и с незнакомым двуногим? Кто-то работает ради вкусняшек. Другие, как доберманы и ротвейлеры, зациклены на игрушках, рвут поводок, едва заметят вдалеке любимый мячик. «А есть и такие, для кого награда — увидеть хозяина. Стараемся сделать все возможное, чтобы подготовить пса к осмотру как можно лучше. Ведь невозможно заставить страдающую собаку хорошо пройти конкурс», — делится хендлер Ирина Корецкая.
— Сперва появилось желание выставлять собственную собаку, — вспоминает Ирина. — Но у меня аргентинский дог с не очень высоким выставочным потенциалом. Потом поехала на чемпионат мира в Польшу. Там победил великолепный бракко итальяно. До сих пор нахожусь под впечатлением его выхода. Поняла, что тоже хочу этим заниматься. И очень скоро выяснилось, что учиться этому делу можно всю жизнь.
Для кого-то быть хендлером — профессия, для многих — длительное увлечение. И для всех — призвание. А вы попробуйте во время проведения чемпионата постоянно находиться в отличной физической форме, бегать, прыгать, улыбаться, мобилизуя своим внешним видом четырехногого подопечного. При этом надо знать физиологию животного и особенности его поведения. Чтобы не получилось, как у одних собаководов, которые на чемпионате мира, желая дать возможность питомцам отдохнуть, разрешили им побегать друг за другом — и так в итоге «убегали», что псы не могли не только выставляться, но и вообще двигаться.
— Разные бывают ситуации, — откровенничает Ирина. — Например, как-то один из турниров проходил в Ирландии. Наиболее удобный путь туда лежал через Англию, а там запрещен к ввозу ряд пород, те же аргентинские доги, с которыми планировала ехать и я. Да, нашей породы в итоге оказалось мало, можно было легко получить титул. Однако я не рискнула добираться окольными тропами. Не каждая победа стоит таких нервных переживаний и финансовых затрат. Хотя в большинстве случаев собаки хорошо переносят дорогу, особенно те, что ездят часто. Все зависит в первую очередь от психики и уровня подготовки... ну и, конечно, от человека. Ответственность в этом деле — прежде всего.
Готовиться к элитным чемпионатам многие начинают заранее. Допустим, заводчики из Южной Америки прибыли в Москву чуть ли не за неделю до начала Всемирной выставки — чтобы их питомцы перестроились на нужный часовой пояс.
Иногда показы и конкурсы длятся очень долго, и собаки попросту изматываются, и только прирожденные ринговые бойцы неизменно остаются в форме. Все породы и псы разные: есть крайне чувствительные к эмоциональному состоянию людей, и поэтому настрой владельца и хендлера становится определяющим. Нервное напряжение, которое испытывает человек, тут же чувствует собака, и, естественно, ее поведение меняется.
— Хендлеру нужно подобрать ключик к животному, выяснить, где у него «кнопка», в этом и кроется залог успеха. Необходимо, чтобы сложился совершенный тандем, — заключает Ирина Корецкая. — И когда подобное случается, выступление проходит на одном дыхании. Такая собака просто не может остаться незамеченной зрителями и экспертами. А вообще процесс должен приносить удовольствие и владельцу, и хендлеру, и четвероногому конкурсанту. Как показывает практика, если выставка в радость, то и кубок обязательно достанется.
В мае импорт пальмового масла в Китай снизился до 10-летнего минимума
По информации аналитиков Oil World (Германия), в мае 2016 г. Китай сократил импорт пальмового и рапсового масел, увеличив закупки соевого.
Так, поставки пальмового масла в страну в отчетном месяце снизились до 208 тыс. тонн против 495 тыс. тонн в мае 2015 г., что стало минимальным показателем за последние 10 лет. Снижение данного показателя наблюдалось на фоне существенного сокращения поставок из Малайзии - до 89 (252) тыс. тонн и Индонезии - 119 против 243 тыс. тонн годом ранее. Импорт рапсового масла в страну в указанном месяце составил 47 (52) тыс. тонн.
В свою очередь, импорт соевого масла в страну в указанный период увеличился до 17 тыс. тонн против 5 тыс. тонн годом ранее. При этом отметим рост отгрузок продукции из России - до 6 тыс. тонн, тогда как годом ранее страна не поставляла соевое масло в Китай. Отгрузки из Украины в отчетном месяце составили 9 (5) тыс. тонн.
Любые попытки защиты внутреннего рынка в области торговых соглашений являются контрпродуктивными, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, комментируя по просьбе журналистов призывы республиканского кандидата Дональда Трампа не ратифицировать соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).
"Мы считаем, что любой протекционизм является контрпродуктивным с точки зрения роста экономики и ведет к замедлению роста", — сказала Лагард.
Ранее МВФ призвал США ускорить ратификацию соглашения о ТТП, завершить переговоры по Трансатлантическому соглашению о партнерстве в области торговли и инвестиций (ТТИП) c ЕС и избегать протекционизма для улучшения экономических показателей страны.
Соглашение о ТТП было заключено 5 октября 2015 года. В его рамках будет создана зона свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На тихоокеанские страны приходится 40% мировой экономики и треть мировой торговли. Участники соглашения — США, Канада, Мексика, Перу, Чили, Япония, Малайзия, Бруней, Сингапур, Вьетнам, а также Австралия и Новая Зеландия.
Трамп считает сделку ТТП "чудовищной". По его словам, "это сделка, которая не приведет ни к чему", ею "воспользуется Китай, всегда заходящий с "черного хода", получая преимущества". Трамп считает, что за счет двухсторонних торговых соглашений с разными странами США могли бы достичь большего успеха, чем от ТТП. США и так теряет 500 миллиардов долларов за счет дисбаланса в двусторонней торговле с КНР, ранее отмечал предприниматель.
Российский турпоток в Таиланд увеличился на 17% за год
В январе-мае 2016 года «страну улыбок» посетили полмиллиона россиян. Это на 17,25% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Такие данные обнародовало Министерство туризма Таиланда, пишет портал Новости Пхукета.
По данным министерства, российский рынок продолжает восстановление. Сейчас высока вероятность того, что в ближайшие месяцы этот процесс замедлится из-за начала сезона на Черном море, но пока цифры внушают оптимизм.
Восстановление российского турпотока поддержали сразу несколько факторов, главный из которых = закрытие Турции и Египта. При этом ни Ростуризм, ни туроператоры не ожидают возвращения этих направлений в ближайшей перспективе.
Доля россиян в общем иностранном турпотоке составила 3,54%. Этот показатель выше только у четырех азиатских стран - Малайзии (10,4%), Японии (4,2%), Кореи (4,4%) и Лаоса (3,97%). Таким образом, Россия по этому критерию по-прежнему обгоняет любую европейскую страну, а заодно США, Австралию и Индию.
В Туристическом управлении Таиланда (ТАТ) ожидают, что в 2016 году страну посетит миллион россиян.
«Победа» вошла в сотню крупнейших лоукостеров
По итогам 2015 года первый российский дискаунтер занял 71-ю строчку в авторитетном рейтинге, составленном изданием Airline Business
Созданный менее двух лет назад отечественный низкобюджетный перевозчик включен в число самых эффективных компаний в своем сегменте. Ежегодный рейтинг составленный аналитическим порталом Flightglobal, отслеживающим развитие гражданской авиации и отраслевым журналом Airline Business поставил «Победу», входящую в группу «Аэрофлот», на 71-ю строчку в списке крупнейших лоукостеров. Благодаря такому взлету, «Победа» заняла первое место в мире по относительным темпам роста среди конкурентов.
Как следует из обзора сегмента бюджетных авиаперевозок, подготовленного аналитическим порталом Flightglobal и отраслевым журналом Airline Business, авиакомпании-лоукостеры продемонстрировали в 2015 году существенный прирост по пассажиропотоку. Совокупный трафик на маршрутах дискаунтеров по всему миру превысил отметку в 1,1 млрд пассажиров, что на 11% больше чем в 2014 году.
Заслуживает внимания и региональные показатели прироста пассажиропотока авиакомпаний лоукостеров. Так перевозчики в Европе в общей сложности продали 414,9 млн билетов и это составляет 37,7% от общего пассажиропотока низкобюджетных авиакомпаний. В Азиатско-Тихокеанском регионе трафик в этом сегменте составил 313,4 млн пассажиров или 28,5%. В Северной Америке полетами в сегменте low-cost воспользовались 254,1 млн пассажиров (23,1%). В Южной Америке совокупный пассажиропоток достиг 89,6 млн пассажиров (8,1%), на Ближнем Востоке – 22,5 млн пассажиров (2%), африканский рынок это 5,6 млн пассажиров и 0,5% от общего трафика лоукостеров.
Самым успешным лоукостером по абсолютному приросту пассажиропотока в 2015 году стала ирландская Ryanair. Трафик авиакомпании за 2015 год достиг 106,4 млн человек, что на 15,8 млн пассажиров или на 17,5% больше чем в 2014 году. Но даже с такими темпами роста Ryanair занимает лишь второе место в топ-100 мировых лоукостеров. На первой строчке закрепилась Southwest Airlines (США) - 144,6 млн пассажиров и прирост пассажиропотока SA составил 9,4 млн человек или 6,5% по сравнению с 2014 годом. На третьем месте рейтинга - британская Easy Jet, пассажиропоток которой составил 68,6 млн пассажиров и вырос на 6% по сравнению с 2014 годом.
Прибыль участников рынка в сегменте лоукостеров также заметно растет. По итогам 2015 года 20 самых прибыльных перевозчиков в сумме зафиксировали прибыль в $8,2 млрд. Год назад суммарная прибыль двадцати самых успешных лоукостеров составила $5,1 млрд. При этом Southwest Airlines по итогам 2015 года отчиталась о выручке в $20 млрд, а чистая прибыль самого крупного дискаунтера составила $4 млрд.
Прибыль Southwest Airlines превысила показатель 2014 года на $1 млрд или на 33%, прирост чистой прибыли Ryanair по сравнению с предыдущим годом составляет $637 млн, на третьей строчке – EasyJet, заработавшая в 2015 году на $97 млн больше чем в 2014-м.
В топ-10 рейтинга Flightglobal/Airline Business также вошли Gol (Бразилия) - 38,9 млн пассажиров (-3,1% по сравнению с 2014 годом), JetBlue Airways (США) - 35,1 млн пассажиров (+9,4%), LionAir (Индонезия) - 32 млн пассажиров (-1,8%), IndiGo (Индия) - 31,4 млн пассажиров (+37,1), Norwegian (Норвегия) - 25,8 млн пассажиров (+7,4%), Vueling Airlines (Испания) - 24,8% (+15,4%), AirAsia (Малайзия) - 24,3 млн пассажиров (+9,6%).
На этом фоне показатели российского лоукостера выглядят на данный момент достаточно скромно. По данным Airline Business, в 2015 году авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», перевезла 3,1 млн пассажиров и заняла 71-ю строчку мирового рейтинга. Но если учесть, что авиакомпания существует лишь с сентября 2014 года и до сих пор вообще не присутствовала в рейтинге Flightglobal/Airline Business, то такой результат можно оценивать как серьезный успех.
Как отмечается в сообщении Группы «Аэрофлот», первый отечественный низкобюджетный перевозчик сформировал разветвленную сеть маршрутов, в которую в 2015 году вошло 36 уникальных направлений. Большинство рейсов авиакомпания совершает по России, в 2016 году она запустила первые международные рейсы из Москвы в Кельн, Братиславу, Мемминген и Милан. В феврале авиационные власти разрешили перевозчику выполнять ежедневные рейсы из Москвы в Подгорицу и Тиват (Черногория), а также в Ларнаку и Пафос (Кипр).
В 2016 году «Победа» планирует увеличить пассажиропоток примерно на миллион человек и перевезти 4 млн пассажиров. Пассажиропоток за первые три месяца 2016 года достиг 950,8 тыс. чел. Стремительный рост «Победы» и уход с рынка «Трансаэро» позволили лоукостеру подняться на пятое место в России по пассажиропотоку.
Рейсы «Победы» выполняются только на самолетах Boeing 737-800 в одноклассной компоновке вместимостью до 189 пассажиров. Российский лоукостер планирует к 2018 году расширить свой воздушный флот до 40 самолетов, а также войти в десятку лучших авиаперевозчиков России.
Бюджетная авиакомпания «Победа», основанная в сентябре 2014 года вместо прекратившего полеты из-за санкций ЕС «Добролета», входит в Группу «Аэрофлот». Авиакомпания базируется в московском аэропорту Внуково. Первый рейс перевозчик совершил 17 ноября 2014 года по маршруту Москва — Волгоград.
В парке авиакомпании 12 новых воздушных судов Boeing 737-800. Планируется, что к 2018 году флот лоукостера будет насчитывать около 40 воздушных судов, перевозки достигнут 10 млн человек в год. А маршрутная сеть компании будет включать в себя более 45 внутрироссийских и международных направлений.
В настоящее время «Победа» летает по свыше чем 20 внутрироссийским направлениям и 16 — зарубежным.
В 2015 году компания перевезла 3,1 млн пассажиров, в 2016 году планирует перевезти 4 млн человек.
Ринат Накипов
В КИТАЕ АНОНСИРОВАЛИ ЯРМАРКУ В НАНЬНИНЕ
11-14 сентября этого года в г. Наньнин будет проводиться 13-я ярмарка Китай-АСЕАН основной темой которой станет "Совместное строительство морского Шелкового пути 21-го века и совместное создание более тесного сообщества с единой судьбой Китай-АСЕАН". На сегодняшний день известно, что в мероприятии будут принимать участие Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Таиланд и Вьетнам. Одной из целей ярмарки является поддержка строительства зоны свободной торговли Китай-АСЕАН. С 2004 года было успешно проведено 12 ярмарок.
Кстати, с 15 по 19 июня в Харбине проводиться 27-я Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка и одновременно с ней - 4-я Китайская международная ярмарка индустрии новых материалов. Ярмарка нацелена на реализацию национальных программ - "Сделано в Китае-2025" и "Всестороннее возрождение старой промышленных баз в Северо-Восточном Китае".
Недавно в Сочи проводился Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса. Организаторами мероприятия с российской стороны были российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, Российско-Китайский деловой совет, Союз инновационно-технологических центров России, Центр координации поддержки экспорта Краснодарского края, Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса.
Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» «Россия и ЕС: что после «стратегического партнерства», которое не состоялось?» в рамках ПМЭФ, Санкт-Петербург, 16 июня 2016 года
Я хотел бы поблагодарить клуб «Валдай» за внимание к актуальным проблемам мировой политики.
Думаю, что авторитетная аудитория, которая здесь собирается, как и на предыдущих мероприятиях Валдайского клуба, весьма заинтересована в том, чтобы искать возможности выправления отношений, сложившихся сейчас между Россией и Западом.
Мы никогда не искали конфронтации. Всегда выступали за равноправный, взаимовыгодный диалог. Что касается Евросоюза, то мы были открыты к самому широкому стратегическому партнёрству, которое было даже провозглашено в конце 90-х годов. Сейчас мы слышим из Брюсселя, что Россия уже не стратегический партнер, хотя и остается стратегическим государством. Такая «словесная эквилибристика» хорошо знакома и, по-моему, за ней явно скрывается неспособность Евросоюза на данном этапе осмыслить происходящее.
Мы, конечно же, видели «пять принципов», озвученных Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ф.Могерини в качестве подходов к отношениям с Россией на данном этапе. Считаем, что эти принципы не дают ответа на вопрос «что делать», а фиксируют достигнутый на основе солидарности подход Евросоюза к тому, чтобы максимально ограничивать отношения с Россией в отдельных областях, в том числе в энергетике и, одновременно, оставлять за собой право приглашать нас к взаимодействию там, где это выгодно Евросоюзу. Понятно, что такой подход сработать не может. «Business as usual» исключен. Эту фразу любят повторять в Брюсселе и Вашингтоне. Но мы уже давно не имеем в виду «бизнес как обычно», выражая готовность взаимодействовать только на абсолютно обоюдовыгодной основе.
Насчет энергосотрудничества у нас был целый набор секторальных диалогов с Евросоюзом, в том числе по энергетике. В январе в Москву приезжал заместитель Председателя Еврокомиссии М.Шефчович, который высказал заинтересованность в том, чтобы полноформатный энергетический диалог между Россией и Брюсселем возобновился. За этим ничего не последовало. Мы, естественно, выразили нашу готовность к этому. Но пока все остается, как и было. Доктринальные документы в сфере энергетики, которые принимает Евросоюз, прямо ставят задачу сократить зависимость от Российской Федерации. Понимаем, что значительная часть таких установок на свертывание сотрудничества с Россией генерируется из-за океана. У американцев есть свои экономические интересы. Сейчас создается впечатление, что период, когда логика «игр с нулевыми результатами» и требования определяться с кем вы: с «нами» или «с ними», которые адресовывались практически всем постсоветским государствам, в итоге привели к тому кризису, который разразился на Украине. Мы видим, что есть желание использовать эту ситуацию для того, чтобы экономически потеснить нас в Европе и заодно подлатать натовскую солидарность, которая в отсутствие общего врага просто, наверное, не может продолжаться. Заместитель Председателя правления ПАО «Газпром» А.И.Медведев сможет подробнее рассказать вам про энергетику.
Уверен, что этот текущий кризис должен помочь нам и Евросоюзу разобраться, как жить дальше. Мы не будем обижаться, уходить в изоляцию. Евросоюз – наш непосредственный сосед, важнейший торгово-экономический партнер. Уверен, что развитие самых разнообразных связей в экономике, политике, культуре и в сфере безопасности отвечает коренным интересам России и стран Европы.
Президент Российской Федерации В.В.Путин в недавней статье в греческой газете «Катимерини» перед своим визитом в Грецию подчеркнул еще раз, что мы не видим неразрешимых проблем в наших отношениях с ЕС. Главное – отказаться от той самой печальной игры «с нулевой суммой» и стараться опираться на свои национальные интересы, а не на придуманные принципы консенсуса, солидарности, за которыми прячется, по сути дела, возможность шантажа со стороны русофобского меньшинства. Давайте называть вещи своими именами. В итоге те страны, которые чисто политически хотят разорвать отношения России с Западом, просто заставляют Евросоюз и НАТО выходить на позиции с самого низкого общего знаменателя.
Насчет того, как урегулировать кризисы на Украине, мы можем говорить бесконечно. Есть Минские договоренности. Попытки их переписать неприемлемы и недопустимы. Надеемся, что нашими западными партнёрами будет проводиться воспитательная работа с Киевом, тем более что немцы, французы, даже американцы уже начинают уставать от своих «капризных» подопечных, которые подписали документ и не хотят его выполнять. Еще раз скажу, что мы ценим те голоса, которые в Европе стали часто раздаваться, в том числе из рядов европейского бизнеса, которые разумно, здраво и трезво предлагают все-таки начать равноправный диалог и искать равноправные формы сотрудничества.
Пару дней назад в газете «Коммерсант» была опубликована статья Президента Ассоциации итальянской промышленности в России Э.Ферленги, в которой подчеркивается необходимость признавать де-факто важную геополитическую роль России, «осталось убедить ЕС, что избежать отношений с Россией невозможно». Представляете, какие прописные истины приходится произносить уважаемым людям, чтобы постараться переломить совершенно нездоровый период нашей совместной истории?
В ближайшее время начнется встреча Президента России В.В.Путина с Председателем Еврокомиссии Ж.-К.Юнкером. Надеемся, что этот разговор поможет начать двигаться в том направлении, куда мы, я убежден, в итоге все равно должны идти, если мы хотим опираться на интересы собственных стран и народов.
Вопрос: Вы и Председатель Еврокомиссии Ж.-К.Юнкер сегодня подчеркнули важность диалога между Россией и ЕС. Ясно, что большое решение здесь пока не предвидится. Может быть, стоит сосредоточиться на малых шагах? Какие конкретно меры по укреплению доверия могли бы состояться на этом этапе?
С.В.Лавров: Мы провели для себя инвентаризацию отношений с Евросоюзом. Получился достаточно внушительный материал «non paper». Мы рассчитываем его передать нашим коллегам и предложить вместе провести такую «инвентаризацию».
На самом деле диалог полностью никогда не прерывался. По большинству секторальных направлений эксперты встречаются. Не на министерском уровне, но экспертные контакты продолжаются. Совсем недавно у нас состоялся очередной раунд диалога по миграции. Это тоже сфера наших общих интересов. Положив на бумагу факты, характеризующие сегодняшнее состояние дел, как мы эти факты видим, как их видит Евросоюз, это будет наглядно, надеемся, это поможет начать деловой разговор, отбросив все геополитические рассуждения и политиканскую риторику в сторону, потому что слишком дорого обходится желание играть в эти политические игры.
Вопрос: Господин Министр, на днях Госсекретарь США Дж.Керри заявил, что терпение США в отношении того, как движется урегулирование в Сирии и в отношении судьбы Президента Сирии Б.Асада подходит к концу. Позже Госдепартамент, правда, сказал, что такое заявление не было угрозой. Как Вы можете его прокомментировать.
С.В.Лавров: Я видел заявление. Удивился. Обычно Джон – выдержанный политик. Я даже не знаю, что произошло. Я также видел уточнения, которые сделал представитель Госдепартамента США. Все-таки надо, наверное, быть более терпеливым, тем более что Президент США Б.Обама неоднократно говорил, что его администрация проводит политику «стратегического терпения».
Что касается сути того, что так взволновало Госсекретаря США Дж.Керри, а он сказал, что у них лопается терпение в связи с тем, что мы никак не можем сделать то, что должны сделать с Президентом Сирии Б.Асадом, то мы ничего никому не обязаны и никаких обещаний никому не давали. Договорились, что все, кто работает над сирийским урегулированием, будут руководствоваться достигнутыми договоренностями в МГПС, которые были закреплены в резолюциях Совета Безопасности ООН. Напомню, там изложена всеобъемлющая стратегия, касающаяся конкретных вещей, которые необходимо предпринять в военной области (прекращение боевых действий, переход к прекращению огня), в гуманитарной сфере и, безусловно, в политическом процессе. Прекращение боевых действий, хотя и не на 100%, но все-таки помогло значительно и зримо снизить уровень насилия.
Что касается гуманитарной сферы, то если в прошлом году лишь два или три осажденных района из восемнадцати имели гуманитарный доступ, то в этом году пятнадцать из восемнадцати районов уже получают гуманитарную помощь. Здесь огромную роль играет конструктивная позиция сирийского правительства. Да, не все, что предлагается ООН, они так сразу принимают. Есть подозрение, что часть этой помощи может идти противникам режима. Понятно, что правительство Сирии не хотело бы заниматься чем-то, что будет направлено против его собственных интересов.
Но, повторю, прогресс есть. Где нет прогресса, то это политический процесс. Я только что встречался с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном и спецпосланником Генсека ООН по Сирии С.де Мистурой, и мы откровенно об этом поговорили. Политический диалог с участием всех сирийских сторон никак не может начаться, хотя резолюция требует инклюзивного состава делегации. Турки не пускают курдов, а т.н. Высший комитет по переговорам (ВНП) отказывается признавать членов других оппозиционных групп равными себе и требует, чтобы только его признавали в качестве главного переговорщика. Хотя в резолюции написано, что на переговорах должны быть представлены все сирийские группы, включая эр-риядскую, т.н. Высший комитет по переговорам (ВКП), московскую и каирскую. Добиться того, чтобы эти люди сели за стол переговоров в соответствии с четким мандатом СБ ООН не получается, но не по нашей вине, а по вине наших американских партнеров, которые почему-то не могут или не хотят «нажать» на своих союзников в регионе. А эти союзники в регионе занимают ультимативные позиции.
Всем хорошо известно, что Турция не пускает за стол переговоров Партию демократического союза сирийских курдов. Она этого не скрывает и даже, по-моему, кичится этим. Эта группа, которая называет себя «Высший комитет по переговорам» (ВКП), говорит, что за стол переговоров с правительством Сирии вообще не будет садиться до тех пор, пока не прекратятся бомбардировки позиций оппонентов режима, которые заинтересованы участвовать в процессе прекращении боевых действий.
Напомню, что еще в феврале, когда собиралась МГПС, никто иной, как Госсекретарь США Дж.Керри, публично заявил о принятии решения начать процесс вовлечения оппозиции и правительства в режим прекращения боевых действий. Это не касается «Джабхат ан-Нусры» и ИГИЛ. Поэтому те группировки, которые сейчас перемешаны территориально с «Джабхат ан-Нусрой» и «Исламским государством» и не хотят быть объектом ударов, должны физически, «на земле», размежеваться, выйти из этих территорий, с тем, чтобы борьба против «Джабхат ан-Нусры», продолжалась эффективно и чтобы сами эти группировки не пострадали. Госсекретарь США Дж.Керри сказал это в начале февраля. В конце февраля у нас был контакт на очень высоком уровне с представителями американского разведывательного сообщества. Мы им напомнили, что они обещали «увести» оппонентов режима, которые работают с США, с позиций «Джабхат ан-Нусры». Наш коллега попросил пару недель. Прошло уже три месяца. Сейчас нам американцы говорят, что у них не получается убрать этих «хороших» оппозиционеров с тех позиций, которые занимает «Джабхат ан-Нусра» и им нужно еще два-три месяца. У меня создается впечатление, что здесь идет игра и, может быть, «Джабхат ан-Нусру» хотят сохранить в какой-то форме, а затем использовать ее для свержения режима. По крайней мере, я «в лоб» спросил об этом Госсекретаря США Дж.Керри. Он божится и клянется, что это не так. Тогда надо посмотреть, почему же американцы со всеми своими возможностями не могут вывести с территории, контролируемой бандитами и террористами, те отряды, с которыми они работают.
Получается замкнутый круг. Группа, которая называет себя «Высший комитет по переговорам» (ВКП), говорит, что не сядет за стол переговоров с курдами и правительством, пока не прекратятся бомбардировки. А прекратить бомбардировки означает еще больше укрепить ее за счет контрабанды боевиков, военной техники, оружия и боеприпасов, которая широким потоком продолжает идти из Турции в Сирию. Мы это все показываем американцам. У нас ежедневно проходят видеоконференции между российской базой «Хмеймим» и командованием американской коалиции в столице Иордании.
В Женеве создан круглосуточный Совместный российско-американский оперативный центр реагирования на нарушения боевых действий. Кстати, все эти каналы работают достаточно по-деловому. Никаких истерик там не наблюдается, в отличие от публичного пространства, где на нас «вешают всех собак» (извините за грубое слово). Там мы предъявляем реальные факты и снимки местности, показываем, кто и где находится, где можно объявлять «режим тишины», а где это просто неприемлемо, потому что мы будем играть «на руку» террористам. Так что, надеюсь, такое длинное описание наших отношений позволит лучше понять, что нетерпение проявлять в отношении нас некорректно.
Вопрос: Бывший министр иностранных дел Франции Ю.Ведрин совершенно верно сказал, что сейчас необходимо выбираться из «ловушки» в отношениях между Россией и ЕС. Об этом же говорили Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров и Председатель Европейской комиссии Ж.-К.Юнкер.
Не могли бы Вы привести несколько конкретных примеров того, что можно сделать буквально сейчас? Какие первые шаги возможно предпринять, чтобы выбраться из этой «ловушки»?
С.В.Лавров: Во-первых, хочу вас проинформировать о том, как сейчас украинский кризис становится оселком. Давайте вспомним, как вводились санкции еще до Минских договоренностей. Не люблю о них говорить, но в данном контексте упоминаю о них не для того, чтобы показать, что нам это не нравится и нравиться не может, а для понимания того, что против нас могут использовать такие дискриминационные вещи. С точки зрения логики конфронтация, по моему глубокому убеждению, гнездится в гораздо более ранних событиях, которые имели место еще до украинского кризиса. Они говорят о том, что линия на сдерживание России осуществляется уже достаточно давно. Большая группа санкций была введена ЕС практически сразу после того, как был сбит малайзийский «Боинг» над Украиной. Никто не стал объяснять, что необходимо проводить расследование. Только мы одни настаивали на том, чтобы СБ ООН принял жесткую резолюцию, в которой изложил требования провести открытое и ответственное расследование по международным стандартам и информировать СБ ООН о том, как идет это расследование. Ни одного доклада в СБ ООН никто не представил. Самосозданная группа по расследованию причин катастрофы с участием голландцев, украинцев и австралийцев не сразу позвала даже Малайзию, чей самолет был сбит. Ее привлекли к расследованию только в декабре, практически через полгода, но санкции приняли быстро. У всех было ощущение, что есть причина и повод для принятия санкций.
Очередной блок санкций был принят в сентябре 2014 г., через 3 дня после того, как были подписаны первые Минские договоренности. Все их приветствовали. Однако «под сурдинку» председатель Евросовета, в то время Х.В.Ромпей, не проконсультировавшись с главами государств и правительств, издал распоряжение, которое до сих пор действует. Знаю, что даже некоторые главы государств и правительств высказали ему в приватном порядке свое крайнее недовольство тем, что он самовольно принял решение, которое «подрубает» отношения между Россией и ЕС.
Очередное продление санкций было сразу после того, как были подписаны вторые Минские договоренности. Мне кажется, ЕС давно начал искать формулу, которая позволит выйти из этого замкнутого круга. И придумали, как они считали, очень удачный вариант – что санкции будут снимать после того, как Россия полностью выполнит Минские договоренности. Только что мы услышали от тех, кто читал соответствующие документы, что выполнять Минские договоренности должна прежде всего украинская сторона. Большая часть из 13 параграфов относится лично в адрес Киева, включая параграф о децентрализации, который был собственноручно написан канцлером Германии А.Меркель и Президентом Франции Ф.Олландом. Там даже придумывать нечего, просто бери эти формулировки и вписывай их в соответствующий закон. Формула того, что санкции будут сняты, когда Россия выполнит Минские договоренности, полностью устраивает тех на Украине, кто не хочет ничего делать: никакой децентрализации, амнистии и никакого особого статуса. Они саботируют выполнение всех политических разделов Минских договоренностей и говорят, что необходимо продлевать санкции, потому что Россия не может заставить сепаратистов сложить оружие. В таком случае я бы просил во время обсуждения этого вопроса помнить, что те, кого называют сепаратистами, подписали Минские договоренности, в которых подтверждены суверенитет и территориальная целостность Украины. Неправильно называть их сепаратистами.
Вчера во время встречи Контактной группы, украинские коллеги вновь сказали, что политические разделы Минских договоренностей начнут выполняться в том, что касается обязательств Киева, только в том случае, если будет не менее трех месяцев полного, безусловного, без единого нарушения режима прекращения огня. Это просто нереально. Там, наверняка, найдется, в том числе на украинской стороне, желающий, который два раза выстрелит куда-нибудь, и они предложат начать вести новый отсчет трех месяцев. Хочу, чтобы наши коллеги поняли это, хотя большинство европейцев, которые следят за процессом, и так это понимают. Надеюсь, что во время встреч с украинским руководителями, они тоже говорят им об этом. Наверное, уже пора прекратить публично саботировать Минские договоренности и начать тот самый прямой диалог между Киевом и Донбассом, который записан «черным по белому» в этом минском документе. Там прямо сказано о том, что закон об особом статусе должен быть согласован с этими районами, поправки в конституцию должны быть также согласованы. Поэтому мне кажется, что необходимо всегда понимать истоки происходящего, а истоки появились гораздо раньше украинского кризиса. Можно вспоминать реакцию наших американских друзей на произошедшее с Э.Сноуденом, когда они требовали немедленно его вернуть и сделать не очень гуманный и гуманитарный жест. Когда мы им вежливо объяснили, почему это не получится, Президент США Б.Обама отменил визит в Москву, который планировался накануне саммита «Группы двадцати» в Санкт-Петербурге. Представляете уровень, на котором высказывается обида и повод, по которому она звучит? Я уже не говорю о «законе Магнитского», который был принят задолго до украинских событий. Параллельно навязывались соответствующие решения Евросоюзу. Сейчас, когда независимый режиссер снял фильм о том, как «дело Магнитского» создавалось и использовалось, этот фильм запретили показывать в Европарламенте. Хотели запретить показывать его и в США. Вот вам свобода слова! У нас есть много пословиц: «про шапку, которая горит», про то, что у нас иногда бывает «что-то в пуху». Думаю, что необходимо всем понять: конкуренция никуда не денется, и большие державы всегда будут хотеть влиять на события больше, чем средние державы. Всегда, наверное, США будут провозглашать цель своего существования как необходимость быть всегда во всем сильнее всех. Это генетический код, но все-таки реализм должен восторжествовать. Я готов даже процитировать бывшего премьер-министра Великобритании У.Черчилля, который сказал, что США всегда делают правильную вещь после того, как испробовали все остальное. Он действительно это сказал. Если в Ираке и Ливии было столько наворочено неправильного, то есть надежда (если У.Черчилль, Царство ему Небесное, был прав), что в Сирии, надеюсь, все будет как-то получше.
Вопрос: Европейский союз предложил пять принципов отношений с Россией, которые, на мой взгляд, демонстрируют отсутствие понимания у Европейского союза того, как эти отношения должны сложиться в будущем. Они просто сосредоточились на том, что есть. Ответит ли Россия своими пятью принципами? Если да, то какие идеи сможет предложить?
С.В.Лавров: Я, как, наверное, и все, видел эти пять принципов. Помню, когда в декабре 2014 г. мы встречались с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ф.Могерини «на полях» заседания ОБСЕ в Белграде, мы говорили с ней о том, что нужно как-то определять отношения. Она сказала, что рассчитывает разработать креативную повестку дня для российских отношений с ЕС и одобрить ее на заседании СМИД ЕС. Произошло то, что произошло. У нее явно получилась только «зарисовка» того, что реально сейчас существует. Россия упоминается там, если не ошибаюсь, лишь в одном из пяти принципов. Вернее, говорится о том, что нужно обеспечивать энергетическую независимость, как можно меньше зависеть от внешних факторов, продвигать «Восточное партнерство», а это тоже не совсем безобидная вещь. Знаю, что были попытки превратить этот проект в конструктивный процесс, но верх берут намерения делать что-то «в пику России», дружить с нашими соседями «в пику» нам. Там же есть один из принципов, что ЕС будет сотрудничать с нами там, где ему выгодно, проводить работу с молодежью (чем занимается не только Евросоюз). Это программа для них, а не для отношений с Россией. Это то, как ЕС видит свою геополитическую роль и какие задачи ставит перед собой. Мы же предложили то, о чем я упомянул в предыдущем комментарии: провести совместную «инвентаризацию» того, где мы есть, пойти по всему списку созданных, начиная с саммитов, механизмов. Россия была единственной страной-партнером ЕС, с которым саммиты проводились два раза в год. Еще в лучшие времена возникал вопрос, нужно ли делать это так часто? Давайте определимся, нужны ли нам саммиты или нет? Если нужны, то как часто: раз в год, в два года или три раза в год?
Существует Постоянный совет партнерства (ПСП), где Министр иностранных дел России и глава дипломатии Евросоюза должны проводить обзор всех направлений деятельности в рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Если говорить о том, как у нас выстраивались отношения, то когда Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности была К.Эштон, она ни разу не смогла провести ПСП. Мы встречались на ходу, она обсуждала что-то про Ближний Восток, еще какую-то кризисную ситуацию, но не проводился обзор отношений, который является важнейшей функцией этого механизма.
Сейчас мы будем говорить с Председателем Еврокомиссии Ж.-К.Юнкером, и Президент России В.В.Путин, надеюсь, предложит ему провести совместную «инвентаризацию», посмотреть на каждый из секторальных диалогов и понять, нужны они нам или нет.
В своем выступлении Директор Центра интеграционных исследований ЕАБР Е.Ю.Винокуров говорил о делегировании на наднациональный уровень большого количества полномочий (порядка 140). В Европейском союзе эта цифра больше, но Комиссия хочет еще больше. Наши коллеги из аналитических компаний не упомянули это, но возникает очень серьезное напряжение ввиду требований Комиссии вклиниться в двусторонние переговоры, в том числе между компаниями. Мне кажется, что и внутри ЕС нужно переоценить ситуацию.
Россию обвиняют в желании внести раскол, поскольку она не разговаривает с Евросоюзом, а хочет общаться с отдельными странами, которые ей симпатизируют. А как нам быть? Отойти от Европы совсем мы не можем – это наш ближайший сосед и наиболее крупный торговый партнер. Если Комиссия заморозила свои каналы общения с нами, то, конечно, мы будем разговаривать больше напрямую с национальным и правительствами.
"Газпром нефть" планирует в 2017 г. увеличить добычу на Бадре в Ираке до 115 тыс. баррелей в сутки.
Газпром нефть" планирует в 2017 г. увеличить добычу на месторождении Бадра в Ираке до 115 тыс. баррелей в сутки. Об этом журналистам сказал первый заместитель генерального директора "Газпром нефти" Вадим Яковлев.
"115 тыс. баррелей в сутки с возможностью пересмотра в сторону увеличения, примерно выйдем на этот уровень в следующем году", - сказал он, добавив, что возможно дальнейшее увеличение добычи до 170 тыс. баррелей в сутки. При этом сейчас добыча составляет 65 тыс. барр. в сутки.
Ранее сообщалось, что "Газпром нефть" планирует полностью компенсировать затраты по проекту Бадра в Ираке в 2018 г.
Месторождение Бадра находится в провинции Вассит на востоке Ирака. Геологические запасы оцениваются в 3 млрд баррелей нефти. Проект разработки рассчитан на 20 лет с возможным продлением на пять лет. Контракт с правительством Ирака на разработку месторождения предусматривает компенсацию инвесторам понесенных затрат, а затем - выплату вознаграждения за каждый баррель добытой нефти.
Контракт подписан в январе 2010 г. консорциумом в составе "Газпром нефти" (в статусе оператора), Kogas (Корея), Petronas (Малайзия), ТРАО (Турция). Доля участия "Газпром нефти" в проекте составляет 30%, Kogas - 22,5%, Petronas - 15%, ТРАО - 7,5%. Доля иракского правительства, которое представлено иракской Геологоразведочной компанией (Oil Exploration Company, OEC), - 25%.
Interflour будет закупать пшеницу в странах Причерноморья и Аргентине
Сокращение экспортного потенциала австралийской пшеницы вынуждает группу Interflour (Сингапур) расширить список стран-поставщиков пшеницы. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на Agrimoney.com.
Interflour, которая на 50% принадлежит австралийскому кооперативe CBH, две трети своих потребностей в пшеницы обеспечивает за счет поставок из австралийского штата Западная Австралия. Interflour закупает около 6 млн. т пшеницы в год, чтобы обеспечить сырьем свои мукомольные предприятия в Индонезии, Малайзии, Вьетнаме и Турции. Причем потребности группы в пшенице постоянно растут. Австралийские фермеры не в состоянии обеспечить растущий спрос. «Сельхозпроизводство в Австралии растет на 1,5% ежегодно», - сказал Грег Харви, генеральный директор Interflour. «Но спрос со стороны предприятий, таких как наши, увеличивается на 7%», - добавил он, имея в виду темпы увеличения спроса со стороны мукомольных предприятий Юго-Восточной Азии. В результате, Interflour вынуждена искать новых поставщиков. «Мы планируем развивать торговлю со странами Причерноморья и Аргентиной», - заявил Грег Харви.
По прогнозам МСХ США, экспорт австралийской пшеницы в сезоне 2015/16 составит 16,5 млн. т, что немного меньше, чем в прошлом сезоне. Снижение показателей экспорта происходит четвертый сезон подряд после того, как в сезоне 2011/12 было вывезено рекордное количество австралийской пшеницы – 24,7 млн. т.
Несоответствие между объемом предложения австралийской пшеницы и спросом на неё в странах Азии привело к увеличению разницы в цене с российской и украинской пшеницей до 40 $/тонна. «Пшеница из России и Украины имеет менее высокое качество, чем австралийская, но не на $40 за тонну», - считает Грег Харви.
Стремление к диверсификации поставщиков происходит на фоне планов Interflour по увеличению производственных мощностей с текущих 6,4 млн. т до 9,73 млн. т к 2018г. Если данные планы осуществятся, группа войдет в десятку крупнейших мукомольных компаний мира.

"Роснефть" хотела бы создать три крупных добывающих хаба за рубежом".
О том, как развиваются добычные и геологоразведочные активы "Роснефти" за рубежом, корреспонденту "Известий" Ирине Кезик рассказал заместитель главного геолога компании, курирующий блок upstream, КРИСТОФЕР ИНЧКОМБ.
- Россия сегодня живет в условиях множественных ограничений. Санкции оказали влияние на международную экспансию "Роснефти" в сегменте upstream.
- Санкции не очень сильно затронули деятельность компании на внешних рынках. Сегодня у нас есть проекты в Северной Америке - на шельфе Мексиканского залива и на суше в Канаде. В Латинской Америке это Бразилия и Венесуэла. В Европе у нас есть доли в участках в норвежской части Баренцева моря. На Ближнем Востоке мы реализуем проекты в Алжире, проект Шарджа - в ОАЭ, но на данный момент их приоритет низкий. Ключевой иностранный добывающий актив "Роснефти" расположен во Вьетнаме. Наконец, в прошлом году мы получили лицензии на шельфе Мозамбика. Все эти проекты не были затронуты санкциями и считаются долгосрочными.
- Какие планы у компании по приросту запасов и наращиванию ресурсной базы за рубежом?
- У "Роснефти" феноменальная ресурсная база в России. Нас даже иногда спрашивают, зачем нам что-нибудь еще. У "Роснефти" далеко идущие планы, и в определенный момент ей будет необходимо восполнить ресурсную базу. Сегодня добыча на международных проектах составляет примерно 1% от общего объема. Тем не менее они всегда будут оставаться небольшой, но очень важной частью ресурсов компании.
- Расскажите о планах компании по инвестициям в геологоразведку и добычу за границей.
- Основные вложения в этом сегменте бизнеса будут в проекты Латинской Америки. В Венесуэле мы недавно закрыли сделку по приобретению у PDVSA 23,33% в проекте "Петромана-гас". И сейчас мы инвестируем в три добычных проекта: "Петро-манагас", "Петропериха" и "Бокерон". Цель вложений в указанные активы - поддержание текущих уровней добычи. Параллельно мы инвестируем в развитие молодых проектов, так называемые гринфилды - это проекты "Петровиктория" и "Петромиранда". Что касается Бразилии, то в настоящее время мы вкладываем там в геологоразведку, ожидаем, что в течение следующих 2-3 лет будем инвестировать также в сейсморазведку и поисковое бурение. В зависимости от результатов исследований, а также достижения договоренностей по монетизации газа мы считаем возможным примерно через пять лет принять решение об инвестициях в добычу на наших проектах в Бразилии.
- Какова ресурсная база проектов "Роснефти" в Латинской Америке?
- По оценкам аудиторов DeGolyer & MacNaughton на конец 2015 года, ресурсная база наших проектов в Венесуэле по категории 2P классификации PRMS составляет 328 млн б.н.э., mboe (нефть+газ). Что касается Бразилии, то, по нашей оценке, совокупный ресурсный потенциал проектов в бассейне Солимойнс может превысить 200 млрд куб. м газа.
- Учитывая близость Латинской Америки к США, где развивается сланцевая добыча углеводородов, насколько перспективна реализация этих проектов? К тому же в этом регионе добывается тяжелая нефть, требующая дополнительной переработки, а соответственно строительства дорогостоящих апгрейдеров (заводов для первичной переработки сверхвязкой нефти).
- Я бы разделил ваш вопрос на две части. Начну с Бразилии. Эта страна интересна нам по двум причинам. Там мы можем показать и применить все свои навыки в области разведки и добычи на суше. Месторождения, изученные в рамках проекта "Солимойнс", по большей части содержат газ, ресурсы которого в Бразилии невелики. Если я не ошибаюсь, около 70% внутреннего потребления газа в государстве покрывается за счет импорта. Таким образом, потенциально наш проект будет направлен на внутренний рынок. Вариантов монетизации несколько - это может быть сжижение и реализация в портах страны или поставка голубого топлива для нужд генерирующих компаний. Кроме того, в случае обнаружения коммерческих запасов нефти (по тому, что мы видели, это будет очень легкая нефть) у нас появится интересная возможность по ее маркетингу - на местных рынках легкая нефть крайне востребована ввиду большого количества тяжелой нефти, производимой на шельфовых месторождениях. Таким образом, наш проект в Бразилии сфокусирован на внутренний рынок и не зависит от американского потребителя.
Что касается Венесуэлы, то вы правы. Но не стоит забывать, что эта страна обладает одной из самых крупных ресурсных баз нефти в мире.
Венесуэльские проекты позволили нам получить ценный опыт по работе с тяжелой нефтью и ее переработке на апгрейдере. Будущее проектов "Петровиктория" и "Петромиранда" во многом будет зависеть от того, каким образом мы будем использовать эти навыки. Говоря о работе в Венесуэле, следует учесть, что мы рассматриваем их как долгосрочную инвестицию. По моему мнению, через 5-10 лет мы увидим совсем иную картину по спросу на тяжелые и синтетические сорта нефти.
- Хотелось бы уточнить - у "Роснефти" в Венесуэле появился свой апгрейдер?
- Нет, но у проекта "Петро-манагас" есть апгрейдер. Его мощность составляет порядка 100 тыс. баррелей в день.
- До введения санкций "Роснефть" вместе с американской ExxonMobil участвовала в проекте на участке Харматтан в канадской провинции Альберта. Как сегодня развивается проект и какие у него перспективы?
- Санкции не отразились на проекте - он ретроспективный. И он развивается самостоятельно, он самоокупаемый. На данный момент мы не видим, каким образом санкции могут затронуть его. Было пробурено 80 скважин, ведется добыча. Exxon является оператором проекта. На регулярной основе мы встречаемся с представителями американской компании, обсуждаем добычу, инвестиции и по-прежнему считаем, что это рентабельный даже в текущих условиях проект. Добыча сейчас не очень большая - около 1 тыс. баррелей в сутки, но участок Харматтан важен для нас, так как там добывается тяжелая нефть, и его успешная реализация поможет нам определиться с будущими инвестициями в подобные проекты в регионе.
- Санкции, введенные в отношении России и российских компаний, заставили "Роснефть" и Exxon свернуть работы в Арктике, в Карском море. Сегодня есть понимание, когда возможно будет к ним вернуться?
- Действительно, из-за различного рода ограничений нам пришлось заморозить проекты в Карском море и Мексиканском заливе. Но хочу отметить, что "Роснефть" не намерена менять в них партнера из-за санкций. Что же касается проектов в Мексиканском заливе, то пока мы не рассчитываем получить разрешение американских властей. И связано это не с санкциями, а, вероятнее всего, с политикой.
- В прошлом году российская и американская компании создали консорциум для участия в пятом лицензионном раунде Мозамбика. В октябре того же года консорциум выиграл конкурс по трем блокам на шельфе этой африканской страны. Когда будут подписаны соглашения?
- Мы подали свою заявку в июле прошлого года и официально были уведомлены о присуждении лицензии в октябре. С того момента мы ждем от правительства финального договора EPCC (exploration and production concession contract - концессионный договор на разведку и добычу. - "Известия"). Мы надеемся, что все будет готово к середине года и в III квартале мы подпишем окончательное соглашение.
- "Роснефть" и японская Japan Drilling подписали договор о предоставлении и эксплуатации морской буровой установки Hakuryu 5 для бурения в рамках проектов "Роснефти" во Вьетнаме, которое началось в этом году. Каковы первые результаты?
- Технические результаты являются конфиденциальными данными. Но хочу сказать, что все работы были выполнены с опережением графиков. Нам также удалось уменьшить затраты по проекту.
- А когда можно ждать в таком случае огласки результатов?
- Сложно прогнозировать, это зависит от особенностей местного законодательства. Но если говорить о первой скважине, свидетельством успеха может являться тот факт, что наши партнеры - компания PetroVietnam - уже выступили с коммерческим предложением, и в том числе поэтому мы не можем раскрыть технические детали. В целом же накопленный опыт работы во Вьетнаме позволит нам в случае необходимости успешно работать, например, в Индонезии, или Малайзии, или Мьянме, где схожие геологические и технические условия.
- В таком случае правильно полагать, что в Индонезии компания намерена не только принять участие в строительстве нефтеперерабатывающего завода, но и заняться добычей?
- "Роснефть" в том числе рассматривает возможность вхождения в шельфовые проекты Индонезии.
- Каковы интересы компании в Иране? "Роснефть" недавно объявила о тендере на разработку исследования перспектив нефтегазоносности этой страны. Есть ли какие-либо договоренности с властями Исламской Республики?
- Учитывая ресурсную базу не только этой страны, но и всего Ближнего Востока, компании важно иметь хорошее понимание возможностей региона. С этой целью мы постоянно анализируем перспективы работы на Ближнем Востоке. И не важно, будет ли это Иран, Ирак или Курдистан.
- Саудовская Аравия?
- Сложно сказать, но, может быть, даже Сирия, которая рано или поздно реанимирует свою нефтегазовую отрасль. Сейчас мы пытаемся изучить регион, определить, где компания может работать. Накопленный опыт и знания "Роснефти" легко могут быть применены в ходе реализации проектов в этих странах. При этом хочу отметить, что те сложности, с которыми мы столкнулись на Ближнем Востоке, не связаны с ресурсной базой. Учитывая, что в Иране и Ираке в основном сервисные контракты, нужно опираться на ключевые условия вхождения в проекты.
- О каких сложностях вы говорите?
- Речь идет о коммерческих соглашениях для вхождения в проект. По тем условиям, которые выдвигали Иран и Ирак, нельзя планировать добычу. Это очень сложные условия, которые не могут соперничать даже с теми условиями, что есть у нас в России.
- Вы сейчас основываетесь на опыте других компаний или "Роснефть" сама вела переговоры по каким-то проектам?
- У нас были открытые обсуждения с иранскими партнерами по двум проектам, но на данный момент мы не достигли каких-то формальных соглашений. Тем более что иранская сторона пока еще не объявила о коммерческих условиях.
- А о каких двух проектах идет речь?
- В прошлом году Иран объявил о целом списке проектов. Мы заявили о своем интересе к гринфилдам на суше. Они являются более привлекательными для нас, так как рассчитаны на долгосрочную перспективу.
- Какие цели ставит компания, выходя на внешние рынки в сегменте добычи?
- Мы хотели бы создать три крупных нефтегазовых хаба - во Вьетнаме, Латинской Америке и хотелось бы в Северной Америке, но в силу санкций это невозможно, поэтому сейчас рассматриваем вариант в Африке.
«Россию как оружейного экспортера не раз списывали со счетов»
Глава делегации «Рособоронэкспорта» на Eurosatory 2016 рассказал «Газете.Ru» о сотрудничестве с Европой
Глава делегации «Рособоронэкспорта» на выставке вооружений Eurosatory-2016 в Париже Игорь Севастьянов в интервью «Газете.Ru» рассказал о сотрудничестве российского ОПК с Европой в условиях санкций и растущей угрозы терроризма, о конкуренции с Украиной на международном рынке вооружений, а также об итогах «сирийской рекламной кампании» для российской военной техники.
— Игорь Олегович, на предыдущей Eurosatory мне удалось пообщаться с президентом выставки, и Патрик Кола де Франк сказал, что не представляет этот форум без участия России, впрочем, как и вообще мировой рынок вооружения и военной техники. Тем не менее по понятным причинам Россия снижает свое присутствие на европейских военно-промышленных форумах. Какие планы на Eurosatory 2016 в Париже?
— Санкции, наложенные на нашу страну, безусловно, сказались и на военно-техническом сотрудничестве с европейскими партнерами. Однако это не повод громко хлопнуть дверью и полностью закрыться.
Выставка Eurosatory — одна из крупнейших и наиболее авторитетных международных площадок по сухопутной тематике, и здесь мы не только проводим встречи с европейскими компаниями, но и представляем российскую продукцию для делегаций из других регионов мира. Однако масштаб участия может быть разным.
Не секрет, что наши главные партнеры находятся не в Европе, поэтому мы, безусловно, делаем упор на те выставки, которые проходят в ключевых для нас регионах.
— Российские производители активно сотрудничали с Safran и Thales, как обстоят дела в «общении» с этими и другими французскими компаниями? Есть ли перспективы восстановления ВТС с Францией и другими странами ЕС?
— Новых соглашений не подписывается, однако мы продолжаем работать по ряду контрактов, которые были заключены до объявления санкций. Поэтому в ходе выставки, конечно, будут обсуждаться текущие рабочие вопросы.
Военно-техническое сотрудничество с французскими и другими европейскими партнерами в последние годы стабильно расширялось. Обсуждались довольно амбициозные перспективные проекты, в том числе в интересах третьих стран. Многие европейские компании были нацелены на дальнейшее углубление научно-технической и промышленной кооперации с Россией.
Сегодня все заморожено, но мы поддерживаем контакты с европейскими производителями, которые, конечно, хотели бы восстановить сотрудничество.
— Учитывая недавние теракты в Европе, не могу обойти тему антитеррора и комплексной безопасности, тем более сейчас проходит чемпионат по футболу Евро-2016. Что Россия предлагает европейским странам в части антитеррора и как наши предложения встречаются европейскими правительствами? Есть ли что-то, что они реально могут приобрести?
— У нас есть глобальные решения, которые позволят повысить безопасность городов, критически важных объектов, например атомных электростанций, а также усилить контроль за государственными границами. Имеющиеся в России технические средства, IT-решения, все виды вооружения, техники и специального оборудования мы объединили в проект «Комплексные системы безопасности». Мы будем рассказывать о нем нашим партнерам на выставке в Париже. В условиях непростой политической ситуации продвигать данный проект на европейский рынок будет непросто, но мы попробуем.
Когда речь заходит о безопасности тысяч людей, то выбирают наиболее эффективные и проверенные средства. А предлагаемые нами системы успешно внедряются
в России и, в частности, позволили обеспечить высочайший уровень безопасности на Олимпийских играх в Сочи.
— В этом году один из ключевых российских экспонентов — мировой лидер танкостроения Уравагонзавод — не приехал на Eurosatory. Будет ли в каком-то виде представлена продукция УВЗ?
— Конечно, мы будем представлять продукцию Уралвагонзавода на выставке, в том числе танки Т-90С и Т-90МС, боевую машину поддержки танков БМПТ, различную инженерную технику. Как единственный государственный спецэкспортер мы обладаем всеми необходимыми компетенциями и ресурсами, чтобы эффективно продвигать весь спектр российской продукции военного и двойного назначения.
— Не теряем ли мы из-за неучастия в ряде выставок потенциальных клиентов? Ведь пока Россия пропускает форумы, наши коллеги, например, с Украины занимаются активным маркетингом и переманивают наших традиционных партнеров, вспомним, например, Индию, которая теперь будет с Киевом делать военно-транспортный самолет?
— Если российское участие в каких-то выставках сокращается, то это не значит, что снижается наша маркетинговая активность. Выставки важный, но далеко не единственный инструмент, который мы используем.
Вы приводите в пример Индию, однако на всех индийских выставках Россия выступает очень представительно, так как для нас это стратегический партнер. Что касается сравнения нашей эффективности с конкурентами из других стран, то в первую очередь следует обращать внимание не на громкие заявления в прессе, а на успешно завершенные проекты, конкретные цифры и факты. Если уж заговорили об Индии, то там производятся российские истребители Су-30МКИ, танки Т-90С, совместно разработанные сверхзвуковые ракеты «Брамос» и другая продукция военного назначения. Мы работаем над созданием совместного предприятия по производству вертолетов Ка-226Т и поступательно развиваем проект по созданию истребителя пятого поколения FGFA. Есть перспективы и по организации производства дизель-электрических подводных лодок и фрегатов, причем для этого уже готовы отработанные решения.
Кто из наших конкурентов может похвастаться таким масштабом сотрудничества? Но при этом каждый год слышим, как мы потеряли индийский рынок. Вообще,
Россию как оружейного экспортера много раз списывали со счетов: то один конкурент нас должен вытеснить, то другой. По факту, правда, получалось все не так,
но кто будет вспоминать о своих несбывшихся прогнозах?
— Среди покупателей российских вооружений в основном фигурируют страны Азии и Африки, причем часто не самые богатые. Правомерно ли утверждать, что более развитые страны предпочитают западное вооружение, и если да, то почему так сложилось?
— Вряд ли можно утверждать, что Индия, Китай или, например, Бразилия, ОАЭ и Южная Корея имеют слабые экономики. Если условно оставить за скобками страны НАТО, которые опираются, по сути, на единый ОПК, США и их ближайших союзников, то практически во всех других странах мы активно работаем над продвижением российской военной техники.
Убежден, что американские военные с удовольствием взяли бы на вооружение многое из того, что мы предлагаем на международном рынке.
Но мы же живем не в безвоздушном пространстве, где нет политики и интересов национальных производителей. Все, что касается безопасности, — очень чувствительная сфера, и, как показывает практика, иногда выбор делается не по результатам испытаний, техническим характеристикам или стоимости, а исходя из политической логики.
— С тех пор как российская военная техника прибыла в Сирию, неоднократно сообщалось, что многие страны заинтересовались нашим вооружением. Какие именно виды и типы техники вызывают наибольший интерес и какие это страны?
— В первую очередь повысился интерес к новым образцам авиационной техники — истребителям-бомбардировщикам Су-32 (экспортная версия Су-34), многоцелевым истребителям Су-35 и боевым вертолетам Ми-28НЭ и Ка-52. Их боевое применение впечатлило военное руководство многих стран.
Я бы также отметил пуски крылатых ракет «Калибр», которые активно обсуждались в прессе и среди специалистов. Иностранным заказчикам мы предлагаем экспортную версию ракетного комплекса — «Клаб». Она уже поставляется на экспорт в составе отечественных дизель-электрических подводных лодок и надводных кораблей. Успешное массированное применение ракет из состава данного комплекса не только еще раз подтверждает правильность выбора наших партнеров, но и заставляет задуматься другие страны, стремящиеся серьезно повысить боевые возможности своих военно-морских сил.
Что касается конкретных заявок, то необходимо понимать, что все перечисленные мной образцы представляют собой высокотехнологичные и дорогостоящие системы, закупка которых планируется заблаговременно, а на переговорный процесс, как правило, уходит достаточно много времени. Поэтому мы говорим именно о возросшем интересе, который постараемся постепенно перевести в твердые контракты.
Повышенный интерес проявляют и страны Ближнего Востока и Северной Африки, и Азиатско-Тихоокеанского региона, и Латинской Америки.
— Не повлияла ли недавняя авария с вертолетом Ми-28Н в Хомсе на интерес к этой винтокрылой машине? С какими странами переговоры по этим вертолетам ближе всего к финализации?
— Нет, не повлияла. Успешное применение ВКС России этих вертолетов в Сирии подтверждает их боевые возможности для действий в трудных климатических условиях в любое время суток. Парк Ми-28Н/НЭ в России и за рубежом растет. Сейчас данные вертолеты поставляются в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Мы также считаем, что у этих машин хорошие перспективы в Латинской Америке. Но по факту мы продвигаем Ми-28НЭ вместе с Ка-52 практически во всех регионах. Ведутся предконтрактные переговоры с несколькими странами, но называть их я пока не буду.
— Отразилась ли как-то на спросе переброска ЗРПК «Панцирь» в Сирию? Говорят, страны Африки выстраиваются в очередь, насколько это правомерное заявление, каковы результаты стояния в этой очереди? А динамика в контрактации «Панциря» Бразилией имеется или пока никак не двигается процесс?
— Очередь за «Панцирем-С1» начала выстраиваться задолго до операции ВКС в Сирии. Он относится к комплексам малого радиуса действия, которые, пожалуй, являются самыми востребованными на мировом рынке вооружений.
По совокупности характеристик, боевых возможностей и стоимости вы вряд ли найдете что-то сравнимое с «Панцирем».
Им интересуются многие страны, в том числе африканские, поэтому динамика контрактации сохраняется на высоком уровне. Только по экспортным контрактам предприятия загружены на несколько лет вперед. Что касается Бразилии, то соответствующая предконтрактная работа продолжается.
— Планирует ли Россия расширение поставок вооружений Ирану в свете снятия санкций? О каких конкретно вооружениях может идти речь?
— Мы исходим из резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 2 июля 2015 года, которая предполагает поэтапную отмену санкций.
Ограничения на поставку в Иран обычных вооружений сохраняются до 2020 года, ракетных технологий — до 2023 года.
Однако указанной резолюцией предусмотрен разрешительный порядок в отношении возможных поставок продукции военного назначения, находящейся под санкциями. Это означает, что в случае если заказчик обратится с просьбой о поставке боевых самолетов, танков, кораблей и так далее, то в каждом конкретном случае необходимо будет получить разрешение Совета Безопасности ООН. Но надо понимать, что в сегодняшних геополитических условиях это задача не из легких.
— В последнее время пошла тенденция выдавать промышленным холдингам право на самостоятельную внешнеэкономическую деятельность. В чем тогда разграничение между тем, чем занимается «Рособоронэкспорт» и отдельные компании. Не окончится ли это все тем, что в сфере ВТС пойдет разброд и шатание и каждый будет кто во что горазд заключать контракты и поставлять продукцию?
— Речь идет в первую очередь о послепродажном обслуживании.
Система ВТС меняется, эволюционирует в соответствии с требованием времени, и это хорошо. Но при этом «Рособоронэкспорт» остается главным мозговым центром и единственным государственным посредником по поставке всего спектра продукции военного и двойного назначения. Наш статус, компетенции и огромный опыт позволяют предлагать заказчикам комплексные «пакетные» предложения, как, например, было сделано в случае с Венесуэлой, которая закупила и авиацию, и сухопутную технику, и средства ПВО. Или взять другой пример, когда в рамках офсетного соглашения на поставку истребителей Су-30МКМ Малайзии мы организовали запуск первого малайзийского космонавта на МКС. Таких уникальных проектов масса.
То же самое происходит и на переговорах — например, министру обороны мы сразу можем рассказать и про подводные лодки, и про «Панцири», и про автоматы Калашникова, и про боевые вертолеты.
Около 50 наших представительств расположены по всему миру, и для наших партнеров они выполняют функции «одного окна».
Содержать такую международную сеть каждому холдингу было бы просто нецелесообразно, а без них невозможно полноценно реализовывать стратегию по расширению географии поставок. Я могу долго перечислять все за.
Специалисты прекрасно помнят, как вы сказали, «разброд и шатание», которые были в 1990-е годы, когда российские предприятия и спецэкспортеры конкурировали друг с другом, отсутствовала единая маркетинговая политика по продвижению всего спектра продукции военного назначения. Только выступив единым фронтом, мы смогли радикально увеличить общий объем экспорта вооружений, расширить географию поставок.
Когда сегодня нас пытаются выдавить как с новых, так и с традиционных рынков, необходимо выступать еще более сплоченно.
— Ведет ли Россия на Eurosatory «агитацию» в пользу отечественных военно-технических форумов «Армия-2016» и Russia Arms Expo 2017?
— На всех международных выставках мы всегда рассказываем нашим партнерам о российских оборонных салонах и приглашаем их посетить. Это отличная возможность показать заказчику десятки натурных образцов. Столько техники мы никогда не вывезем на зарубежные площадки. Поэтому в Париже также будем приглашать в Россию. В частности, об «Армии-2016» посетители смогут узнать на отдельной стойке.
Екатерина Згировская
Как в 10 июне сообщили филиппинские СМИ, некоторые дипломаты страны на днях призвали правительство провести двусторонние переговоры с Китаем для надлежащего урегулирования спора вокруг Южно-Китайского моря.
По сообщениям филиппинской печати, бывший постоянный представитель Филиппин при ООН Лауро Байя в интервью журналистам в МИД Филиппин заявил, что без двусторонних переговоров двум государствам не удастся решить спор вокруг Южно-Китайского моря.
По его словам, другие страны, предъявляющие права в территориальных спорах вокруг Южно-Китайского моря, например Вьетнам и Малайзия, как раз ведут двусторонние переговоры.
Бывший заместитель министра иностранных дел Филиппин Росарио Манало считает, что Филиппинам следует как можно скорее начать двусторонние переговоры с Китаем. По ее мнению, односторонний арбитраж Филиппин по Южно-Китайскому морю разозлил Китай, что привело к ухудшению ситуации в Южно-Китайском море.
Р. Манало предложила двум государствам совместно осваивать Южно-Китайское море в целях смягчения напряженности и выразила уверенность в достижении двустороннего соглашения.
Она отметила, что США являются внерегиональной страной и поэтому не должны вмешиваться в переговоры по Южно-Китайскому морю.
Министерство иностранных дел Китая 8 июня опубликовало заявление, в котором призвалоФилиппины немедленно прекратить ошибочные шаги по содействию процессу международного арбитража по Южно-Китайскому морю и вернуться на правильный путь двусторонних переговоров для урегулирования споров.
В заявлении отмечается, что после того, как Филиппины инициировали арбитраж, они в одностороннем порядке закрыли дверь для решения этого спора посредством переговоров с Китаем, нарушили достигнутые двумя сторонами договоренности об управлении разногласиями и предприняли ряд противоправных и провокационных действий, что привело к резкому ухудшению китайско-филиппинских отношений и ситуации в Южно-Китайском море. Китай выступает решительно против односторонних действий Филиппин, придерживается справедливой позиции, заключающейся в непринятии арбитража и отказе участвовать в нем, а также настаивает на разрешении спора путем двусторонних переговоров. (Синьхуа)
Кто владеет островами в Южно-Китайском море?
Елена ПУСТОВОЙТОВА
Как сообщило 8 июня издание Nikkei Asian Review, американские военные заявили, что два китайских истребителя J-10 перехватили американский самолет-разведчик RC-135 над Южно-Китайским морем, где Поднебесная в одностороннем порядке ввела в действие зону военно-воздушного контроля. Как раз днём раньше в Пекине завершились китайско-американские межправительственные переговоры. Один из самолётов, пожаловались американцы, был опасно близок к их RC-135. Метрах этак в пятнадцати…
А перед этим китайская сторона не позволила американскому авианосцу «Джон Стеннис» и кораблям сопровождения зайти в порт Гонконга. По словам пресс-секретаря Пентагона Била Урбана, у американцев есть «долгая история успешных визитов в Гонконг, включающая подобные нынешнему, и мы полагаем, что она продолжится». Однако история имеет шанс продолжиться совсем в ином ключе и, чтобы разобраться в ней, стоит начать… с Европы.
После нескольких месяцев переговоров, сообщает Nikkei Asian Review, китайская строительная и транспортная компания Shanghai Yiqian Trading всего за несколько десятков миллионов евро выкупила на аукционе 82,5 процента акций германского аэропорта Франкфурт-Хан. Этот бывший американский военный аэродром превратился в огромный транспортный узел, но испытывал серьёзные финансовые проблемы. И не смог оправиться, когда китайская HNA Group в прошлом году перенесла в Мюнхен свои семь регулярных рейсов в неделю (для франкфуртского аэропорта это значало16 миллионов евро убытков за год).
В самой Европе интерес Китая к европейским аэропортам опасений не вызывает. В апреле китайский государственный консорциум China Everbright Group купил за 90 миллионов долларов международный аэропорт в Тиране. Китайская транспортная компания Shandong Hi-speed Group приобрела за 308 миллионов евро 49.99 процента акций четвертого по величине во Франции аэропорта Бланьяк в Тулузе. Появившаяся всего год назад китайская Tzaneen International за 40 миллионов евро купила испанский аэропорт Сьюдад Реаль. И даже лондонский Хитроу уже на 10 процентов принадлежит China Investment Corporation.
Американцы, кажется, задумываются над тем, что скоро уже и над Европой, а не только над Южно-Китайским морем самолёты будут летать под присмотром Пекина. Ну а что касается Южно-Китайского моря, через которое пролегает одна из главных в мире морских коммуникаций и которое географически наполовину является внутренним морем Китая, то ему ни Вьетнам, ни Филиппины, ни Малайзия тут не конкуренты. Быстро растущее напряжение по берегам Южно-Китайского моря - это напряжение, возникающее между двумя полюсами, Пекином и Вашингтоном.
Говорят, кто владеет островами, владеет морем. И нефтегазовым шельфом. Ведь геологоразведка говорит о наличии под морским дном все новых и новых месторождений нефти и газа, способных надолго обеспечить их владельцев энергоносителями. Уже три года полиция провинции Хайнань получила от центральных властей КНР право осматривать и брать под свой контроль иностранные суда, которые незаконно, по мнению полицейских, вошли в китайские воды Южно-Китайского моря. А через это море пролегают торговые пути, на которых ежегодный оборот достигает 5 триллионов долларов, в том числе 1,2 триллиона за счет торговли стран региона с Соединёнными Штатами.
Во время проходившего 6-7 июня в Пекине 8-го раунда Стратегического и экономического диалога между Китаем и США (The China-US Strategic and Economic Dialogue) стороны согласились в том, что они сохранят режим санкций против КНДР, но решительно не смогли согласиться в оценке ситуации вокруг Южно-Китайского моря. На словах американцы поддержали заявление председателя КНР Си Цзиньпина о том, что сторонам следует избегать конфликта или конфронтации, но декларативная поддержка этих принципов не мешает Пентагону обустраивать в австралийском Дарвине новую военную базу. А прибывший на открытие базы Барак Обама, обращаясь к морским пехотинцам США, предложил Пекину ни много ни мало играть по американским правилам. Как тут не вспомнить июнь 2012 года, когда на ежегодной встрече в Сингапуре министров обороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Диалог Шангри-Ла» тогдашний глава Пентагона Леон Панетта заявил, что к 2020 году США намерены разместить непосредственно в АТР до 60 процентов своего военно-морского флота, в том числе до 6 авианосцев.
Вообще-то, в ходе диалога в Пекине был еще один вопрос, в котором стороны, как и в вопросе об островах, не нашли друг у друга понимания. Госсекретарь США Джон Керри очень сожалел о том, что новым законом деятельность иностранных неправительственных организаций в Китае поставлена под контроль Министерства общественной безопасности КНР. Думается, однако, что китайские руководители лучше госсекретаря США знают, как уберечь здоровье своего народа от расползающейся по миру инфекции «цветных революций».
А между тем стало известно, что до конца года Китай введет в эксплуатацию еще два маяка на островах Мэйцзи (Мисчиф) и Юншу (Фэйри кросс). Минувшей весной уже вступил в строй китайский маяк на рифе Чжуби (Суби), принадлежащем к архипелагу Наньша (Спратли).
Крупные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению Китаем островных территорий продолжаются. Говорят, кто владеет островами, владеет морем…
Названы страны с самым быстрым ростом цен на недвижимость
В первом квартале 2016 года лидерами этого рейтинга стали Турция, Швеция и Новая Зеландия.
Консалтинговая компания Knight Frank опубликовала отчет об изменении цен на жилье в 55 странах мира по итогам первого квартала 2016 года (Global House Price Index). В среднем за год рост цен на мировую недвижимость составил 3,4%.
Первое место в списке заняла Турция с показателем годового роста цен в 15,3%. Хотя эта страна возглавляет рейтинг уже четыре квартала подряд, в ней отмечен небольшой спад по сравнению с предыдущими тремя месяцами, когда рост стоимости недвижимости составлял 18%. Как отмечают аналитики Knight Frank, на сокращение потока инвестиций в Турцию повлияли теракты, российские санкции и растущее давление на национальную валюту.
Что касается европейских стран, то самым сильным рынком недвижимости в первом квартале 2016-го стала Швеция, где цены на жилье выросли за год на 12,8%. Сейчас средняя стоимость недвижимости в северной стране на 48% превышает уровень 2009 года.
Жилье в Новой Зеландии за год подорожало на 11%, однако в третьем квартале 2015 года этот показатель был выше. Причиной небольшого спада стал слабый экономический рост и новые правила покупки жилья иностранцами.
|
Страна |
Изменение цен за год (первый квартал 2015 г. - первый квартал 2016 г.) |
|
Турция |
+15,3% |
|
Швеция |
+12,8% |
|
Новая Зеландия |
+11,0% |
|
Литва |
+10,5% |
|
Мальта |
+9,9% |
|
Австралия |
+8,7% |
|
Мексика |
+8,1% |
|
Израиль |
+7,9% |
|
Австрия |
+7,6% |
|
Ирландия |
+7,4% |
|
Канада |
+7,0% |
|
Колумбия |
+6,9% |
|
ЮАР |
+6,8% |
|
Исландия |
+6,7% |
|
Польша |
+6,4% |
|
Дания |
+6,2% |
|
Малайзия |
+5,8% |
|
Германия |
+5,4% |
|
Великобритания |
+5,3% |
|
Латвия |
+5,2% |
Не знаю, существует ли на планете человек, который верит в то, что тайна крушения рейса MH17 когда-нибудь будет раскрыта.
Это могло бы быть важным для родственников погибших людей. Но ведь погибших все равно не вернешь, какая разница, от чего именно упал самолет?
Это могло бы быть важным для политиков той или иной страны. Но чем дальше идет расследование, тем очевиднее становится, что нет такого политика, который хотел бы знать правду. Потому что эта правда непредсказуема.
В массовом сознании уже сложилась определенная картина произошедшего. Огромный пассажирский самолет летел над зоной боевых действий, потому что эта зона, несмотря на боевые действия, не была закрыта для гражданских полетов. Самолет был сбит ракетой и упал. Все пассажиры погибли. Ракета была выпущена из комплекса "Бук", который мог управляться или донецкими ополченцами, или украинскими военными, или российскими военными. Каждый волен выбрать себе версию по душе. А для тонких любителей конспирологии существует еще и версия о том, что "Боинг" был сбит с украинского военного самолета.
Эта картина произошедшего объективна, потому что она дана нам в ощущениях. Мы живем с этой картиной в сознании, и чем дальше с ней мы живем, тем прочнее она закрепляется в этом сознании, тем более реальной становится. И тем меньше шансов, что какое-либо расследование сможет изменить эту картину.
Если мы верим, что это были украинские военные, — мы никогда не поверим в результаты расследования, утверждающие, что это были российские военные. И наоборот. Просто потому, что летящий над зоной боевых действий "Боинг" и сбивающий его "Бук" — это основная фабула, с которой согласны почти все. А кто именно нажал на кнопку — это мелкая частность, совершенно не меняющая общей картины.
И происходящее вокруг расследования международной следственной группы в последние дни лишний раз доказывает нам: на самом деле никто уже никаких результатов не хочет.
Сначала на сайте прокуратуры Нидерландов появляется крайне странный отчет следственной группы о своей текущей работе. В этом отчете следователи признаются в том, что им… не хватает опыта. Признаются в том, что не могут найти в открытом доступе (!) инструкцию по эксплуатации комплекса "Бук".
Хотя могли бы попросить такую инструкцию у украинских военных, даром что следственная группа работает в Киеве. Интересуются, можно ли запустить ракету случайно (ну то есть буквально: можно ли бросить валенок на пульт так, что сложнейший комплекс ПВО раз — и сработает). Признаются, что среди них нет специалистов, понимающих особый жаргон "очень специфической профессиональной среды", что бы ни подразумевалось под этим: среда летчиков гражданской авиации, диспетчеров или расчетов зенитного ракетного комплекса "Бук". То есть профессиональная экспертиза, как мы видим, отсутствует. Следователи вынуждены, как сказано в отчете, "полагаться на себя".
И самое удивительное — это жалоба (в официальном отчете на сайте национальной прокуратуры!) на стесненные условия, в которых следственной группе приходится работать.
"В офисном здании в Киеве австралийские и голландские следователи работают в стесненных условиях в маленьком помещении. Рабочие условия далеки от совершенства, но маленькое помещение имеет прекрасное достоинство: следователи не могут обмануть друг друга", — написано в отчете, и трудно представить себе что-нибудь более фантастическое.
Потому что фраза "следователи не могут обмануть друг друга" означает ни что иное, кроме как "следователи хотят обмануть друг друга". А стесненность условий свидетельствует о том, что киевские власти в гробу видали эту следственную группу, а из этого тоже можно сделать разные выводы.
Вторая же новость последних дней превосходит даже этот уникальный отчет. В Германии обнаружился частный детектив Йозеф Реш, который, как оказалось, с 2014 года ведет расследование катастрофы рейса MH17 по заказу анонимного клиента. Этот аноним готов заплатить за информацию о виновниках крушения 30 миллионов долларов, а еще 17 миллионов — за информацию о тех, кто пытается виновника скрыть.
И знаете, что, узнав об этом, сделала полиция Нидерландов? Она обыскала дом сыщика, а также изъяла в одном из швейцарских банков его личный сейф. А власти Германии и Швейцарии помогли в этом.
Разумеется, утверждается, что это было сделано для установления истины, поскольку из-за объявленных миллионов на связь с детективом могли выйти действительно важные свидетели. Но, вообще-то, если бы власти хотели узнать о действительно важных свидетелях, они могли бы просто поговорить с Йозефом Решем. А они изъяли у него всё, что можно было изъять. Выглядит это скорее как попытка скрыть истину.
Сам частный детектив по поводу этой истины говорит так: "Если бы это стало известно, власти некоторых стран получили бы проблемы, а вместе с ними и жители". И добавляет: "Горя стало бы больше".
И в этих мудрых словах сыщика — суровая действительность. Потому что кто бы ни был виноват в катастрофе, обнародование этого факта никому не сделает лучше. А вот хуже сделает многим. Ответы на вопросы: "Кто запустил ракету?", "Кто не закрыл воздушное пространство?", "Кто не изменил маршрут самолета?" — не хотелось бы знать слишком многим.
И именно поэтому расследование катастрофы рейса MH17 будет продолжаться долго. А когда оно закончится, то никаких ответов не даст.
Максим Кононенко, для МИА "Россия сегодня"
Пленарная конференция Сети управления государственными расходами в Азии (PEMNA) в 2016 году прошла в г. Манила (Республика Филиппины). Встречи участников проведены в рамках совместных и индивидуальных заседаний Профильных Сообществ, а также заседания Координационного Комитета.
В этом году у участников была возможность обсудить тему «Финансовая прозрачность и участие граждан в реализации реформы Управления Государственными Финансами (УГФ)» на совместных сессиях Профильных Сообществ. На индивидуальных сессиях Профильные Сообщества будут обсудили соответствующие темы «Финансовые отношения между центром и местными органами» (ПС по Бюджету) и «Реальная ситуация при реализации бухгалтерского учета по методу начислений» (ПС по Казначейству).
Делегацию Федерального казначейства на Пленарном заседании возглавил заместитель руководителя С.Е. Прокофьев; также в состав делегации вошли заместитель начальника Управления бюджетного учета и отчетности А.Н. Кривенец и начальник Отдела внешних связей и взаимодействия со СМИ А.В. Макаров.
В рамках участия в работе Пленарной конференции С.Е. Прокофьев встретился с руководителем Казначейства Филиппин г-ном Роберто Б. Таном и руководителем Секретариата PEMNA Джоном М. Кимом.
Также были проведены двусторонние встречи с руководителем Генеральной дирекции Казначейства Министерства финансов Республики Индонезия г-ном Марванто Харьовирьёно, старшим советником Министра финансов по вопросам государственных расходов Министерства финансов Республики Индонезия г-ном Пурвиянто Пранотосувирьо и руководителем Дирекции Управления денежными средствами Казначейства Министерства финансов Республики Индонезия г-ном Руди Видодо, руководитель Федерального казначейства Малайзии г-ном Коши Томасом. По итогам мероприятия С.Е. Прокофьевым был проведен ряд встреч со следующими представителями государственных финансовых организаций стран Юго-Восточной Азии:
Сичянь Ченг – начальник Управления регулирования и исследований Казначейского департамента Министерства финансов КНР;
Ху Чженгчжонг – профессор, заведующий кафедрой экономики Китайской государственной академии управления;
Ле Тхи Туйет Нхунг – заместитель генерального директора Департамента бухгалтерского учета и аудита Министерства финансов Республики Вьетнам;
Орафан Накмахачаласинт – директор Департамента стандартов бухгалтерского учета в госсекторе и бюджетной политики Департамента главного государственного контролера Королевства Таиланд;
Бьёнг Ёл Ву – директор Департамента управления налоговыми решениями Министерства стратегии и финансов Республики Корея.
Основной целью финансового сообщества стран Азии PEMNA является формирование дискуссионной площадки для специалистов-практиков стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона, благодаря которой они могут поделиться профессиональным опытом, а также учиться друг у друга, повышая, таким образом, собственную компетенцию в рамках модернизации системы управления государственными финансами своих стран.
Сеть PEMNA представлена двумя практикующими сообществами (ПС) в области бюджета и казначейства. ПС используют различные механизмы для обеспечения наиболее продуктивного взаимодействия, в том числе: семинары, обмен визитами, совместные исследовательские проекты, видеоконференции, Интернет-ресурсы, веб-хранилища, а также другие необходимые ресурсы.
Странами-участницами являются Камбоджа, Китай, Индонезия, Корея, Лаос, Малайзия, Монголия, Мьянма, Филиппины, Таиланд, Тимор-Лешти, и Вьетнам, и т.д. Сообщество PEMNA поддерживают различные партнеры, включая Всемирный банк, Министерство стратегии и финансов Кореи, AusAID (Австралийское Агентство по международному развитию), МВФ и ОЭСР.
Результаты глобального опроса GetYourGuide свидетельствуют, что россияне одни из самых довольных путешественников в мире
Издание MarketWatch сегодня делится результатами интересного исследования. Специалисты туристического сервиса GetYourGuide проанализировали, туристы из каких стран чаще всего оставляют в интернете позитивные или негативные отзывы о поездках.
Больше всего позитивных отзывов о поездках оставляют туристы из Чехии (92%,3 позитивных отзывов), российские туристы расположились на втором месте рейтинга (89,9%), а тройку замкнули поляки (89,5%). Наименее довольными отдыхом, по данным GetYourGuide, остаются путешественники из Южной Кореи, Мексики и Малайзии. Туристы из этих стран оставляют не более 18,5% позитивных отзывов.
В пресс-службе momondo «Туринфо» рассказали, что россияне при выборе отеля для отдыха россияне чаще всего обращают внимание на цену номеров в гостинице. На втором месте – расположение отеля. Наименьшее значение для россиян имеет оригинальный дизайн отеля и отличия от других гостиниц. Только 5 процентов рассказали, что ищут в жилье изюминку.
"Газпром нефть" увеличит добычу на месторождении Бадра в Ираке до 64 тыс. баррелей в сутки.
"Газпром нефть" ввела в эксплуатацию на месторождении Бадра в Ираке три новые скважины общим дебитом 24 тыс. баррелей в сутки. В результате добыча на месторождении увеличится до 64 тыс. баррелей в сутки, говорится в сообщении компании.
Таким образом, число скважин выросло до девяти. Ввод в эксплуатацию еще одной скважины запланирован на август 2016 года.
Компания продолжает на месторождении строительство нефтяной и газовой инфраструктуры. После завершения пусконаладочных работ на третьей технологической линии "С" центрального пункта подготовки нефти (ЦППН) ее проектная мощность вырастет до 115 тыс. баррелей в сутки.
Месторождение Бадра находится в провинции Вассит на востоке Ирака. Геологические запасы оцениваются в 3 млрд баррелей нефти. Проект разработки рассчитан на 20 лет с возможным продлением на пять лет. Контракт с правительством Ирака на разработку месторождения предусматривает компенсацию инвесторам понесенных затрат, а затем - выплату вознаграждения за каждый баррель добытой нефти.
Контракт подписан в январе 2010 года консорциумом в составе "Газпром нефти" (в статусе оператора), Kogas (Корея), Petronas (Малайзия), ТРАО (Турция). Доля участия "Газпром нефти" в проекте составляет 30%, Kogas - 22,5%, Petronas - 15%, ТРАО - 7,5%. Доля иракского правительства, которое представлено иракской Геологоразведочной компанией (Oil Exploration Company, OEC), - 25%.
Damac Properties запустил в продажу первые “халяльные” гостиничные апартаменты в Ghalia, Дубай.
Застройщик Damac Properties распродал все обслуживаемые апартаменты в своем проекте Ghalia, запущенные на рынок в ограниченном количестве в рамках первого этапа продаж. Основным конкурентным преимуществом этих резиденций является обслуживание в соответствии с нормами шариата.
38-этажная башня Ghalia, расположенная в Джумейра Вилладж, будет состоять из 742 меблированных студий, двух-, трех- и четырехкомнатных апартаментов. Цены на них будут начинаться от 550 тыс. дирхам ($149,7 тыс.). Строительство уже ведется. Оператором объекта станет Damac Hotels & Resorts, гостиничное подразделение Damac Properties.
Зияд Эль Чаар, управляющий директор Damac Properties, сказал: “Спрос, на “халяльный” туризм набирает обороты в Дубае, во многом благодаря внушительному числу посетителей из стран Персидского залива, в частности из Саудовской Аравии, которые ищут роскошные номера, соответствующие нормам шариата. Доля саудовских туристов самая большая в сегменте гостей из стран Персидского залива — в прошлом году их число в Дубае составило 1,5 млн человек, а к 2020 году, как ожидается, их численность достигнет 2,5 млн. Учитывая спрос на такой тип размещения наряду с ограниченным предложением, это огромная возможность, которой следует воспользоваться. Для инвесторов это выражается в успешных инвестициях благодаря потенциальной доходности от аренды.”
По результатам исследования о состоянии Глобальной исламской экономики в 2015-16 годах, локальный рынок туризма оценивался в $145 млрд, что составляет 11% от мирового туристического рынка. Как ожидается, сектор путешествий среди мусульман всего мира вырастет до $233 млрд к 2020 году. ОАЭ при этом занимают второе место после Малайзии среди ведущих мировых направлений для “халяльного” туризма.
Рассказывая о дополнительных преимуществах проекта Ghalia, Эль Чаар заметил, что все большее число региональных инвесторов рассматривает финансирование, которое в первую очередь согласовано с нормами шариата, а Исламские банки и кредитные организации расширяют поддержку гостиничных заведений, отвечающих принципам ислама. Ghalia сертифицирован в соответствии с Dar Al Shariah.
В жилой башне предусмотрены такие удобства, как отдельные спортивные залы и бассейны для мужчин и женщин, а также специальные зоны для семейного приема пищи и одиноких мужчин. В рамках проекта будут предусмотрены этажи исключительно для женщин, которые будут обслуживаться только женским персоналом.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


























