Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
В период с 2011 по 2020 годы во Вьетнаме будет создано пять морских туристических зон. В том числе Ha Long-Cat Ba, Lang Co-Son Tra-Hoi An, Nha Trang-Cam Ranh, Phan Thiet-Mui Ne и Phu Quoc, сообщает правительство Вьетнама.
Другие потенциально интересные для развития морского туризма области такие как Van Don and Co К, Truong Sa и Hoang Sa будут осваиваться только к 2030 году.
Как заявил заместитель руководителя Научно-исследовательского института развития туризма Пам Трунг Луонг, изменение климата бросает вызов развитию туризма страны, особенно в дельте Меконга. В соответствии с генеральным планом развития отрасли Вьетнам рассчитывает увеличить число иностранных туристов до 10,3 миллионов в год и товарооборот - до $19 миллиардов - к 2020 году и, соответственно - до 18 миллионов в год и товарооборот - до $36 миллиардов - к 2030 году.
Как предполагается, туристический сектор Вьетнама окажет существенное влияние на развитие туристического рынка северо-восточной Азии и рынков государств юго-восточной Азии, а также поддержит рынки восточной, северной и Западной Европы и Северной Америки, Ближнего Востока и Индии.
Как отметили в правительстве, за первые пять месяцев 2011 года Вьетнам посетили более 2,5 миллионов иностранных туристов, что больше, чем за аналогичный период прошлого 2010 года 18%.
Руководство Вьетнама одобрило проект аэропорта Long Thanh International, который построят в южной части провинции Донг Най. Аэропорт, как ожидают, будет использоваться еще и как складской комплекс для всей Юго-Восточной Азии.
Как сообщает вьетнамский инвестиционный совет, аэропорт будет достаточно большим для того, чтобы принимать самолеты A380-800, обслуживать до 100 миллионов пассажиров и перевозить 5 миллионов тонн груза в год.
На первом этапе реализации проекта - до 2020 года – будут построены две параллельных взлетно-посадочных полосы. На втором этапе - с 2020 по 2030 годы число полос увеличат до трех, и на третьей стадии проекта – построят четвертую полосу.
К 2020 году будет возведен терминал для внутренних и внешних полетов, а к 2030 году аэропорт будет состоять уже из двух терминальных комплексов.
Ученые Национального исследовательского Томского политехнического университета (НИ ТПУ) разработали технологию использования материалов современных мультиспектральных космических съемок при изучении нефтегазоносных и рудоносных районов, говорится в среду в сообщении вуза.
По информации вуза, эта технология позволит вести работу с начальных этапов прогнозирования месторождений до геологической съемки и разведочных работ. Прежде с обработки материалов космосъемки начиналось изучение новой площадки прогнозируемого месторождения, но больше к ним не возвращались. Политехники доказали, что эти материалы очень информативны и качественно могут использоваться на всех без исключения этапах и стадиях работ, вплоть до эксплуатации.
"Мы работаем по одному из месторождений, где ведутся разведочные эксплуатационные работы. Получив нашу информацию, заказчик увидел новые, не выявленные ранее геологические структуры, которые определяют рудоносность, позволяют оптимизировать разведочные работы, разведочную сеть", - цитирует пресс-служба директора Центра дистанционных исследований и мониторинга окружающей среды Института природных ресурсов ТПУ Анатолия Поцелуева.
По его словам, интерес к разработкам политехников высокий, в том числе этими методами интересуются зарубежные компании, а также Росатом, "Роснефть" и "Газпром".
"Сегодня на территории Урало-Сибирского региона у нас нет конкурентов - нет организаций, которые бы занимались чем-то подобным", - отметил Поцелуев.
Сейчас специалисты ТПУ готовят программу по изучению месторождений алмазов в восточной Якутии, в Витимском уранорудном районе, а также программы по созданию минерально-сырьевой базы меди, свинца, цинка на территории Алтайского края и другие.
ТПУ был основан в 1896 году как Томский технологический институт императора Николая II. В состав вуза сегодня входит 11 учебных институтов, три факультета, 100 кафедр, 3 НИИ, 17 научно-образовательных центров и 68 научно-исследовательских лабораторий.
Профессорско-преподавательский состав университета - 1,7 тысячи человек, в вузе обучаются 22,3 тысячи студентов, в том числе 224 студента из 31 страны дальнего зарубежья (Германии, Великобритании, Франции, Чехии, Китая, Японии, Вьетнама, Индии, Республики Корея, США, Израиля).
В 2009 году ТПУ вошел в число 12 вузов страны, получивших статус национального исследовательского университета (НИУ). Сергей Леваненков
Лидер российского рынка поиска "Яндекс", не так давно успешно разместившийся на NASDAQ и давно оставивший позади себя Google в русскоязычном Интернете, ищет пути для дальнейшего развития собственного бизнеса. Компания задумалась об экспансии на зарубежные рынки. Тестовым проектом станет Турция — выход "Яндекса" в эту страну может состояться до конца года. Кроме того, компания присматривается к рынкам Египта, Индонезии и Вьетнама.
О том, что "Яндекс" до конца года планирует выход на рынок Турции, РБК daily рассказали несколько менеджеров в крупных интернет-компаниях. По их словам, компания не только адаптирует поиск под местную аудиторию, но и локализует ряд сервисов, в том числе "Яндекс.Маркет". "Некоторое время назад "Яндекс" начал набор специалистов под этот проект. Правда, пока команда целиком не сформирована", — говорит один из собеседников РБК daily.
По словам источников, "Яндекс" также интересовался экспансией на рынок Египта и некоторых азиатских стран, в их числе Индонезия и Вьетнам. Компания следует "точечной" стратегии: ее интересуют регионы, которые пока не контролируются мировым лидером поиска Google, а также территории, где присутствует наибольшее количество русскоговорящих пользователей, рассказывают собеседники РБК daily. По их словам, "Яндекс" также интересовался рынками Восточной Европы.
Пресс-секретарь "Яндекса" Очир Манджиков лишь отметил, что компания изучает разные возможности развития бизнеса, отказавшись от дополнительных комментариев.
"Яндекс" уже присутствует в России, на Украине, в Казахстане и Белоруссии (после выхода "Яндекса" на этот рынок доля Google на нем сократилась на 2,5 п.п.). Кроме того, в мае 2010 года был запущен www.yandex.com — поиск по мировому Интернету. На момент запуска сервиса индекс "Яндекса" насчитывал более 4 млрд страниц на латинице. Однако сервисы для англоязычной аудитории локализованы не были, а глава компании Аркадий Волож не раз заявлял, что, запуская поиск по мировому Интернету, он не стремится конкурировать с Google.
Рынок поисковых систем в различных странах выглядит примерно одинаково, рассуждает менеджер крупной интернет-компании. "Как правило, доля лидера — 60%, второго по счету игрока — 20%. В большинстве стран на позиции лидера стоит Google. В России — "Яндекс". Поэтому очевидно, что компании нужно искать точки развития", — говорит источник. По данным Liveinternet, доля "Яндекса" в России на конец мая 2010 года составляла 64,8%, Google — 22,4%.
"Экспансия на зарубежных рынках — это ровно то, чего могли бы ожидать инвесторы от "Яндекса" после IPO. Компания уже показала себя как успешный и сильный игрок, доминируя в русскоязычном поле, поэтому стремление "Яндекса" присутствовать в других географиях вполне естественно", — говорит директор по инвестициям венчурного фонда ABRT Николай Митюшин. Он считает, что у поисковика хорошие шансы закрепиться на тех рынках, где позиции Google не очень сильны.
Управляющий партнер компании "Ашманов и партнеры" Игорь Ашманов полагает, что наиболее привлекательными для экспансии поисковика сегодня являются азиатские рынки. "Однако и в Европе есть привлекательные страны — например, та же Германия. У Google там практически нет конкурентов, поэтому найдется место для поисковика с хорошей локальной привязкой", — говорит г-н Ашманов.
Первую вьетнамскую АЭС «Ниньтхуан» с двумя блоками типа ВВЭР по 1000–1200 МВт каждый планируется построить в общине Фыок Зинь провинции Ниньтхуан. В качестве генподрядчика по сооружению АЭС выступит дочернее предприятие «Росатома» ЗАО «Атомстройэкспорт».
Согласно предложенному вьетнамской стороной графику, заливка первого бетона запланирована на 2014 год, а ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС «Ниньтхуан-1» – на 2020 год.
Напомним, что межправительственное соглашение о строительстве на территории Вьетнама первой атомной электростанции было заключено в октябре 2010 года в Ханое.
Накануне делегация Вьетнамв, в состав которой вошли руководители энергетических министерств и ведомств, а также высших образовательных учреждений страны, посетила Ленинградскую атомную станцию и площадку строящейся ЛАЭС-2.
Визит был организован НОУ ДПО «ЦИПК» (Санкт-Петербург) при содействии МАГАТЭ и ГК «Росатом» для знакомства вьетнамских коллег с процессами строительства новых энергоблоков и эксплуатации действующей атомной электростанции.
В ходе техтура экскурсанты посетили учебно-тренировочный центр ЛАЭС и стройплощадку ЛАЭС-2. Затем гости отправились в холдинг «Титан-2», который выступает одним из основных подрядчиков по строительству ЛАЭС-2 и Балтийской АЭС.
Перед гостями выступил Вадим Рябов, генеральный директор ЗАО «Концерн Титан-2», ведущей инжиниринговой бизнес-единицы холдинга, и технический директор холдинга Андрей Гарусов.
Зарубежных специалистов интересовал широкий круг вопросов: особенности организации строительно-монтажных работ на российских и зарубежных площадках, взаимодействие подрядчика с контролирующими и регулирующими органами, новые технологии, применяемые при строительстве и монтаже современных АЭС и многое другое.
По словам Тран Чи Тхана, представителя Института энергетики Министерства промышленности и торговли, 40-летний опыт специалистов холдинга «Титан-2» по строительству атомных объектов может быть использован и для будущей вьетнамской АЭС, в том числе и в рамках программ по обмену опытом с участием инженерно-технических работников двух стран.
Трудовая миграция в Швецию из стран за пределами Европейского союза продолжает расти: в этом году число трудовых мигрантов увеличилось на 38%. Но к такому наплыву заявлений на получение разрешения на работу Государственное миграционное управление/Migrationsverket оказалось не готово.
Зимой и весной сроки рассмотрения могли достигать полугода. Сейчас, в летний период, ситуация улучшилась.
За первые пять месяцев этого года почти 6 тысяч человек из стран, находящихся за пределами европейского экономического пространства, получили разрешения на работу в Швеции.
Катарина Новак/Katarina Novák, глава Союза работодателей в сфере лесного и сельского хозяйства/SLA сетует, что "в самом начале года, когда большинству компаний в этой сфере требуется рабочая сила, время обработки документов в Миграционном управлении достигало 6-7 месяцев".
Большинству предприятий лесной промышленности и сельского хозяйства в Швеции нужны люди на сезонные работы с апреля по октябрь.
"И если срок рассмотрения документов в Миграционном управлении занимает 6-7 месяцев, например, начиная с января-февраля, то люди просто не успевают сюда приехать до конца сезона. И соответственно не могут выполнить работу", - рассуждает Новак.
Подзаработать сбором ягод, садоводством или лесными работами приезжают как жители европейских стран, так и стран бывшего Советского Союза и Азии.
"По-прежнему большая часть сезонных работников приезжает из европейских стран, - рассказывает Новак. - В то же время изменилась ситуация на рынке труда в Польше и странах Балтии: появилось больше возможностей найти работу в своей стране. И мы все больше нуждаемся в работниках из Белоруссии и Украины, и даже из таких дальних стран, как Вьетнам и Таиланд".
Консультант Миграционного управления Алехандро Фирпо/Alejandro Firpo говорит, что ситуация с выдачей разрешений на работу в последние месяцы сильно улучшилась. Наняли больше персонала, и срок рассмотрения документов сократился. По словам Фирпо, если электронный бланк заполнен соискателем верно, то на рассмотрение заявки уйдет всего несколько недель.
"Сейчас, перед летним сезоном, мы прекрасно подготовлены, - уверяет консультант Миграционного управления. - Даже если будет очень много желающих поработать сборщиками ягод, мы справимся с этим наплывом".
В то же время ведомство усилило контроль за приглашениями на работу. Недавно, в апреле, выяснилось, что сотни шведских предприятий наняли трудовых мигрантов по сомнительным контрактам.
Однако для Союза работодателей в сфере лесного и сельского хозяйства главное, чтобы процесс рассмотрения документов снова не затягивался на месяцы, как это было зимой. Иначе это грозит обернуться колоссальными убытками для предприятий.
"Нельзя продавать нарциссы в июле. Нельзя торговать геранью на Рождество. Если поставленные задачи не выполнены - считай, весь сезон упущен, так что для нашего бизнеса эта рабочая сила имеет решающее значение", - подчеркивает Катарина Новак.
Европейский союз планирует предоставить Вьетнаму около 11 миллионов евро на развитие туристического сектора страны. В частности большое внимание будет уделяться вопросу упрощения визового режима Вьетнама. Об этом сообщает Вьетнамский инвестиционный совет.
Как сказано в сообщении, несколько азиатских стран, в числе которых Малайзия и Сингапур установили безвизовый режим, что привлекло туда множество туристов из стран Европейского союза. По мнению экспертов, опрощение визового режима позволит Вьетнаму значительно увеличить турпоток.
В течение пяти лет во Вьетнаме будет реализована программа обучения административного персонала в области туризма по вопросам экологической и социальной ответственности отрасли, а также в сфере формирования политики, планирования и управления туризмом. Обучение пройдут более 5 000 специалистов туристического сектора.
Согласно последним данным, европейцы составляют более 30% международного туристического потока во Вьетнам, в то время как доля туристов из азиатских стран равна 21%. Остальное приходится на гостей из Америки и других стран мира.
Развитие пляжного туризма является одним из главных приоритетов, обозначенного в рамках 10-летнего Национального плана развития Вьетнама в сфере туристической индустрии.
Власти Камбоджи оценили опыт соседних стран, в частности, Таиланда и задумались о развитии собственной туристической индустрии. В их планах – строительство туристического города город Ангкор-Хиллс.
Ангкор-Хиллс расположится на площади 3,5 квадратных километра среди рисовых полей и лесов, в 30 километрах от храмового комплекса Ангкор-Ват в Сиемреапе и в 100 километрах от границы с Таиландом. Здесь возведут несколько десятков зданий, выдержанных в камбоджийских архитектурных традициях, среди которых будут конгресс-центр, жилые дома, отели, торговые и развлекательные центры, spa-салоны, спортивные сооружения и крупный центр медитации.
Для туристов на территории Ангкор-Хиллса будет открыт роскошный пятизвездочный Buddha Hotel and Spa, украшенный гигантскими изображениями Будды, гостиница Heritage, похожая на древний город с крепостными стенами, каналами и водопадами, а также другие объекты размещения. Согласно задумке, единовременно в городе смогут проживать до 20 тысяч человек.
К новому проекту уже проявили интерес инвесторы из Китая, Макао, Катара, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов.
На сегодняшний день Камбоджа, чья природа и культурное наследие вполне сравнимы с тайскими, пользуется гораздо меньше популярностью у туристов из-за слабо развитой инфраструктуры. К примеру, в 2010 году в стране побывало 2,5 миллиона иностранных туристов, в то время как соседний Таиланд посетило 15,9 млн гостей.
Большая часть гостей прибывает в Камбоджу из Вьетнама, Южной Кореи, Китая и Японии. Число российских туристов в 2010 году составило около 30 тысяч человек.
Филиппинская администрация уверена в мирном решении спора между рядом стран региона и Китаем из-за островов в Южно-Китайском море, заявил официальный представитель президента Филиппин Эдвин Ласиерда (Edwin Lacierda).
"Мы хотели бы немедленно подчеркнуть, что мы уверены и исполнены надежды на то, что по этому вопросу будет достигнуто мирное урегулирование. Мы смогли встретиться с китайским послом, и он подтвердил, что его страна занимает такую же позицию, призывая к мирному разрешению (конфликта) в Западно-Филиппинском море", - цитирует его слова во вторник национальное информационное агентство ПНА.
Ласиерда пояснил, что официальная Манила впредь будет использовать применительно к Южно-Китайскому морю название "Западно-Филиппинское море".
Как отметил в этой связи в беседе с местным телеканалом ABS-CBN влиятельный депутат филиппинского парламента Уолден Белло (Walden Bello), "подобным переименованием мы демонстрируем активную позицию, которая упрочивает наши притязания на спорные воды и имеющиеся там природные ресурсы".
"Китай ведет себя, как задира, пытаясь установить доминирование над морскими ресурсами, которые - что очевидно - находятся в пределах территории Филиппин", - сказал он.
Между тем, военно-морские силы Вьетнама провели в понедельник учения в районе спорных островов в Южно-Китайском море. Отношения между Китаем и Вьетнамом обострились 9 июня, когда вьетнамские власти сообщили, что китайское рыболовецкое судно преднамеренно прорвало кабель для сейсмических исследований, который укладывало исследовательское судно вьетнамской нефтяной компании Petrovietnam у островов Спратли.
В пятницу МИД КНР потребовал от Вьетнама прекратить хозяйственную деятельность в районе островов Спратли и не препятствовать работе китайских рыбаков в этом районе, а также высказал свою версию событий: вьетнамский корабль якобы некоторое время тащил китайское судно за собой кормой вперед, "подвергая опасности жизнь китайских рыбаков". Лишь после того, как китайский экипаж обрезал снасти, судам удалось расцепиться, заявляют китайские представители.
На архипелаг Спратли (Наньша) и группу островов Сиша (Парасельские острова) полностью или частично претендуют сразу пять стран - Бруней, Вьетнам, Китай, Малайзия, Филиппины. Михаил Цыганов
BBC сократит объемы домашнего вещания, чтобы сохранить в полном объеме международную службу, сообщил в интервью The Daily Telegraph глава британской корпорации Крис Паттен. По его словам, он намерен сократить расходы компании на 20%. Руководство компании рассматривает возможности сокращения дорогих спортивных трансляция и упразднение одного из цифровых каналов - BBC 3 или BBC 4.
Кроме того, Паттен намерен пересмотреть размеры зарплат топ-менеджеров BBC и ряда ведущих журналистов. По его словам, можно ожидать, что часть "звезд" BBC покинут компанию. Накануне корпорация сообщила, что лишиться работы могут около 1500 рядовых сотрудников BBC.
Сэкономленные деньги компания направит на поддержание международной службы BBC, главным образом на иновещание на арабском и сомалийском языках, а также на хинди.
"Я надеюсь, мы сможем сохранить арабскую службу, так как она является центральной частью того, что создает BBC", - сказал Паттен.
В начале года BBC сообщила о намерении сократить объем вещания на иностранных языках, что уменьшить расходы на 16%. Компания надеялась сэкономить таким образом до 75 млн долларов в год. В частности, было прекращено радиовещание на русском, украинском, китайском, турецком, вьетнамском и азербайджанском языках.
Всемирная служба BBС существует с 1932 года и вещает на 32 языках. Годовой бюджет составляет 430 млн долларов.

«Движение чаепития» и американская внешняя политика
Что популизм означает для глобализма
Резюме: Новая эра в американской политике ознаменуется отчаянными попытками внешнеполитических деятелей убедить скептически настроенную общественность в правоте своих идей. Америка может вернуться в эпоху, когда видные фигуры считали полезным избегать явной связи с интернационалистскими идеями, далекими от интересов и ценностей джексонианства.
Статья опубликована в журнале Foreign Affairs, № 2 за 2011 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
Ночью 16 декабря 1773 г. от 30 до 130 человек, некоторые из которых были переодеты индейцами племени могавков, проникли на торговые суда в бостонской гавани. В знак протеста против пошлин, введенных британским парламентом, они выбросили в море 342 ящика с чаем. По общему мнению, предводителем этой акции был Сэмюэл Адамс. Но исторические сведения довольно противоречивы: Адамс снял с себя ответственность, хотя сделал все возможное, чтобы разрекламировать это событие. На следующий год состоялась более чинная чайная церемония в Эдентоне, штат Северная Каролина, где госпожа Пенелопа Баркер собрала 51 активистку, чтобы поддержать сопротивление британской политике налогообложения. К чаю никто так и не притронулся, не говоря уже о том, чтобы его уничтожать, но в тот день произошло нечто более важное: встреча, организованная Баркер, считается первым женским политическим собранием в британской Северной Америке.
Оба чаепития взволновали британское общественное мнение. Хотя видные виги, такие как Джон Уилкес и Эдмунд Бёрк, поддержали американцев в их сопротивлении королю Георгу III и его карманному правительству, беззаконие в Бостоне и неслыханная политическая активность женщин в Эдентоне многим в Британии казались доказательством неотесанности колонистов. Идея женского политического собрания вызвала шок и, конечно, была подхвачена лондонской прессой, предоставившей подробный отчет о решениях, принятых эдентонскими активистками. Английский писатель Сэмюэл Джонсон издал памфлет, обличающий чайные собрания колонистов и их антиправительственную аргументацию. Он, в частности, писал: «Эти антипатриотические предрассудки есть не что иное, как мертворожденный плод безрассудства, оплодотворенного духом бунтарства и фракционности».
Сегодня «движение чаепития» возвращается в политику, и возражения Джонсона все еще сохраняют свою актуальность. Отсчет его существования в современном виде можно вести с февраля 2009 г., когда в прямом репортаже телеканала CNBC из здания Чикагской товарной биржи прозвучали громкие слова. Комментатор призвал к «чикагскому чаепитию» в знак протеста против того, что финансовая помощь лицам, не способным выплачивать ипотечные кредиты, оказывалась за счет налогоплательщиков. Возражая против непомерного роста госрасходов и государственных полномочий при президенте Бараке Обаме, республиканцы и разделяющие их точку зрения активисты без определенной партийной принадлежности (поддерживаемые симпатизирующими им богатыми людьми) вскоре создали сеть организаций во всех штатах Америки. Воодушевленные благожелательным освещением их деятельности на канале Fox News (и, возможно, критическими репортажами на каналах, которые героиня движения Сара Пэйлин назвала «мейнстримом хромых уток»), активисты «чайного движения» встряхнули политическую жизнь в Америке. Вызванная ими волна антиправительственных выступлений привела к чувствительному поражению демократов на выборах 2010 года.
Возникновение «движения чаепития» явилось самым неоднозначным и драматическим событием в американской политической жизни за многие годы. Сторонники встретили его с ликованием как возврат к основополагающим ценностям, противники заклеймили как расистский, реакционный и в конечном итоге бесполезный протест против формирующейся реальности многонациональных, мультикультурных Соединенных Штатов и новой эры государственного регулирования экономики.
В известной мере это противоречие неразрешимо. Движение представляет собой аморфную группу лиц неопределенной политической ориентации – от правоцентристских группировок до маргинальных представителей политического спектра. В этом движении нет единого центра, способного осуществлять руководство или хотя бы определять принадлежность к своим и чужим. По мере роста популярности движения к восходящей звезде захотели примазаться самые разные субъекты – от состоятельных либертарианцев из пригородов, сельских фундаменталистов и честолюбивых политических обозревателей до откровенных расистов и консервативно настроенных домохозяек.
Ведущий телеканала Fox News Гленн Бек – возможно, самый заметный представитель «движения чаепития». Однако его религиозные взгляды (он убежденный мормон) едва ли типичны для движения, в котором либертарианцы подчас более активны, чем социальные консерваторы, а Айн Рэнд (американская писательница, выступала за неограниченный капитализм. – Ред.) – более влиятельный оракул, чем Бригам Янг (лидер церкви мормонов в XIX веке. – Ред.). Вряд ли можно убедительно доказать, что списки литературы и уроки истории, рекомендуемые Беком в его вечернем эфире, нравятся сколько-нибудь серьезному числу сторонников движения (в ходе зондирования общественного мнения в марте 2010 г. 37% опрошенных выразили поддержку «чаепитиям»; это означает, что около 115 миллионов американцев по крайней мере отчасти симпатизируют движению, тогда как аудитория Бека на Fox в среднем составляет 2,6 миллиона телезрителей).
Другие видные политические деятели, связанные с «движением чаепития», также посылают общественности противоречивые сигналы. Техасский конгрессмен Рон Пол и его (менее догматичный) сын Рэнд Пол, недавно избранный сенатором от штата Кентукки, близко подошли к возрождению идей изоляционизма. Консервативный обозреватель Пэт Бьюкэнан поддерживает критику союза между США и Израилем, с которой выступал ряд известных ученых, например, Джон Миршеймер. В то же время Пэйлин является бескомпромиссным сторонником «войны с террором», в бытность губернатором Аляски она повесила флаг Израиля в своем кабинете.
Если «движение чаепития» не поддается четкой идентификации, то еще труднее определить, в какой мере оно повлияло на итоги промежуточных выборов 2010 года. С одной стороны, ажиотаж, внесенный в кампанию республиканцев такими деятелями, как Пэйлин, помог привлечь кандидатов, собрать средства и привести максимальное число своих сторонников к избирательным урнам на выборах в конце прошлого года. Победа республиканцев в Палате представителей – крупнейшее достижение основных американских партий, считая с 1938 г., – скорее всего, не была бы столь убедительной без той энергетики, которую вдохнуло «движение чаепития». С другой стороны, недоверие широкой общественности к некоторым кандидатам, таким как Кристина О’Доннелл из штата Делавэр (она сочла необходимым купить рекламное время, чтобы во всеуслышание заявить избирателям: я не ведьма), возможно, стоило республиканцам от двух до четырех мест в Сенате. Это не позволило им добиться доминирования в верхней палате.
В штате Аляска Пэйлин и лидеры «движения чаепития» поддержали на выборах в Сенат Джо Миллера, который победил на внутрипартийных праймериз нынешнего республиканского сенатора Лайзу Меркауски. Однако Миллер проиграл на общих выборах поскольку Меркауски воспользовалась опытом Строма Тёрмонда, который в 1954 г. стал сентарорм от Южной Каролины, предложив своим сторонникам вписывать его имя в бюллетени. Эта стратегия принесла победу и Меркауски. Если либертарианская Аляска отвергает кандидата от «движения чаепития», поддержанного Сарой Пэйлин, это серьезный повод усомниться в способности движения длительное время доминировать в политической жизни.
Однако имея столь неоднозначный политический послужной список, «любители чая», очевидно, задели американцев за живое, и исследователям американской внешней политики нужно подумать о последствиях, к которым может привести такой политический мятеж, сопровождаемый популистскими и националистическими лозунгами. Это особенно важно в силу того, что конституционный строй Соединенных Штатов позволяет меньшинствам препятствовать назначениям и важным законодательным инициативам, прибегая к обструкционизму, а также блокировать ратификацию договоров одной третью голосов Сената. Для такого негативистского движения, как «чайная партия», это мощные законодательные инструменты. Как часто бывает в США, чтобы понять настоящее и будущее американской политики, необходимо заглянуть в анналы политической истории. «Движение чаепития» уходит в нее корнями, и вспышки популистских протестов в прошлом помогут осмыслить современную траекторию и будущее этого движения.
Новый век Джексона?
В книге историка Джил Лепор «Белки их глаз» отмечается тот факт, что многие активисты «движения чаепития» примитивно истолковывают политическое значение американской революции. Но, несмотря на всю их прямолинейность в оценке прошлого, обращение к колониальному периоду не лишено смысла. Со времени первых поселений чувство неприязни к воспитанным людям с хорошей зарплатой и связями сливалось с подозрениями по поводу истинных мотивов и методов государственных чиновников и порождало волны народного недовольства политической системой. Подобная разновидность популизма часто называется «джексонианством» в память об Эндрю Джексоне – президенте, который мастерски использовал энергию народных масс в 30-е гг. XIX века, чтобы переделать партийную систему в Соединенных Штатах и ввести наиболее широкое избирательное право во благо страны.
Самые светлые и самые мрачные эпизоды в американской истории – во многом плод популизма, направленного против официального истеблишмента. Популисты, сплотившиеся вокруг Джексона, установили всеобщее избирательное право для белых мужчин и на 80 лет навязали стране очень уязвимую финансовую систему, уничтожив Второй банк США. Последующие поколения популистов занимались обузданием монополистических корпораций и вводили законодательную защиту для рабочих, а в то же время не поддерживали правительственные меры, направленные на защиту меньшинств, которым грозило линчевание. Требование дешевой, а лучше бесплатной земли в джексонианской Америке XIX века привело к принятию Гомстед-акта, позволившего миллионам иммигрантов и городских рабочих держать семейные участки. Этот закон также повлек за собой систематическое изгнание коренных жителей из их исконных охотничьих угодий, которое иногда сопровождалось геноцидом, а также массовое субсидирование «фермерского пузыря» – одного из факторов, вызвавших Великую депрессию. Популистская жажда земельных наделов в XX веке проложила путь к началу эпохи жилищных ипотечных кредитов, субсидируемых государством. Недавно мы стали свидетелями того, как этот пузырь лопнул с оглушительным треском.
Программа джексонианского популизма не отличается последовательностью. В XIX веке неприязнь к государственным займам сочеталась у джексонианцев с требованием безвозмездной передачи фермерским хозяйствам самых ценных государственных активов (право собственности на огромные государственные латифундии на западе страны). Джексонианцы сегодня хотят видеть сбалансированный государственный бюджет. Но они возражают против сокращения расходов на такие программы защиты среднего класса, как социальное обеспечение и бесплатная медицинская помощь престарелым.
В интеллектуальном плане джексонианские идеи уходят корнями в традиции здравого смысла, как его понимало шотландское движение Просвещения. Эта философия, согласно которой нравственные, научные, политические и религиозные постулаты могут определяться и формулироваться среднестатистическим человеком, – больше чем внутреннее убеждение в Соединенных Штатах; это культурная доминанта. Джексонианцы смотрят на так называемых экспертов с подозрением, полагая, что люди с университетскими дипломами и связями отстаивают интересы своего класса. Истеблишмент в политике, экономике, науке и культуре часто проповедует истины, противоречащие здравому смыслу и логике джексонианской Америки. Например, что дефицит федерального бюджета способствует экономическому росту, а свободная торговля с бедными странами повышает уровень жизни в Америке. В не столь отдаленном прошлом утверждение о том, что представители разных рас должны быть равны перед законом, также не совпадало с их представлением о здравом смысле.
Правота американского истеблишмента часто неоспорима, хотя нередко он заблуждается, а его способность добиваться поддержки курса, идущего вразрез с интуицией американского обывателя, является важным фактором политической системы. Сегодня, когда всплеск популистской энергии совпадает с утратой массами доверия к истеблишменту – от медийного мейнстрима, дипломатов и интеллектуалов до финансистов, корпоративных лидеров и самого правительства – джексонианство отказывает ему в способности формировать национальную повестку дня и политику. Неприятие научного консенсуса по поводу изменения климата – один из многих примеров популистского бунта против мнения, которое в экспертном сообществе Америки является общепринятым.
Лучше всего современное «движение чаепития» может быть понято как бунт джексонианского здравого смысла против будто бы коррумпированных и плохо ориентирующихся в современных реалиях элит. И даже если само это движение расколется и сойдет с политической сцены, вдохновляющая его популистская энергия быстро не исчезнет. Джексонианство всегда являлось важным фактором американской политической жизни, а в эпоху социально-экономических потрясений его значение только растет. Маловероятно, что новое джексонианство (в ближайшее время, да и вообще когда-либо) полностью подчинит себе правительство, но влияние популистского «мятежа» настолько усилилось, что исследователям американской внешней политики просто необходимо быть в курсе его последствий.
Популистская холодная война
Во внешней политике джексонианцы – сторонники ярко выраженного национализма. Твердая вера в американскую исключительность и всемирную миссию Америки сочетается у них с крайним неверием в то, что Соединенные Штаты способны создать либеральный мировой порядок. Они решительно противопоставляют локковское внутриполитическое устройство гоббсовой системе международных отношений. В конкурентном мире каждое суверенное государство должно ставить на первое место собственные интересы.
Джексонианцы интуитивно принимают вестфальские взгляды на международные отношения: то, что разные страны творят на собственном «дворе», может вызывать всеобщее порицание, но реагировать нужно лишь в тех случаях, когда государства откровенно нарушают свои международные обязательства или нападают на твою страну. Агрессия против Соединенных Штатов означала бы для джексонианцев тотальную войну до полной и окончательной капитуляции противника. Они настаивают на жестоком отношении к гражданскому населению вражеской страны в интересах победы; их не устраивают маломасштабные войны ради достижения ограниченных целей. Признавая значение союзников, не отрицая необходимость соблюдения международных обязательств, они не приемлют те международные обязательства, которые ограничивают право США на оборонительные действия в одностороннем порядке. На протяжении всего своего существования джексонианцы никогда не приветствовали международные экономические соглашения или системы, сковывающие действия американского правительства по проведению мягкой кредитной политики в собственной стране.
Популизм всегда был главным вызовом для американских политиков со времен президента Франклина Рузвельта, который внутри страны стремился заручиться поддержкой все более ярко выраженной интервенционистской политики по отношению к странам нацистского блока. Японцы решили проблему Рузвельта, напав на Пёрл-Харбор, однако президент прислушивался к джексонианскому мнению и после вступления во Вторую мировую войну. От стремления к безусловной капитуляции врага как главной цели в войне до интернирования американских японцев Рузвельт всегда внимательно следил за настроениями этой части электората. Если бы он был уверен, что джексонианская Америка согласится с размещением сотен тысяч американских военных за рубежом на неопределенное время, его диалог с Советским Союзом по поводу будущего Восточной Европы был бы более жестким.
Необходимость добиваться поддержки популистов оказывала влияние и на внешнюю политику Гарри Трумэна. Речь идет, в частности, о его отношении к советскому экспансионизму и вопросам мирового порядка. Такие центральные фигуры в администрации Трумэна, как государственный секретарь Дин Ачесон, верили, что после того, как Великобритания перестала быть мировой державой, образовался вакуум, и у Соединенных Штатов нет другого выбора, как только заполнить его. Исторически Великобритания служила гирокомпасом мирового порядка, сосредоточив в своих руках управление международной экономической системой, защиту открытых морских путей и поддержание баланса геополитических сил. Официальные лица в администрации Трумэна были согласны с тем, что вина за Великую депрессию и Вторую мировую войну отчасти лежит на США, которые не пожелали взять на себя бремя мирового лидерства после отказа от этой роли Великобритании. Они считали, что послевоенное нарушение Советским Союзом баланса сил в Европе и на Ближнем Востоке явилось тем вызовом мировому порядку, на который Америка обязана ответить.
С точки зрения творцов американской политики, проблема заключалась в том, что джексонианское общественное мнение не было заинтересовано в том, чтобы Соединенные Штаты приняли от Великобритании эстафету мирового лидерства. Джексонианцы поддерживали решительные операции против конкретных военных угроз, а в 1940-е гг., после двух мировых войн, и более активную в сравнении с эпохой 1920-х гг. внешнюю политику в сфере безопасности. Но Трумэн и Ачесон прекрасно понимали: чтобы джексонианцы одобрили проведение далеко идущей внешней политики, она должна основываться на противостоянии Советскому Союзу и его коммунистической идеологии, а не на идее построения либерального мирового порядка. Решение Ачесона быть «яснее истины» при обсуждении угрозы коммунизма и готовность Трумэна воспользоваться советом сенатора Артура Ванденберга «до смерти напугать коммунистическую заразу и изгнать ее из страны» породили популистские опасения в отношении Советского Союза, которые помогли администрации провести через Конгресс программу помощи Греции и Турции, а также план Маршалла. Политические лидеры того времени пришли к выводу, что без таких призывов Конгресс не поддержал бы выделение запрашиваемой финансовой помощи, и историки в целом с этим согласны.
Но, разбудив «спящих псов» антикоммунизма, администрация Трумэна потратила оставшееся время у кормила власти на попытки (порой безуспешные) справиться с джинном, выпущенным из бутылки. Уверившись в том, что коммунизм представляет прямую угрозу национальной безопасности, джексонианцы потребовали проводить более агрессивную политику в отношении коммунистических режимов, чем та, которая казалась разумной Ачесону и его главному помощнику и идеологу Джорджу Кеннану. Успех революции Мао Цзэдуна в Китае и кажущееся безразличие администрации Трумэна к судьбе страны с самым многочисленным населением в мире, а также находящихся там христианских миссий всколыхнули джексонианское общественное мнение, создав предпосылки для политической паранойи пятидесятых, ответственным за которую считается сенатор Джозеф Маккарти.
Коммунизм во многих отношениях представлял собой идеальный образ врага для джексонианской Америки, и в течение следующих 40 лет общественное мнение поддерживало большие расходы на оборону и зарубежные военные обязательства. Приоритеты холодной войны, с джексонианской точки зрения, заключались прежде всего в военном сдерживании коммунистов или националистов левого толка, вступавших с ними в альянс. Правда, эти приоритеты далеко не всегда совпадали с заветами Гамильтона (торговля и реализм превыше всего) и Вильсона (идеализм и многополярный мир), которыми руководствовались многие ведущие американские политики. Но в целом рецепт политического коктейля, требуемого для утверждения либерального мирового порядка, во многом совпадал с тем, что был необходим для борьбы с Советами. Вот почему строители либерального мирового порядка смогли заручиться достаточной поддержкой со стороны джексонианцев. Необходимость соперничества с Советами служила обоснованием целого ряда американских инициатив. Здесь и расширение либеральной торговой системы в соответствии с Генеральным соглашением по тарифам и торговле (ГАТТ), принятие плана Маршалла, согласно которому финансовая помощь увязывалась с экономической интеграцией Европы, помощь в развитии Африки, Азии и Латинской Америки, которая способствовала созданию новой системы международных отношений в некоммунистическом мире.
Этот подход позволил победить в холодной войне и создать гибкую, динамичную и вполне стабильную систему международных отношений, которая после 1989 г. постепенно и в основном мирно вобрала в себя большинство бывших коммунистических стран. В то же время США стали более уязвимы с точки зрения внутренних дебатов о внешнеполитическом курсе, и эта уязвимость в будущем только усугубится. Сегодняшние джексонианцы готовы сделать все необходимое для защиты интересов Соединенных Штатов, но они не верят в то, что создание либерального мирового порядка наилучшим образом отвечает этим интересам.
После конца истории
После развала Советского Союза в 1991 г. США стали прикладывать еще больше усилий, дабы создать либеральный мировой порядок. С одной стороны, с мировой арены исчез решительно настроенный противник этих проектов. Но с другой, американским лидерам необходимо было добиться от электората, над которым уже не нависала советская угроза, поддержки сложных, рискованных и дорогостоящих внешнеполитических инициатив.
Поначалу задача не казалась трудной. После головокружительных революций 1989 г. в Восточной Европе многие верили, будто поставленная цель осуществима настолько легко и дешево, что американским политикам есть резон сократить военный бюджет и расходы на внешнюю помощь, ведь либеральный мировой порядок создастся сам собой. Ни одно могущественное государство и ни одна идеология не противостояли его принципам. Считалось, что экономический план либерализации торговли и вильсонианская программа распространения демократии достаточно популярны как внутри Соединенных Штатов, так и за рубежом.
Явные внутриполитические препятствия внешнеполитическому курсу стали ощутимы в 1990-е годы. Администрация Клинтона прилагала серьезные усилия к тому, чтобы обихаживать законодателей-обструкционистов, таких как сенатор Джесс Хелмс из Северной Каролины, но добывать средства на осуществление важных внешнеполитических инициатив было все труднее. Конгресс всячески препятствовал своевременной уплате взносов в ООН, а после того, как в 1994 г. республиканцы взяли под контроль Палату представителей, пытался саботировать предлагаемые и фактические военные интервенции. Сенат отказался ратифицировать такие международные инициативы, как Киотский протокол и Международный уголовный суд (МУС). Неуклонное сокращение поддержки принципа свободной торговли после ожесточенных дебатов вокруг ратификации Северо-Американского соглашения о свободной торговле (НАФТА) и вступления США во вновь созданную Всемирную торговую организацию крайне сузило свободу маневра американских дипломатов на переговорах. Вскоре это привело к устойчивому замедлению темпов создания режима свободной торговли в мире.
Ситуация резко изменилась после 11 сентября 2001 года. Высокий уровень осознания угрозы после разрушительных терактов вернул внешнюю политику к тем рубежам, на которых она находилась в 1947–1948 годах. Уверившись в существовании реальной внешней опасности, общественность выразила готовность поддержать огромные расходы казначейства и смирилась с неизбежной гибелью американских военных. Джексонианцы стали снова интересоваться внешней политикой, и у администрации Джорджа Буша-младшего появился шанс повторить достижения администрации Гарри Трумэна. В частности, на волне озабоченности в связи с угрозой безопасности мобилизовать общественную поддержку далеко идущей программы построения либерального мирового порядка.
Историки еще долго будут обсуждать, почему администрация Буша упустила эту редкую возможность. Наверно, после ужасающих терактов она до такой степени жаждала соответствовать джексонианскому общественному мнению, что неадекватно отреагировала на террористическую угрозу. Беспощадная война до победного конца, объявленная террору, соответствовала представлениям джексонианцев. Но тем самым Белый дом неизбежно снизил способность взаимодействовать с ключевыми партнерами в стране и за рубежом. Так или иначе, к январю 2009 г. Соединенные Штаты вели две войны и осуществляли контртеррористические операции по всему миру, но так и не добились внутриполитического согласия даже в отношении общего внешнеполитического курса.
Идя к власти, администрация Обамы полагала, что Буш был слишком привержен джексонианству и в результате избирал несистемный и непоследовательный внешнеполитический курс, обрекавший его на поражение. Однополярный мир, некритичная поддержка любых действий Израиля, безразличие к международному праву, готовность без разбора применять военную силу, пренебрежительное отношение к интернациональным институтам и нормам, игнорирование угроз, не связанных с терроризмом (как изменение климата, например), воинственная риторика «кто не с нами, тот против нас»…
По мнению демократов, все эти черты администрации Буша служили наглядной иллюстрацией того, что бывает, если дать волю джексонианцам. Признавая стойкое влияние джексонианцев на американскую политику, но понимая, что их идеи безнадежно устарели и ведут страну в неверном направлении, Белый дом решил пойти на минимально необходимые уступки, но при этом ставил перед собой цель создания преимущественно вильсонианского мирового порядка. Команда Обамы не желала следовать стратагеме «мировой войны с террором», в рамки которой укладываются различные инициативы вплоть до оказания помощи, развития торговли и создания организаций. Администрация объявила угрозу терроризма одной из рядовых угроз, с которыми сталкиваются США, и отделила усилия, направленные на построение нового мирового порядка, от борьбы с терроризмом.
Еще рано делать прогнозы, но уже понятно, что с учетом крайне поляризованного и в известной мере травмированного общественного мнения администрация Обамы столкнется с серьезными трудностями, прежде чем сможет заручиться поддержкой своего курса. Обама пытается вывести внешнюю политику из-под влияния джексонианцев как раз в тот момент, когда синергия внешних и внутренних событий придает джексонианскому движению новый импульс. Соединенным Штатам постоянно угрожает внешний и внутренний терроризм, усиливающийся Китай, с которым связаны вызовы международной безопасности в Азии, а также экономическое соперничество. Как считают джексонианцы, именно последнее является причиной бедствий американского среднего класса, с ним связан и растущий дефицит федерального бюджета. И то и другое угрожает безопасности и процветанию страны. Сочетание этих угроз с социокультурным конфликтом (в восприятии американского обывателя) между «высокомерным» истеблишментом с его идеями, противоречащими интуиции, и «среднестатистическими» американцами, руководствующимися здравым смыслом, создает идеальные предпосылки для джексонианского шторма в политике США. Значение такого бунта выходит за рамки политических проблем администрации Барака Обамы. Разработка внешнеполитических стратегий, которые могли бы удовлетворить джексонианских обывателей внутри страны и быть достаточно действенными на международной арене, скорее всего, будет главным вызовом, на который еще какое-то время придется отвечать руководителям государства.
Вызов, брошенный Америке «движением чаепития»
Трудно сказать, как данный вид популизма, получивший новый импульс, повлияет на внешнюю политику Америки. Общественное мнение реагирует на конкретные события; террористическая угроза на территории США или кризис в Восточной Азии или на Ближнем Востоке могли бы в одночасье преобразить внешнюю политику. Дальнейшее ухудшение мировой экономической конъюнктуры способно еще больше развести полюсы внутренней и внешней политики Соединенных Штатов.
Вместе с тем, некоторые тенденции представляются очевидными. Прежде всего, соперничество сторонников Сары Пэйлин и Рона Пола внутри «движения чаепития», скорее всего, закончится победой пэйлинитов. Пол подходит к вопросам внешней политики с неоизоляционистских позиций, принимая в расчет исключительно внутренние интересы США. Подобные взгляды скорее сродни идеям Джефферсона, нежели напористому национализму Джексона. Оба крыла питают глубокую враждебность к любому подобию «мирового правительства». Но Пол и его последователи ищут способы избежать контактов с внешним миром, тогда как Сара Пэйлин и ведущий Fox News Билл О’Рейли больше склонны к «завоеванию» мира, нежели к изоляции от него. «Нам не нужно брать на себя роль мирового жандарма», – заявляет Пол. Пэйлин может сказать нечто подобное, но сразу добавляет: «Мы не хотим давать плохим парням свободу для маневра».
Крыло пэйлинитов стремится к энергичному и показательно активному решению проблемы терроризма на Ближнем Востоке на основе тесного союза c Израилем. Крыло Пола выступает за то, чтобы Соединенные Штаты дистанцировались от Израиля, из-за которого Вашингтон утрачивает авторитет как раз в той части мира, откуда исходит угроза. Сторонники Пола, скорее всего, проиграют. Логика и здравый смысл подталкивают американцев к тому, чтобы принять в качестве аксиомы тезис, казавшийся спорным в далекие 1930-е гг.: невозможно гарантировать внутреннюю безопасность, не погрузившись основательно в международные дела. Это ощущение еще больше углубляется ввиду беспрецедентного усиления Китая и угрозы терроризма. Чем опаснее мир, тем яснее понимание джексонианской Америки: нужно быть начеку, искать надежных союзников и действовать. Вряд ли в ближайшее время снова наступит период, подобный тому, что имел место с 1989 по 2001 гг., когда джексонианская Америка не видела серьезных угроз из-за рубежа, и основная масса американцев, примкнувших к «движению чаепития», вряд ли выберет новую форму изоляционизма.
Джексонианская поддержка Израиля – еще один важный фактор. Сочувствующие Израилю и озабоченные проблемами энергетической безопасности и терроризма джексонианцы, скорее всего, примут и даже потребуют продолжения дипломатической, политической и военной активности США на Ближнем Востоке. Не все американцы-джексонианцы поддерживают Израиль, но в целом растущее политическое влияние джексонианцев приведет к тому, что Вашингтон будет решительнее защищать еврейское государство. Это не только следствие влияния евангелического христианства. Многие джексонианцы не особенно религиозны, а многие из «рейгановских демократов», поддерживающих джексонианскую точку зрения, – католики, а не протестанты по вероисповеданию. Просто джексонианцы восхищаются мужеством и самостоятельностью Израиля и не считают арабские правительства надежными союзниками, на которых можно положиться. В целом их не беспокоит реакция Израиля на теракты, которую многие обозреватели считают «непропорциональной». Здравый смысл джексонианцев не воспринимает понятия «непропорциональное применение силы», поскольку они считают, что если враг на тебя нападает, ты имеешь полное право подавить его превосходящей мощью и принудить к капитуляции; более того, это твой прямой долг.
Можно спорить о том, насколько подобная стратегия жизнеспособна на современном Ближнем Востоке, но в целом джексонианцы признают за Израилем право защищать себя любыми доступными способами. Они больше склонны критиковать его за недостаточную жесткость и твердость в Газе и южном Ливане, чем за чрезмерную реакцию на теракты. Джексонианцы по-прежнему считают, что применение ядерного оружия против Японии в 1945 г. было оправдано; военная сила для того и существует, чтобы ее применять.
Любое усиление политического влияния джексонианцев повышает вероятность военного ответа на иранскую ядерную программу. Хотя реакция на ядерные успехи Северной Кореи была сравнительно сдержанной, недавние опросы общественного мнения показывают, что до 64% американцев благожелательно относятся к силовому решению с целью положить конец иранской ядерной программе. Глубокая обеспокоенность общественности по поводу нефти и Израиля в сочетании с воспоминаниями старшего поколения об иранском кризисе с заложниками в 1979 г. вызывает у джексонианцев органическое неприятие ядерной программы. Опросы показывают, что более половины американских избирателей считают: Соединенные Штаты должны защищать Израиль от Ирана, даже если Израиль нанесет удар первым.
Многие американские президенты оказывались втянутыми в войну против своей воли под влиянием общественного мнения. Конгресс и американская общественность до такой степени захвачены джексонианскими идями, что президент, который не попытается силой остановить Иран на пути к ядерному оружию, будет иметь крупные неприятности. Вместе с тем, будущим американским президентам не следует идти на поводу у джексонианцев. Военные операции, в которых не ставится цель безусловной победы, чреваты катастрофическими последствиями. Линдон Джонсон решился начать войну в Юго-Восточной Азии, поскольку считал (наверно, не без оснований), что джексонианцы, взбешенные победой коммунистов во Вьетнаме, сорвут его внутриполитические планы. И это добром не кончилось.
В остальном сторонники Пола и Пэйлин единодушны в нелюбви к либеральному интернационализму, приверженцы которого строят международные отношения на основе многосторонних организаций и постоянно ужесточающегося контроля в виде международных законов и договоров. По всем вопросам – от изменения климата и участия в МУС до обращения с боевиками, плененными в ходе нетрадиционных боевых операций, – оба крыла «движения чаепития» отвергают подходы, присущие либеральному интернационализму, и впредь не собираются менять позиций. В Сенате США, куда каждый штат делегирует по два представителя вне зависимости от числа избирателей, явными фаворитами оказываются штаты с меньшей численностью населения, где джексонианские настроения подчас наиболее ярко выражены. В ближайшие годы Соединенные Штаты вряд ли ратифицируют новые договоры, составленные в духе либерального интернационализма.
Новая эра в американской политике, возможно, ознаменуется отчаянными попытками внешнеполитических деятелей убедить скептически настроенную общественность в правоте своих идей. «Совет по международным делам был прогрессивной идеей, – сказал политолог Ульрих Бек в январе 2010 года. – Давайте возьмем средства массовой информации и наших яйцеголовых и вникнем в суть проблемы и предлагаемого решения, затем объясним его СМИ, а они уже доведут до масс, что нужно делать». Активисты «движения чаепития» намерены бдительно следить за тем, чтобы элиты с их идеями «мирового правительства» (по выражению активистов) и бюрократическими программами, основанными на классовых привилегиях, не доминировали во внешнеполитических дебатах. Америка может вернуться в эпоху, когда видные политики считали полезным избегать слишком явной связи с организациями и идеями, далекими от интересов и ценностей джексонианства и даже враждебными им.
В американском общественном мнении последних лет нарастает обеспокоенность усилением Китая, и всплеск джексонианских настроений повышает степень вероятности того, что пока еще сдерживаемая ярость и негодование дойдут до точки кипения. Свободная торговля – это вопрос, который исторически разделял популистов в США (идея импонировала аграриям и отвергалась промышленными рабочими). Джексонианцам нравится покупать дешевые товары в «Уолмарте», но здравый смысл подсказывает им, что главная задача американских представителей, участвующих в переговорах по свободной торговле – сохранить рабочие места для американцев, а не соглашаться с визионерскими «беспроигрышными» схемами мировой торговли.
Перспективы популизма
В более широком смысле оба крыла «движения чаепития» попытаются возобновить дискуссию о том, должна ли внешняя политика придерживаться национализма или космополитизма. Сторонники Пола в идеале хотели бы положить конец любым формам участия Америки в построении либерального мирового порядка. Пэйлиниты тяготеют к более умеренной позиции, но хотят быть уверенными в том, что при построении мирового порядка Вашингтон прежде всего будет заботиться о своих специфических национальных интересах. Их не устраивает роль Америки как бескорыстного борца за всеобщее благо. Позиция последних понравилась бы Ачесону, который не приветствовал грандиозных международных соглашений. В любом случае, творцы внешнеполитического курса должны ценить возможность ведения серьезной дискуссии о связи специфических американских интересов с требованиями либерального мирового порядка.
«Движение чаепития» способно притормозить внешнеполитическую мысль Соединенных Штатов, но эффективная внешняя политика должна начинаться с реалистической оценки внутриполитических факторов. Джексонианство вряд ли исчезнет. Американцам нужно радоваться тому, что во многих отношениях любители чаепитий, несмотря на недостатки, являются куда более надежным и дееспособным партнером в построении мирового порядка, нежели изоляционисты шесть десятилетий тому назад. В сравнении с джексонианцами времен Трумэна у нынешних гораздо слабее выражены расистские, антифеминистские и гомофобные настроения. Они больше открыты другим культурам и мировоззрениям. Их исходная позиция, согласно которой национальная безопасность требует участия в международных делах, значительно более многообещающая, чем рефлекторный изоляционизм, с которым приходилось иметь дело Трумэну и Ачесону. Даже после событий 11 сентября общественное мнение не поддерживало меры, аналогичные интернированию американских японцев после Пёрл-Харбора, и мы не слышали ничего подобного антикоммунистической истерии эпохи Маккарти. Современные популисты республиканского Юга куда более благожелательно настроены по отношению к основополагающим идеям либерального капитализма, чем популистские сторонники Уильяма Дженнингса Брайана сто лет тому назад. Бобби Джиндал во всех отношениях лучше Хьюи Лонга на посту губернатора штата Луизиана, а сенатор Джим Деминт от Южной Каролины несравненно прогрессивнее, чем Бен «Вилы» Тилман (губернатор Южной Каролины в 1890–1894 гг., защитник фермерских интересов и ярый противник президента Гровера Кливленда, сторонника панамериканизма. – Ред.).
Творцы внешней политики США, стремящиеся к тому, чтобы их оставили в покое для более важных дел государственного строительства и управления, не смогут закоснеть в рутине. Даже если «движение чаепития» уйдет в тень, его заменят другие выразители популистского протеста. Американские политики и их зарубежные визави просто не смогут качественно выполнять свою работу без глубокого понимания того, что составляет одну из главных сил в американской политической жизни.
Уолтер Рассел Мид – профессор внешней политики и гуманитарных наук в колледже «Бард» имени Джеймса Кларка Чейса и обозреватель журнала The American Interest.
Остров Россия
Можно ли снова стать сверхдержавой и нужно ли это?
Резюме: Без решительного отказа от мифа о сверхдержавности никакой серьезный разговор о будущем России невозможен. Нужна нацеленность на реальное, а не риторическое, позиционирование страны как самостоятельного центра силы, обладающей ею не для экспансионистского проецирования, а для гарантии лучшей жизни своего народа.
Когда следишь за отечественными дискуссиями вокруг программы модернизации или прислушиваешься к риторике, сопровождающей очередной российско-американский саммит, складывается странное впечатление. Как будто мы чего-то недоговариваем. Зачем Россия хочет модернизироваться? Какие цели преследует на мировой арене? Да и более широко – как мы видим себя в мире? Ради чего начинаем программу перевооружения армии и флота?
Ответ напрашивается сам собой. Разумом мы, конечно, понимаем, что Россия – не Советский Союз. У нас другие ресурсы, несопоставимый потенциал и, как следствие, иные возможности воздействовать на судьбы мира. Но в то же время по сумме признаков мы по-прежнему воспринимаем себя как сверхдержаву. Или, если точнее, как вторую по силе и по влиянию державу мира. Первую роль мы признаем за Соединенными Штатами. Хотя нет более приятной забавы для российского интеллектуала, чем порассуждать о закате Америки.
Проблема заключается в том, что россияне не видят для своей страны другой достойной судьбы в XXI веке, кроме как роль сверхдержавы. Государства, реализующего себя прежде всего через влияние на мировые процессы. Причем, что характерно, такие настроения свойственны не только элите, но и достаточно широким слоям населения. Как моему поколению нынешних 45–50-летних, которые хорошо помнят Советский Союз, так и молодежи, которая толком-то и не видела ту сверхдержаву, что, по сути, самоликвидировалась в конце 1980-х годов. Альтернативного видения России – страны для себя, для своих граждан – почему-то не просматривается.
В этой связи уместно попытаться разобраться – а что такое сверхдержавность? Насколько свойственен России такой статус? Есть ли шансы в обозримой перспективе снова обрести его? И, если нет, то какова альтернатива?
Что такое сверхдержава
Понятие сверхдержавы утвердилось в годы холодной войны, когда мир был поделен на два лагеря с США и СССР во главе. Две конкретные страны обладали такой совокупной силой, прежде всего военной, которая на порядок отличала их от других государств, выводила за круг традиционных международных отношений. По существу, хотя и весьма упрощенно, можно сказать, что вся мировая политика сводилась тогда к взаимодействию этих двух держав. Причем дело было не только в том, что между ними, с одной стороны, и остальным миром – с другой, существовал качественный разрыв, но и в том, что обе они активнейшим образом боролись за мировое господство. Сверхдержава сама по себе и сама для себя, живущая в изоляции от остального мира, скажем, как империя инков, едва ли имеет смысл.
Пойдем дальше. Были ли прецеденты сверхдержавности в истории? Очевидно, да. Если не идти вглубь веков и не пытаться примерить соответствующие атрибуты к Древнему Египту и к империи Александра Македонского с учетом краткости ее бытия, то самый яркий пример, который напрашивается, это, конечно, Римская империя I–II вв. н. э. По своему потенциалу она возвышалась над остальным миром, по сути, представлявшим собой в ту пору расширенное Средиземноморье, и видела себя именно сверхдержавой, даже в отсутствие этого определения. Рим руководствовался сверхдержавной миссией – цивилизовать окружающие народы по своему образу и подобию. Уточним: как и в случае с Соединенными Штатами и Советским Союзом, пока последний не стал ускоренно загнивать, существовала ситуация колоссального отрыва Рима от остальных стран не по двум-трем критериям, а практически по всему набору показателей, характеризующих национальную мощь. А именно:
протяженность территории,численность населения,ВВП (насколько его можно было вычислить в те отдаленные времена),ВВП на душу населения,производительность труда,торговый оборот с окружающим миром,золотовалютные резервы,численность вооруженных сил,современные средства войны.
Абсолютные параметры Рима впечатляют даже сегодня.
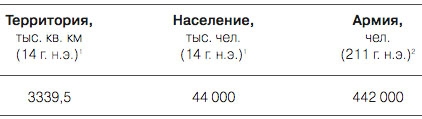
1 Angus Maddison,”Contours of the World Economy I-2030 AD”; Oxford University Press; (2007), р.35
2 MacMullen, R. How Big was the Roman imperial Army?; KLIO; (1980), р.454
На протяжении последующих 1700 лет истории не раз возникали державы, на порядок отрывавшиеся от других по своей мощи. Это империя Карла Великого и Арабский халифат при первых халифах, империи Чингисхана и Тимура, империя Карла V, Турция Мехмеда Завоевателя и Сулеймана Великолепного. Однако, строго говоря, ни одна из них не обладала необходимым набором признаков сверхдержавы. Всегда чего-то не хватало. Или речь шла исключительно о военно-завоевательном порыве. Или недоставало экономической базы. Или отсутствовала артикулированная идеология. Не была отстроена государственная машина, без которой настоящая сверхдержава невозможна. Мощь и ярость порыва держались исключительно на личности завоевателя. Мировая миссия сводилась к разрушению, не неся в себе никакого созидания.
Брать же для целей настоящей статьи примеры Китая при Маньчжурской династии или Индии при Великих Моголах бессмысленно, хотя по целому ряду показателей, таких как территория, численность населения, промышленное и сельскохозяйственное производство, они существенно опережали крупнейшие государства тогдашней Европы. Несмотря на все великие географические открытия и борьбу за колонии, вплоть до второй половины XIX века мировая политика варилась по существу в «кастрюле» расширенного Средиземноморья.
Была ли Византия сверхдержавой? Пожалуй, нет. Никогда. Даже при Юстиниане и Велизарии. На протяжении нескольких веков она обладала целым рядом признаков сверхдержавности. Однако отсутствовало главное – агрессивная установка на установление мировой гегемонии. Не было позитивной ориентированности в будущее – все свои 1100 лет, разве что, как ни странно, за исключением последнего кризисного столетия, Византия жила, скорее, в прошлом. Да и силенок недоставало, чтобы воспринимать себя как сверхдержаву. Все блистательные победы Византии, а их было немало, достигались очень небольшими силами – либо благодаря предельной слабости оппонентов (например, когда Велизарий восстанавливал контроль над Апеннинским полуостровом), либо за счет гениального дипломатического маневрирования и комбинирования, либо просто в результате исторической удачи – как на этапе столкновения с Арабским халифатом.
Отдельно разберемся с Францией при Наполеоне. Вроде бы, чем не сверхдержава? Хоть и на очень коротком отрезке времени. Но тоже не получается. Да, Наполеон за считанные годы сумел отстроить государственную и правовую систему значительно более современную и эффективную, чем что-либо существовавшее на тот момент в других странах Европы. Сумел покорить практически всю Европу. И гегемонистский запал, несомненно, был. Но реальных сил не хватало. Единого государства, пусть даже конфедеративного, на гибких шарнирах, создано не было. Франция оставалась Францией, а остальная Европа – завоеванными и частично завоеванными территориями в состоянии полубунта-полусаботажа. Так и случилось, что Англия в одиночку победила Францию на море, а Россия тоже в одиночку – на суше. Если бы Наполеон смог прорвать континентальную блокаду и консолидировать свои территориальные приращения в более или менее разумных пределах, если бы не поспешил вторгаться в Россию, возможно, все было бы иначе. Но это уже сослагательное наклонение.
Самостоятельный сюжет, на котором стоит остановиться, это потрясающие успехи относительно маленьких европейских стран в строительстве громадных колониальных империй. Испания: Кортес, опираясь на пятьсот головорезов с аркебузами, опрокидывает империю ацтеков с населением 15 млн человек. Португалия площадью 90 тысяч кв. км колонизирует Бразилию с территорией 8,5 млн кв. километров. Голландия, где на территории 40 тысяч кв. км проживает 2 млн, подчиняет 13-миллионную Индонезию (1,9 млн кв. км).
Имеем ли мы здесь дело с проявлениями сверхдержавности? Думаю, что нет, это другой феномен. На земном шаре существовало несколько миров. Сильно огрубляя, можно сказать, что их было три. Во-первых, Европа. Во-вторых, то, во что превратились бывшие великие цивилизации на севере Африки, Ближнем и Среднем Востоке, в Индии и Китае. В-третьих, все остальные территории. Эти три мира жили в различных временах, при различных уровнях развития производительных сил и общественной организации, соответственно, средств и методов ведения войны.
Когда эти миры сталкивались, мушкет, естественно, оказывался сто-, тысячекратно смертоноснее копья, пулемет стократно эффективнее кремниевого ружья, а броненосец с паровой машиной превосходил фелуку. Вот почему лорд Китчинер, потеряв 48 человек из 8 тысяч, мог спокойно разгромить в Судане 50-тысячную «Армию Махди», уничтожив пятую ее часть. Подобное произошло бы, приземлись завтра на Землю, не дай Бог, НЛО с планетной системы Тау Кита, и из него высадились бы 15 таукитян с каким-нибудь гравитационным оружием, против которого наши и американские СС-18 и «Минитмены» оказались бы столь же бессильны, как копья против пулеметов.
Безусловно, эффект цивилизационного и технического разрыва при подобных столкновениях срабатывает с потрясающей эффективностью. Однако как только эти миры объединяются, причем неважно, как это происходит – методом завоевания, слияния, поглощения, – эффект перестает действовать. Почему Алжир смог победить Францию, а Вьетнам – Америку? И почему сомалийские пираты (кстати, Сомали – одна из самых отсталых стран мира, не имеющая не только никакой промышленности, но даже собственной государственности) терроризируют весь цивилизованный мир вместе взятый? Потому что, помимо всего прочего, Северный Вьетнам и Вьетконг воевали советским оружием, по эффективности в принципе не уступавшим американскому. А сомалийские пираты плавают на современных катерах со сверхмощными моторами и стреляют из тех же АК-47 и РПГ-7.
Технологическое превосходство по-прежнему имеет значение. На определенных этапах роль этого фактора может даже возрастать, как показали первая и вторая иракские войны. Но в принципе в эпоху глобализации карта мира постепенно выравнивается с точки зрения распределения по ней силы. Не в том смысле, что сила «размазана» теперь по земному шару равномерно, как манная каша по плоской тарелке, а в том, что зависимость силы от ее первичных источников – численности населения и размеров территории – становится более жесткой и прямолинейной. Сегодня маленькая Голландия уже не смогла бы завоевать половину Азии.
Когда Россия была сверхдержавой?
Поговорим теперь о России. Была ли она когда-нибудь до советского периода сверхдержавой? Нет. Двести с лишним лет мы жили на положении протектората при Золотой Орде. В XVI веке безуспешно боролись за выход к морю и за вхождение в первую лигу европейских держав. В начале XVII столетия докатились до распада государственности. Затем с колоссальным трудом восстановились, кстати, попутно решив судьбоносный исторический спор с Польшей относительно того, вокруг какой оси, варшавской или московской, пойдет консолидация восточных славян.
Однако, несмотря на мощный национальный подъем 1613 г., большая часть XVII века прошла под знаком нараставшего тотального государственного и общественного застоя. Единственное светлое пятно – воссоединение с Украиной. Затем петровская модернизация, альтернативы которой не было, поскольку иначе Россия быстро превратилась бы в полузависимое, полуколониальное государство на обочине европейской цивилизации.
При Екатерине II Россия стала настоящей империей, прочно утвердившись в тройке-пятерке крупнейших и сильнейших европейских держав. Империей – но не сверхдержавой. Потому что по всем значимым показателям, составляющим понятие «национальной силы», Россия была одной из первых, но не первой. В чем-то опережая соперников, а в чем-то уступая им.
1812 год. Высшая точка российского национального подъема за всю историю. Даже 1945 г., наверное, не нес такого светлого положительного заряда, поскольку для многих победителей и освобожденных дорога с фронта и из немецкого рабства пролегала в сталинские лагеря. При Александре I после Парижского мира и создания под патронатом русского царя Священного союза Россия по военной силе – на континенте, а не на море – оказалась самой мощной державой Европы и оставалась таковой вплоть до поражения в Крымской войне в 1856 году. Самой мощной – но без отрыва на порядок. Не настолько, чтобы быть сильнее всех остальных вместе взятых, как было в случае с СССР и США. К тому же английский флот господствовал на море, а сама Англия все более утверждала себя «фабрикой мира». Из кубиков, старательно заготовленных Ост-Индской компанией, складывалась великая Британская империя, самая протяженная из когда-либо существовавших империй. А Россия снова столкнулась с феноменом застоя, на этот раз на почве дикого анахронизма в виде крепостного права. Собственно, поражение в Крымской войне и продемонстрировало эту системную слабость страны.
Отмена крепостного права в 1861 г. – одна из самых славных вех в российской истории. И царь Александр II – не гений, но мужественный, достойный человек, политик-модернизатор, со своим видением и реформаторской повесткой дня. Это была эпоха национального возрождения страны, роста здорового позитивного национализма. Россия побеждает Турцию в войне 1877–1878 гг., освобождает Болгарию, по-крупному ставит вопрос о принадлежности Черноморских проливов. Вступает в схватку за контроль над Центральной Азией и добивается серьезных успехов. Создает современную армию и военно-морской флот. Не боится на равных говорить с Англией, Францией и объединенной Германией. Россия – снова держава первого класса. Одна из крупнейших и сильнейших в мире. Но опять-таки не крупнейшая (только по численности населения среди европейских государств) и не сильнейшая. Тем более не сверхдержава.
Дальше неудачное царствование Николая II. Прогрессирующее загнивание режима. Настоящая война против российского государства, развязанная агрессивно-деструктивным меньшинством при симпатизирующем попустительстве общества и, по сути дела, предательстве и самоустранении царского режима. Знаковое деморализующее поражение в войне с Японией и вступление плохо подготовленными в войну с Германией. Несмотря на первоначальный националистический всплеск, эта война очень быстро до предела обострила страдания и возмущение народа. Большевикам оставалось только поднести спичку к этой пороховой бочке.
Дальше все по школьным учебникам.
Поскольку 1920–1930-е гг. СССР практически прожил на осадном положении, во враждебном окружении, выходит, что статусом сверхдержавы мы наслаждались с 1945 по 1990 гг., то есть ровно 45 лет. 45 лет из 1100 лет российской истории, если вести отсчет от полумифического факта прибивания Олегом щита к вратам Царьграда. То есть никакой многовековой традиции сверхдержавности нет. Есть привычка, и есть память двух послевоенных поколений, передавших ее своим детям, внукам, а ныне и правнукам.
Следовательно, речь идет не о том, чтобы следовать традиции, а о том, чтобы переломить ее, если мы хотим, чтобы Россия стала сверхдержавой. Оставим за скобками вопрос, почему столь многим, похоже, действительно искренне хочется этого. Сосредоточимся на другом вопросе – возможно ли сверхдержавие? При этом не забудем про правило, которое зафиксировали, анализируя маленькую Голландию и ацтеков. А именно – что на протяжении длительных исторических периодов совокупная сила государства и его способность позиционироваться в мире находятся в достаточно спрямленной зависимости от размеров территории и численности его населения. Подчеркнем еще раз и то, что в эпоху глобализации эта зависимость спрямляется еще больше.
Итак, есть ли у России шанс, соблюдая законы исторического жанра, стать сверхдержавой в XXI веке?
Сохранятся ли сверхдержавы?
А сохранятся ли вообще сверхдержавы в XXI веке? Вопрос не праздный. Россия выдвигает в качестве одного из постулатов своей внешнеполитической доктрины принцип многополярности, что по определению предполагает непризнание сверхдержавного статуса ни за одним из государств. Повсюду звучат рассуждения об аналогиях с XIX веком, с его «концертом держав», а то и о возврате в эпоху «сражающихся царств».
Разумеется, все относительно. Если придерживаться строгой трактовки понятия «сверхдержавы» как феномена, характерного исключительно для периода холодной войны, тогда, конечно, в XXI столетии сверхдержав нет и быть не может. Но эта трактовка ничего не решает. Немногое изменится и от того, что какие-то страны мы будем называть не «сверхдержавами», а, скажем, «великими державами первой категории», если они будут обладать признаками, качественно, системно отличающими их от других участников международного общения.
Если же брать проблему по существу, приходится констатировать, что в обозримом будущем две страны (если не произойдет чего-нибудь крайне маловероятного – типа фундаментальной внутренней дестабилизации в одной из них) будут именно в таком положении.
Это – Соединенные Штаты уже сегодня и Китай в перспективе полутора-двух десятилетий. Приводимая ниже таблица иллюстрирует масштабы разрыва между этими двумя государствами и остальным миром в проекции 2050 года.
Автор не разделяет теорию постепенного увядания США. Может быть, они и увядают, только очень медленно. Поэтому даже когда Китай обгонит Америку по ВВП, она, скорее всего, еще надолго останется сверхдержавой номер один – и не только благодаря военной силе. Просто по совокупности параметров силы, нравится нам это или нет, Соединенные Штаты системно лидируют в сфере финансов, коммуникаций, технологических инноваций, науки, образования, спорта, массовой культуры и т.д. Америка – страна, дающая значительной части мира модель того, как строить жизнь, причем не только на государственном, но и на бытовом уровне – как одеваться, питаться, заниматься спортом, дружить, любить и т.п. А в этом тоже проявляется сверхдержавность.
И при всем увлечении китайской культурой и едой огромные конкурентные преимущества, накопленные Америкой, например, по таким показателям, как количество иностранных студентов или нобелевских лауреатов, число регистрируемых патентов, аудитория выпускаемых фильмов, компакт-дисков и книг, в реалистичных сценариях нивелируются очень нескоро. Хотя в перспективе это, несомненно, произойдет. Как, впрочем, остановится и каток китайского роста. И тогда, может быть, и вправду мы снова окажемся в мире без сверхдержав.
Попробуем суммировать в виде таблицы основные прогнозные оценки относительно того, как ведущие державы мира будут выстраиваться, например в 2050 г., по основным параметрам национальной силы.

1) U.S. Census Bureau, International Data Base
2) PricewaterhouseCoopers, “The World in 2050”, January 2011, p. 9
Разумеется, есть еще собственно военная сила. И теоретически можно допустить, что военно-силовой элемент мог бы компенсировать нашу относительную демографическую и экономическую слабость в середине века. Этот фактор имеет место, но здесь также есть свои лимиты.
Возьмем данные по доле военных расходов в ВВП по трем странам: Россия, США, Китай – этого достаточно.

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Military Expenditure Database
Поскольку никакой серьезный прогноз не дает даже примерных прикидок по численности вооруженных сил и уровню военных расходов в мире в 2050 г., спроецируем эти проценты. Разрыв по военным потенциалам останется примерно таким же, как по демографии и ВВП. Такое соотношение можно «взломать», резко увеличив долю военных расходов в ВВП, но в таком случае мы говорим о другой модели политической и социально-экономической системы. То есть при сохранении превалирующих ныне тенденций Россия к середине XXI века к статусу сверхдержавы не придет. Объективно.
А может ли Россия переломить эти тенденции? Поскольку мы имеем огромную территорию и богатые природные ресурсы, в принципе это возможно. Но потребуются прежде всего три вещи. И все три на форсаже: массированная иммиграция, жесткое стимулирование рождаемости и форсированная модернизация. Для обеспечения этих трех условий мягкого авторитаризма будет недостаточно, потребуется настоящий полноценный тоталитаризм. Только нужен ли статус сверхдержавы такой ценой?
Варианты для России
Теперь можно, наконец, подойти к главному вопросу. Раз не ломая, не насилуя себя мы не можем рассчитывать на статус сверхдержавы, что тогда делать? Переберем варианты, включая самые абсурдные.
Самоликвидироваться – такая опция тоже существует. См. пример СССР.
Смириться, но при этом медленно угасать в исторической ностальгии.
Стать сателлитом США.
Стать сателлитом Китая.
Вступить в Евросоюз, приняв все сопутствующие драконовские правила, то есть по существу превратиться в большую Польшу.
Пойти своим путем.
Очевидно, для целей серьезной практической политики актуален только последний вариант, причем здесь речь идет, по сути, о том, чтобы буквально по Оруэллу превратить минус в плюс, а слабость в силу. Еще раз напомню, что главная причина, почему мы не можем стать сверхдержавой – нехватка населения. Аналогично: в чем главная причина, почему, если бы каким-то чудом удалось быстро решить демографическую проблему, Россия могла бы стать сверхдержавой – в размерах территории и богатстве природных ресурсов. Очень сильно огрубляя, положение России в сегодняшнем мире определяют прежде всего следующие характеристики: огромная территория и богатые природные ресурсы при малочисленном, но пока достаточно качественном населении и по-прежнему достаточно сильных вооруженных силах.
Это значит, что сравнительно небольшое население может очень хорошо жить. Только надо задать себе реалистичную установку. Ориентироваться на создание сильной, современной страны, способной защитить себя, свою территорию и природные ресурсы (иначе реальные сверхдержавы попробуют пооткусывать куски), но не загоняющей себя в исторический тупик, поскольку в погоне за сверхдержавным статусом нас ждал бы крах пострашнее 1991 года. Сильные вооруженные силы – нужны. Сильное государство – тоже, чтобы обеспечивать порядок и продвигать модернизацию. Но главное, на чем должны быть сфокусированы усилия нации – создание современной высокоэффективной экономики, без которой достижение устойчиво высокого качества жизни, несмотря на любые природные ресурсы, невозможно.
Пора перестать нагнетать негатив по поводу XXI века. Но это – непростой век, алгоритм которого в решающей степени задают крутые перемены, порой трудно предсказуемые.
Какое выбрать решение?
Остров Россия. Остров, уверенно и комфортно ощущающий себя между континентами Америки, Европы, Китая и Индии. Не впадающий ни в сверхдержавную гордыню, ни в фальшивое смирение общества, отрекшегося от своего прошлого.
Предлагая этот образ, автор отдает себе отчет в его потенциальной коварности. Того и гляди из шкафа извлекут жупел изоляционизма. Вспоминается «Остров Крым» Аксенова. Повод для подобных аллюзий такое сравнение дает. Однако здесь важнее представление об «острове» как о мощной монолитной структуре в бурном океане перемен. Открытой этим переменам, но и защищенной от их издержек и эксцессов. Потому что от международного терроризма, нелегальной иммиграции, диковинных болезней и даже от природных катаклизмов, включая цунами, можно и нужно защищаться.
У всех у нас на памяти успешный пример реализации именно такой концепции островного государства – Великобритания (можно было бы сослаться и на Венецию – но слишком давно это было). Со времени Великих географических открытий и до начала XX века – почти 500 лет – Англия оставалась самым динамичным государством планеты во многом благодаря зависимости от морской торговли, в свою очередь связанной с ее островным характером. Только сказав это, надо сказать и другое – английский эксперимент не состоялся бы в чистом виде, если бы островное положение не защищало Англию от волн завоеваний, регулярно прокатывавшихся по континентальной Европе. По крайней мере трижды Ла-Манш и британский флот спасли Англию – от Филиппа II, Наполеона и Гитлера.
Повторимся: подобная защита через совокупность компенсирующих мер – Россия, увы, все-таки не остров – была бы для нас не лишней в XXI веке, особенно с учетом того, что в обозримой перспективе два наших ближних соседа будут значительно сильнее нас.
России не нужно стремиться к вступлению в Евросоюз или к союзу с США или Китаем. Нужно уяснить, что мы, несмотря на наши 140 миллионов населения, хотя и не можем стать сверхдержавой, вполне способны быть достаточно сильным государством, чтобы жить сами по себе. И жить лучше очень многих – хотя и не всех – здесь тоже надо быть реалистами. Так что давайте поблагодарим Ермака Тимофеевича с Ерофеем Хабаровым за наши территориальные просторы, а Америка с Китаем пусть завидуют.
Создание «Острова Россия» – острова благополучия и качественной жизни в современном стремительно меняющемся и непредсказуемом мире – могло бы стать основой нашей национальной идеи и модернизационной платформы.
Особый случай
Вернемся еще раз к изначальному вопросу – может ли Россия вновь обрести статус сверхдержавы и, если это возможно, стоит ли ей вступать на этот путь. Проведенный анализ, как мне кажется, при всей своей поверхностности показывает: эта установка была бы сегодня или бесперспективной, или саморазрушительной.
Однако парадоксальность ситуации заключается в том, что пока отечественная элита не предложит альтернативы сверхдержавным устремлениям, и пока общество не примет эту альтернативу, игра вокруг сверхдержавности все равно будет продолжаться. При этом, по сути, мы по подобному пути не идем – это потребовало бы от общества совершенно других жертв и самодисциплины, к чему сегодня никто особенно не готов. Однако эта ностальгия по сверхдержавности – практически исключительно на идеологическом, политическом, психологическом и особенно атрибутивно-пропагандистском уровне – затрудняет поиски реальной национальной идеи и формирование настоящей, работающей национальной стратегии. А сверхвысокие цены на энергоносители – которые, к сожалению, похоже, сохранятся еще долго – создают видимость того, что у страны есть средства для превращения в сверхдержаву.
Не хочется повторять банальности, но Россия – особый случай в мировой истории. Многонациональная поликонфессиональная страна, сформировавшаяся вокруг русского этноса и православия, усвоившая крайне болезненное восприятие Запада, поскольку оттуда исходили как смертельные покушения на нашу независимость и само существование – «псы-рыцари», поляки, шведы, Наполеон, интервенция, Гитлер, так и все модернизационные импульсы. Отсюда наши хронические колебания между заискивающе-подражательным восхищением Западом (последний такой всплеск мы наблюдали в начале 1990-х гг.) и агрессивно-заносчивым пренебрежением по отношению к нему. Сейчас аналогичное раздвоение укореняется и в нашем отношении к Китаю.
Понятно, что с таким психологическим багажом обещание благоустроенной комфортной жизни на своем «острове» не заменит национальную идею. Если бы ее было так просто сформулировать, это давно было бы сделано. Тем не менее, хотел бы акцентировать несколько ключевых мыслей.
Во-первых, без решительного и бесповоротного отказа от мифа о сверхдержавности никакой серьезный разговор о будущем России невозможен.
Во-вторых, национальная идея и национальная стратегия России должны в обязательном порядке учитывать и национальную историческую традицию, критически развивая ее, и особенности того мира, который сейчас складывается на наших глазах.
В-третьих, сила еще, видимо, надолго останется базовым фактором, определяющим положение того или иного государства в мире, но содержание этого понятия кардинально меняется. И классическая формула, заданная известным вопросом Сталина: «А сколько дивизий у Ватикана?», в нынешнем веке будет еще менее актуальной, чем в предыдущем.
В-четвертых, у нас есть основания надеяться, что XXI век станет лучше, светлее, комфортнее, благополучнее и милосерднее века ХХ. Хотя бы по той причине, что более жестокого и мрачного столетия, чем прошлое, не было. Но все равно это не будет означать всеобщей любви и братства. И предстоящие десятилетия точно не будут временем для слабых и вялых.
Мы должны быть нацелены на реальное, а не риторическое, позиционирование России как самостоятельного центра силы. Не сверхдержавы, но великой страны, способной постоять за себя (и не только перед Грузией) и обладающей силой не для ее экспансионистского проецирования в мире, а для гарантии лучшей материальной и духовной жизни своего народа. Такая установка концептуально продуктивна для формирования национальной стратегии и платформы модернизации. В этом единственный смысл образа «острова России» – острова безопасности и устойчивого развития в стремительно меняющемся непредсказуемом мире.
Н.Н. Спасский – доктор политических наук, чрезвычайный и полномочный посол.

Стратегический разворот на 180 градусов
Что делать Америке: помириться с Ираном и укрепить Пакистан
Резюме: Американо-иранское сближение вызовет величайшее потрясение в политике обеих сторон. Но если когда-либо существовала необходимость в достижении секретных договоренностей, то она, несомненно, актуальна сегодня. Америке нужно найти выход из тупика, в котором она оказалась, а Ирану важно избежать подлинной конфронтации с Соединенными Штатами.
Данная статья основана на главе из книги «Следующее десятилетие», она выходит по-русски в серии «Библиотека “КоммерсантЪ”» издательства «Эксмо», которое любезно предоставило нам этот материал. Публикуется в журнальной редакции.
Огромный регион, простирающийся от восточного побережья Средиземного моря до Гиндукуша (за исключением особой зоны, где господствует Израиль), по-прежнему создает колоссальные трудности для политики США. Здесь у американцев три основных интереса: поддержание регионального баланса сил, обеспечение бесперебойных поставок нефти и разгром исламистских групп, которые угрожают Америке. Всякий ход Соединенных Штатов, преследующий любую из указанных целей, должен предприниматься при учете двух других, что существенно усложняет достижение каждой из них.
Поддержание регионального расклада сил усугубляется тем, что в этом регионе существуют три противоборствующие пары: арабы и израильтяне, индийцы и пакистанцы, иракцы и иранцы. Силовое соотношение в этих парах соперников нарушено, а самый важный баланс – между иранцами и иракцами – совершенно уничтожен в результате развала иракского государства и иракской армии, ставшего следствием американского вторжения 2003 года. Также далек от совершенства «дуэт» Дели и Исламабада, поскольку война в Афганистане продолжает дестабилизировать Пакистан.
Баланс Индии и Пакистана
Афганистан – крайне сложная зона боевых действий, где американские войска преследуют две взаимоисключающие (по крайней мере, в том виде, в каком они официально заявлены) цели. Первая из них – предотвратить использование этой отсталой территории «Аль-Каидой» в качестве оперативной базы. Вторая – создать в Афганистане стабильное демократическое правительство. Но попытки лишить террористов в этой стране убежища ни к чему не привели, поскольку группировки, следующие принципам «Аль-Каиды» (собственно, в том виде, в каком она сложилась вокруг Усамы бен Ладена, ее более не существует), могут появиться где угодно, от Йемена до Кливленда. И это особенно важный фактор в условиях, когда попытки разгромить «Аль-Каиду» требуют дестабилизации страны, управления зарождающейся афганской армией и состоящей из афганцев полицией, а также постоянного вмешательства в местную политику. Если где-то приходится выполнять подобную силовую роль, успешная стабилизация ситуации там невозможна.
Распутывание клубка противоречий начинается с признания того факта, что США абсолютно все равно, какая форма правления возникнет в Афганистане, а также с констатации, что президент не допускает мысли о том, будто борьба с терроризмом станет главной силой в формировании национальной стратегии.
Установлению баланса сил в следующем десятилетии в еще большей степени поможет признание того, что Афганистан и Пакистан образуют в действительности одну сущность. В обеих странах проживают разнородные этнические группы и племена, а политическая межгосударственная граница играет самую незначительную роль. В совокупности население двух стран превышает 200 млн человек, и США, военный контингент которых в регионе составляет приблизительно стотысячную армию, никогда не смогут напрямую диктовать там свою волю и устанавливать свои порядки.
Более того, главной стратегической проблемой является на самом деле не Афганистан, а Пакистан, и подлинное влияние на расстановку сил оказывает степень противостояния Пакистана и Индии, ядерных держав, относящихся друг к другу с маниакальной подозрительностью. Индия сильнее, но рельеф местности облегчает Пакистану оборону, хотя его внутренние районы более уязвимы для вторжения. Тем не менее, обе страны находятся в состоянии статичного противостояния, а это вполне устраивает Соединенные Штаты.
Очевидно, в следующем десятилетии можно ожидать еще более крупных конфликтов как следствия необходимости поддерживать столь сложный баланс сил. Пакистан будет проигрывать в противостоянии Индии по мере того, как ему придется уступать давлению США, требующих от Исламабада помощи в борьбе с «Аль-Каидой» и сотрудничества с американскими войсками в Афганистане. В результате Индия превращается в единственную державу, господствующую в регионе. Афганская война неизбежно перекинется на Пакистан, вызвав в этой стране внутренние конфликты, способные ослабить исламабадское правительство. Не имея серьезных противников, кроме китайцев, изолированных по другую сторону Гималаев, Индия получит все возможности использовать свои ресурсы для установления господства над акваторией Индийского океана. Велика вероятность, что для достижения этой цели она использует свой военно-морской флот. Триумф Дели уничтожит баланс сил, столь необходимый Вашингтону. Поэтому важность проблемы Индии в действительности намного превосходит значение борьбы с терроризмом и государственного строительства в Афганистане.
Вот почему в ближайшее десятилетие американская стратегия в этом регионе должна быть нацелена прежде всего на создание сильного и жизнеспособного Пакистана. Самым важным шагом в этом направлении станет ослабление давления на Исламабад в результате прекращения войны в Афганистане.
Усиление Пакистана поможет не только восстановить баланс с Индией, но и возродит его как модель госструктуры для афганцев и их собственного государства. Обе эти мусульманские страны буквально нашпигованы разношерстными, нередко враждующими между собой группировками, которые зачастую преследуют противоречивые интересы. Соединенным Штатам подчас нелегко справиться с ними. Однако Вашингтон мог бы проводить ту же стратегию, которую он избрал после падения СССР. В какой-то мере возможно восстановление в Афганистане естественного баланса, который существовал там до американского вторжения. Известный объем ресурсов мог бы быть направлен на содействие созданию сильной пакистанской армии, которая и будет поддерживать восстановленный баланс внутренних сил.
Скорее всего, джихадистские группы в Пакистане и Афганистане по-прежнему будут возникать, но это в равной мере вероятно и при продолжении американского военного вмешательства, и при выводе оттуда американских войск. Война никак не влияет на эту динамику. Возможно, пакистанские военные, стимулируемые поддержкой Вашингтона, смогут несколько успешнее вести борьбу с террористами, но в конечном счете это невозможно просчитать. И снова повторюсь: главной целью является поддержание равновесия сил Индии и Пакистана.
Президент США не сможет открыто декларировать свою стратегию в отношении Афганистана, Пакистана и Индии. Разумеется, нет способа создать видимость триумфа Соединенных Штатов, и война в Афганистане закончится, в общем, так же, как закончилась война во Вьетнаме – переговорами, которые позволят повстанцам (в данном случае талибам) восстановить контроль над страной. У нарастившей мощь пакистанской армии не будет потребности в том, чтобы сокрушить «Талибан»; она довольствуется установлением контроля над ним. Пакистан сохранится как государство, уравновешивающее Индию. Это позволит Америке сосредоточиться на других балансах сил в регионе.
Сделка с Ираном
Между Тегераном и Багдадом существовало равновесие сил, нарушенное в 2003 г., когда в результате американского вторжения были уничтожены армия и правительство Ирака. С тех пор главной силой сдерживания Ирана остается Америка, заявившая, впрочем, что намеревается уйти из Ирака. Учитывая состояние иракского правительства и вооруженных сил, вывод американских войск сделает Иран державой, господствующей в районе Персидского залива. Под угрозой окажется стратегия США, да и весь крайне сложный регион. Рассмотрим союзы, которые могут сложиться после ухода из Ирака.
Население Ирака составляет примерно 30 млн человек, а всего Аравийского полуострова – порядка 70 миллионов. Население Саудовской Аравии – около 27 млн человек, а Йемена – около трети совокупной численности населения Аравийского полуострова, и Йемен удален от уязвимых аравийских нефтепромыслов. Напротив, в одном Иране проживает 65 миллионов. В Турции насчитывается около 70 млн человек. В самом широком смысле эти цифры и то, как население может объединяться в те или иные союзы, определит будущую геополитическую реальность в районе Персидского залива. Население и богатство Саудовской Аравии, объединенные с населением Ирака, способен стать противовесом либо Ирану, либо Турции, но не обеим этим странам одновременно. Во время ирано-иракской войны 1980-х гг. именно поддержка со стороны Саудовской Аравии позволила Ираку добиваться успехов.
Хотя Турция – многонаселенная и весьма динамичная держава, мощь ее все еще ограничена, страна лишена возможности проецировать свое влияние на отдаленный от нее район Персидского залива. Возможно давление на Ирак и Иран с севера, дабы отвлечь внимание этих стран от Персидского залива, но Анкара не в состоянии осуществить прямое вмешательство и защитить аравийские нефтепромыслы. Более того, стабильность Ирака в его нынешнем виде в значительной степени зависит от Ирана. Установление в Багдаде проиранского режима невозможно, однако Тегерану вполне по силам дестабилизировать любое багдадское правительство.
Поскольку Ирак нейтрализован и лежит в развалинах, а его 30-миллионное население ведет междоусобную войну, Иран впервые за многие века избавился от внешней угрозы со стороны соседей. Ирано-турецкая граница проходит в горах, что практически не позволяет вести наступательные действия. На севере Иран защищен от России буферной зоной, в которую на северо-западе входят Армения, Азербайджан и Грузия, а на северо-востоке – Туркменистан. К востоку от Ирана лежат Афганистан и Пакистан, охваченные хаосом. Уйдя из Ирака, Соединенные Штаты избавят Иран от опасений по поводу непосредственной угрозы со стороны их войск. Тегеран, по меньшей мере в настоящий момент, находится в исключительном положении: защищенный от сухопутных вторжений, он обладает абсолютной свободой действий на юго-западе.
В отсутствии США Иран является господствующей военной державой в районе Персидского залива. После развала Ирака страны Аравийского полуострова уже не способны сопротивляться Ирану, даже если будут действовать согласованно. Следует иметь в виду, что ядерное оружие к этой реальности отношения не имеет, Тегеран будет господствовать в Персидском заливе и без него. Удар, нанесенный исключительно по ядерным объектам Ирана, может привести к крайне нежелательным последствиям и заставить его прибегнуть к весьма неприятным для соседей и Америки ответным мерам. Будучи спровоцирован, Тегеран способен помешать установлению любого правительства в Багдаде, создать в Ираке хаос, даже если там будут находиться американские войска, которые попадут в ловушку нового витка внутренней войны, располагая меньшим числом военнослужащих, чем раньше.
Крайней формой ответа на удар по ядерным объектам Ирана станет попытка блокировать узкий Ормузский пролив, через который проходит около 45% мировых перевозок нефти морским путем. У Тегерана есть противокорабельные ракеты и, что еще важнее, мины. Если Иран минирует пролив, а Соединенные Штаты не смогут достаточно надежно разминировать этот морской узел, линия поставок окажется перекрытой, что вызовет резкое повышение цен на нефть и сорвет выздоровление мировой экономики.
Любой отдельный удар по ядерным объектам (а такой удар мог бы совершить собственными силами Израиль) обречен на неудачу и сделает Иран еще более опасным, чем когда-либо в прошлом. Поэтому необходимо нанесение одновременного удара по иранским ВМС и использование военной мощи для ослабления его обычного военного потенциала. Для осуществления подобной операции потребуется несколько месяцев (если под прицелом окажется иранская армия), а эффективность удара (как и любых боевых действий) все равно останется неопределенной.
Для достижения стратегических целей в этом регионе США должны найти способ уравновесить мощь Ирана и сделать это без дальнейшего развертывания вооруженных сил. Масштабное использование ВВС – нежелательная перспектива. Иран не допустит восстановления Ирака в качестве собственного противовеса. Соединенным Штатам остается только уйти из Ирака, чтобы заняться обеспечением своих интересов в других районах мира. Но при выводе войск придется провести радикальное переосмысление американской внешней политики.
Оптимальным в следующем десятилетии мог бы явиться шаг, представляющийся сегодня невероятным. Так в свое время поступили и Франклин Рузвельт, и Ричард Никсон. Пытаясь найти выход из немыслимых стратегических ситуаций, каждый из них сблизился с державой, к которой прежде относился как к источнику стратегических и моральных угроз. Рузвельт заключил союз со сталинской Россией, а Никсон – с маоистским Китаем. Каждая из этих держав блокировала третью, считавшуюся более опасной. В обоих случаях у США имелись острые идеологические разногласия с новыми союзниками, которых многие обвиняли в крайностях и предельной негибкости. Тем не менее, когда Соединенные Штаты сталкивались с неприемлемыми альтернативами, стратегические интересы брали верх над моралью. Для Рузвельта альтернативой была победа Германии во Второй мировой войне, для Никсона – использование Советским Союзом слабости Америки после войны во Вьетнаме для изменения мирового баланса сил.
Условия, сложившиеся в регионе сегодня, ставят США в аналогичную позицию по отношению к Ирану. Вашингтон и Тегеран презирают друг друга. Ни Америка, ни Иран не могут рассчитывать на легкую победу. Однако кое в чем их интересы совпадают. Проще говоря, ради достижения стратегических целей американскому президенту необходимо установить контакты с Ираном. И сделать это в момент, когда Соединенные Штаты должны сократить свое военное присутствие в районе Персидского залива.
Главная причина, по которой Тегеран будет готов пойти на примирение, состоит в том, что иранское руководство считает США опасной и непредсказуемой державой. Действительно, менее чем за десятилетие Иран оказался в тисках американских войск, окружавших его с востока и запада. Главным стратегическим интересом Тегерана является сохранение режима, а стало быть, уклонение от сокрушительного американского вмешательства и предоставление гарантий, что Ирак никогда вновь не станет угрозой. Тем временем шиитскому Ирану необходимо наращивать свой авторитет в исламском мире, где он соперничает с суннитами.
Пытаясь представить себе вероятность сближения Соединенных Штатов и Ирана, стоит обратить внимание на совпадение целей этих стран. США ведут войну лишь с определенной категорией суннитов, как раз той, которая также враждебна и шиитскому Ирану. Иран не хочет, чтобы на его восточных и западных границах находились американские войска (но ведь, в сущности, этого не хотят и в Вашингтоне). Точно так же, как Соединенные Штаты заинтересованы в беспрепятственных поставках нефти через Ормузский пролив, Ирану выгодно получать прибыль от этих поставок, а не прерывать их. Наконец, в Тегеране понимают, что только от Вашингтона исходит наибольшая опасность: надо лишь решить проблему Америки – и выживание иранского режима будет гарантировано. Соединенные Штаты осознают (или должны осознавать), что восстановление Ирака как противовеса Ирану, некогда считавшееся «Планом А», в краткосрочной перспективе невозможно. Если американцев не устраивает долгосрочное присутствие крупного воинского контингента в Ираке (а их оно явно не устраивает), очевидное решение американских проблем в регионе заключается в договоренности с Ираном.
Главной угрозой, которая может возникнуть в результате стратегии примирения с Тегераном, является возможность того, что он попытается оккупировать нефтедобывающие страны Персидского залива. Учитывая слабость системы снабжения иранской армии, можно сказать, что такая операция для нее не из легких. К тому же агрессия вызовет молниеносное вмешательство американцев, поэтому она бессмысленна и обречена на провал. США нет нужды блокировать косвенное влияние Тегерана на соседей, он и без того уже является господствующей в регионе державой. Статус Ирана многоаспектен: это и финансовое участие в региональных проектах, и способность воздействовать на квоты ОПЕК, и определенное проникновение во внутреннюю политику арабских стран. Проявляя лишь малую сдержанность, он способен приобрести безусловное господство и снова вывести свою нефть на рынок после длительного эмбарго. Иранцы еще смогут увидеть, как в их страну вернутся иностранные инвестиции.
Таким образом, даже если сближение с Ираном состоится, параметры его господства в регионе должны быть четко очерчены: сфера влияния Тегерана находится в зависимости от того, как будут складываться отношения с США при их сближении, что означает соблюдение ограничений, нарушение которых вызовет прямую оккупацию Америкой. Со временем рост мощи Ирана в рамках таких ясных договоренностей принесет выгоды и Вашингтону. Подобно соглашениям со Сталиным и Мао Цзэдуном, американо-иранский союз непригляден, но необходим, вдобавок он будет временным.
Больше всего от этого союза пострадают, конечно, сунниты Аравийского полуострова, в том числе и Саудовская династия. Без Ирака они не способны защитить себя, а поскольку ни одна держава не контролирует весь регион и его нефтепромыслы, у Соединенных Штатов нет долгосрочной заинтересованности в экономическом и политическом благополучии Саудовской Аравии. Таким образом, американо-иранское сближение приведет к переформатированию исторических отношений Вашингтона с Эр-Риядом и правящей там династией. Саудовской Аравии необходимо начать рассматривать Америку как гарантию своих интересов и добиться какого-то политического урегулирования с Ираном. Геополитическая динамика Персидского залива изменится для всех.
Угроза возникнет и для Израиля, хотя ее проявления не будут столь открытыми, как для Саудовской Аравии и других монархий Персидского залива. Со временем антиизраильские выступления иранского руководства приобрели предельно острые черты, что, однако, не выражается в открытых действиях. Иран ведет осторожную игру на выжидание, прикрывая свое бездействие риторикой. В конце концов, американское решение готовит для израильтян ловушку. Неядерные силы Израиля недостаточны для ведения обширной воздушной кампании, необходимой для уничтожения иранской ядерной программы. Разумеется, Тель-Авиву не хватает военной мощи, чтобы определять геополитические союзы в Персидском заливе. Более того, Иран, грезящий о господстве в регионе и безопасности своих западных границ, вполне может пойти на примирение. По сравнению с такими возможностями Израиль становится мелким, отдаленным вопросом символического порядка.
До сегодняшнего дня у израильтян все еще был выбор: они могли нанести удар по Ирану самостоятельно, в надежде, что это вызовет ответные действия Тегерана в Ормузском проливе. Такой сценарий предусматривал бы вовлечение в конфликт Америки. Но если США и Иран достигнут взаимопонимания, у Тель-Авива не будет прежнего влияния на американскую политику. Удар, нанесенный Израилем, может вызвать совершенно нежелательную реакцию Вашингтона, а не эффект домино, на который мог некогда рассчитывать Израиль.
Примирение с непримиримым
Американо-иранское сближение вызовет величайшее потрясение в политике обеих сторон. Во время Второй мировой войны советско-американское соглашение глубоко шокировало американцев. Сближение Никсона и Мао Цзэдуна, считавшееся в то время совершенно невероятным, потрясло всех, однако когда оно стало фактом, то начало казаться вполне рациональным, даже удобным.
Когда Рузвельт заключил союз со Сталиным, он подвергся резкой критике справа. Наиболее крайние представители правого крыла считали Рузвельта социалистом, благосклонно относящимся к СССР. Никсону, критиковавшему коммунизм справа, было легче. Президента Обаму ждет участь Рузвельта, но у него не будет никакого идеологического прикрытия и он не сможет сослаться на угрозу, которая могла бы идти в какое-либо сравнение с таким злом, какое представляла собой нацистская Германия.
Политическую позицию президента Обамы скорее усилил бы удар по иранским объектам с воздуха, нежели циничная сделка. Для президента Соединенных Штатов сближение с Ираном будет особенно трудным решением, поскольку в нем увидят слабость, а не хитроумие или непреклонность. Президенту Ирана Махмуду Ахмадинежаду будет легче примирить свой народ с таким поворотом событий. Но если предстоит выбор между ядерным Ираном, затяжной воздушной войной, долгосрочным и крайне нежелательным присутствием американских войск в Ираке, то такой «нечестивый» союз представляется вполне разумным.
Курс Никсона в отношении Китая показал, что серьезные внешнеполитические сдвиги могут происходить неожиданно. Нередко прорыву, вызванному изменившимися обстоятельствами или талантами переговорщиков, предшествуют долгие закулисные дебаты. Нынешнему президенту потребуется значительное политическое искусство, чтобы представить подобный альянс как необходимость в рамках войны с «Аль-Каидой». Для этого Обама должен продемонстрировать, что шиитский Иран враждебен не только американцам, но и суннитам. Президент столкнется с противодействием двух могущественных лобби – саудовского и израильского. Израиль будет раздражен, тогда как Саудовская Аравия окажется напуганной до смерти, что придаст еще большую цену самому маневру.
С недовольством Тель-Авива во многих отношениях легче справиться, хотя бы потому, что израильские военные и секретные службы издавна рассматривали иранцев как потенциальных союзников в борьбе с арабской угрозой, несмотря на поддержку Ираном «Хезболлы». Давление, которое Америка окажет на арабский мир, будет привлекательно для Израиля. И, напротив, еврейская община в Соединенных Штатах рассуждает не так изощренно и цинично, как в Израиле, и ее представители будут выступать с громкой критикой действий Вашингтона. Саудовская Аравия осудит США, еще большие трудности возникнут с саудовским лобби, которое пользуется поддержкой американских компаний, ведущих бизнес в королевстве.
Но в целом описанный выше поворот во внешней политике сулит много преимуществ. Во-первых, этот шаг, не создавая фундаментальных угроз интересам Израиля, продемонстрирует, что Израиль не контролирует Америку. Во-вторых, покажет непопулярной среди американского населения Саудовской Аравии (государства, привыкшего находить поддержку в Вашингтоне), что у Соединенных Штатов есть и другие варианты. При этом Эр-Рияду некуда обращаться, кроме как к США, и он будет цепляться за любые гарантии, которые ему предоставит Америка в связи с дрейфом к Ирану.
Памятуя о 30-летней вражде с Ираном, американская общественность будет возмущена. Президенту придется урезонивать американцев рассуждениями об общей сложности отношений между Израилем и Саудовской Аравией, а также о защите территории самих Соединенных Штатов от большей угрозы. Разумеется, президент будет использовать сближение США с Китаем в качестве примера успешного примирения с непримиримым.
В качестве прикрытия будет использована отчаянная, вынесенная на публику борьба иностранных лобби. Но, в конце концов, президент должен сохранить нравственные ориентиры, помня о том, что Иран не в большей степени друг Америки, чем в свое время Сталин или Мао Цзэдун.
Если когда-либо существовала необходимость в достижении секретных договоренностей, то она, несомненно, актуальна для нынешних американо-иранских отношений, причем большая их часть останется необнародованной. Ни иранское руководство, ни руководство Соединенных Штатов не захотят нести внутриполитические издержки, сопряженные со ставшими достоянием общественности встречами и рукопожатиями. Но в конечном итоге Америке необходимо найти выход из тупика, в котором они оказались, а Ирану — избежать подлинной конфронтации с США.
В сущности, Иран обороняется. Он недостаточно силен ни для того, чтобы стать опорой американской политики в регионе, ни для того, чтобы превратиться в долгосрочную проблему. Иранское население сосредоточено в горных районах, лежащих вдоль внешних границ, тогда как значительная часть центра населена минимально. При определенных условиях (например, таких, какие предоставляются в настоящий момент) Иран сможет проецировать свою мощь, но в долговременной перспективе либо окажется жертвой внешних сил, либо останется в изоляции.
Союз с Соединенными Штатами временно предоставит Ирану возможность взять верх в отношениях с арабами, но через несколько лет Вашингтону придется восстановить баланс сил на Ближнем и Среднем Востоке. Пакистан не может распространить свое влияние на запад. Израиль слишком мал и отдален, чтобы уравновесить Иран. Аравийский полуостров слишком раздроблен, а Вашингтон, поощряя наращивание военной мощи стран полуострова, проводит явно двуличную политику, так как эти государства никогда не смогут стать реальным противовесом Ирану. Более реалистичной альтернативой является поощрение России к усилению ее влияния на границах с Ираном. Такое развитие событий произойдет в любом случае, но это вызовет серьезные проблемы в других районах мира.
Турецкий противовес
Единственная страна, способная быть противовесом Ирану, – Турция, которая независимо от того, что будут предпринимать Соединенные Штаты, достигнет в течение 10 лет статуса региональной державы, а в долгосрочной перспективе, возможно, и господствующей в регионе. Экономика Турции – 17-я в мире и крупнейшая на Среднем Востоке. Турецкая армия – самая сильная в регионе и (если не считать России и, возможно, Великобритании) сильнейшая армия Европы. Как и большинство исламских стран, Турцию в настоящее время раздирает конфликт между сторонниками светского развития и исламистами. Но их борьба протекает в гораздо более сдержанных формах, чем у других.
Господство Ирана над Аравийским полуостровом не соответствует интересам Турции. Анкара нуждается в нефтяных богатствах региона, которые позволят ей снизить зависимость от поставок российской нефти. К тому же не в ее интересах, чтобы Иран стал могущественнее, чем она сама. В Турции, в отличие от Ирана, проживает множество курдов, которые считают юго-запад страны своей родиной. Тегеран может воспользоваться этим обстоятельством. Региональные и мировые державы находят в курдах опору для давления на Ирак, Турцию и Иран или для дестабилизации обстановки в этих странах. Курдскую карту разыгрывают давно, что представляет постоянную угрозу для указанных государств.
В следующем десятилетии Тегерану придется отвлекать значительные ресурсы на противодействие Турции. Тем временем арабский мир будет искать защитника от шиитского Ирана, и, несмотря на тяжелые воспоминания арабов о турецком иге в эпоху Османской империи, суннитская Турция – наилучший кандидат на эту роль.
США в течение следующего десятилетия должны гарантировать, что Анкара не будет враждебна американским интересам, и что Иран и Турция не вступят в союз с целью господства и раздела арабского мира. Ведь чем сильнее в обеих странах страх перед Америкой, тем выше вероятность того, что такой союз состоится. В краткосрочной перспективе иранцев успокоит сближение с Соединенными Штатами, но от них вряд ли укроется тот факт, что оно преследует цели удобства, а не долговременной дружбы. Турция же открыта для более продолжительных отношений с Вашингтоном, но может представлять ценность также в других районах, в особенности на Балканах и на Кавказе, где она блокирует поползновения России.
Тегеран будет угрозой для Анкары до тех пор, пока США продолжат соблюдать основные условия соглашения с Ираном. Каковы бы ни были планы турок, им придется защищать себя. Делая это, они непременно станут предпринимать действия, направленные на подрыв иранского господства над Аравийским полуостровом, а также в Ираке, Сирии и Ливане. Поступая так, турки не только будут сдерживать Иран, но и облегчат доступ к находящимся к югу от Турции источникам сырья, потому что нуждаются в нефти и захотят получать от нее прибыль.
В долгосрочной перспективе Ирану не по силам сдерживать Турцию. В экономическом плане это гораздо более динамичная страна, способная благодаря этому содержать более совершенные в техническом отношении вооруженные силы. Еще более важный момент: если возможности Ирана ограничивает сама география региона, Турция имеет выходы на Кавказ, Балканы, в Центральную Азию и, наконец, к Средиземному морю и Северной Африке, что обеспечивает ее дополнительными возможностями и союзниками, в которых отказано Тегерану. В наступающем десятилетии мы увидим начало восхождения Турции к региональному господству. Она не станет ввязываться в конфликты и продолжит проводить осторожную внешнюю политику, свойственную ей в последнее время. При этом влияние Анкары на регион не будет определяющим. США должны рассматривать Турцию в долгосрочной перспективе и избегать давления, которое могло бы подорвать ее развитие.
* * *
В качестве решения сложных проблем Ближнего и Среднего Востока американский президент должен пойти на временную договоренность с Ираном, которая даст последнему то, чего он хочет, а Америке – возможность вывести войска из региона. Такие договоренности легли бы в основу отношений, построенных на враждебности обеих стран по отношению к суннитским фундаменталистам. Другими словами, нужно оставить Аравийский полуостров в сфере иранского влияния, но ограничить его прямой контроль над полуостровом, что, несомненно, поставит Саудовскую Аравию, в числе прочих, в крайне невыгодное положение.
Такая стратегия означает признание реальности, а именно могущества Ирана, и одновременно попытку повлиять на эту реальность. Независимо от результата, более отдаленным решением проблемы равновесия сил в регионе станет возвышение Анкары. Мощная Турция будет противовесом и Ирану, и Израилю, что стабилизирует Аравийский полуостров. Со временем Турция начнет реагировать на иранское преобладание и бросать ему вызов. За этим последует восстановление равновесия и стабилизация положения, что, правда, уже не в этом десятилетии, создаст новый региональный баланс сил.
Джордж Фридман – основатель и руководитель аналитической группы Stratfor.

Понять Пакистан
Почему простые рецепты там не работают
Резюме: Политическое устройство Пакистана зиждется на покровительстве и родственных связях, и коррупция неразрывно с ними связана, поэтому для победы над ней пакистанское общество должно быть выпотрошено, как рыба на кухне. Это именно то, что хотели бы сделать исламские революционеры.
Анатоль Ливен - автор книги «Пакистан. Трудная страна» (Pakistan. A Hard Country), вышедшей в 2011 г. в издательстве Public Affairs (Нью-Йорк). В основе данной статьи лежат выдержки из этой книги.
По своей значимости в глазах Запада, да и всего мира Пакистан как региональная держава намного превосходит Афганистан. Эта оценка базируется на трезвом расчете, а не на эмоциях. В Пакистане проживает 170 млн человек, то есть в шесть раз больше, чем в Афганистане или Ираке, в два раза больше, чем в Иране, его население составляет почти две трети населения всего арабского мира. В Великобритании (а значит, и в ЕС) присутствует большая пакистанская диаспора. Некоторые ее представители присоединились к мусульманским экстремистам и участвовали в терактах на британской территории.
Пакистанские разведывательные службы оказали неоценимую помощь в ходе выявления связей потенциальных террористов с группами на родине и предотвращения новых терактов в Великобритании и Европе. Таким образом, хотя Исламабад лишь частично присоединился к «войне с террором», он играет в ней важную и незаменимую роль союзника. Ибо нам нужно помнить, что в конечном итоге никому, кроме законных мусульманских правительств и служб безопасности, не под силу справиться с террористическими заговорами в собственных странах. Возможно, Западу не обойтись без того, чтобы оказывать определенное давление на эти режимы, подталкивая их в нужном направлении. Но важно не переусердствовать, поскольку, унизив союзнические правительства в глазах собственного народа, мы рискуем подорвать их легитимность или даже способствовать тому, что они будут низложены.
Наконец, Пакистан обладает ядерным оружием и одной из самых мощных армий в Азии. Стало быть, вариант ввода американских сухопутных войск с целью заставить пакистанцев оказывать давление на афганский «Талибан» был бы крайне опасен, и это давно осознали в Пентагоне и среди пакистанских военных. Как бы это ни раздражало Запад, экономические стимулы и угроза отказа в их предоставлении остаются единственным способом как-то влиять на Исламабад. Однако и такие санкции сомнительны, поскольку экономический крах Пакистана на руку «Талибану» и «Аль-Каиде».
Талибы местные и неместные
Отношения Пакистана с Индией, конечно, остаются главным фактором, определяющим поведение Исламабада на международной арене. Страх перед Индией служил одновременно и катализатором сотрудничества, на которое Пакистан пошел с США в Афганистане, и фактором, его сдерживающим. Эти опасения преувеличены, но не беспочвенны, как не беспочвенна и политика, проводимая под их влиянием.
С одной стороны, беспокойство по поводу возможности американо-индийского альянса против Пакистана заставило президента Первеза Мушаррафа принять решение о предоставлении помощи Соединенным Штатам после 11 сентября и убедить военных, а для начала широкие слои пакистанского населения, в том, что такое содействие необходимо оказать. С другой стороны, страх перед Дели был для Пакистана главной причиной и предлогом, чтобы не перебрасывать дополнительные войска с восточных границ (с Индией) на афганскую границу для участия в сражении с «Талибаном».
Наконец, пакистанский истеблишмент лелеял надежду на то, что участие в борьбе с талибами поможет убедить США надавить на Индию, чтобы заставить ее подписать соглашение относительно Кашмира. Отказ администраций Джорджа Буша и Барака Обамы выступить в подобном качестве (усугублявшийся нежеланием и неспособностью) развеял эту надежду. Вкупе с «американским креном в сторону Индии» он обострил у пакистанских властей ощущение предательства со стороны Вашингтона.
Однако помощь Пакистана Западу в борьбе против афганского «Талибана» в любом случае носила бы ограниченный характер, принимая во внимание стратегические расчеты и чувства широких масс. Подавляющее большинство пакистанцев, включая общины, обеспечивающие наибольшее количество новобранцев для пакистанской армии, считают, что афганский «Талибан» – законное движение сопротивления иностранной оккупации, аналогичное войне моджахедов против советской оккупации 1980-х годов.
В стратегическом отношении Афганистан вызывает у пакистанской элиты смешанные чувства – страх и амбиции. Наибольшие опасения связаны с тем, что к власти там могут прийти непуштунские племена, Афганистан станет сателлитом Индии, и Пакистан окажется в окружении дружественных Дели стран. Эти страхи подпитываются вполне обоснованными подозрениями, что Индия оказывает через Афганистан поддержку националистическим повстанцам из племени белуджи, а также совершенно параноидальной верой в то, что индийское правительство поддерживает пакистанский «Талибан».
Таким образом, большая часть пакистанского истеблишмента убеждена в необходимости тесных взаимоотношений с афганским «Талибаном», поскольку это единственный могущественный его союзник в Афганистане. В последние годы такое убеждение только усиливалось в связи с крепнущей уверенностью в том, что Запад потерпит крах в Афганистане и, в конечном итоге, выведет оттуда войска, которые оставят позади анархию, хаос и гражданскую войну – по аналогии с выводом советских войск после падения коммунистического режима в 1989–1992 годах. Предполагается, что гражданской войне каждая региональная держава примет одну из сторон, и Пакистан не должен быть исключением.
Кстати сказать, даже светские представители пакистанского истеблишмента не считают, что афганский «Талибан» нравственно ущербнее, чем его давние враги – лидеры Северного альянса, на поддержку которых Запад опирается с 2001 года. Их зверства и насилие в 1990-е гг. убедили пакистанских пуштунов в необходимости поддерживать «Талибан». Представители альянса безжалостно убивали взятых в плен сторонников талибов, расхищали помощь Запада после победы в 2001 г., а их роль в торговле героином уничтожила последнюю надежду на то, что после 11 сентября удастся обуздать наркотрафик.
Важно отметить, что в подавляющем большинстве случаев как среди элиты, так и в народных массах сочувствие афганскому «Талибану» или его поддержка вовсе не означает одобрения его идеологии или желания, чтобы Пакистан пережил революцию в талибском стиле. Отсюда большое различие, которое пакистанцы проводят между афганским и пакистанским «Талибаном». Ни власти, ни военные не давали пакистанскому «Талибану» ни малейшего шанса захватить власть в Пакистане. Армия долгое время не предпринимала решительных действий против местного «Талибана» потому, что в целом он не считался серьезной угрозой и воспринимался как местное пуштунское восстание, которое легко сдерживать с помощью переговоров и силы. Другая причина в том, что многие простые пакистанцы, включая солдат, считают сторонников «Талибана» введенными в заблуждение, но честными людьми, преданными идее праведного джихада в Афганистане. Кроме того, пакистанская общественность не хотела бы, чтобы государственный аппарат в интересах Америки втягивался в гражданскую войну на собственной территории. Особенно сильное неприятие подобная политика встретила бы со стороны пуштунского населения. Наконец, пакистанская армия и разведка спонсировали войну джихадистских группировок с Индией в Кашмире, поддерживающих, в свою очередь, интенсивные контакты с пакистанскими талибами.
Как только большая часть элиты полностью осознала, что пакистанский «Талибан» действительно представляет собой серьезную угрозу для централизованного государства, весной 2009 г. армия при поддержке правительства, сформированного Пакистанской народной партией, дала талибам решительный отпор. Победы над «Талибаном» в Свате и Южном Вазиристане дали ответ на вопрос о том, устоит ли Пакистан перед талибской атакой (и предотвратили удар американских военных по пакистанской территории). Вместе с тем, армия отнюдь не горит желанием воевать до победного конца с афганским «Талибаном» ради того, чтобы обеспечить победу Запада в этой стране.
Пакистанская межведомственная разведка и Кашмир
Вопросы религиозной ориентации и отношения к США неизбежно наводят на мысль о связях военных с мусульманским экстремизмом как внутри Пакистана, так и за его пределами. Наличие их очевидно, но происхождение иногда неправильно истолковывается. Изначально исламистам отводилась чисто инструментальная, а не союзническая роль, и цель заключалась не в исламской революции как таковой, а в продвижении государственных интересов Пакистана (как их понимают и определяют военные и службы безопасности) – и прежде всего в противодействии интересам Индии.
Пакистанская армия в каком-то отношении достойна восхищения, но ей изначально присущ один серьезный недостаток, полностью определявший ее характер и мировоззрение. Речь идет об одержимости Индией в целом и Кашмиром в частности. Это порок не только пакистанских военных. Как сказал однажды Зульфикар Али Бхутто, «Кашмир должен быть освобожден – иначе пропадает смысл существования Пакистана». Пакистанские политики повинны в том, что внушают рядовым гражданам, будто джихад в Кашмире – законный метод борьбы. Это наносило страшный урон стране, а при определенных обстоятельствах могло привести ее саму и ее вооруженные силы к гибели. Тем не менее, армия использует свой авторитет и личный опыт военачальников для того, чтобы уделять Кашмиру самое пристальное внимание.
Подавляющее большинство пакистанских солдат когда-то несли службу в Кашмире, и у многих эта служба сформировала личное мировоззрение. Кашмир играет для Пакистана роль неосвобожденной территории (irredenta). Так же как для Франции после 1871 г. Эльзас-Лотарингия, для Италии после 1866 г. Триест, а для Сербии после 1879 г. – Босния. В последнем случае сербская армия спонсировала террористов, которые, застрелив австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, разожгли огонь Первой мировой войны.
Вот почему укрепляющийся с 2001 г. альянс Вашингтона с Индией и отказ Соединенных Штатов от прежней позиции, когда они настаивали на плебисците для определения дальнейшей судьбы Кашмира, вызывает негодование пакистанских военных. Фиксация на Индии и Кашмире не имеет исламистской подоплеки, но является по своей сути пакистано-мусульманским национализмом. За редким исключением это справедливо даже в отношении высших армейских чинов, которые оказывали непосредственную помощь мусульманским экстремистским группировкам, сражавшимся с Индией – таких как бывший шеф Пакистанской межведомственной разведки (ПМР), генерал-лейтенант Хамид Гуль.
Большинство этих высших офицеров использовали исламистов в борьбе против Индии, не разделяя их идеологии. Точно так же глубоко враждебное отношение к США таких людей, как Гуль или бывший начальник штаба генерал Аслам Бег, объясняется не мусульманским радикализмом, а негодованием по поводу доминирования Соединенных Штатов, которые, как им кажется, подчинили своему влиянию мусульманский мир. Эти чувства разделяют многие чисто светские и даже либеральные деятели.
Чтобы понять чувства сотрудников ПМР и, в частности, их стратегию в Кашмире, необходимо иметь в виду, что они считали победу над советской армией в Афганистане во многом своим личным достижением. Она стала их главным институциональным мифом. Учитывая колоссальные средства, выделявшиеся США и Саудовской Аравией на помощь моджахедам, которыми фактически распоряжалась ПМР, афганский джихад 1980-х гг. был также ключевым моментом, позволившим разведке получить независимую финансовую базу и усилить влияние в пакистанской армии и государстве в целом.
У ПМР появилась уверенность в том, что по отношению к Индии в Кашмире можно проводить ту же тактику, что и по отношению к Советскому Союзу в Афганистане, и с помощью тех же действующих лиц – мусульманских боевиков (вряд ли нужно повторять, что были совершены те же фундаментальные политические и геополитические ошибки). Массовые спонтанные восстания кашмирских мусульман против индийского правления, начиная с 1988 г. (все началось с протеста против подтасовки итогов выборов руководства штата, которые состоялись годом ранее), казалось, давали хороший шанс на успех. Однако в большей степени, чем в случае с Афганистаном, боевики должны были не только подготавливаться, но и вербоваться в Пакистане (и в меньшей степени в других странах мусульманского мира).
Стратегия ПМР соответствовала давнишней линии Пакистана, который добивается не столько независимости Кашмира, сколько присоединения этой провинции к своей территории. Вот почему пакистанская разведка использует пропакистанские исламистские группировки, чтобы ограничить возможности Фронта освобождения Джамму и Кашмира (ФОДК), который поначалу возглавил восстание в Кашмире. Эта стратегия включала и убийства исламистскими боевиками, получавшими поддержку от ПМР, немалого числа лидеров и активистов ФОДК, которых также выслеживают и ликвидируют силы безопасности Индии.
Однако, подобно тому как в Афганистане моджахеды, а затем и «Талибан» отказались играть по правилам, диктуемым Соединенными Штатами и Пакистаном, и стали совершенно неуправляемыми, боевики в Кашмире настроили против себя большинство коренных кашмирцев своей беспощадностью и идеологическим фанатизмом. Несмотря на усилия ПМР побудить их к сотрудничеству, они раскалываются на все более мелкие формирования, и, сражаясь друг с другом, терзают и угнетают местное гражданское население. Более жесткая дисциплина в исламистской «Лашкар-э-Тайба» (ЛэТ), как полагают, является одной из причин все большей благосклонности к этой организации со стороны ПМР.
Связь военных с джихадистами
Пакистанские военные твердо убеждены в том, что Индия никогда не согласится даже на минимально приемлемые для Исламабада условия, если над ней не будет висеть угроза партизанской войны и терактов. Между тем их непримиримо враждебное отношение к Индии объяснялось также агрессией против мусульман на территории этой страны, и особенно позорной бойней в Гуджарате 2002 г., устроенной партией Бхаратия Джаната, сформировавшей правительство штата. Следует отметить, что число жертв бойни как минимум на порядок превысило количество погибших при терактах в Мумбаи, хотя западные СМИ не уделили ей и десятой доли того внимания, которое было уделено мумбайской трагедии.
Военные не на шутку встревожены тем, что в случае крупномасштабной операции против «Лакшар-э-Тайба» они сделают большинство ее сторонников восприимчивыми к агитации «Джамаат-уд-Дава» (ДуД), вербующей боевиков для пакистанского «Талибана». (ЛэТ является боевым крылом благотворительной организации ДуД. – Ред.). Поскольку ЛэТ сосредоточила все внимание на Кашмире (а после 2006 г. – на Афганистане) и не осуществляла теракты на территории Пакистана, ПМР не предпринимала против нее никаких действий.
Пакистанские официальные лица делились с автором опасениями в связи с вероятностью массового восстания в Пенджабе, которое может вспыхнуть, если ЛэТ/ДуД ополчится против штата и использует свою широкую сеть для мобилизации населения и организации беспорядков. По их словам, это одна из главных причин (наряду с антииндийской повесткой, о которой никто не упоминает), почему они не принимают мер против организации, как того требует Вашингтон. Однако официальные лица забывают добавить, что один из способов умиротворения Лашкар-э-Тайба в Пакистане – позволить активистам этой организации присоединиться к афганскому «Талибану» (или даже подтолкнуть их к этому), чтобы сражаться против войск Западной коалиции по ту сторону «Линии Дюранда». Более того, давнишняя связь некоторых офицеров ПМР с боевиками – сначала в Афганистане, а затем в Кашмире – привела к тому, что они начали отождествлять себя с теми силами, которые, по идее, должны были сдерживать.
Что касается афганских талибов, то здесь военные и ПМР едины, и тому есть прямые доказательства: они по-прежнему дают талибам убежище (но не оказывают достаточной реальной помощи – иначе «Талибан» действовал бы куда успешнее). Пакистан решительно уклоняется от принятия серьезных действий против «Талибана» в угоду Америке. Он опасается спровоцировать пуштунский мятеж у себя в стране, а кроме того, считает талибов своим единственным активом в Афганистане.
Однако, что касается пакистанского «Талибана» и его союзников, межведомственная разведка сегодня твердо намерена с ними бороться. И все же в 2007–2008 гг. было много случаев вмешательства офицеров ПМР ради спасения отдельных талибских командиров от ареста полицией или армией – слишком много, чтобы это оказалось случайностью или домыслом. Поэтому совершенно очевидно, что либо отдельные офицеры ПМР лично симпатизировали этим людям, либо руководители разведки считали их потенциально полезными. Но своими действиями они бросали прямой вызов общему курсу пакистанской армии, не говоря уже о правительстве. Более того, некоторые из этих людей были, по крайней мере, косвенно связаны с «Аль-Каидой». Это не значит, что в ПМР знали, где прячется Усама бен Ладен, Айман аль-Завахири и другие лидеры «Аль-Каиды». Однако они могли бы сделать намного больше для того, чтобы получить эту информацию.
Что касается поддержки терроризма против Индии, очевидно, что не только ПМР, но и военные в целом твердо намерены сохранять «Лакшар-э-Тайба» (замаскированную под «Джамаат-ут-Дава») – по крайней мере, «про запас». Сознавая свою роль стратегического резерва, ЛэТ до 2010 г. выступала против боевых действий на территории самого Пакистана. Ее лидеры утверждали, что «борьба в Пакистане – это не борьба между исламом и неверием», что пакистанское государство не совершает таких зверств против своего народа, как Индия, и что истинный ислам должен распространяться в Пакистане посредством миссионерской и благотворительной деятельности (дава), а не джихада.
Пакистан на фоне Южной Азии
Вопреки убеждению Запада (во многом инстинктивному), Пакистан на протяжении жизни целого ряда поколений действует в соответствии со своими несовершенными, но функциональными принципами. В последние несколько лет плохую службу Западу в этом отношении сослужило ставшее популярным понятие «несостоятельное государство» (failed state). Было бы весьма полезно и поучительно сравнить Пакистан с другими странами Южной Азии, в которых на глазах последнего поколения вспыхивали мятежи, в двух случаях (Афганистан и Непал) фактически приведшие к низложению существующей государственной власти. Восстания в Шри-Ланке и Бирме длились дольше, разворачивались на относительно большей территории и приводили к относительно гораздо большему числу жертв, чем мятеж «Талибана» в Пакистане.
Индия – великая региональная держава и в отличие от своих соседей – стабильная демократия. Однако и в индийских штатах то и дело вспыхивают восстания, некоторые из которых не утихают на протяжении нескольких поколений. Один из мятежей наксалит-маоистских повстанцев охватил треть страны. Мятежники контролируют огромные пространства в индийской провинции – пропорционально намного большие, чем площади, находящиеся под контролем «Талибана» в Пакистане. Это не значит, что Индии угрожает опасность расчленения или развала. Просто следует помнить, что государства Южной Азии традиционно не осуществляют прямой контроль над значительной частью своей территории и вынуждены постоянно иметь дело с вооруженным сопротивлением в той или иной части своих стран.
В сравнении с Канадой или Францией Пакистан, несомненно, проигрывает. Но если сравнивать его с Индией, Бангладеш, Афганистаном, Непалом и Шри-Ланкой, все не так уж плохо. Многое из того, что характерно для Пакистана, свойственно всему субконтиненту в целом – от партий, руководимых наследственными династиями, свирепой жестокости полиции и продажности государственных чиновников до ежедневного насилия и анархии в провинции.
В действительности Пакистан гораздо больше напоминает Индию (или Индия Пакистан), чем обе страны готовы признать. Если бы Пакистан был штатом Индии, то с точки зрения развития, правопорядка и доходов на душу населения он находился бы где-то посередине – между развитым штатом Карнатака и отсталым Бихаром. Иными словами, если бы Индия состояла только из северных штатов, говорящих на хинди, она, наверное, не была бы демократией или быстрорастущей экономической державой, а некой разновидностью обнищавшей националистической диктатуры, раздираемой местными конфликтами.
Армия остается в Пакистане важнейшим институтом по той причине, что это единственная государственная структура, где реальное внутреннее содержание, поведение, правила и культура более или менее соответствуют официальной внешней форме. И это единственная пакистанская организация, действующая в соответствии со своим официальным предназначением. Но при этом она вынуждена постоянно заниматься тем, чего от нее не ожидают: узурпирует власть, отнимая ее у более слабых, запутавшихся и нефункциональных родственных учреждений.
Западные аналитики, как правило, поступают следующим образом: когда формы местной самоорганизации отличаются от западной «нормы», они не исследуются, а считаются временным отклонением, болезнями роста или опухолями на здоровом теле, которые нужно поскорее удалить. В действительности же эти «болезни» и есть сама система, и их можно «вылечить» только путем революционных изменений. Единственные силы в Пакистане, предлагающие подобные изменения, – это радикальные исламисты, но их рецепты лечения почти наверняка прикончат «больного».
Договорное государство
На протяжении 60-летней истории Пакистана предпринимались попытки радикально изменить страну усилиями трех военных и одного гражданского режима. Генералы Айюб Хан и Первез Мушарраф, военные правители в 1958–1969 и 1999–2008 гг., оба равнялись на Мустафу Кемаля Ататюрка – великого светского реформатора-националиста и основателя Турецкой Республики. Генерал Зия-уль-Хак (с 1977 по 1988 гг.), пришедший к власти путем военного переворота, пошел другим путем, попытавшись объединить и развивать страну, навязывая ей более строгую и пуританскую разновидность ислама, приправленного пакистанским национализмом. Со своей стороны, Зульфикар Али Бхутто, основатель Пакистанской народной партии и гражданский правитель в 1970-е гг., пытался сплотить вокруг себя народ при помощи программы антиэлитарного экономического популизма, также смешанного с пакистанским национализмом.
И все они потерпели неудачу. Режимы каждого из этих деятелей были «переварены» теми элитами, которые они надеялись сместить. В результате они сбились на ту же политику патронажа, как и свергнутые ими администрации. Никому не удалось создать новую массовую партию, укомплектованную профессиональными политиками и преданными идейными активистами, а не местными «феодалами» и городским начальством и их окружением. На самом деле, за исключением Бхутто, никто всерьез и не пытался это сделать. Однако и его Пакистанская народная партия вскоре перестала быть той радикальной организацией, какой была поначалу, попав в зависимость от тех же местных кланов и покровителей.
Военные правительства, приход к власти которых строился на обещаниях избавить страну от коррумпированных политических элит, вскоре сами начинали искать в них свою опору. Отчасти потому, что ни один военный режим не был достаточно сильным, чтобы долгое время править без парламента, а в парламент входили представители тех же старых политических элит. Такой парламент фактически консервирует общество, которое военные режимы в принципе желают изменить. Требуя от подобных режимов, чтобы они одновременно осуществили реформы и восстановили «демократию», Запад показывает абсолютное непонимание внутренней обстановки.
Чтобы переломить сложившуюся ситуацию и сформировать радикальное национальное движение за перемены наподобие того, что было создано Ататюрком, необходимо наличие двух условий. Прежде всего, это сильный пакистанский национализм, подобный современному турецкому национализму – а его нет и быть не может в этнически раздробленном Пакистане. И во-вторых, необходима жестокость, сопоставимая с той, которую проявил Ататюрк и его последователи, подавляя этническое, племенное и религиозное сопротивление. Рассказывая красивую историю о построении нынешней хрупкой демократии в современной Турции, западные аналитики ни словом не обмолвились о том, сколько времени на это ушло и какие жертвы потребовались, чтобы построить современное турецкое государство.
Если не считать ужасающих зверств 1971 г. в Восточной Бенгалии, совершенных против населения, которое пенджабские и пуштунские солдаты считали чужаками, людьми низшего сорта, попавшими под влияние индусов, – пакистанское государство было неспособно совершать массовые злодеяния против собственного народа. В Пенджабе и Северо-Западной пограничной провинции (СЗПП) солдаты не хотели убивать свой народ, а в провинциях Синд и даже Белуджистан правительство не желало проливать кровь, понимая, что рано или поздно придется искать компромисс с местными элитами.
Одна из самых поразительных особенностей военных диктатур Пакистана заключалась в том, что они проявляли значительную по историческим меркам мягкость в сравнении с аналогичными диктатурами, когда дело доходило до подавления диссидентов и критически настроенных представителей элиты. За всю историю в Пакистане были казнены только один премьер-министр (Зульфикар Али Бхутто) и несколько политиков – гораздо меньше, чем их погибло в столкновениях между собой. Очень мало известных политиков когда-либо подвергались пыткам.
В Индии, как и в Пакистане, государство не несет ответственности за большинство нарушений прав человека. Это нечто неподвластное пониманию правозащитных групп, поскольку они исходят из современного западного опыта, а на Западе источником притеснений всегда считалось слишком сильное государство. Однако в Пакистане, как и в Индии, подавляющее большинство нарушений прав человека – следствие не силы, а слабости государственной власти. Государство можно обвинить в том, что оно недостаточно делает для того, чтобы положить конец подобным злоупотреблениям, но его способность предпринимать решительные меры крайне ограничена. Таким образом, Пакистан – как и почти вся Южная Азия и большая часть Латинской Америки – часто демонстрирует нерелевантность демократии даже в той области, которую мы привыкли считать ключевым индикатором, а именно – в области прав человека. Подавляющее большинство подобных правонарушений в Пакистане связано со зверствами наемников или эксплуатацией со стороны полицейских, работающих либо на себя, либо на местные элиты; с действиями местных землевладельцев и начальства; с наказанием местными общинами за реальные или воображаемые нарушения их нравственного кодекса.
В соответствии со стандартными западными моделями и основанной на них Конституцией Пакистана, независимые избиратели осуществляют свое волеизъявление на выборах. Затем полномочия, делегированные правительству, распространяются через иерархические структуры. Они передают приказы высших должностных лиц низшим по званию чиновникам, основываясь на законах, принятых парламентом или хотя бы какой-то формальной властью.
В Пакистане только вооруженные силы действуют в соответствии с установленными правилами передачи полномочий. Что касается остальной части государственного аппарата, законодательной, судебной и исполнительной, а также полиции, то их полномочия определяются в ходе постоянных переговоров. Причем насилие или угроза его применения часто становятся картой, которую может разыграть любая из сторон. Договорной характер государственной власти находит отражение и в механизмах практического осуществления демократии, поскольку последняя дает возможность выражать интересы не только простых граждан, но и всех тех классов, групп и учреждений, через которые преломляется народное волеизъявление, пока оно не находит отражения в выборных институтах. Другими словами, демократия обычно отражает не столько волю «народа» или «избирателей», сколько расклад социально-экономических, культурных и политических сил и влияния внутри общества. Природа пакистанского общества и слабость реальной демократии проявляются, в числе прочего, в отсутствии дееспособных, современных и массовых политических партий с собственными кадрами партийных работников.
Модернизаторы и консервативная спячка
Западные аналитики не в состоянии понять сегодняшние пакистанские реалии, поскольку исходят из того, что учреждения, имеющие в своих названиях такие слова как «закон», «полиция», «право», должны действовать по установленным правилам, а не по понятиям местных элит. Точно так же распространенные на Западе представления о «коррупции» в Пакистане предполагают, что ее можно и должно устранить из жизни страны. Но коль скоро политическое устройство зиждется на покровительстве и родственных связях, и коррупция неразрывно с ними связана, для победы над ней пакистанское общество должно быть выпотрошено, как рыба на кухне.
Конечно, это именно то, что хотели бы сделать исламские революционеры. Современные исламистские политические группировки пытаются заменить кланово-патронажную систему управления «феодальных» землевладельцев и городского начальства своей версией современной массовой политики. Однако до сих пор им не удалось добиться сколько-нибудь значительных успехов. За исключением партии «Джамаат-и-ислами», исламистские политические партии сами поглощаются и «перевариваются» патронажной системой. Что касается пакистанского «Талибана» («Техрик-э-Талибан-Пакистан»), до сих пор он представлял собой примитивное объединение партизанских и террористических группировок. Они оказались бы в полной растерянности, если бы им пришлось взять на себя ответственность за решение проблем Пешавара, не говоря уже о Лахоре или Карачи.
Конечно, они в немалой степени опираются на поддержку местного населения, недовольного вопиющей несправедливостью и угнетением в стране и прежде всего неадекватной системой правосудия. Когда простые люди говорят о том, что уважают «Талибан» за введение шариата, это еще не значит, что они активно поддерживают его политическую программу. Скорее это почтительное отношение к шариату как части Слова Божия, продиктованного последнему Пророку, вкупе со смутным стремлением к более жесткому и быстрому правосудию, чем то, что предлагает им государство. Они хотят, чтобы это правосудие было нелицеприятным, не давало никакого предпочтения элите и осуществлялось на глазах у людей, на их родном языке.
Однако до недавнего времени исламистам не удавалось достичь больших успехов в том, что касается массовой поддержки со стороны простых пакистанцев. Одна из главных причин их неудач кроется в глубоко консервативном характере большей части пакистанского общества. Ибо, вопреки господствующей на Западе точке зрения, исламистам чаще удается мобилизовать население не в отсталых, а, скорее, в продвинутых частях страны.
По стандартной западной версии, согласно которой западные нормы – единственно возможный путь в современность, главная идейная борьба в Пакистане разворачивается между вестернизированными представлениями о современности (включая демократию, власть закона и т.д.) и исламским консерватизмом. Более точная оценка ситуации позволит понять, что в большинстве своем Пакистан – чрезвычайно консервативная, архаичная, иногда даже совершенно инертная и непробудившаяся масса разнородных общин, которую изо всех сил стараются расшевелить две группы модернизаторов.
На стороне западников престиж и успех западной модели в мире, а также наследие британского колониального правления, включая смутную веру в демократию. Однако им мешает консервативная природа общества и усиливающаяся ненависть к США и их западным союзникам.
Мусульманские модернизаторы ищут опору в гораздо более древней и глубоко укоренившейся традиции ислама. Однако и им мешает консервативная природа пакистанского общества, его крайняя раздробленность, неудачи революционеров в других мусульманских странах, а также тот факт, что подавляющее большинство пакистанских элит отвергает их модель по культурным и классовым соображениям. И вестернизаторы, и исламисты понимают, что между ними идет апокалиптическая битва, которая закончится торжеством добра или зла. Вместе с тем, высока вероятность того, что Пакистан избавится от влияния обеих групп, перевернется на другой бок и снова заснет.
Азартная игра с водой
И все же Пакистан не может себе этого позволить, потому что время явно не на его стороне. В долгосрочной перспективе главное для пакистанцев не в том, кто они и какую религию исповедуют. Кем бы они ни были, им становится все теснее в границах своей страны, поскольку численность населения все время растет. В 2010 г. в Пакистане проживало от 180 до 200 млн человек – иными словами, страна занимала шестое место в мире по численности населения. Динамика рождаемости просто ошеломляет, если учесть, что в 1998 г. число пакистанцев не превышало 132 миллиона. Согласно переписи 1951 г. (через четыре года после обретения независимости), в стране проживало всего 33 млн человек, а согласно данным британской переписи населения 1911 г. – 19 миллионов. Таким образом, за прошедшее столетие население Пакистана выросло на порядок.
Огромный процент молодежи означает, что рождаемость еще долгое время будет оставаться на высоком уровне, и прирост населения продолжится (в 2009 г. дети и подростки младше 14 лет составляли 36%). Если сохранятся нынешние тенденции, в середине XXI века в Пакистане будет жить минимум 250 млн человек.
Это слишком много для имеющихся в стране водных ресурсов – разве только радикально повысится эффективность водопользования. Если старую индийскую экономику нередко называли «азартной игрой с муссоном», то все пакистанское государство можно охарактеризовать как «азартную игру с рекой Инд». А изменение климата означает, что в течение следующего столетия шансы на выигрыш в ней будут все время снижаться. Многочисленные руины древних городов, начиная с развалин цивилизации IV тысячелетия до н.э. в долине реки Инд, служат наглядной иллюстрацией капризной силы воды. Эти города были либо оставлены их жителями, потому что реки меняли русло, либо смыты, как это произошло в 2010 г., когда сильнейшие наводнения уничтожили немало сел и городов.
При среднегодовом количестве осадков на уровне 240 мм Пакистан – одна из самых засушливых среди густонаселенных стран мира. Если бы не бассейн реки Инд с ее многочисленными каналами и ответвлениями, даже Пенджаб оставался бы полупустынной местностью с кустарниковым редколесьем (которое здесь называют «джунглями»), как это было до того, как британцы приступили к грандиозным ирригационным проектам.
Однако чрезмерное потребление воды означает, что многие природные источники высыхают, а горизонт грунтовых вод во многих областях снижается так быстро, что подземные колодцы также могут иссякнуть в ближайшем будущем. Единственным источником останется все та же река Инд. В пылу дискуссий по поводу возможного исчезновения к 2035 г. ледников, питающих Инд, все как-то упустили из виду, что эти ледники продолжают таять. И если даже они исчезнут на 100–200 лет позже, последствия для Пакистана будут не менее катастрофичными, если в оставшееся время в стране не будет принято серьезных мер для улучшения способов хранения воды и ее эффективного потребления.
Если наводнения 2010 г. являются предвестниками длительного периода муссонных дождей, это сулит Пакистану большую выгоду. Но выгоду только потенциальную, поскольку использование дождевой воды для нужд сельского хозяйства требует значительного улучшения инфраструктуры хранения и распределения воды, а также принятия радикальных мер для остановки обезлесения в горных районах и повторного насаждения растений на опустевших территориях. В противном случае обильные осадки чреваты новыми катастрофами. Правда, следует добавить, что большая часть существующей инфраструктуры сработала во время наводнений. В противном случае было бы затоплено несколько крупнейших городов, и жертв оказалось бы намного больше, чем 1900 человек (по официальным данным).
В течение следующего столетия возможное долгосрочное сочетание климатических изменений, острой нехватки воды, слабой водной инфраструктуры и резкого роста населения может привести к краху Пакистана как организованного общества и государства. Долгосрочные проекты международной помощи Пакистану должны быть прежде всего сосредоточены на снижении этой смертельной угрозы за счет насаждения лесов, ремонта систем орошения и, что еще важнее, повышения культуры водопользования. Люди могут столетиями жить без демократии, даже когда опасности окружают их со всех сторон. Но без воды они не проживут больше трех дней.
Согласно исследованию, проведенному в 2009 г. Центром Вудро Вильсона, рост населения в Пакистане приведет к тому, что к 2025 г. ежегодная потребность в воде вырастет до 338 млрд кубометров (мкм). И если не будут приняты радикальные меры, доступность воды останется на нынешнем уровне, то есть 236 мкм в год. Дефицит в 100 мкм сопоставим с двумя третями всей воды бассейна реки Инд.
Конфликт вокруг доступа к убывающим ресурсам реки Инд может привести к междоусобной войне между пакистанскими провинциями. А между тем и через сто лет Пакистан все еще будет обладать ядерным оружием и одной из крупнейших армий в мире. К тому времени в стране будет проживать несколько сот миллионов человек. Мусульманский радикализм, который существует уже сотни лет, тоже никуда не денется, хотя и может значительно ослабеть после вывода войск западной коалиции из Афганистана.
Все это будет означать, что из всех государств мира, которые могут пострадать от изменения климата, Пакистан является одной из важнейших. Более того, то, что случится с Пакистаном, будет также иметь большое значение для остальной Южной Азии, где проживает примерно пятая часть мирового населения.
Анатоль Ливен – профессор кафедры военной истории в Лондонском Королевском колледже и сотрудник Фонда «Новая Америка» в Вашингтоне.

Статус-кво ради прогресса
Ждать ли скорых перемен на Корейском полуострове?
Резюме: Экономическая действительность в КНДР разительно отличается от распределительной уравниловки прошлого века, похоже, точка невозврата пройдена. Конечно, страна живет в страхе и бедности. Но и оснований рассчитывать на то, что режим скоро рухнет, не намного больше, чем ранее. Тем более что Китай этого просто не допустит.
Данная статья написана по результатам поездок автора в Пхеньян и Сеул в апреле-мае 2011 года.
Волна революций на Ближнем Востоке вызвала у многих экспертов-международников (особенно не занимающихся вплотную корейскими делами) вопрос – не следует ли ожидать подобных событий в Северной Корее? Не стоит ли эта тоталитарная закрытая страна на пороге потрясений? Тем более что подобному сценарию гарантирована внешняя поддержка – в Конституции сильной и процветающей Южной Кореи зафиксирована готовность и даже обязанность оказать содействие «повстанцам» и взять под контроль территорию Севера. Спонтанное достижение Республикой Корея заветной национальной цели – объединения, очевидно, не встретит какого-либо осуждения или противодействия со стороны мирового сообщества. Даже поддерживающий КНДР Китай в такой ситуации вряд ли осмелится противостоять «воле истории».
Необходимый элемент таких построений – расчет на то, что пхеньянский режим исчерпал возможности поддержания стабильности, а тем более развития и экономического роста. Прогнозы учитывают и проблемы со здоровьем Ким Чен Ира, держащего в руках все рычаги правления.
Логика рассуждающих подобным образом «специалистов-глобалистов» такова. В стране налицо стагнация, в некоторых районах голод. Народ разочарован, в том числе благодаря проникновению целенаправленной внешней пропаганды, число перебежчиков растет. Не за горами – кризис власти: 29-летний сын «полководца», Ким Чен Ын, поспешно объявленный «наследником» в сентябре прошлого года, пока не обрел необходимого опыта, не имеет достаточной поддержки в руководстве и не пользуется доверием военных, хотя и назначен генералом армии. Не разгорится ли в руководстве страны междоусобица после ухода Ким Чен Ира? Высказываются предположения, что вызов Ким Чен Ыну может бросить муж его тети, влиятельный партийно-государственный деятель Чан Сон Тхэк.
Но и при гладкой передаче власти режим не застрахован от проблем, говорят уже специалисты-кореисты. Старая элита уходит, средний возраст членов Политбюро – около 80 лет. Реально «в курсе дел» всего несколько сот человек – многие из них принимали непосредственное участие в корейской войне и даже освобождении Кореи, накопили многолетний опыт управления, и к тому же являются членами клана Кимов. А новая номенклатура формируется из военных, партократов и технократов «кимченировского призыва», зачастую это представители региональных элит. Они по большей части не бывали за границей, получили «чучхейское» образование и воинственную закалку, и просто незнакомы с реалиями современного мира. Эти «младотурки» способны «заиграться» в провокациях и не оценить пределов терпения оппонентов.
Возможен и раскол в новом руководстве, особенно если будут предприниматься попытки «модернизации» системы. Реформы без предварительного решения вопроса обеспечения внешней безопасности чреваты крахом государства.
Действительно ли вероятность коллапса КНДР и спонтанного объединения Юга и Севера возросла в результате межкорейской конфронтации и обострения ядерной проблемы после прихода к власти в Сеуле в 2008 г. консерваторов?
Благие пожелания и иллюзии
Сразу скажу, что не разделяю эту точку зрения. На протяжении четверти века я потратил немало сил и времени в дискуссиях с южнокорейскими, американскими и японскими политиками и экспертами, пытаясь объяснить необоснованность надежд на то, что режим «вот-вот рухнет». Вместе с тем полностью исключить кризис в КНДР (над провоцированием которого активно работают весьма мощные внешние силы) все же нельзя. Он может стать как результатом внешнего конфликта, так и внутренних факторов. Но давайте задумаемся, как это может произойти и к чему приведет.
Вероятность полномасштабного вооруженного столкновения все же невелика – в нем не заинтересована ни одна страна. Однако нельзя полностью исключить и спонтанной эскалации локального конфликта – история, к несчастью, дает массу примеров, когда разгорались войны, которые вроде бы никто не собирался вести. Остается опасность того, что в этом случае северокорейское руководство напоследок решит «хлопнуть ядерной дверью».
Даже при «мирном» развитии логика «удушения» Северной Кореи может привести к углублению экономического кризиса (особенно если Пекин откажется поддерживать Пхеньян), хаосу, а в конечном итоге – к падению режима. Среди менее кошмарных, чем ядерный апокалипсис, сценариев реальны в этом случае только два: поглощение страны Югом или переход ее под более или менее мягкий контроль Китая. В отличие от других бывших соцстран (за исключением ГДР) падение режима в КНДР означало бы не смену элиты, а исчезновение северокорейской государственности.
Горячие головы в Сеуле примерно с 2009 г. пришли к выводу, что «время объединения, наконец, пришло», северокорейцы только и ждут «освобождения от гнета диктатуры» и «будут встречать южнокорейцев с цветами». Реальность, однако, может оказаться не столь радужной.
Объединение путем поглощения Севера Югом может привести к весьма негативным последствиям – не только для корейского народа, но и для всего региона. Вполне возможно, что некоторая часть «бывших» – сторонников «чучхейского» национализма – начнет вооруженную борьбу «с оккупантами и компрадорами». С учетом того, что, по нашим подсчетам, «слуги режима» в КНДР насчитывают (с членами семей) несколько сотен тысяч человек, даже если речь пойдет о 5% «активных борцов», это опасная сила. Ведь им нечего терять: южнокорейская общественность вряд ли удовлетворится освобождением от ответственности за прошлые преступления «деятелей кровавого режима» и даже их потомков. Не сомневаюсь, что планы партизанской войны в Северной Корее разработаны, и соответствующие базы в горах и под землей уже оборудованы, причем на них может быть даже оружие массового уничтожения (не обязательно ядерные заряды, но химические и биологические средства – с большой вероятностью). Новые власти столкнутся не просто с диверсионной активностью по типу Афганистана, а с гражданской войной с возможностью применения ОМУ, причем не только в пределах Корейского полуострова.
Даже если представить, что столь драматических поворотов удастся избежать, а северокорейский правящий класс и военные смиренно примут уготованную им участь, население Севера, не готовое включиться в капиталистическое хозяйство и недовольное неизбежной ролью «людей второго сорта» в объединенной Корее, будет находиться в постоянной оппозиции к центральным властям. В КНДР уже сформировался номенклатурно-предпринимательский «средний класс», есть и интеллигенция. Эти люди (а их много) вовсе не заинтересованы в том, чтобы оказаться выброшенными за борт, влачить люмпенское существование под пятой южнокорейцев. Ведь большинство перебежчиков-северян так и не могут приспособиться к жизни в Южной Корее. А простые работяги далеко не сразу справятся с требованиями современного производства (я даже не исключаю, что южнокорейский капитал поначалу будет вынужден завозить на предприятия Севера объединенной Кореи гастарбайтеров). На Юг северян не пустят – значит, на территории бывшей КНДР будет безработица. Это создаст длительную нестабильность на полуострове.
Альтернативный вариант развития событий – вмешательство Пекина, для которого Корейский полуостров – «кинжал, направленный в сердце Китая». КНР кровно заинтересована в том, чтобы в ее «мягком подбрюшье» сохранялась стабильность и поддерживался военно-политический баланс. Но он неизбежно нарушится, если войска союзников США продвинутся к китайским границам. В кризисной ситуации Пекин может попытаться, в том числе используя дипломатическое сопровождение в СБ ООН и право вето на иностранное вмешательство, установить в Пхеньяне прокитайский режим или трансформировать в этом направлении существующий. Для северокорейского правящего класса это все же предпочтительней, чем капитуляция перед Югом. Говоря цинично, рациональный вариант поведения элиты у «последней черты» – «продаться» Пекину, сохраняя границы КНДР, государственность, а может быть, и властные посты. Однако такой режим подвергнется остракизму и давлению Запада, что станет многолетней проблемой для Пекина и его позиций в регионе, где возродятся страхи в отношении китайского «гегемонизма».
Так или иначе, стабилизации ситуации на полуострове при сценарии, на который надеются в Южной Корее и на Западе (падение режима в более или менее мягкой форме), ждать придется довольно долго.
Роль Соединенных Штатов и Южной Кореи
Осознают ли в Сеуле, Вашингтоне и поддерживающем их Токио опасности, связанные со сменой правления в Пхеньяне? Похоже, кто-то все еще достаточно наивен, ожидая «мирного поглощения» Севера и его «мягкой посадки», а кто-то хочет нагреть руки на кризисе – в том числе и в плане геостратегического сдерживания Китая. В последние 2–3 года рассуждения о «скором крахе режима» стали особенно популярны в Южной Корее и обрели второе дыхание в среде американских консерваторов. Причина активизации таких разговоров – не столько сигналы из КНДР, сколько глубокое непонимание сущности северокорейской системы и особенностей менталитета северян. К счастью, эти ожидания далеки от реальности.
Дело в том, что с приходом к власти президента Республики Корея Ли Мён Бака тон в делах, касающихся Северной Кореи, задает команда, по меткому выражению кореиста Андрея Ланькова, «палеоконсерваторов» – представителей прошлых правлений, которые оказались не у дел в годы либерального десятилетия – периода, когда президент Ким Дэ Чжун и его преемник Но Му Хён проводили по отношению к Северу примирительную политику «солнечного тепла» и «вовлечения».
Глядя назад, надо признать: несмотря на обострение в этот период (начиная с 2002 г.) ядерной проблемы КНДР и конфронтации с Соединенными Штатами, ситуация на Корейском полуострове тогда была значительно более мирной и предсказуемой, чем сегодня. Развивалось межкорейское сотрудничество, тысячи южан впервые попали на Север. Определенные эволюционные изменения происходили и внутри КНДР, хотя сохранение пропагандистского обеспечения власти при закрытости страны не всегда позволяло оценивать глубину и распространенность этих перемен.
Политика либерального сеульского руководства в отношении Пхеньяна, однако, подвергалась беспощадной критике консервативной оппозиции – для нее протест против «попустительства Северу» стал немалым подспорьем в завоевании голосов избирателей. Население Юга устало от иждивенчества Северной Кореи. Нетерпеливым корейцам казалось, что всего несколько лет «вовлечения» могут привести к коренному перерождению режима. Поэтому в целом новая жесткость Сеула с 2008 г., отказ практически от всех межкорейских договоренностей и проектов «либерального периода» (за исключением, пожалуй, Кэсонской промышленной зоны, функционирование которой выгодно для ряда мелких и средних компаний) вызвали лишь незначительную оппозицию в южнокорейском обществе. На историческую арену выходят новые поколения, не помнящие войну, и для них важнее не проблемы Севера и межкорейских отношений, а то, чтобы они не сказывались на повседневной жизни.
«Игра на обострение» с Пхеньяном – занятие нездоровое, так как северокорейцев легко спровоцировать на неадекватные действия. Прекращение Сеулом сотрудничества, заведомо нереалистичные требования «предварительной денуклеаризации» лили воду на мельницу пхеньянских «ястребов». Военная истерия легко раскручивается, а жертвой ее часто становятся невинные люди – такие, как забредшая в запретную зону северокорейских Алмазных гор южнокорейская туристка, которую в ноябре 2008 г. застрелила северокорейская пограничница. Это, понятно, вызвало крайне негативную реакцию в РК и повело к дальнейшему обострению ситуации.
Ужесточение политики Сеула совпало по времени и со сменой власти в Вашингтоне. Пхеньян, так и не договорившись ни о чем конкретном, несмотря на свои уступки (включая начало демонтажа ядерных объектов в 2007 г.), с уходящей республиканской администрацией утратил интерес к поиску компромиссов. После изрядно напугавшей руководство болезни Ким Чен Ира (предположительно, инсульта или диабетического криза в августе 2008 г.) консерваторы в Пхеньяне убедили его в том, что диалог с Западом и уступки не помогут обеспечить безопасность и выживание режима, с врагами следует говорить «с позиции силы».
Содержанием новой силовой политики Севера стал отказ от поиска компромиссов с США, курс на конфронтацию с Вашингтоном и – особенно – с Сеулом в целях укрепления позиций в противостоянии с оппонентами и внутренней консолидации, а также реставрация кимирсеновских порядков и борьба с «отклонениями от социализма». «Консервативную контрреволюцию» подхлестнуло и нескрываемое злорадство противников, которые после болезни «полководца», по сути, открыто начали готовиться к падению режима. Это оказало психологическое воздействие на северокорейских лидеров, заставив их отказаться от проявлений доброй воли и уступок. Позднее роль сыграл и «ливийский урок», воспринятый в КНДР как пример вероломства Запада и сильнейший аргумент в пользу абсурдности добровольного «разоружения».
С начала 2009 г. из Пхеньяна послышались грозные заявления, в апреле последовал испытательный ракетный запуск. Осуждение его мировым сообществом использовалось для выхода КНДР из шестистороннего переговорного процесса по ядерной программе. Уже в мае Пхеньян произвел второй (после первого в октябре 2006 г.) ядерный взрыв, задуманный как мощный сигнал недругам. Последовали санкции ООН, к которым присоединился даже Китай, и попытки внешней изоляции.
Однако худшее было впереди. В 2010 г. холодная война чуть не сорвалась в горячую. В марте 2010 г. в спорных водах Желтого моря был затоплен южнокорейский корвет «Чхонан». Сеул на основе проведенного вместе с союзниками расследования обвинил в этом КНДР. Заметим, что группа российских специалистов, принявшая участие в экспертизе по просьбе Ли Мён Бака, не смогла поддержать этот вывод, а Китай и вовсе проигнорировал аргументы «международной комиссии».
Случай, конечно, трагический, но, к сожалению, не единичный из-за давнего территориального спора в Желтом море. Разграничительная линия, проведенная американо-южнокорейской стороной после войны в одностороннем порядке, не согласована с КНДР и не признается ею. Перестрелки и конфликты тут происходят постоянно – всего за полгода до гибели «Чхонана» южнокорейские военные обстреляли северокорейский корабль, который, по их официальному сообщению, «удалился, объятый пламенем» (скорее всего, тоже не обошлось без жертв).
Однако именно инцидент с «Чхонаном» был использован для того, чтобы оказать беспрецедентное давление на Север. Похоже, что в Вашингтоне и Сеуле поверили в собственные оценки, свидетельствовавшие, что Пхеньян вот-вот падет, и нужен лишь толчок в виде внешнего давления плюс «отрыв» КНДР от поддержки Китая. Пекину в связи с отказом от осуждения Северной Кореи в этом эпизоде Соединенные Штаты прямо угрожали «последствиями», в том числе в плане наращивания своего военного присутствия вблизи китайских границ. На Китай это произвело прямо противоположное действие – он подчеркнуто усилил поддержку соседа, демонстрацией чего являются три визита Ким Чен Ира в Китай на протяжении двух лет.
Пхеньян использовал конфронтацию для закручивания гаек, мобилизации перед лицом военной угрозы, которая вдруг стала зримой. «Беснования марионеток» доказывали правоту линии «сонгун» – армия превыше всего – и давали дополнительную легитимность власти. Северокорейцы не только не стали вести себя тише, но наоборот, начали наращивать давление на противников, уже вовсе не стесняясь в средствах.
Кульминацией стал артобстрел пограничного острова Ёнпхендо в ноябре 2010 г. – первый подобный инцидент в послевоенное время, повлекший человеческие жертвы. Поведение северян не может быть оправдано, хотя они и ссылаются на то, что их спровоцировали южане, не нашедшие, несмотря на предостережения, лучшего места для артиллерийских учений. Южнокорейцы решили продемонстрировать военную мощь, заговорили о готовности к «беспощадному ответу», начались почти ежедневные маневры совместно с американцами. В декабре размах учений к югу от демилитаризованной зоны заставил, похоже, пхеньянское руководство воспринимать происходящее как реальную подготовку к вторжению. Северокорейцы воздержались от эскалации в ответ на очередные явно провокационные учения – что привело сеульских стратегов к ложному заключению о том, что те, мол, «испугались», что наконец-то на непокорный Север найдена управа. Такое заблуждение весьма опасно, и может еще привести к непредсказуемым последствиям.
Тем не менее в начале 2011 г. ситуация несколько стабилизировалась. Осознав, что «конец света» в Северной Корее в очередной раз откладывается, американцы и южнокорейцы (в чем-то под давлением первых) стали искать возможность, не теряя лица, все же пойти навстречу Пхеньяну. В США задумались о пересмотре политики «стратегического терпения» (отказ от диалога и санкции), заговорили о необходимости возврата к прямому обсуждению ядерной проблемы. Символический жест – возобновление продовольственной помощи. В Южной Корее вынуждены искать возможность, не отступая от принципиальных требований к Северу («извинений» за прошлогодние вооруженные акции, безусловной денуклеаризации, что выглядит абсолютно нереальным) все же отказаться от полного неприятия инициатив Севера.
Однако главный вопрос, который ни в Вашингтоне, ни в Сеуле не решен – надо ли продолжать делать ставку на смену режима в Пхеньяне или согласиться на сосуществование с ним (хотя бы временное)? Поэтому однозначного ответа на вопрос о будущем Корейского полуострова пока попросту нет.
Ветер перемен или медленный прилив?
Прежде чем анализировать перспективы перемен в Северной Корее и во многом зависящих от них перемен на полуострове в целом, необходимо уяснить, что КНДР (в ретроспективе) – уникальное, пожалуй, не имеющее аналогов в современном мире государственное образование. Это своего рода феодально-теократическая восточная деспотия, основанная на идеологии национальной исключительности, страна, организованная как военизированный «орден меченосцев» на распределительной командно-административной экономической основе. В последней редакции северокорейской Конституции, принятой в апреле 2009 г., отсутствует понятие «коммунизм», а сочетание «чучхе – сонгун» стало основополагающей государственной идеологией.
И это не просто пропаганда: «сонгун» (милитаризация страны) предельно откровенно отражает воззрения пхеньянского руководства. Силу можно победить только силой, считают в Северной Корее, и эту силу наращивают. После иракских, афганских, ливийских, сирийских событий, рейда «морских котиков» в Пакистан для убийства Бен Ладена такие взгляды уже не кажутся запредельно экстремистскими.
Поэтому возможный процесс перемен в КНДР вряд ли напоминал бы традиционную «гласность и перестройку» в соцстранах или дэнсяопиновские реформы. В последние годы руководство вынуждено уделять все больше внимания «строительству процветающей державы», повышению уровня жизни народа, хотя главное – не допустить ослабления власти и не дать внешним силам расшатать режим. В этих целях не исключены вынужденные послабления в экономике, что для большинства населения важнее всего. Пусть это может быть воспринято широкой публикой с недоверием, но процесс «поиска северокорейского пути» уже исподволь начался – пока что в темпе «два шага вперед, шаг назад».
Наблюдения показывают, что в современной КНДР идеология все больше отрывается от реальной жизни людей. Трескучая пропаганда практически не изменилась с 1960-х гг., но все чаще воспринимается обывателем как «белый шум», успокаивающее свидетельство того, что в государстве все неизменно. Большинство северян мало знают о внешнем мире и не думают бросать вызов «диктатуре», немногочисленных инакомыслящих быстро отлавливают и нейтрализуют (иногда физически).
Надо понимать, что КНДР создана по рецептам сталинизма на базе традиционного общества и на обломках политической системы феодальной Кореи, страдавшей под жестоким колониальным режимом японцев. В условиях закрытости население просто не воспринимает «либеральные ценности». И хотя на низовом, микроэкономическом и бытовом уровне жизнь реально меняется, потребность в модернизации политической системы отсутствует.
Однако процесс развивается нелинейно. После распада СССР и прекращения советской помощи, а также ряда природных катаклизмов распределительная плановая экономика потерпела крах. Как спасение от голодомора 1990-х стала развиваться стихийная рыночная экономика. Репрессивный режим контроля над народом тоже стал давать сбои. В страну начали проникать не только импортные товары (показывающие северокорейцам всю глубину их экономической отсталости), но и западные идеи, массовая культура (в том числе южнокорейская). Да и китайские уроки опасны – это «вредный» образец отказа от жесткого контроля над обществом и сворачивания монополии руководства на политическую истину.
В беспрецедентном кризисе 1990-х и нулевых годов народ выживал сам (к сожалению, не всем это удалось). Власти просто закрывали глаза на «нарушения социалистических принципов», в том числе благодаря расцвету коррупции на нижнем и среднем уровне госаппарата. Однако в какой-то момент престарелое руководство почувствовало растущую угрозу власти. После создания «ядерного сдерживателя» и преодоления кризиса внешней безопасности, возникшего, когда страна лишилась советского «ядерного зонтика», была предпринята попытка обеспечить внутреннюю стабильность. Элиту, и особенно набравших невиданную силу военных, устраивал лишь жесткий контроль и «монолитная сплоченность». Делиться властью с зародившимся «серым» негосударственным сектором они оказались не готовы.
Линия на отказ от реформирования системы (робкие шаги по легитимации рыночной действительности были сделаны в 2002 г.) проявилась примерно с 2005 года. В связи с болезнью Ким Чен Ира и усилением враждебности со стороны Юга в 2008 г. северокорейские «ястребы» обрели решающее влияние. Острие удара направили против «буржуазных тенденций». «Решительной атакой» стала денежная реформа, предпринятая в ноябре 2009 г. – замена дензнаков с ограничением суммы обмена. Эти меры зарубежные аналитики единодушно охарактеризовали как «грабительские», направленные на ликвидацию «среднего класса» – то есть лиц, научившихся в голодные 1990-е гг. получать доход вне парализованного государственного сектора. Реформа разом лишила накоплений более или менее состоятельных граждан и подрубила основы негосударственного сектора в экономике.
Результаты оказались предсказуемо катастрофическими: столкнувшись с остановкой экономики и массовым отторжением со стороны населения, власти отступили. Попытка «повернуть время вспять» с треском провалилась. Однако послабления происходят как бы негласно, про реформы никто и не заикается. Разработать их толковую стратегию нынешние престарелые идеологи не в состоянии, даже если бы захотели. Но и желания нет – оно напрочь отбито боязнью разбалансировки политической системы.
Тем не менее, часы назад не пойдут. Сегодня рыночный сектор и рыночные отношения не только отвоевали свои позиции, на которые в прошлом году покусились консерваторы, но и значительно расширили их. Экономическая действительность в КНДР разительно отличается ныне от распределительной уравниловки прошлого века, похоже, «точка невозврата» пройдена. Государственная промышленность (за исключением разве что оборонного сектора) практически стоит. Рабочие правдами и неправдами зарабатывают на жизнь торговлей на рынке, челночеством, кустарным производством, а кто-то – более серьезным бизнесом. Возник достаточно многочисленный класс торговцев и обслуживающая их инфраструктура – системы закупок за рубежом, полуконтрабандный экспорт, розничная рыночная торговля, частный сервис.
Информация «изнутри» свидетельствует о сращивании «новых корейцев» с номенклатурой и правоохранителями среднего уровня – система взяток позволяет передвигаться по стране, создавать и поддерживать бизнес, арендовать площади, покупать транспортные средства, оборудование и даже недвижимость. Главное отличие от постсоветского периода в России – жесткое ограничение организованного криминала – представители власти не собираются делиться своей монополией на рэкет.
Одновременно фактически происходит постепенная «приватизация» госсобственности – пока что от имени организаций, связанных с партийными инстанциями, центральными и местными властями, военными органами, спецслужбами. Для Северной Кореи, где целые подразделения ЦК, вооруженных сил и разведки десятилетиями занимаются разного рода сомнительными операциями с международным размахом – от оружейного бизнеса до наркотиков, финансовых махинаций по всему миру – это, в общем, не потрясение основ. При всех ведомствах и организациях создаются разного рода фирмы и конторы, занимающиеся настоящим рыночным бизнесом – от внешней торговли до бытового обслуживания населения. (Количество очень неплохих ресторанов, магазинов и лавок, парикмахерских и саун в Северной Корее растет как на дрожжах, особенно после провала денежной реформы.). В ходу и доллары, и евро, определенная стабилизация курса национальной валюты – воны, похоже, имеет результатом и ее использование в качестве рыночного платежного инструмента.
Народ определенно стал жить лучше, чем в 1980-е и тем более 1990-е годы. Однако резко возросло расслоение. Наряду с весьма обеспеченными гражданами появились люмпенские слои и целые районы (особенно на севере, где условия для сельского хозяйства не очень благоприятны, и в депрессивных индустриальных центрах), где люди буквально умирают с голоду. Дело не в дефиците продовольствия, а в отсутствии денег, чтобы его купить – и в этом Северная Корея стала напоминать не «реальный социализм», а беднейшие страны Африки.
Следует заметить, что именно свидетельства несчастных, бегущих от голодной смерти, куда глаза глядят, чаще всего становятся основным источником информации о Северной Корее, отсюда и апокалиптические ожидания. Конечно, поменяться местами с северокорейцами вряд ли кто захочет, страна живет в страхе и бедности. Но и оснований рассчитывать на то, что режим в КНДР в скором времени рухнет, не намного больше, чем ранее. Тем более с учетом того, что Китай этого просто не допустит.
Решающее значение внешних условий
Чего же ждать? Если исключить рассмотренные выше катастрофические сценарии, так или иначе власть останется в руках разветвленного клана Кимов и их приближенных, даже если с прямым престолонаследием произойдет сбой. С глубоко эшелонированной системой управления правящего класса, повязанного тысячами родственных и дружеских нитей, придется считаться всем претендентам на лидерство, даже если на повестку дня встанет возможность замены верхушки. Любому новому руководству придется опираться на выпестованную десятилетиями по «признаку крови» многотысячную номенклатуру, в которой случайных людей нет. В силу особенностей доступа к информации и системы образования ей нет альтернативы.
А дальше возможны варианты – и в первую очередь они будут зависеть не от появления «корейского Горбачёва», а от внешних обстоятельств – того, сможет ли обновленный режим добиться международного признания, или конфронтация продолжится.
В случае углубления ядерного кризиса, ужесточения международных санкций, усугубления политики изоляции КНДР сохранит свою закрытость и продолжит противостояние внешнему миру. Страна накопила уникальный опыт длительного существования в изоляции разной степени жесткости. Кредо – ничего не менять. Рыночные отношения никуда не денутся, но и прогресса не будет. Расчет на внутренние оппозиционные движения необоснован – всякое диссидентство жестоко подавляется, условий для его становления нет. Такой застойный вариант наиболее безопасен для элиты.
Остается надежда (правда, почти призрачная) на то, что реализм в столицах противников Пхеньяна возобладает и следующему поколению северокорейских руководителей удастся найти компромисс с мировым сообществом. Ведь в отличие от исламистов, в войну с которыми все больше втягивается Запад, реальной угрозы КНДР ни для кого (за исключением собственного населения) уже не представляет. А в случае «замирения» с США и Югом послабления выйдут и народу.
Теоретически говоря, при условии внешнеполитической стабильности нет непреодолимых препятствий для постепенных экономических реформ в направлении эволюционной модели трансформации и «госкапитализма». Это – «китайский путь» с поправкой на важность сохранения (в интересах недопущения брожений) закрытости даже при разрешении (для начала молчаливом) развития рыночных механизмов. Рынок, правда, ущербный, может работать и без внешней либерализации. В итоге в стране достижимо формирование относительно конкурентоспособной смешанной экономики на основе международного разделения труда (в первую очередь опирающейся на ресурсную базу и трудовой капитал) при минимальных покушениях на «суверенную автократию».
А как же идеология? «Чучхе» (кстати, сам термин изобретен отнюдь не коммунистами, а корейскими националистами) – доктрина довольно гибкая, она говорит главным образом о том, что надо все делать самостоятельно, не впадая в зависимость от других. Идеи коммунистического эгалитаризма были привнесены позднее – впрочем, население знает, что они всегда оставались на бумаге. Так что, как мне кажется, обновленный режим в принципе способен модернизироваться на основе корейского национализма и восстановления общения с южным соседом. Формирующийся из «канбу» (кадров) предпринимательский класс (олигархизация номенклатуры) мог бы, при безусловной лояльности политическому руководству, стать двигателем экономических перемен. Через 10–15 лет Северная Корея способна продвинуться по пути реформ, вероятно, в не меньшей степени, чем нынешние Камбоджа или Вьетнам.
Если фантазировать дальше, то мировое сообщество (при известном недовольстве Южной Кореи и Соединенных Штатов) все же могло бы дать гарантии безопасности Пхеньяну, которые сделали бы излишними ядерное оружие и другое оружие массового уничтожения. Подобно Южной Африке, будущее северокорейское руководство было бы способно отказаться от ОМУ. Однако для этого надо сделать первый шаг – дать нынешнему режиму шанс, поощряя реформы, предоставив гарантии безопасности и невмешательства.
Даже не заглядывая так далеко вперед, ясно: России невыгодно враждовать с соседом, какую бы аллергию режим ни вызывал в общественном мнении. Кровь и беды, с которыми было бы связано насильственное объединение Кореи, вряд ли можно оправдать будущим (не очень скорым) процветанием и даже перспективами сотрудничества России с дружественным, нейтральным и влиятельным государством (кстати, которое было бы балансиром по отношению к Китаю и Японии). Не говоря уже о таком сценарии, когда союз единой Кореи с США сохранится, а на корейской границе с Россией (и Китаем, которого, впрочем, такая опасность заботит куда больше) окажутся американские войска.
Как мне кажется, в основе российской политики должна оставаться линия на предотвращение «слома» стабильности, поощрение примирения КНДР и с Югом, и с Америкой, и с Японией в целях нормализации ситуации в соседнем регионе и создания возможностей для реализации двусторонних и многосторонних экономических проектов. В последнее время (в отличие от ситуации двухлетней давности, когда они демонстрировали «обиду» за участие России в санкциях) северокорейцы проявляют готовность к улучшению отношений, в том числе и потому, что видят в нашей стране влиятельного игрока, элемент баланса в отношениях с Соединенными Штатами и Китаем. Такое наше понимание стоило бы и более настойчиво доносить до южнокорейцев – ведь не враги же они сами себе, чтобы рисковать с трудом достигнутым благополучием ради эфемерных идей.
Г.Д. Толорая – доктор экономических наук, профессор, директор корейских программ Института экономики РАН, вице-президент Фонда «Единство во имя России».
Парижский меморандум обновил списки флагов. Как указано в сообщении Меморандума, за период с 2008-2010 из 1965 случаев инспекции судов под российским флагом 80 привели к задержанию. Новые списки вступят в силу с 1 июля 2011.
В новый "серый" список попали 24 флага (против 19 год назад). Новые страны в "сером" списке: Египет, Вьетнам, Доминикана, Словакия, Ямайка, Гондурас, Белиз и Монголия.
В "белый список", это качественные флаги, вошли три новых флага, и общее число составило 42 флага. Самые лучшие показатели - у флага Бермудских островов. Среди наиболее качественных флагов - Германия, Швеция, Великобритания и Нидерланды.
Россия по итогам 2010 остается в "белом" списке Парижского меморандума.
Лучшими регистрами являются Registro Italiano Navale - RINA, American Bureau of Shipping - ABS и Det Norske Veritas - DNV. Худшими - Phoenix Register of Shipping - PHRS (Греция); Register of Shipping - RSA (Албания); International Register of Shipping - IS (США); and Bulgarski Koraben Registar - BKR.
"Черный" список уменьшился на 6 позиций - в него входят 18 государств флага вместо 24 годом ранее. Самыми низкими показателями безопасности мореплавания обладают суда под флагами КНДР, Ливии, Того, Сьерра-Леоне и Черногории. Новые страны в "черном" списке - Объединенная Республика Танзания и Азербайджан.
Суда под флагами стран, попавших в "серый" и "черный" списки, будут подвергаться более строгим проверкам.
Вьетнам за пять месяцев 2011 года посетили более 2,5 миллионов иностранных туристов. По сравнению с аналогичным уровнем прошлого года рост этого показателя составил 18%.
В основном туристический поток был сформирован за счет туристов из Камбоджи – 75,2%, Китая - 49,6%, Малайзии – 18,1%, Японии – 12,8%, Франции – 9,4%, Австралии - 8,2% и Соединенных Штатов Америки – 4%.
Россиян пока нет в списке часто посещающих страну, однако, по мнению экспертов в сфере туриндустрии, Вьетнам в 2011 году уже вошел в число направлений, к которым российские туристы начали проявлять все более повышенный интерес.
Совместная российско-вьетнамская компания "Русвьетпетро" до конца 2011 года добудет первые 200 тысяч тонн нефти на месторождении Висовое на Центрально-Хорейверском поднятии (ЦХП) в Ненецком автономном округе, сообщила РИА Новости представитель компании.
"В сентябре 2010 года "Русвьетпетро" запустило в эксплуатацию первое месторождение ЦХП - Северо-Хоседаюское имени А. Сливки. На втором месторождении - Висовом - промышленная добыча нефти начнется во второй половине лета 2011 года. Здесь до конца года будет добыто около 200 тысяч тонн. Всего на двух месторождениях в 2011 году компания планирует добыть более 1,5 миллиона тонн", - сказала она.
Северо-Хоседаюское нефтяное месторождение стало первым из 13 осваиваемых компанией в Ненецком автономном округе месторождений. Месторождение относится к категории средних, извлекаемые запасы нефти по категории С1 составляют 22,1 миллиона тонн.
Собеседник агентства сообщила, что следующим месторождением, которое компания будет вводить, станет Западно-Хоседаюское месторождение имени Садецкого.
Транспортировка нефти будет осуществляться по новому межпромысловому нефтепроводу "Северное Хоседаю - Мусюршор" протяженностью 96 километров и далее по магистральному нефтепроводу "Транснефти".
ООО "Совместная Компания "Русвьетпетро" было зарегистрировано в 2008 году. Доля вьетнамской госкомпании PetroVietnam в СП составляет 51%, 49% принадлежит российской "Зарубежнефти".
"Русвьетпетро" реализует в НАО программу освоения лицензионных участков недр на четырех блоках ЦХП, которые включают в себя 13 месторождений: Северо-Хоседаюское, Висовое, Верхнеколвинское, Западно-Хоседаюское, Сихорейское, Восточно-Сихорейское, Северо-Сихорейское, Северо-Ошкотынское, Сюрхаратинское, Урернырдское, Восточно-Янемдейское, Южно-Сюрхаратинское и Пюсейское. Их совокупные запасы составляют порядка 95 миллионов тонн (С1+С2).
В соответствии с лицензионными соглашениями, "Русвьетпетро" за 20 лет должна пробурить восемь поисковых, 19 разведочных и около 300 добывающих скважин.
"Зарубежнефть" уже работает с PetroVietnam в рамках совместного предприятия "Вьетсовпетро" на месторождениях на шельфе юга Вьетнама
Заместитель председателя совета директоров Общества обувной промышленности Али Лашгари в интервью агентству ИСНА заявил, что обувная промышленность страны, в которой занято около 1 млн. человек, нуждается в государственной поддержке, в частности в снижении или отмене некоторых налогов.
Али Лашгари отметил, что импорт обуви не может причинить ощутимого ущерба отрасли, однако важно, чтобы у производителей не возникали другие проблемы, такие как рост цен на сырье и многочисленные налоги.
По словам Али Лашгари, на сегодня стоимость сырья достигла 39,2% цены готовой продукции, а это ведет к повышению конченой стоимости обуви.
Рост цен на сырьевые материалы создает проблемы прежде всего для производителей, поскольку они не могут сократить свои производственные расходы и, вместе с тем, поставлять продукцию на рынок по цене ниже ее реальной конечной стоимости.
Али Лашгари напомнил, что в настоящее время объем производства обувной продукции превышает внутренние потребности страны и правительство, взяв на себя определенные обязательства, может положить конец импорту некачественной китайской обуви.
Иранцы уже поняли, что китайская обувь не отличается высоким качеством, и отказываются ее покупать. На иранский рынок китайская обувь попадает контрабандным путем. Что касается импорта обуви, то сегодня по официальным каналам названная продукция поставляется из Турции, Вьетнама и некоторых стран Восточной Азии.
Али Лашгари сообщил, что иранская обувь экспортируется в такие страны, как Афганистан, Ирак, Объединенные Эмираты и Саудовская Аравия, и подчеркнул, что иранские обувщики планируют производить продукцию, соответствующую европейским стандартам, чтобы начать ее поставки и в страны Европы.
4 июня под грохот орудийных залпов в состав ВМС США вступил новейший эскадренный миноносец William P. Lawrence, ставший 60-м по счету кораблем класса Arleigh Byrke. Корабль был построен на верфи компании Huntington Ingalls Industries в Паскагоуле на побережье Мексиканского залива. Церемония под душным полуденным солнцем прошла в Мобайле (штат Алабама).
Назначенный недавно вице-председателем Комитета объединенных начальников штабов ВС США адмирал Джеймс Виннефельд (James Winnefeld) выступил с речью на церемонии ввода корабля. «USS Lawrence отныне не только в ваших руках, он сейчас стал частью вашего ДНК. Заботьтесь о нем», сказал он, напутствуя экипаж. Корабль был назван в честь морского летчика, ныне покойного вице-адмирала Уильяма П. Лоуренса, который во время вьетнамской войны был сбит и провел почти шесть лет в плену в печально известном лагере «Ханой Хилтон». Эсминец водоизмещением 9200 т будет использоваться для оказания гуманитарной помощи, борьбе с перевозчиками наркотиков и пиратами, в военных действиях.
Экипаж корабля составляет 280 человек. На церемонии присутствовали тысячи морских офицеров, ветеранов и членов их семей, просто зрителей. Матросы побежали по правому трапу корабля и заняли места на палубе, в это время над их головами молнией пронеслись два истребителя F-18.
С речью выступил конгрессмен-республиканец Джо Боннер (Jo Bonner), который, как и Уильям П. Лоуренс, является заслуженным узником войны во Вьетнаме, затем служил начальником Военно-морской академии. Толпа устроила ему овацию. «В мирное время и в дни конфликта этот корабль и его экипаж будут служить приверженности Америки к свободе, миру и надежде у себя дома и во всем мире», заявил конгрессмен.
Корабль в течение 3,5 лет строили 650 человек. 13% из них живут в округах Мобайл и Болдуин. Начальник приемной комиссии, житель Мобайла Норман Темз (Norman Thames), наблюдая за церемонией, заявил: «Это было одним из величайших чувств, которые я когда-либо испытывал. Я горжусь матросами, которые будут служить на корабле. Мое сердце и кровь переходят в этот эсминец. Пот, слёзы, всё», сказал он.
Официальный Берн прекращает ведение двусторонних диалогов с зарубежными странами по вопросам соблюдения прав человека. Вместо этого правочеловеческая тема будет интегрирована во все основные тематические досье швейцарского МИД. Тем самым страна совершает резкий поворот в рамках своего внешнеполитического курса.
Напомним, что используя формат двустороннего диалога, который считался «краеугольным камнем политики Конфедерации в области прав человека», Швейцария пыталась мотивировать такие «трудные» страны как Иран, Китай или Вьетнам воспринять у себя и хотя бы частично реализовать западное понимание того, что называется «правами человека».
Теперь официальный Берн откажется от такой практики, которая, как говорится в официальном коммюнике швейцарского внешнеполитического ведомства (Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten - EDA), была «слишком сфокусирована на изменении нормативных стандартов в отдельных странах». Данный курс, «по причине ограниченности критериев оценки, слабо учитывал как особые условия в той или иной стране-партнере, так и характер актуальных процессов (общественного) развития».
Кроме того, указывает швейцарский МИД, «такой изолированный формат поддержки прав человека в зарубежных странах все очевиднее оказывался под угрозой маргинализации». Отказ же от его использования «усилит швейцарскую политику в области прав человека, так как этот вопрос будет… интегрирован во все сферы швейцарской внешней политики в целом».
Ограниченный успех
Многие наблюдатели и эксперты, включая депутатов национального парламента, проанализировали данный поворот швейцарской дипломатии более коротко и ясно: разговоры о правах человека никаких конкретных результатов не приносят. Есть, впрочем, и одобрительные голоса, которые подчеркивают, что новый курс позволит швейцарским дипломатам более широко учитывать тематику прав человека в своих повседневных контактах в странах их пребывания.
Депутат Национального совета (большой палаты швейцарского парламента) от партии либералов (FDP) и член парламентской комиссии по вопросам внешней политики Дорис Фиала (Doris Fiala) указывает, что итог работы швейцарской дипломатии в области прав человека можно назвать «удручающим». По ее мнению, решение EDA об отказе от формата двустороннего диалога опирается на тот факт, что такая политика не смогла оказать ровным счетом никакого влияния на такие страны, как Китай или Иран. «Недопустимо, когда над тобой просто смеются», – заявила депутат в интервью агентству SDA.
По мнению другого члена парламентской комиссии по вопросам внешней политики, представителя консервативной Швейцарской народной партии Кристофа Мёргели (Christoph Mörgeli), слова EDA о том, что такое решение, де, только укрепит политику Швейцарии в области прав человека, являются «попыткой завуалировать факт полного провала (внешней политики Швейцарии в области прав человека)».
Адриен-Клод Цоллер (Adrien-Claude Zoller), директор влиятельной швейцарской неправительственной организации «Geneva for Human Rights», придерживается иного мнения. В интервью швейцарскому новостному порталу swissinfo.ch он заявил, что такого рода перемены в швейцарской внешней политике являются шагом в сторону еще большей консолидации усилий, предпринимавшихся ранее Швейцарией в области прав человека.
«Я не усматриваю тут никакого провала», – считает А.-К. Цоллер, – «Все страны, большие или маленькие, имеют с Китаем по сути одни и те же проблемы. Все хотят вести с Китаем диалог, однако Китай вести диалог просто не хочет».
Консолидация
По его мнению, интеграция правочеловеческой темы во все основные тематические досье швейцарского МИД означает наступление «второй фазы программы, на основе которой Швейцария в последние десять лет усиленно продвигала на международной арене свое понимание прав человека».
«Швейцария очень удачно структурировала эту программу вокруг нескольких сильных идей. В EDA есть специально обученные дипломаты, которые прицельно занимаются поддержкой прав человека в определенных странах», – указывает А.-К. Цоллер. – «И если всё, что до сего дня было Швейцарией сделано в области прав человека, – а многое было сделано очень даже хорошо, – будет теперь интегрировано в глобальную внешнюю политику страны, включая и экономическую политику, то это был бы очень интересный проект».
Влиятельный швейцарский дипломат в отставке Франсуа Нордманн (François Nordmann) заявил в интервью порталу swissinfo.ch, что импульсом для правительства к изменению своей политики в области прав человека послужили многие проблемные вопросы, в том числе и «конкуренция» с Европейским союзом. «Долгое время права человека рассматривались в качестве абсолютного приоритета в рамках внешней политики. Но теперь, наконец, всем стало ясно, что права человека являются только одним из измерений дипломатии», - указал Ф. Нордманн.
Многосторонняя дипломатия
Он убежден в том, что решение отказаться от формата двустороннего диалога по правам человека позволит Швейцарии сконцентрировать свои усилия на работе в соответствующих структурах многосторонней дипломатии, например, в Совете ООН по правам человека, а так же усилить партнерские связи с ЕС. «Речь идет о консолидации усилий с тем, чтобы теснее работать вместе с ЕС, обладающим значительно большей, чем Швейцария, критической массой, и с тем, чтобы налаживать новые партнерские отношения в рамках швейцарской многосторонней дипломатии, развитию которой, в том числе и в правочеловеческом аспекте, мы должны теперь уделять гораздо больше внимания».
«Несмотря на свои скромные размеры Швейцария активно участвует (в международных процессах защиты и поддержки прав человека), принимая смелые решения, имеющие положительное влияние на Совет ООН по правам человека в плане повышения его эффективности и степени прозрачности работы», - указывает Адриен-Клод Цоллер. - «Многие страны охотно уже переняли этот опыт, и теперь речь идет о том, удастся ли Швейцарии запустить теперь всю эту проблематику в форме единого целого».
Он подчеркнул так же роль, которую сыграла Швейцария, в частности, в процессе замораживания диктаторских капиталов на счетах в банках Швейцарии. А одно только открытие в Тунисе представительского офиса швейцарской Дирекции по сотрудничеству и развитию (Deza) в значительной степени повлияло на улучшение ситуации с правами человека в этой стране.
«Ситуация с Тунисом показывает, что права человека являются неотъемлемой частью внешней политики. Те цели, которые преследует своим решением EDA, уже реализуются в Тунисе. И я думаю, что это весьма позитивное развитие», – резюмирует А.-К. Цоллер.
Сейджи Кусано – шеф-повар двух московских ресторанов (паназиатского Гинкго и японского «Сейджи»), главный адепт японских гастрономических традиций в Москве.
Он пригласил представителей команды WEj в святая святых – на кухню ресторана Ginkgo – и поведал, в чем секрет долголетия жителей Страны восходящего солнца.
Паназиатская кухня объединяет китайскую и индонезийскую, японскую и корейскую, вьетнамскую и малайзийскую, филиппинскую и тайскую кухни, в некоторых интерпретациях в этот список включается еще и индийская. Каждый из этих гастрономических миров достоин отдельного описания, ведь в одном только Китае более десяти независимых кулинарных традиций. Но при всем разнообразии нередко противоречащих друг другу региональных вариантов термин «паназиатская кухня» все же уместен. Можно выделить некие общие черты, присущие всем азиатским кухням. Но главное – это само отношение к еде и установка, что еда полезна, она предназначена не столько для насыщения, сколько для здоровья.
Когда речь заходит о японской или другой азиатской кухне вне ее родины, я выступаю за адаптацию. Японская кухня представлена сегодня во многих странах мира, и знакомство с нашими традициями – это безусловно хорошая тенденция, но в каждой стране она приобретает местные черты и особенности.
Ведь вкус – вещь индивидуальная, кто-то предпочитает сладкое, кто-то – острое. А то, что является истинно японской кухней – васеку, вряд ли понравится кому-то кроме японцев. А потому адаптация к местности – наиболее верный и рациональный способ ее внедрения, ведь в меру различных образов жизни и различных природных богатств европейский и японский желудок тоже различны.
Сам я с удовольствием ем разные национальные блюда, очень люблю итальянскую, французскую, русскую кухни. Но в каждом случае у меня есть желание чуть-чуть адаптировать ее под мой личный вкус. Рецепт любого блюда – это не закон. Важно, чтобы данное конкретное блюдо понравилось конкретному человеку. И он мог бы немного изменить его вкус под себя. Я считаю, что нет непреложных правил, – есть образцы, да и только.
О японской кухне существует распространенное заблуждение. Дело в том, что роллы «Калифорния»
и «Филадельфия» – не японские блюда. В Японии никогда не было большого количества разных роллов, увеличение их разнообразия – дело рук американцев. Но за основу они, конечно, взяли принципы приготовления японских роллов, по сути это была адаптация. Базовое отличие японской кухни от европейской заключается в том, что в Японии стремятся донести вкус центрального ингредиента, а остальные компоненты призваны оттенить его и подчеркнуть особенности местности и сезона. Есть ингредиенты, которые могут использоваться только неделю за год, а некоторые всего пару раз! Основа основ японской кухни – супы. Хороший повар может приготовить несколько сотен разных супов с учетом сезона и местности.
Если говорить о напитках японской кухни – то это прежде всего пиво. На саке переходят уже после того, как каждый выпьет по бутылочке пива. Японцы относятся к последовательности разноградусных напитков совершенно спокойно. А виски, джин и ром к японским блюдам решительно не подходят. Сам я люблю иногда выпить водки, но никому не рекомендую пить ее в больших количествах.
Конечно, еда считается одним из секретов японского долголетия, но я, как повар, уверен, что кухня – это его главный секрет! Основной принцип японского здорового питания – есть понемногу, но стараться положить в свою тарелку как можно больше различных ингредиентов. В день нужно съедать 28-30 различных ингредиентов, из этого количества примерно 23 – это овощи, 2-3 вида морепродуктов и 2 вида мяса. В японской кухне принято использовать большое количество ингредиентов даже для украшения блюда, тогда как в европейской кухне на тарелке обычно можно увидеть мало разнообразия – котлету и гарнир, например.
Крайне важно не наедаться досыта и никогда не переедать. Недостаток пищевой культуры россиян в том, что они очень много едят перед сном и любят поесть сытно.
РЕСТОРАН «ГИНКГО»
В ОТЕЛЕ THE RITZ-CARLTON, MOSCOW
Японский повар Сейджи Кусано, заручившись поддержкой международной команды поваров, специально для ресторана «Гинкго» создал оригинальную паназиатскую концепцию. Центральное место в ней отведено японской кухне в авторской интерпретации Сейджи -сана.
В «Гинкго» паназиатская кухня сочетается с эффектным западным интерьером: мраморный пол, потолки головокружительной высоты, стеклянные стены, открывающие великолепный вид на Тверскую улицу, обилие света – все это превращает «Гинкго» еще и в удобную площадку для проведения деловых и светских мероприятий.
РЕСТОРАН «БО»
В основу концепции ресторана легло главное буддийское предание, согласно которому индийский принц Сиддхартха Гаутама после многолетней аскезы и странствий достиг высшего просветления. Поэтому, собственно, его и стали называть Буддой. Это его преображение, как гласит легенда, случилось под деревом Бо, растущим на острове Цейлон. Буддисты всего мира считают Бо чудодейственным деревом, символом мудрости и благополучия. Огромная позолоченная голова Будды встречает гостей при входе в фойе ресторана. Благодаря осмысленной наполненности интерьера и сложной системе освещения «Бо» получился уютным и стильным заведением. Что касается еды, ресторан предлагает нетривиальный подход к азиатской кухне: кулинарные тенденции Японии, Сингапура, Китая, Таиланда, Индии и Кореи причудливо соединены с классическими европейскими блюдами. Для фьюжн-кухни ресторана «Бо» характерны использование свежей растительной пищи и авторские соусы, благодаря которым традиционные рецепты «звучат» по-новому.
РЕСТОРАН «НЕДАЛЬНИЙ ВОСТОК»
Паназиатский ресторан со своей гастрономической спецификой и интернациональной поварской командой. Интерьер оформляли художники из архитектурно-дизайнерского бюро Superpotato, место получилось и стильное, и практичное. Главные достопримечательности ресторана: открытая кухня, расположенная на ступень ниже пола основного зала, и ледяная витрина с морепродуктами, на которой выложены устрицы, мидии, вонголе, лобстеры и камчатские крабы. Эти последние родом с Сахалина, и им отведена главная роль в меню. Крабов готовят на воке, используют в приготовлении салатов, холодных и горячих закусок, роллов и даже супов.
РЕСТОРАН BAMBOOBAR
Местоположение этого ресторана, можно сказать, обязывает: BambooBar разместился в одной из высоток «района будущего» – московского Сити. И единожды побывав здесь, можно с полной уверенностью сказать, что престижный «локейшн» и заведение вполне друг другу соответствуют. Длина барной стойки – 12 метров, есть стеклянная винная комната, а шампанское здесь подают в старинных бронзовых чашах... И ничего удивительного, ведь оформлял BambooBar Сергей Третьяк – талантливый архитектор-дизайнер, в портфолио которого уже более десяти столичных ресторанов.
Ну а в меню изобилие: японские суши, китайские блюда на воке, бесчисленное количество различных дим-самов... Наиболее экзотические варианты пищи рекомендуем искать среди блюд вьетнамского, малазийского и тайского происхождения.
РЕСТОРАН «ТОМБО»
Концепция ресторана «Томбо» основана на японской, китайской и индийской традициях. Японской кухней здесь руководит шеф-повар Игорь Квон. Свои технологии он держит в тайне. Но в их эффективности легко убедиться, попробовав премьеру этого сезона – Фудзи Маки. Это авторский ролл с копченым угрем, лососем, авокадо, сыром Филадельфия и икрой Тобико. Китайское направление «Томбо» возглавляет шеф-повар Чeн Чжень, чей стиль отличает большое количество компонентов и традиционная многогранность вкусов. Его фирменное блюдо – радужная форель под соусом Та-Хе, приготовленная на пару и фаршированная тигровыми креветками, сладким перцем, молодым горошком, сладкой кукурузой и репчатым луком. За индийскую кухню отвечает шеф Судир Синг Чаухан. Он использует привезенные из Индии приправы, в его исполнении национальную специфику преобретает и речная форель, маринуемая в ореховой пасте, и цыпленок, запекаемый в печи с изюмом и орехами кешью.
РЕСТОРАН CHINA CLUB
В China Club есть на что посмотреть. Китайские комоды, французские кресла, диваны, обитые плюшем, пышные букеты из цветов и перьев... Декоратор Альбина Назимова создала потрясающей красоты интерьер, соединив европейскую роскошь и китайские раритеты. Получилось изысканно и вместе с тем уютно. Меню разрабатывалось по такому же принципу: гармоничное соседство западных и восточных традиций. Кухню ресторана возглавляет Эдди Чуа. Шеф-повар с внушительным опытом, он рекомендует азиатский салат с телячьим языком, кусочки сибаса с кисло-сладким соусом, куриную ножку по-филиппински и хрустящего тайского цыпленка с манго.
РЕСТОРАН «МИСАТО»
«Мисато» – трехъярусный ресторан высокой японской кухни, обладающий продуманной концепцией, главное ядро которой – аутентичность. Все декоративные элементы – интерьерные конструкции с использованием натурального камня и темного дерева, посуда и даже костюмы официантов – привезены из Японии. Но главное сокровище, которое удалось заполучить создателям проекта, – это, несомненно, Мунечика Бан – титулованный шеф-повар из Японии. Благодаря его мастерству ресторан может похвастаться оригинальным меню и нестандартными вкусовыми сочетаниями. Ну где еще можно попробовать креветочное мороженое «Эби» с выжимкой из панцирей омаров или творожный торт «Чиз то ичи го» с ягодным салатом и васаби-парфе?!
MR. LEE
На одном из базарчиков Сингапура ресторатор Аркадий Новиков нашел уникальную вещицу – миниатюру многоярусного буддийского храма. Из этой находки со временем выросла целая паназиатская концепция будущего ресторана Mr.Lee. Логично, что смыслообразующим элементом интерьера стала вышеупомянутая пагода. В целом декор этого места стал сочетанием роскоши, присущей классическим русским усадьбам XVIII века (кирпичная кладка в зале «Дракон», стеллажи с книгами в зале «Пагода», высокие потолки и концертные хрустальные люстры) и эффектных азиатских элементов (древние японские ширмы, деревянный дракон, стеклянная люстра в виде стеблей бамбука). Насыщенный вкус азиатских блюд оценили сначала австралийцы, потом европейцы и американцы, а сейчас азиатские кулинарные традиции претендуют на мировое признание. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в Mr.Lee пригласили шеф-повара из Австралии Джонатана Кертиса.
РЕСТОРАН «ТАН»
Ресторан «Тан» объединил тибетскую философию здорового образа жизни и древние традиции кулинарного искусства Китая. Уникальный совместный комплекс ресторан «Тан»- салон «Азия Бьюти Спа» обладает исключительными возможностями. Роскошные восточные spa-массажи, инъекции красоты, spa-уход за волосами, spa-маникюр, spa-педикюр, студия загара, бесплатный WiFi. Вечер или ночь, проведенные в роскошном интерьере с незабываемыми тибетскими массажами и изумительными блюдами императорского меню династии Тан, покорят воображение самых изысканных гурманов здоровой, вкусной и красивой жизни. Ресторан «Тан» дарит своим гостям маленькие радости и большие открытия, приятные сюрпризы и душевный комфорт. Объединив мудрость Тибета и кулинарное искусство Китая, шеф-повар ресторана Ли Чанг создает непревзойденные блюда под лозунгом «Красота-Вкус-Здоровье». Традиционные рецепты и выразительные соусы привлекут настоящих гурманов, а завораживающая банкетная подача – эстетов.
Помимо блюд китайской и японской кухни в ресторане представлены хиты европейской кухни.
Чтобы повысить собственную восприимчивость к изысканным оздоравливающим и тонизирующим блюдам ресторана «Тан», стоит предварительно как следует расслабиться в «Азия Бьюти Спа». Здесь практикуют древние китайские и тибетские техники, основанные на методике восстановления энергетического баланса при помощи точечного воздействия на активные точки тела, отвечающие за нормальное функционирование того или иного внутреннего органа. Кроме этого предлагают еще более сотни различных омолаживающих процедур. Аутентичность гарантируют специалисты из Тибета и Китая. Делают здесь и инъекции красоты, маникюр, доступны студия загара и спа, уход за волосами. Для косметического ухода за лицом и телом используют лучшие средства ведущих брендов.
«ШЕРАТОН ПАЛАС» ОТЕЛЬ, МОСКВА
Отель «Шератон Палас», расположенный на главной улице столицы, Тверской, – один из первых появившихся в Москве сетевых бизнес отелей. Открытый еще в 1993 году, он продолжает поддерживать самые высокие стандарты качества. Удачно было выбрано его местоположение: до гостиницы легко и быстро добираться из любого международного аэропорта, а поселившись здесь, вы оказываетесь в самом центре – в 30 минутах ходьбы от Кремля и Красной площади.
Провести переговоры или же отдохнуть после экскурсии можно в одном из ресторанов отеля: «Якорь», известный своим обширным морским меню от шеф-повара Даниэля Эгрето, «Владимир», изюминка которого – «русский стол», или японская кухня в «Пиано Баре & Лобби». К услугам организаций и компаний в «Шератон Палас» имеются семь залов для конференций и банкетов вместимостью до двухсот человек. Ну а если вы привыкли заботиться о своем здоровье даже в поездках, то сможете воспользоваться прекрасно оборудованным тренажерным залом в фитнес-центре отеля.
ГОСТИНИЦА RADISSON SLAVYANSKAYA
Бизнесмен в деловой поездке или праздный турист – любой респектабельный гость Москвы найдет в «Рэдиссон-Славянская» безупречный сервис и исключительные условия проживания. Этот отель находится в одном из самых привилегированных районов российской столицы – на площади Европы, на берегу Москвы-реки. Впрочем, деловым людям представляются здесь особые удобства. Удачное расположение, близость к выставочному комплексу «Экспоцентр на Красной Пресне» и огромный конференц-зал на 550 мест сделали «Рэдиссон» одним из самых привлекательных мест для проведения бизнес-мероприятий.
На базе Таможенного союза стран СНГ создается новое международное экономическое пространство Создание единого таможенно-экономического пространства – актуальная задача не только для постсоветских стран. Все ярче проявляется тенденция расширения экономического пространства, формируемого Таможенным союзом России, Белорусси и Казахстана (ТС), за счет стран, расположенных в весьма отдаленных регионах мира. Это обусловлено и всегда актуальной проблемой расширения рынков сбыта, и стремлением к не зависящим от доллара США инвестициям, и перспективой создания экономического блока, в котором было бы возможно достижение наименьшего уровня зависимости и от доллара, и от евро, от стратегических интересов ФРС и ЕЦБ, от США и ЕС.
МИМО ЕС
Страны – участницы Таможенного союза ведут переговоры о формировании зоны свободной торговли с Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ, в нее входят Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн); бельгийско-люксембургским таможенным союзом и Новой Зеландией. Планируется проведение аналогичных переговоров с рядом других государств.
Подобные тенденции оживляют механизмы согласования интересов государств, участвующих в существующих экономических блоках или стремящихся в перспективные. Министерство экономического развития России намерено изучать недавние предложения Европейской ассоциации свободной торговли о развитии сотрудничества с Россией, в частности о создании зоны свободной торговли РФ – ЕАСТ. Об этом еще в конце ноября 2009 года заявлял директор Департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ, руководитель российской переговорной делегации по линии ВТО Максим Медведков.Президент Швейцарской Конфедерации Ханс-Рудольф Мерц заявил о стратегической заинтересованности в создании такой зоны еще раньше, в сентябре 2009-го, после переговоров с Президентом России Дмитрием Медведевым. «Мы согласны с тем, что существует реальная возможность провести по линии ЕАСТ переговоры по соглашению о зоне свободной торговли с Россией. Мы к этому стремимся и очень этого хотим», – сказал тогда президент Швейцарии.
Понятно, что экономический потенциал ЕАСТ существенно «недотягивает» до потенциала всего ЕС. Но высшие руководители России не единожды упоминали, что многие в деловых и политических кругах ЕС стремятся увязать новое соглашение о партнерстве с РФ с уступками с ее стороны по многим важным внутри- и внешнеэкономическим вопросам. Тем временем ЕАСТ на фоне все более активной экспансии Евросоюза и США в Восточной Европе и на территории бывшего СССР (и во многих других регионах мира) заинтересована в «самосохранении» и, соответственно, в более активном взаимодействии со странами и территориями, не намеренными подчиняться интересам ЕЦБ и финансово-экономической политики ЕС в целом.
Премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг еще в 2007 году выступил за формирование общего рынка товаров, капиталов и услуг в составе России, Белоруссии, Украины и ЕАСТ. По его мнению, базовые экономические условия для этого есть. В 2008 и 2009 годах это предложение поддержали правительства других стран – членов ЕАСТ.
В июле 2009 года Максим Медведков (впервые со времени норвежской инициативы 2007-го) официально одобрил предложение Норвегии и ЕАСТ к России подписать соглашение о свободной торговле, «в котором также содержится взаимовыгодная инвестиционная составляющая».
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕБЮТ
С середины 1990-х годов Россия ежегодно заключает ряд соглашений с северными странами ЕАСТ, в частности о совместной защите биоресурсов Арктики и примыкающих к ней акваторий от промысловой экспансии компаний из стран ЕС и Северной Америки. В 2010-м подписано соглашение с Норвегией о разграничении спорных участков бассейна Баренцева моря и совместном освоении здешних ресурсов (эти воды богаты рыбой, а подо дном разведаны крупные запасы природного газа).
Страны – члены ТС ведут переговоры с ЕАСТ о формировании зоны свободной торговли с весны 2010 года.
Их окончание, по данным источников в переговорных делегациях, намечено уже на осень 2011-го. В феврале завершился очередной раунд этих переговоров в Женеве. По информации директора департамента внешнеэкономической деятельности МИД Республики Беларусь Валерия Садохи, уже согласовано около трети всех вопросов. Основные обсуждаемые вопросы: торговля промышленными и сельскохозяйственными товарами, постепенное устранение торговых барьеров, определение страны происхождения товаров, регулирование реэкспорта, стимулирование взаимных инвестиций, санитарные и фитосанитарные нормы, вопросы интеллектуальной собственности. Со стороны ЕАСТ делегацию возглавляет генеральный директор департамента Министерства торговли и индустрии Норвегии Ян Фарберг. В составе делегации ЕАСТ в переговорах участвуют около 50 экспертов.
Рынок государств – членов ТС очень интересен для ЕАСТ. Существует также встречный интерес со стороны Таможенного союза, и неудивительно, что ощутимо растет ввоз инвестиций, преимущественно – производственных, в страны ТС из стран ЕАСТ. Растет и товарный импорт в ЕАСТ из стран ТС.
В апреле состоятся новый раунд переговоров в Алма-Ате (Казахстан), следующий – в августе-сентябре опять в Женеве, и в ноябре в Минске планируется провести их завершающий этап.
ГЛОБАЛЬНЫЙ СПРОС
С конца ноября 2010 года ТС начал переговоры о свободной торговой зоне с Новой Зеландией. Проблематика их аналогична.
Предполагается, что и эти переговоры могут завершиться осенью 2011-го. Старт им дали заключенные 13 ноября 2010 года в Йокогаме соглашения между Президентом России Дмитрием Медведевым и премьер-министром Новой Зеландии Джоном Ки. По словам Дмитрия Медведева, тогда «произошло несколько событий, которые позитивно отразятся на отношениях России и Новой Зеландией». «Одним из таких событий стал вопрос создания зоны свободной торговли. Это та инициатива, которая обеими сторонами поддержана и, надеюсь, создаст новый стимулирующий режим экономических связей между нашими странами и Новой Зеландией с таможенной зоной, в которую входит Россия», – заявил Президент РФ. Премьер-министр Новой Зеландии Джон Ки квалифицировал начало работы над соглашением о свободной торговле как чрезвычайно важный этап в отношениях двух стран, самый важный за последние 65 лет, прошедших с момента установления дипломатических отношений в апреле 1944 года. «Эта зона отвечает долговременным интересам обеих сторон», – сказал премьер Новой Зеландии. Примечательно недавнее заявление премьер-министра Казахстана Карима Масимова: «Что до возможного расширения сферы действия ТС, создание зоны свободной торговли с рядом стран, включая Новую Зеландию, мы будем приветствовать.
Это «...» укрепляет долгосрочные внешнеторговые позиции как ТС, так и стран – его партнеров на мировом рынке».Проводятся переговоры о возможности «подключения» к ТС Россия – Беларусь – Казахстан в рамках зоны свободной торговли и Таможенного союза Бельгии и Люксмебурга. Похоже, в недрах ЕС существует стремление расширить (если не вновь обрести) национальную и межгосударственную внешнеэкономическую самостоятельность.Валерий Садоха отмечает, что проводятся предварительные консультации стран ТС о начале переговоров по свободной торговой зоне с Сирией, Вьетнамом, Сербией и Черногорией. По мнению участника переговоров, скоро в этом списке будет уже с десяток стран. Это ясно свидетельствует о растущем внешнем интересе к Таможенному союзу и, в свою очередь, должно стать стимулом для большей отлаженности и дееспособности самого Таможенного союза.
О возможном расширении Таможенного союза Евразийского экономического сообщества (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан) и его основной кредитно-инвестиционной структуры – Евразийского банка развития (ЕАБР) – за счет стран ближнего и дальнего зарубежья СНГ сообщил заместитель председателя правления ЕАБР Сергей Шаталов: «Мы ведем переговоры с Украиной, Монголией, Индией. Растущий интерес к интеграционным тенденциям и проектам в СНГ проявляют в последнее время некоторые страны Центральной и Восточной Европы».
Возможно, эта кросс-континентальная интеграция, охватывающая все большее число стран и экономических блоков, вскоре действительно обернется формированием нового международного экономического порядка.
Виктория Абрамова, эксперт Управления по связям с общественностью ФТС России «С введением в действие нового таможенного законодательства в рамках Таможенного союза упростился экспорт высокотехнологичных и других несырьевых товаров, не облагаемых экспортными пошлинами. Значительно упростились и сами таможенные операции. Новое таможенное законодательство совмещает в себе интересы бизнеса и эффективную систему государственного и межгосударственного контроля за таможенными операциями в рамках Союза.
Эти и другие результаты были бы труднодостижимы без тесного взаимодействия с наширу партнерами, прежде всего из Беларуси, с которыми мы активно сотрудничаем уже более десяти лет.
Подтверждением эффективности такой работы является и тот факт, что в работе коллегии Таможенного комитета Союзного государства участвуют (пока в статусе наблюдателей) представители Таможенного комитета Казахстана.
Близка к завершению работа над проектом договора об объединенной коллегии таможенных служб государств – членов ТС. Это направление сотрудничества позволяет более эффективно координировать работу таможенных служб стран – членов ТС не только для повышения дееспособности Таможенного союза, но и для создания на этой основе единого таможенно-экономического пространства всего СНГ».
Автор: АЛЕКСЕЙ ЧИЧКИН
Пока политики добавляют к акрониму BRIC южноафриканское S, экономисты подвергают сомнению само понятие «развивающиеся рынки». Эксперты полагают, что список инвестиционно перспективных стран не ограничится пятью-десятью позициями. Фаворитов становится все больше, и они наступают на пятки так называемым развитым странам, грозя лишить их этого привилегированного статуса.
ЧЕТЫРЕ ЛОКОМОТИВА
В 2002 году главный экономист Goldman Sachs Джим О'Нил придумал термин BRIC, указав, что Бразилия, Россия, Индия и Китай – «самые развивающиеся» из развивающихся стран. Тогда в обзоре перспектив экономики до 2050 года Goldman Sachs предположил, что эти четыре экономики станут крупнее, чем экономики «большой семерки», и вместе с США войдут в пятерку крупнейших экономических держав.
В конце 2005-го тот же банк ввел термин Next Eleven (N-11, «следующие одиннадцать») – страны, потенциал которых по оценкам экспертов сопоставим со странами BRIC. Эти 15 стран – «локомотив» мировой экономики. Их совокупный ВВП составляет около $11 трлн.
Впечатляют объемы и приросты внутреннего спроса в странах BRIC: совокупный размер средств их потребителей приближается к $4,5 трлн (объем потребрынка США оценивается в $10,5 трлн). Но в отличие от американского потребительские рынки стран BRIC подрастают в среднем на 15% в год, или на $600 млрд. Как отмечает О'Нил, если такие темпы будут сохраняться, то потребители из стран BRIC уже к середине этого десятилетия добавят к обороту мировой экономики не менее триллиона долларов.
А к концу десятилетия покупательская способность «четверки» будет выше, чем у потребителей США.
Предполагалось, что уже в этом десятилетии совокупный ВВП BRIC сравняется с ВВП США, а экономика Китая достигнет двух третей американской. Четыре страны BRIC будут обеспечивать как минимум половину роста ВВП во всем мире, а возможно и 70%.
ПО НОВЫМ ПОНЯТИЯМ
Однако теперь Джим О'Нил полагает, что страны BRIC и другие развивающиеся рынки вышли из ставших привычными рамок и прежние классификации уже некорректны. Масштаб экономик этих стран стал слишком велик. Недавно Goldman Sachs ввел понятие «экономики роста». К ним относятся все экономики, за исключением развитых, доля каждой из которых в глобальном ВВП превышает 1%, или $600 млрд в абсолютном исчислении. По мнению экспертов инвестбанка, экономика такой страны должна быть достаточно большой, чтобы позволить инвесторам и бизнесу работать почти так же, как они работают в развитых странах. При этом должна сохраняться вероятность увеличения темпов ее роста.
В настоящее время экономиками роста называют восемь стран: Китай, Индия, Россия, Бразилия, Южная Корея, Индонезия, Мексика и Турция. Еще двадцать стран, включая Саудовскую Аравию, Иран, Нигерию и Филиппины, могут быть включены в этот список в следующие двадцать лет.
С помощью индекса GES (Growth Environment Score – «оценка условий роста») отслеживается производительность и вероятность постоянного роста стран. Значения GES могут варьировать от ноля до десяти, с 13 градаций оценки общего роста и производительности экономики. В настоящее время GES Южной Кореи по десятибалльной шкале равен 7,5 против 6,9 у США. Экономики, которые остаются маленькими и имеют низкий GES, рассматриваются как развивающиеся рынки с большими рисками. Они могут стремительно расти и улучшить свое положение, но слишком уязвимы перед неблагоприятными внешнеэкономическими событиями.
При этом страны с низким GES отнюдь не лишены потенциала. В частности, GES Нигерии – 3,9 – значительно ниже, чем у стран BRIC и N-11. Но по прогнозам Goldman Sachs, в течение следующих 20 лет Нигерия, где проживает около 20% населения Черного континента, будет производить 1% мирового ВВП. Объем ее экономики за последнее десятилетие почти удвоился. Если Нигерия сохранит такие темпы до 2030 года, она больше не будет «развивающейся экономикой», считает О'Нил.
ФАВОРИТЫ И ТЕМНЫЕ ЛОШАДКИ
Тем не менее в настоящее время иерархия растущих экономик достаточно очевидна. Особняком среди них стоит Китай, который обогнал Японию и стал второй по величине экономикой мира. Объем производства в КНР примерно равен этому показателю у Индии, России и Бразилии, вместе взятых.
В конце прошлого года рост экономики Китая ускорился до 9,8%. В первом квартале 2011-го рост ВВП КНР несколько замедлился по сравнению с предыдущим кварталом: 10,3% против 10,6%. По прогнозам Всемирного банка, экономика Китая в 2011 году прибавит 8,7%. Экономическая активность КНР в 2011 году будет ниже, чем в 2010 году, но позволит ей существенно превзойти темпы роста во всех развитых странах. Эксперты World Bank ожидают, что рост ВВП Китая втрое превысит рост американской экономики.
Меры китайских властей по охлаждению своей экономики вызвали в последнее время опасения относительно возможной «жесткой посадки» китайской экономики. Однако статистика последних месяцев показывает, что опасения эти беспочвенны. После резкого падения в июне 2010-го темпы роста промышленного производства сохраняются в пределах 13-14% в годовом исчислении.
«Наиболее интересная экономика из BRICS в среднесрочной перспективе – это попрежнему Китай, – отмечает начальник аналитического отдела ИК «Грандис Капитал» Денис Барабанов. – Однако постепенно он начнет терять свое главное преимущество в виде дешевой и молодой рабочей силы. Еще пять-десять лет, и КНР может столкнуться с проблемами, которые были у Японии в прошлом веке, хотя стимулирование внутреннего спроса поможет избежать такого сценария». В долгосрочной перспективе в лидеры выйдет Индия, которая отчасти сможет повторить путь Китая. Но с другой специализацией – вместо промышленности это будут услуги, полагает аналитик.
Размер экономики Индии – $1,3 трлн. Это третий показатель в Азии. В последнее время страна несколько сбавила обороты, однако попрежнему показывает высокие темпы роста. После роста ВВП на 8,9%, который Индия демонстрировала два квартала подряд, экономический рост в последнем квартале 2010 года составил 8,2%. Но этот показатель превысил собственные официальные прогнозы страны.
Эксперты ожидают, что в этом году рост ВВП Индии составит 9,25%, приблизившись к докризисным показателям. Сохранять такие темпы индийской экономике позволяет прежде всего внутренний спрос.
Ориентация на внутреннее потребление, несвойственное для азиатских стран, позволила ей не столь болезненно перенести мировой кризис.
Некоторые аналитики полагают, что экономика Индии способна даже обогнать китайскую. Этому могут способствовать прирост населения и модернизация производства, которая частично осуществляется за счет внешних инвестиций.
Экономика Бразилии еще больше – $1,6 трлн. Ее рост по итогам 2010 года составил 7,6%, став рекордным за последние 26 лет. Однако темпы роста продолжают замедляться. В четвертом квартале 2010 года прирост ВВП Бразилии составил лишь 0,7%. А ведь еще в первом квартале 2010-го этот показатель достиг рекордной отметки в 9,27%. Экономистов беспокоят столь неустойчивые показатели. В четвертом квартале был зафиксирован рост частного потребления на 2,5% в сравнении с предыдущим кварталом. А вот объем инвестиций в основной капитал за тот же период вырос лишь на 0,7%. Экспорт вырос на 3,6%, импорт – на 3,9%. Таким образом, локомотивом бразильского роста выступает потребительский спрос, а не промышленное производство и экспорт. При этом темпы роста бразильской экономики по-прежнему превышают докризисные. В 2011 году ожидается ее прирост на 4,5%.
ЮАР на фоне этих гигантов смотрится куда скромнее. ВВП Индии, самой маленькой экономики БРИК, превышает ВВП ЮАР более чем в четыре раза. А население ЮАР втрое меньше, чем в самой малонаселенной среди стран BRIC России.
«Включение в BRIC ЮАР – вопрос исключительно политический, – полагает Денис Барабанов. – Ситуация в экономике этой страны вызывает вопросы: наблюдаются низкие темпы роста и очень высокая безработица. При этом ЮАР даже не является крупнейшей по ВВП в Африке, уступая Египту. Почему в BRIC не включить, например, Турцию или Мексику? Их возможности роста лучше. На мой взгляд, BRICS нужно либо сокращать до трех стран – Китай, Индия и Бразилия, либо, напротив, расширять до 10-15 стран. В нынешнем формате это сугубо политическое явление. Россия здесь не то чтобы лишняя, но ее присутствие обусловлено только ресурсами и было актуально в докризисный период, когда экономика страны росла действительно высокими темпами. Темпы роста ВВП России вряд ли существенно ускорятся в ближайшие годы, а 3-4-процентный рост – это уровень развитой страны, а не развивающейся, тем более пытающейся выбиться в мировые лидеры».
«Россия вполне может вернуть себе достойное место в мировой экономике после некоторого улучшения инвестиционного климата, – полагает председатель совета директоров УК «Столичная финансовая корпорация» Павел Геннель. – В частности, после слияния РТС и ММВБ, создания единого депозитария, а также ограничения вмешательства в рынок государственных банков, часто выступающих теневыми маркетмейкерами».
ПРОДАЮЩИЕ ТЕРМИНЫ
«Термин BRIC действительно во многом исчерпал себя, – отмечает директор по стратегическому маркетингу УК «Альфа-Капитал» Вадим Логинов. – Список стран должен быть шире, а название новым.
Включение только ЮАР и формальное расширение аббревиатуры до BRICS вряд ли имеет долгосрочные перспективы. Пока идет обсуждение «кандидатов» на расширение. Причем это могут быть не только отдельные страны, но сразу группы – CIVETS или Next-11». (К CIVETS относятся Колумбия, Индонезия, Вьетнам, Египет, Турция, ЮАР.
В английском языке «сivet» – это зверьки семейства виверовых, которые принимают участие в процессе производства самого дорогого в мире кофе).
«По странам – кандидатам на расширение у экспертов мнения расходятся, – продолжает аналитик. – На мой взгляд, наиболее интересно смотрелось бы включение в этот круг в первую очередь Индонезии и Мексики. Что касается понятийного поля, то в русском переводе «развивающиеся рынки» выражение более емкое по смыслу, чем «экономики роста». Дело в том, что «рост» – это скорее отражение количественного изменения. А «развитие» подразумевает не только рост, но и качественное изменение. Английское emerging markets, наверное, действительно устарело. Я мог бы предложить определение progressive. По-русски «прогрессивные рынки» звучит тоже неплохо».
Предправления «Столичной финансовой корпорации» Павел Геннель полагает, что применение термина «развивающиеся рынки» или «экономики роста» к странам BRIC с точки зрения чистой экономики справедливо. «ЮАР можно отнести к реально развивающимся экономикам», – уверен финансист.
Директор центра интеграционных исследований Евразийского банка развития Евгений Винокуров подчеркивает разницу между BRIC и BRICS: «Включение Южной Африки в БРИКС с макроэкономической точки зрения надуманно. Южноафриканская экономика значительно меньше других стран БРИК, и она очень уязвима внутриполитически.
Однако крупный аргумент в пользу ЮАР – ее роль субрегионального экономического лидера; в этом плане она схожа с другими странами «кирпичей».
«Сам термин БРИК родился и продвигался как крайне успешный маркетинговый ход. Под него были созданы и продаются десятки взаимных и индексных фондов, – напоминает Евгений Винокуров. – Любой маркетинговый инструмент нужно периодически «переупаковывать» и продавать заново, что и делается сейчас.
В экономики роста я бы включил ряд потенциально крупных экономик, входящих в категорию frontier markets, в частности Турцию, Вьетнам, Индонезию. Эти экономики обладают потенциалом роста, основанным на населении, образовательном уровне, природных ресурсах, потенциальной роли полюсов инвестиций и субрегиональных центров притяжения».
Аналитик Промсвязьбанка Олег Шагов поддерживает мнение, что классификации экономик являются скорее маркетинговым ходом, и считает, что число их будет увеличиваться: «Объединение столь разных рынков в одну упаковку удовлетворяло потребность в диверсификации крупных инвестиционных вложений. Портфельное ассорти BRIC оказалось удачной инвестиционной идеей. Со временем оно начало пользоваться огромной популярностью. Инвестбанкиры стали много зарабатывать на продаже красиво упакованных разноцветных фондов и фондиков под маркой BRIC. Но вдруг пришел кризис. Продажи стали падать, а аппетит инвесторов начал угасать. Вот тогда было решено добавить в ассорти шоколада. Так появился новый инвестбукет – BRICS».
Инвестиционная мысль не стоит на месте. Поскольку хорошо продается лишь то, что растет или потенциально способно вырасти, то теперь направлением поиска предприимчивых людей стали «экономики роста».
В исследованиях Организации экономического сотрудничества и развития отмечены страны, в которых текущий, а также прогнозируемый в ближайшее время экономический рост выше среднего по странам ОЭСР. Это такие страны, как Австралия, Чили, Израиль, Корея, Мексика, Словакия и Турция.
Именно они, по мнению эксперта, имеют, помимо стран BRICS, прекрасные шансы попасть в новую, раскручиваемую сейчас идею инвестиций в «экономики роста».
ТОРЖОК. Коренной русский городок неподалёку от Твери. Неторопливый, очаровательно уездный, дремлющий на июньском солнце, раскинувшись садами и скверами по обе стороны реки Тверца. В далёком прошлом остались и татарские набеги, и польские угрозы, и вражда со спесивой Тверью. Теперь это тихая провинция Твери. Сорок семь тысяч населения. Русь!
А ещё Торжок — это "столица" российской вертолётной авиации. Именно здесь находится легендарный Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации. На подъезде к городу в будний день легко заметить то и дело проскакивающие над шоссе стремительные "стрекозы" вертолётов. Это идут полёты. Не пожалейте времени — задержитесь. Где ещё удастся увидеть в воздухе одновременно такие уникальные машины, как Ми-28Н и Ка-52, Ми-26 и Ми-8, новинку Казанского авиазавода "Ансат" и многие другие вертолёты. Всё это проходит испытания и отработку в Центре.
В историческом очерке Михаила Никольского о Торжокском авиацентре сказано, что в 1964 г. при управлении Липецкого авиацентра был сформирован отдел боевого применения вертолетной авиации с приданием ему 12-й отдельной исследовательской вертолетной эскадрильи, которая базировалась в городе Луганске (Украина), а в 1967 году была передислоцирована в Воронеж. Здесь велись исследовательские работы на вертолетах Ми-6, Ми-8, Ми-10, Ми-24 и их модификациях. На рубеже 70-80-х годов шёл бурный рост вертолётной авиации, ежегодно формировалось два-три вертолетных полка, и новый Центр должен был не только вести исследовательскую и учебную работу, но также принимать участие в разработке и обосновании предложений для промышленности по созданию новой техники, обеспечивать строевые части методическими документами по летной и наземной подготовке, обобщать и внедрять передовой опыт. Инициаторами формирования нового Центра стали начальник отдела боевой подготовки армейской авиации ВВС генерал-майор П.Д. Новицкий и его заместитель полковник Ф.Ф. Прокопенко.
Первые два года существования Центра летный состав только набирали — переводы в другие части не разрешались. В период афганской войны в Торжке ежегодно проходило переучивание до 1300 человек, летали в две смены с двух аэродромов (Торжок и Выдропужск) четыре дня в неделю. Пик подготовки экипажей для вертолетов пришелся на 1985 и 1986 гг. Средний налет за год на летчика Центра составлял более 100 часов. Летный состав осваивал новую технику, готовили командиров звеньев и эскадрилий, передовых авианаводчиков. Все летчики и штурманы-операторы раз в пять лет проходили в Торжке переподготовку. Через афганские командировки прошло около 400 офицеров и прапорщиков Центра, 138 из них награждены орденами и медалями. За все время боевых действий в Афганистане потерь среди экипажей из Торжка не было. Это был высший показатель мастерства лётчиков Центра.
Сегодня в состав Центра входит 696-й инструкторский испытательный вертолётный полк, в котором ведется подготовка летчиков высшей категории с присвоением им квалификаций "лётчик-снайпер" и "штурман-снайпер", кроме этого в Центре ведется подготовка иностранных военных специалистов летного и технического состава. На базе центра действует единственная в мире пилотажная группа на боевых вертолётах — "Беркуты".
В полку проводятся испытания всех современных моделей и модификаций российской военной вертолётной техники. Для обучения и боевого применения полк располагает вертолетами Ка-50, Ми-28Н, Ми-26, Ми-24, Ми-8.
НА СТОЯНКЕ крутит винты Ми-28Н — вертолёт нового поколения. Он способен не только поддерживать огнём сухопутные войска, но и вести воздушный бой. И сегодня основной противник нашего "ночного охотника" — всё тот же американский боевой вертолёт АН-64D "Лонгбоу Апач". Сегодня вполне возможно провести виртуальный бой вертолёта Ми-28 и вертолёта "Апач". По возможностям обнаружения противника оба вертолёта примерно равны. А это значит, что при прочих равных велика вероятность ближнего боя. Хорошо известно, что, чем выше процент быстродействия втулки, тем больше способность вертолёта к маневренному воздушному бою. У вертолета Ми-28 этот показатель составляет 6%, у "Апача" — 4%. Ещё один критерий сравнения — скорость выполнения виража, иначе говоря, скорость создания крена. Так вот, крен в 60 градусов наша машина выполняет существенно быстрее, чем "Апач". Это подтверждают американцы. У американцев, в отличие от нас, вертолет создавался под определенную тактику. Тактика применения этих вертолётов состояла в том, что они выходили на линию боевого соприкосновения, зависали, применяли оружие, пробивали брешь в обороне и улетали. Но так возможно воевать только в условиях слабой ПВО. В условиях же боя с технически высокооснащённым противником такая тактика — самоубийство. Все последние серьёзные учения и испытания это показывают. Таким образом, у американцев изначально было заложено то, что вертолёт практически не ведёт маневренный бой. Отсюда и один из серьёзнейших недостатков "Апача" — слабая защищённость основных жизненно важных узлов. У американского вертолёта применяется лишь лёгкое бронирование некоторых узлов и бронеплиты для защиты лётчиков, при этом почти полностью открыта кабина. Поэтому совершенно неудивительно, что в Ираке американцы потеряли уже больше 40 "Апачей". "Апач" просто не создавался как вертолёт, который будет находиться над полем боя под огнём противника. "Апач" — дитя концепции 80-х годов, формулы "прилетел, обнаружил, поразил и, не входя в зону ПВО, улетел", а потому это уже вертолёт вчерашнего дня. У Ми-28Н боевая живучесть поставлена на порядок выше, чем у американцев, и исход боя "Ночного охотника" с "Апачем" более чем сомнителен для "Апача".
Над аэродромом ревут движки. "Ночной охотник" отрабатывает один из элементов программы. Настоящий воздушный боец. Солдат будущего. Несмотря на трудный и долгий путь к аэродрому, он ни на день не устарел, он весь в завтрашнем дне. Его "глаза" — радиолокационные станции — способны обнаруживать цели за десятки километров, его ночное зрение — тепловизор, "увидит" за километры не то что костёр в ночном лесу, но сигарету в рукаве вражеского солдата, а заодно и собравшихся вокруг него "камрадов". При этом Ми-28Н не станет пассивной жертвой истребителей, для которых ещё совсем недавно вертолёты считались лёгкой добычей. Ми-28Н уверенно даст сдачи — его РЛС позволяет вести воздушный бой и поражать воздушные цели. Вертолёт предупредит лётчика о том, что находится в прицеле чужой РЛС, собьет с курса пущенную по нему ракету, забив помехами её головку самонаведения, уведёт в сторону на тепловую ловушку ракету с тепловой головкой, а если надо — прижмётся фактически к земле, и на высоте всего 10-15 метров в режиме огибания рельефа затеряется в складках местности, растворится, исчезнет. Его "латы" способны принимать и гасить в себе мощь зенитных снарядов и пуль, его остекление не пробьёшь крупнокалиберным пулемётом, его движки прикрыты от ракет и способны выдерживать прямые попадания. И, даже будучи сбитым, он способен с помощью уникальной системы гашения удара спасти жизнь своего экипажа, упав со стометровой высоты…
О месте Центра в составе нынешних ВВС нагляднее всего свидетельствует небольшая историческая справка:
С 1 декабря 1979 г. переведён в состав 344-го центра боевого применения и переучивания (лётного состава армейской авиации) и переименован в 696-й отдельный вертолётный полк (исследовательско-инструкторский).
С 1 декабря 2009 г. 696-й исследовательско -инструкторский вертолётный полк (транспортно-десантных вертолётов) переименован в 7086-ю авиационную базу, г.Торжок.
В теЧение 50 лет личный состав авиационной базы выполнял правительственные задания как в стране, так и за ёё пределами. Имя авиационной базы знают более чем в 30 странах мира. Личный состав авиационной базы участвовал в составе миротворческих сил ООН в Анголе, Кампучии, Таджикистане, Сьерра-Леоне. Выполнял практическое переучивание ИВС в Китае, Венгрии, Румынии, Чехословакии, Корее, АРЕ (Египет), на основанной базе: в Армении, Грузии, Индии, КНДР, Индонезии, Зимбабве, Кипре, Судане, Венесуэле. Личный состав авиационной базы выполнял специальные задания по поиску и спасению космических аппаратов "Восток-1", "Восток-2", Восток-3", "Луна-16; по темам "Зенит", "Восток". Участвовал в крупномасштабных учениях, проводимых Министерством обороны: "Днепр-67", "Двина-70", "Неман-71", "Запад-72", "Запад-81", "Кант-2004", "Запад-2009". Осуществлял воздушный и наземный показ новой авиационной техники иностранным военным делегациям: Китая, Венгрии, Чехословакии, КНДР, Южной Кореи, Вьетнама, Судана, Перу, Индии, Пакистана, Турции, Кипра, Индонезии, Эритреи, Анголы. Участвовал в международных авиакосмических салонах и выставках: "ИНДЕКС-97", "МАКС", "ЛИМА-95".
С 1958 г. Центр постоянно участвовал в воздушных парадах, показах новой авиационной техники в воздухе и на земле, в городеах Москва, Тула, Иваново, Гатчина, Кубинка, Тверь, Ржев, Самара.
В 2010 г. — личный состав авиационной базы принимал участие в параде, посвящённом 65-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
В этом году лётчики Центра единственные, кто участвовал в воздушной части парада. Вертолёты пронесли над Красной площадью флаги России и различных видов Вооружённых сил.
Сейчас для обучения и боевого применения полк располагает вертолетами Ка-50, Ка-52, Ми-28Н, Ми-26, Ми-24, Ми-8 различных модификаций.
НА СОСЕДНЕЙ СТОЯНКЕ застыл извечный конкурент Ми-28 "Аллигатор" — Ка-52. Детище КБ имени Камова. Постановлением Совета Министров СССР от 16 декабря 1976 года было поручено начать разработку перспективного ударного вертолёта, предназначенного для уничтожения бронетехники на поле боя на конкурсной основе, ОКБ Миля и ОКБ Камова. ОКБ Камова, длительное время создававшее морские вертолёты, решило разработать принципиально новую концепцию вертолёта поля боя. Под руководством главного конструктора Михеева прототип боевого вертолёта, названный В-80 (изделие 800), получил традиционную для морских вертолётов ОКБ Камова, но впервые применённую на сухопутных боевых машинах, соосную схему расположения несущих винтов и с экипажем, состоящим из одного лётчика. Выбор соосной схемы определился более высокой тяговооружённостью машины, обусловленной отсутствием потери мощности силовой установки на привод рулевого винта, что, в свою очередь, обеспечивает высокую скороподъёмность и больший статический потолок. Меньший диаметр основных винтов определяет меньшую линейную скорость законцовок лопастей, что уменьшает волновое сопротивление и позволяет увеличить скорость движения аппарата в целом. Упразднение трансмиссии рулевого винта, с одной стороны, уменьшило вес машины, с другой же стороны, исчезли механизмы, повреждение которых в боевых условиях сказалось бы на живучести и эффективности вертолёта. После защиты эскизного проекта и макета в мае 1981 года был построен первый лётный экземпляр (бортовой номер 010), совершивший под управлением лётчика-испытателя Бездетного свой первый полёт 17 июня 1982 года. Данная машина была предназначена для проведения лётных испытаний и не располагала как многими системами, так и штатными двигателями. Второй лётный экземпляр (бортовой номер 011), поднявшийся в воздух 16 августа 1983 года, был оборудован всеми основными штатными устройствами и предназначался для отработки вооружения и авиационного оборудования. В октябре 1983 года состоялось совещание с участием Министерства обороны и представителей авиационной промышленности. Целью совещания являлись сравнение и выбор между В-80 и Ми-28 (конкурсное предложение ОКБ Миля). Большинство участников высказалось за выбор В-80 как машины, имеющей лучшие лётно-технические характеристики и обладающей лучшим соотношением цена/качество. Проведённые в 1984 году сравнительные испытания, включающие в себя 27 испытательных полётов, показали превосходство В-80 над Ми-28. На основании проведённых испытаний в октябре 1984 года был подписан приказ министра авиационной промышленности о подготовке серийного производства камовской машины. Она получила классификационный номер Ка-50 и прозвище "Чёрная акула". Но 3 апреля 1985 года, во время исследований предельных режимов полёта, в результате превышения пилотом допустимой отрицательной перегрузки произошёл схлёст лопастей, и вертолёт потерпел крушение. Пилот лётчик-испытатель Герой Советского Союза Евгений Иванович Ларюшин, пытаясь спасти машину, погиб.
Эта авария позволила конкурентам, фирме "Миля", реанимировать свой проект Ми-28. В недрах министерства обороны СССР было решено производить оба вертолёта. Ещё больше затормозила выход Ка-50 в серию трагическая гибель при аналогичных обстоятельствах в 1998 году одного из главных "сторонников" Ка-50, начальника торжокского центра боевого применения легендарного вертолётчика генерал-майора Бориса Воробьёва, который впервые в истории вертолётной авиации смог на боевом вертолёте Ка-50 выполнить косую "мёртвую петлю". Поэтому серийное производство Ка-50, который к этому моменту уже превратился в двухместный вертолёт Ка-52 и из "Чёрной акулы" стал "Аллигатором", началось небольшими партиями лишь в 2008 году. Предполагается, что до 2012 года Российская армия получит 30 таких вертолётов.
Конкуренция между этими двумя замечательными машинами продолжается. И у каждой есть свои поклонники и противники как среди лётчиков, так и в корпусе чиновников, но разрешить этот спор смогут только боевые действия, в котороых обе этих машины проявят себя в полной мере. А пока российский бюджет в разделе закупки новых боевых вертолётов, вопреки здравой логике, делится между двумя фирмами. Россия — страна богатая… Владислав Смоленцев.
Министр энергетики и водных ресурсов Афганистана Мохаммад Исмаил Хан считает, что его страна могла бы поддержать проект размещения иностранных военных баз в обмен на оказание помощи в организации производства электроэнергии на основе урана.
Министр энергетики и водных ресурсов страны Мохаммад Исмаил Хан рассказал на днях о новом проекте депутатам Волуси Джирги (нижней палаты афганского парламента). По его словам, в настоящее время идет работа по формированию целевого управляющего органа для осуществления проекта, а его ведомство занимается поиском профессиональных кадров для проведения ряда работ. «Надо им (Западу) сказать, что мы могли бы поддерживать идею размещения военных баз, если бы они нам помогли в организации производства электроэнергии на основе урана», - сказал афганский министр.
Напомним, что ранее Исмаил Хан раскритиковал идею размещения постоянных иностранных военных баз на территории Афганистана.
Правительство Афганистана собирается запустить внутригосударственный энергетический проект, позволяющий производить электроэнергию на основе урана, месторождения которого находятся на территории южной провинции Гельманд.
Если в настоящее время Афганистан главным образом импортирует электроэнергию из Таджикистана и Узбекистана, а собственное производство действует в достаточно небольших масштабах, применение урановых ресурсов Гельманда поспособствует развитию энергетической отрасли страны. Как сообщают средства массовой информации Афганистана, министр энергетики страны высказал недовольство зависимостью страны от импорта электроэнергии.
«Если мы сможем реализовать проект по использованию урана при производстве электроэнергии, это позволит нам быть независимыми от поставок из соседних государств», – цитирует слова афганского министра Исмаил Хана информационное агентство «REGNUM».
В настоящее время главным препятствием для осуществления проекта является нестабильная ситуация с безопасностью в провинции. В ходе обсуждения депутат от Гельманда Насима Ниязи отметила, что США должны оказать содействие проекту, если рассчитывают на постоянное военное присутствие в Афганистане.
Новейший ракетный эсминец William P. Lawrence сегодня должен прибыть в порт Мобил (Алабама), затем 4 июня будет введен в боевой состав ВМС США. Корабль стоимостью 479 млн долл является 60-м по счету эсминцем класса Arleigh Burke.
Эсминец оснащен разнообразным ракетным вооружением, в том числе крылатыми ракетами Tomahawk, на его борту могут базироваться два вертолета.
Корабль назван в честь ныне покойного летчика-испытателя ВМС США Уильяма Портера Лоуренса. Он стал первым в морской авиации пилотом, который на своем истребителе достиг скорости в два раза превышающей скорость звука. Лоуренс также был кандидатом в астронавты по программе «Меркурий» (Mercury), но был выведен из отряда астронавтов по причине шумов в сердце. Далее Лоуренс в качестве летчика-истребителя принимал участие в войне во Вьетнаме и был сбит. Провел около шести лет в плену.
История с заявкой Пекина на статус памятника, части мирового культурного наследия - это лишь эпизод в сложном и вполне политическом сюжете насчет того, есть ли вклад китайской цивилизации в общемировую, или он еще только будет, и что это за вклад.
То, что цивилизация непростая и мало на кого похожая, показывает как раз тот самый эпизод с Пекином. Городская администрация предлагает ЮНЕСКО записать в памятники не весь город (с небоскребами и бесчисленными кольцевыми автострадами), не центр его со знаменитым императорским дворцом, а ось города. Прямую улицу, идущую строго с севера на юг, иногда как бы исчезающую, но появляющуюся снова через квартал, проходящую ровно посредине нескольких дворцов, включая императорский. "Драконовую вену" длиной 7,8 километра.
Лицом к солнцу
Пекин - не такая уж древняя столица Китая. Когда-то он был пограничным гарнизонным городом, откуда китайцы отражали агрессию Великой степи, а в конце 13-го века он сам стал столицей такого вот агрессора - хана Хубилая, захватившего потом весь Китай. Наиболее известная из столиц Китая - это нынешняя Сиань, ранее Чанъань.
И именно из Чанъани Пекин унаследовал уникальную, присущую только китайцам идею того, что такое столица. Это не центр паутины (идея Москвы и многих европейских городов). Это нечто, расположенное у ног императора, который сидит на троне спиной строго к северу и смотрит строго на юг. То есть теоретически - и старая Чанъань располагалась именно так - дворец (то есть громадный административный город) расположен на севере, а городские кварталы - от него к югу.
Ну и понятно, что взгляд Сына неба должен охватывать пространства до горизонта и дальше, отчего в каждом из столичных городов Китая был и есть этот прямой проспект, доходящий до южных ворот городской стены. В Пекине он начинается от южных, главных ворот дворца, сначала это площадь Тяньаньмэнь, а дальше - улица, хотя проспектом она сегодня никак не выглядит. Если внимательно присмотреться, то императорский дворец в Пекине стоит как бы спиной к горам и холмам, поэтому часть нынешней "Драконовой вены" - к северу от дворца - была когда-то частью пригородов, а не столицы. Так или иначе, именно на севере, у Барабанной башни, сегодня самые очаровательные улицы города. Ну, а на юге на той же оси - Храм неба.
Сейчас Пекин организует горожан на поддержку своей заявки. Подавать ее, возможно, будут 11 июня, во Всемирный день наследия. И уже через год, нет сомнения, пекинская ось станет памятником.
Фэншуй и палочки
Нельзя сказать, что фэншуй (макро- и микро-архитектура и дизайн в соответствии с внутренним смыслом ландшафта) стал уже частью европейской цивилизации, но слово знакомо всем и каждому. Кстати, привычка строить город на вот такой оси с севера на юг - это стопроцентный фэншуй на уровне градостроительства. Так же как и привычка прокладывать улицы строго под девяносто градусов: от этого в китайских городах, если они не на реках или море, трудно заблудиться.
Еще любопытнее сравнивать противоположный подход средиземноморской цивилизации и китайской к идее дома, здания. На западе было больше камней, чем деревьев, на востоке когда-то - ровно наоборот. Западники строили поэтому на века, а в Китае и окрестностях дом - это деревянный павильон в парке, парк вечен, дом - нет. Хотя взгляд на небоскребы китайских городов наводит на мысль, что об этой части наследия можно забыть.
Но так или иначе, пока что основой влияния китайской цивилизации на все прочие выглядит китайская кухня и еда палочками, так же как китайский кинематограф. Не забудем про шелк, чай и компас. Но и все пока.
Трудности перевода
Все куда яснее по части экономики и политики. На днях вышел доклад Азиатского банка развития, специально для будущего саммита "группы 20" . Там говорится, что Азии - и прежде всего Китаю - предстоит играть гораздо большую роль в мире, ее доля в экономике может вырасти к 2050 году с нынешних 27% до 51%. Поэтому Азия будет предлагать глобальные экономические стратегии и вообще рулить.
Другое дело, что экономический компонент державности - это еще не все. Есть военный, и тут от Китай никто ничего не ждет, даже когда он обзаведется, наконец, своими авианосцами. Америка все равно будет в военном плане "больше", хотя от этого не сильнее. Китайская же цивилизация всегда демонстрировала удивительную слабость по военной части. Не любят они это дело.
Политика и стиль управления? Они явно зависят от культурного наследия, и, видимо, всегда будут различаться по всему миру. Например, китайцу вы не навяжете смехотворную, с его точки зрения, процедуру выбора главы государства в виде поединка двух боксеров. В Китае (и еще в нескольких десятках стран) возможен только плавный переход власти по принципу наследования.
Но еще есть культура - в наши дни куда более мощный фактор влияния на прочие цивилизации. О чем, кстати, в Пекине хорошо знают и ведут на эти темы внутренние дискуссии. Инициатива города Пекина - часть этой политики. Но политика пока сильной не выглядит. То есть это в целом ясно, что глобализация вовсе не будет похожа на запихивание ценностей одной цивилизации в глотку другой. Скорее всего, люди будут есть то вилкой и ножом, то палочками - по настроению. Но как будет идти проникновение культур?
Возможно, самый интересный пример тому был на днях на презентации дискуссионного сайта по всем азиатским литературам. Первого в мировой истории - не было раньше такого, и бумажного журнала тоже не было. А если учесть, что церемония прошла в штаб-квартире Азиатского сообщества в Нью-Йорке, поскольку американцы хотят не отставать от времени и следить за азиатской литературой, то все и подавно интересно.Пекин Дмитрий Косырев
Кораблестроители "Зеленодольского завода имени А.М. Горького" (Татарстан) в четверг отправили заказчику второй фрегат "Гепард-3.9" из двух строящихся по заказу ВМС Вьетнама, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы предприятия.
Контракт на строительство двух "Гепардов" был подписан ФГУПом "Рособоронэкспорт" в декабре 2006 года. Заложены корабли были в июле 2007 года. Первый фрегат спущен на воду в декабре 2009 года, второй - в марте 2010 года. В июле 2010 года была осуществлена отправка первого фрегата.
"После успешно проведенных ходовых и приемных испытаний, испытаний систем вооружения и жизнеобеспечения второй корабль из серии проекта "Гепард-3.9", построенный Зеленодольским заводом имени Горького, отправлен заказчику. Двадцать пятого мая состоялась погрузка корабля на специализированное транспортное судно Eide Transporter, двадцать шестого мая оно отправлено во Вьетнам", - сказал собеседник агентства.
Ориентировочная длительность перехода к верфям заказчика составит 65 суток.
По информации пресс-службы предприятия, все механизмы, системы и вооружение корабля соответствуют контрактной спецификации и утвержденному техническому проекту. Корабль имеет улучшенные характеристики по мореходности, маневренности, динамичности, управляемости и дальности плавания.
"С учетом пожеланий заказчика, высказанных после прибытия во Вьетнам первого фрегата, проведен ряд доработок по улучшению внутреннего интерьера корабля. По оценке специалистов, второй корабль стал еще более удобен в обслуживании и эксплуатации", - отметил собеседник агентства.
Фрегат "Гепард-3.9" предназначен для выполнения таких задач, как поиск, слежение и борьба с надводными, подводными и воздушными целями, проведение конвойных операций и несение дозорной службы, а также охрана морских государственных границ. Он может действовать самостоятельно или в составе корабельной группы. Полное водоизмещение судна - около 2,1 тысячи тонн, дальность плавания - порядка 5 тысяч миль, автономность плавания - 20 суток.
Фрегат располагает мощным вооружением: противокорабельным ракетным комплексом "Уран-Э", артиллерийское вооружение включает 76,2-мм артиллерийскую установку АК-176М, установку "Пальма" и две 30-мм артиллерийские установки АК-630М. На корабле предусмотрено базирование палубных вертолетов типа "Ка-28" или "Ка-31".
ОАО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" является одним из ведущих судостроительных предприятий страны, специализируется на строительстве сухогрузов типа "река-море", средних и малых судов, а также является поставщиком кораблей для ВМФ. Расположение в центре России, на Волге, позволяет предприятию производить поставку кораблей и судов в любые регионы бассейнов Черного, Каспийского, Балтийского, Северного морей по внутренним водным путям.
Производственно-техническая база завода состоит из комплекса цехов, охватывающих все виды современного судостроительного производства, позволяющих строить разнотипные корабли и суда малого и среднего классов. Постройка судов ведется прогрессивным блочным методом на закрытых стапельных местах, оборудованных мощным крановым оборудованием, спусковой наливной док-камерой с системой размораживания акватории в зимнее время.
ОАО "Зеленодольский завод имени A.M. Горького" имеет развитое машиностроительное производство, располагающее литейным, кузнечным, термическим, гальваническим, сварочным и механообрабатывающим цехами.
Предприятие входит в состав ОАО "Холдинговая компания "Ак Барс". Ирина Дурницына
Правительство Филиппин продолжает проводить анализ безопасности после серии инцидентов вторжения китайцев на спорные территории, - сообщает американское издание Stratfor.
20 мая, прямо перед визитом китайского министра обороны на Филиппины, власти сообщили о том, что два китайских боевых самолета пролетели над территорией Филиппин – оспариваемыми островами Спратли. Изначально заявлялось, что китайские боевые самолеты следили за филиппинским патрулем, однако затем выяснилось, что филиппинские North American OV-10 Bronco, которые патрулировали район, увидели инкурсионные следы самолетов гораздо выше и прямо над территорией.
Однако поскольку тема была поднята прямо перед визитом министра обороны, она станет горячим вопросом на переговорах.
Острова Спратли – спорные территории, права на которые предъявляют много сторон, включая Филиппины и Китай. Традиционно контроль над островами Спратли в Южно-Китайском море был скорее вопросом контроля над морскими путями и возможностью их ограничивать. Однако недавно начались активные исследования и разработка глубоководных минеральных ресурсов нефти и газа на океанском дне, и тема Южно-Корейского моря и контроля над островами становится все значимее.
Одна из причин того, что вопросу уделяется столько внимания на Филиппинах, это то, что министерство обороны пытается найти способ получить все больше современных военных ресурсов, и это играет на руку отношениям с Соединенными Штатами. США – первостепенный поставщик военного оснащения на Филиппины, а также у Америки с этой страной существует структура альянса. Однако неясно, до какого уровня дойдет конфронтация, прежде чем США на самом деле предпримут какие-то действия против Китая. И, как мы наблюдали с китайскими вторжениями в территориальные воды Японии или на оспариваемые территории Филиппин, ощутимых усилий со стороны США с целью противостоять этим действиям мы пока не видели, что оставляет эти страны в состоянии некоторого смешения и неопределенности.
Филиппинам следует сохранять осторожный баланс. Китай – региональная держава в их регионе, а также он - крупнейший экономический партнер Филиппин. В то же самое время, США тоже являются важным экономическим партнером и союзником.
В том, что касается США - Филиппины ли это пытаются втянуть их в свои дела, или Вьетнам, или даже Малайзия - экспансия китайской активности в Южно-Китайском море становится важным вопросом американской безопасности в долгосрочной перспективе. Америка внимательно наблюдает за тем, что Китай делает в Южно-Китайском море, и начинает перестраивать свою оборонную политику в регионе с целью сохранить уровень доступа к территориям.
В среду утром в Пекин после продолжительной поездки по южным китайским городам прибыл лидер Северной Кореи Ким Чен Ир - по обыкновению, на бронепоезде.
Вообще-то пора бы и перестать хихикать над странной нелюбовью Ким Чен Ира к воздушным путешествиям, так же как и к его поезду с пуленепробиваемыми стеклами - по улицам Москвы ездит немало автомобилей, в том числе частных лиц, так же оборудованных на случай покушения. Бронепоезда, как известно историкам военного дела, в последний раз массированно применялись в боевых действиях именно в Китае в период между мировыми войнами: там тогда, после китайской революции 1911 года, шло вооруженное выяснение отношений между бывшими окружными командующими. И некоторые бронепоезда были "русские", то есть перебравшихся через китайскую границу после гражданской войны в России и отданные в хорошие руки. Так или иначе, эти сухопутные линкоры мало похожи на средство передвижения Ким Чен Ира.
Другое дело - что "бронепоезд Кима" символизирует множество особенностей Северной Кореи как общества, государства и явления на международной арене.
Будут переговоры
Зачем приехал в Пекин человек, о здоровье и политическом самочувствии которого постоянно ходит множество слухов? Ожидаются его встречи с главой китайского государства Ху Цзиньтао и возможным его преемником Си Цзиньпином. Причем нетрудно догадаться и о главной теме беседы. Это активизация международной дипломатии вокруг Северной Кореи.
То, что по поводу "корейских дел" что-то опять происходит, стало ясно в мае, когда произошло сразу несколько событий. В ООН появился доклад, где упоминалось якобы имевшее место сотрудничество Северной Кореи и Ирана по созданию баллистических ракет (и масса опровержений к нему). Это уже скучно: когда, например, США в очередной раз обнаруживают у себя отсутствие корейской политики, то появляются очередные открытия такого рода. И им мало кто верит.
Далее, 19 мая в Пхеньяне побывал глава Службы внешней разведки России Михаил Фрадков, обсуждал гуманитарные поставки зерна, весь набор совместных проектов двух стран, но и ядерные дела тоже.
Следующая веха - это саммит в Токио между Китаем, Японией и Южной Кореей. И там тоже вопрос о необходимости продолжения контактов с Пхеньяном обсуждался.
А накануне Пхеньян получил от Сеула приглашение на некий "ядерный саммит" в Южной Корее в следующем году.
Здесь можно было бы напомнить, что 2010 год был омрачен загадочной историей с утонувшим южнокорейским корветом "Чхонан" и обстрелами со стороны северян южнокорейской деревни. В феврале этого года прошли военные переговоры двух стран - вроде бы неудачно, хотя с тех пор никаких инцидентов нет. Север, кроме того, больше не заявляет, что с нынешним президентом Юга говорить не будет и подождет до 2012 года, когда он сменится.
Сейчас приглашение Пхеньяну на саммит опять обставлено предварительными условиями - извиниться ну хоть за обстрел. Дальнейшее - дело переговоров, но переговоры - это нормально. В конце концов, все, что называется "корейской проблемой", очень сильно напоминает "ближневосточную проблему" и терпения требует бесконечного.
Между застоем и революцией
Очевидно, что, как и раньше, ключевую роль в дипломатии вокруг Корейского полуострова играет Пекин. Что очевидно и по сегодняшнему визиту туда Ким Чен Ира. И тут возникает вопрос не только дипломатический, но и философский. Хорошо ли, морально ли быть на стороне Северной Кореи - даже при известном для многих постоянном раздражении пекинских лидеров из-за нерационального поведения своих пхеньянских соседей?
Так вот, в 90-х годах многим казалось, что северокорейский режим (копия позднего сталинизма) - это такой очевидный анахронизм, что тут и говорить не о чем. Вдобавок регулярно циркулировали слухи о голоде, и если бы они были правдивыми, то на севере Кореи уже в живых никого бы не осталось. Да свергать его надо, этот аномальный режим.
А сейчас с ответами на этот вопрос все оказывается сложно. Слишком много за последние пару десятилетий было примеров того, к чему приводит противоположная политика - войн и подстрекательства к революции. И, чтобы не углубляться в истории типа иракской или афганской, посмотрим на Ливию (тоже почти аномальный режим) и на Египет.
Из последних новостей и репортажей: "Вашингтон пост" публикует смешную историю о том, что захватившие Бенгази ливийские "революционеры" начали свою деятельность с того, что ограбили банк. Долго сверлили сейфы со словами "это же наши деньги", взяли примерно на полмиллиарда долларов. А вы как хотели? Революций без грабежа (и убийств) не бывает. Товарищ Сталин с этого начинал свой славный путь, и не только он. Как рассказывает в своем двухтомнике "Россия и Запад" мой коллега Петр Романов, и декабристы, цвет русского дворянства, финансировали свою деятельность путем расхищения фонда, выделенного для смены солдатских портянок.
Египет: та же газета решила поинтересоваться, как чувствуют себя простые египтяне из городка Кафр-эль-Месела (родины бывшего президента Мубарака) и прочие угнетенные прежним режимом египтяне сегодня. Оказалось, плохо. На бензоколонках дерутся друг с другом за горючее на ножах, везде - грусть и депрессия, и воспоминания о том, что раньше тоже была бедность, но не было ощущения, что "никому ни до кого нет дела". Знакомые каждому россиянину реальности 90-х, не правда ли?
Вопрос о том, что лучше - как в Ливии (или Египте) или как в Северной Корее, как минимум заслуживает размышлений. Китай, главная подпорка северокорейского режима, символизирует в нашем мире ноу-хау постепенных реформ "плохих" режимов и обществ: в самом Китае, Вьетнаме (успешно), Бирме (только начинается), Северной Корее (не получается). Революционеры из Северной Африки явно подняли престиж китайцев как мастеров идти другим путем. Дмитрий Косырев, политический обозреватель РИА Новости
Туристический сектор Египта постепенно восстанавливается, но россияне пока не торопятся открывать сезон на курортах африканского государства: в апреле 2011 его посетили на 65% меньше российских туристов, чем за аналогичный период прошлого года, сказала директор туристического отдела посольства Египта Нахед Назми Айяд Ханна в эксклюзивном интервью РИА Новости.
Президент Египта Хосни Мубарак ушел в отставку 11 февраля 2011 года после 18 дней народных волнений в стране, сопровождавшихся беспорядками, обвалом экономики и системы безопасности. За время беспорядков в Египте погибли более 800 человек, несколько тысяч получили ранения. В связи с народными волнениями в Египте МИД РФ в конце января рекомендовал российским гражданам не ездить в эту африканскую страну. Первого апреля Ростуризм снял ограничения на продажу туров в Египет, действовавшие с 29 января 2011 года. Со 2 апреля туроператоры начали восстанавливать чартерные программы.
"Согласно статистике, в апреле 2011 года, по сравнению с апрелем 2010-го, произошел спад на 65%. Таким образом, в апреле (Египет посетили) более 111 тысяч российских туристов", - сообщила Ханна. При этом она отметила, что речь идет только о данных за последние три недели апреля, поскольку в начале месяца российские туроператоры еще занимались подготовкой предложений по Египту.
В то же время представитель египетского посольства подчеркнула, что и в марте, когда в России действовали ограничения на продажу туров в Египет, не все русские туристы отказались от посещения пирамид и знаменитых пляжей Красного моря. Не менее 6 тысяч 294 россиян в первый месяц весны въехали в Египет через территории третьих стран.
"Эти данные подтверждают мою точку зрения: если бы русские туристы не получили рекомендации не ездить в Египет, они бы даже не подумали об этом. В любом случае они будут приезжать!" - считает Ханна.
По ее словам, популярность в России египетских курортов объясняется не только хорошим отношением россиян к этой африканской стране или низкими ценами на путевки.
"Потому, что если мы посмотрим на какой-то один аспект, например, на цены, мы увидим, что цены на ряд других направлений сейчас ниже, чем стоимость поездки в Египет. Просто важным фактором, привлекающим людей, является климат, море и песок", - сказала Хана.
Как заметила директор туристического отдела египетского посольства, отрицать, что события, произошедшие в Египте, ударили по туристическому сектору, невозможно. Однако Ханна убеждена, что скоро сектор восстановится и вновь начнет подпитывать экономику страны.
Что касается прогнозов относительно того, сколько туристов посетит Египет в 2011 году, то здесь, по мнению Ханны, никто не в состоянии назвать точные цифры.
"Но количество туристов будет близко к данным прошлого года", - полагает она.
Туризм - одна из главных отраслей экономики Египта, в которой занято более 10% трудоспособного населения страны. Общее число иностранных туристов, ежегодно посещающих "страну пирамид", составляет около 14 миллионов человек. В 2010 году доходы Египта от туризма составили порядка 13 миллиардов долларов. Убытки туриндустрии Египта из-за беспорядков и политического кризиса в стране составили с января по май этого года около 2,27 миллиарда долларов. Елена Емышева
Ситуация на рынке сортового проката в Японии не внушает оптимизма на фоне низкого спроса. Несмотря на удешевление отечественного лома (-$6-12/т по курсу $1=80,95JPY - 0,5-1 тыс. JPY/т за неделю), местным производителям по-прежнему удается сохранять статус-кво, ссылаясь на ограниченный объем предложения из-за перебоев с поставками электроэнергии. Так, внутренние цены в национальной валюте находятся на уровне показателей первой половины мая. Однако ввиду ревальвации японской иены котировки в долларовом эквиваленте за неделю добавили в среднем $6/т.
В то же время, экспортеры длинномерного проката проводят более смелую политику: ориентируясь на действия региональных поставщиков, японцы пытаются взять процесс формирования цен в свои руки. За неделю котировки квадратной заготовки для внешних рынков были увеличены на $10/т.
В частности, стало известно о предложениях квадрата из Японии во Вьетнам по $685-690/т C&F ($712-718/т с учетом 4% импортной пошлины). Однако консенсуса достичь не удалось, поскольку вьетнамские перекатчики выставляют встречные цены не выше $670-675/т C&F ($697-702/т с учетом импортной пошлины). Требования контрагентов выглядят небезосновательными, принимая во внимание тот факт, что внутренние цены на полуфабрикаты в стране на $8-22/т ниже стартовых котировок японского материала (с учетом 4% импортной пошлины) - $690-710/т EXW. Аналогичная ситуация наблюдается на рынках Тайваня и Южной Кореи: местные перекатчики намного охотнее контрактуют квадратную заготовку отечественного производства, которая котируется на $26-34/т и $15-25/т, соответственно, ниже импортной.
Положение усугубляет еще и слабый спрос в сегменте готового сорта ввиду довольно низких темпов реализации строительных проектов в регионе, а также приближение сезона дождей. Тем не менее, региональные поставщики сорта пока не намерены сдавать позиции, аргументируя свои действия тем фактом, что некоторые строительные компании в странах Юго-Восточной Азии, стремясь завершить ряд проектов к июню, нарастили закупки. В частности, китайские поставщики за неделю повысили цены на арматуру и катанку на $5/т, ссылаясь также на достаточно сильную поддержку внутреннего рынка. Игроки сообщают, что предложения арматуры и катанки из КНР в Японию поступают по $715-735/т C&F и $725-750/т C&F, соответственно. При этом экспортеры из Южной Кореи по-прежнему не могут позволить себе увеличивать ставки, поскольку ситуация внутри страны оставляет желать лучшего: цены на арматуру, равно как и в конце апреля, все еще варьируются в диапазоне $745-755/т C&F.
В итоге, несмотря на то, что цены на импортный материал как минимум на $50-95/т ниже внутренних, контрагенты из Японии не спешат садиться за стол переговоров с зарубежными игроками. Местные металлотрейдеры, вероятно, опасаются прогадать в случае отката котировок импортного сорта. Рассчитывать на поддержку конечных потребителей им пока также не приходится. Напомним, что в марте капиталооборот в сегменте снизился на 11% в годовом сравнении после прироста на 19,5% в феврале. В итоге, число частных и государственных строительных проектов снизилось на 1,4% и 28,2%, соответственно, против показателей за аналогичный период 2010 г.
Не вызывает оптимизма еще и сокращение объемов выпуска автомобилей на 49% в марте против показателей февраля, что обусловило падение спроса на катанку. Более того, удорожание топлива также будет препятствовать восстановлению покупательской активности конечных потребителей.
Участники рынка полагают, что до конца мая отечественные производители смогут сохранять цены за счет ограниченного объема предложения. В июне, ввиду прогнозируемого обострения конкуренции с поставщиками из-за рубежа, не исключено, что им придется пойти на попятный. Тем не менее, уже в июле на фоне необходимости восстановления инфраструктуры ожидается активизация строительного сектора, что позволит заводам увеличить ставки. В частности, крупнейшая японская строительная компания Sekisui House"s Ltd. уже заявила о том, что намерена как минимум вернуться к показателям 2009 г., нарастив количество реализуемых резидентных проектов. Впрочем, резкого прироста ожидать не приходится: сдерживающим фактором будет начало сезона дождей в регионе. Отметим, что японские производители, ссылаясь на грядущие восстановительные работы, рассчитывают на среднегодовой прирост активности строительных компаний в среднем на 1,1% (вплоть до 2015 г.).
С января по март 2011 г. товарооборот между Китаем и Вьетнамом составил $7,901 млрд. Это на 42,3% больше, чем с января по март 2010 г.
Объем экспорта из Поднебесной во Вьетнам достиг $5,862 млрд. Этот показатель увеличился на 39,1% к уровню аналогичного периода прошлого года. Объем вьетнамского импорта в КНР составил $2,039 млрд, показав рост в 52,1%.
По данным Министерства промышленности и торговли Вьетнама, в течение последних 20 лет отношения двух стран планомерно восстанавливаются и развиваются. Так, в 2009 г. на фоне международного финансового кризиса и глобальной экономической рецессии объемы внешней торговли Вьетнама с другими странами сократилась. В то же время торговый оборот с Китаем вырос на 5,8%. В результате двусторонний товарооборот увеличился в 567 раз к уровню 1991 г. В 2010 г. объем вьетнамско-китайской торговли достиг $27 млрд.
По мере развития взаимовыгодных отношений формы вьетнамско-китайской торговли диверсифицируются. Если до 2000 г. большая доля двусторонней торговли приходилась на приграничное сотрудничество, то с 2001 г. все больше заявляют о себе реэкспорт, транзитная и толлинговая торговля. В 2004 г. Китай стал крупнейшим торговым партнером Вьетнама.
Сбор урожая орехов кешью во Вьетнаме в самом разгаре. Но по прогнозам фермеров, год станет неудачным, собрать удастся лишь 350 тыс. тонн. Из-за дождей и насекомых сильно пострадает и качество орехов, заявляют специалисты вьетнамской Ассоциации производителей орехов кешью (Vietnam Cashew Association /Vinacas), - пишет vietnamnet.vn.
Страна могла бы импортировать недостающие объемы для последующей переработки и экспорта. Но основным поставщиком кешью во Вьетнам является Кот-д'Ивуар, а из-за беспорядков в республике импорт станет возможным только после 15 мая. Ожидаемый объем поставок - 217 тыс. тонн. Импорт из других стран пока под вопросом.
Таким образом, отсутствие капитала и сырья скорее всего не позволят Вьетнаму экспортировать намеченные объемы на сумму $1,4 млрд. в 2011 году.
В 2010 году российский импорт кешью составил 8,24 тыс. тонн на сумму $47,92 млн. На долю Вьетнама пришлось 77%. Среди крупных поставщиков также Бразилия (12%) и Индия (11%).
Строительный банк КНР официально объявил об открытии своего тайбэйского представительства. По словам председателя правления Стройбанка Го Шуцина, этот шаг поможет в углублении сотрудничества кредитного учреждения с тайваньскими банками.
Банк будет предоставлять качественные финансовые услуги тайваньским предприятиям и индивидуальным лицам.
Материковый Китай уже давно стал крупнейшим торговым партнером Тайваня. В 2010 г. объем двустороннего товарооборота составил $145,37 млрд. Этот показатель увеличился на 36,9% к уровню 2009 г.
Стройбанк к настоящему времени имеет филиалы в Сянгане, Сингапуре, Франкфурте, Йоганнесбурге, Токио, Сеуле, Нью-Йорке, Хошимине и Сиднее. Представительства банка открылись в Москве и Тайбэе. К концу 2010 г. общие активы этого кредитного учреждения составили 10,81 трлн юаней ($1,7 трлн). Чистая прибыль достигла 135 млрд юаней ($20,7 млрд).
Банковская система Китая уверена в стабильном росте на ближайшие пять лет. Дело в том, что стабильное развитие китайской экономики предполагает столь же стабильное развитие коммерческих банков страны. С 2011 по 2016 гг. китайские банки увеличат спектр предложений и услуг для клиентов. По оценкам экспертов, потребительские кредиты, управление активами, кредитные карты в этот период достигнут своего расцвета.
Национальная комиссии по развитию и реформам Китая наложила запрет на экспорт всех видов дизельного топлива на неопределенное время для обеспечения внутренних поставок, сообщает The Financial Times. При этом на Гонконг и Макао эти ограничения не распространяются.
Таким образом, правительство хочет обеспечить полномерные поставки нефтепродуктов в период высокого спроса в связи с сезонными сельскохозяйственными нуждами. Кроме ого, этот шаг, по мнению властей, поможет сдерживать инфляцию, которая рассматривается как серьезная угроза социальной стабильности.
Государство планировщик сообщил, что будет стимулировать импорт нефтехимического сырья. Комиссия призвала местные власти и нефтяные компании к обеспечению стабильных поставок нефти в качестве средства для поддержания социальной стабильности и содействия экономическому развитию.
Главными покупателями китайского дизеля являются Вьетнам, Гонконг и Сингапур. Китай экспортирует до 100 тыс. барр. дизтоплива в день.
Напомним, в начале апреля, китайское правительство подняло цены на бензин и дизельное топливо примерно на 5%.
Даже после того как японская автомобильная промышленность восстановится от разрушительных стихийных бедствий, обрушившихся на страну в марте, региональная промышленность с трудом сможет вернуться к прежним производственным показателям, особенно из-за ограничений в поставках электроэнергии и топлива, говорится в пресс-релизе PricewaterhouseCoopers.
Нехватка электроэнергии в Японии может привести к росту спроса на нефть. Экономия топлива и ограничения по выбросам CO2 могут оказать своевременную поддержку развитию электромобилей и технологий экономии топлива, которые сейчас активно внедряются на рынке.
Также в сообщении PwC говорится, что в последние годы автомобильная отрасль Японии направляла свои усилия на децентрализацию производства в северо-восточной части страны, включая зоны, в наибольшей степени пострадавшие от стихийных бедствий. Долгое время местные производители пользовались такими преимуществами северного региона, как более низкие производственные затраты и развитая инфраструктура. Такое решение было частью политики по сокращению рисков в результате стихийных бедствий, представляющих угрозу основным процессам производства.
Несмотря на данную политику, очевидно, что цепочка создания стоимости в локальной и мировой автомобильной отрасли остается уязвимой. Сбои в поставках, казалось бы, незначительных компонентов могут приостановить производство в отдаленных регионах на международном уровне, отмечается в сообщении.
При этом в PwC заявляют, что сложные цепочки поставок в автомобильной отрасли затрудняют оценку немедленных и среднесрочных последствий разрушительных событий в Японии. Однако мировая отрасль продемонстрировала свою способность адаптироваться к резким переменам.
Согласно прогнозу, рост выручки в краткосрочной перспективе в 2011 году несколько снизится вследствие сложной ситуации в развитых странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Специалисты стали менее оптимистичны после событий 11 марта в Японии. Ожидается, что общемировые показатели сборки автомобилей будут сбалансированы интенсивным экономическим ростом развивающихся стран региона (Китай, Индия, Индонезия, Малайзия, Пакистан, Филиппины, Тайвань, Таиланд, Вьетнам), а также стран Северной Америки и Европы. Некоторое снижение количества произведенных автомобилей в текущем году может привести к более высокому, чем ожидалось, уровню производства автомобилей в 2012 году
Китайские власти на неопределенное время приостановили экспорт дизельного топлива. Это связано с растущим спросом внутри страны. Об этом сообщила Национальная комиссия по развитию и реформам Китая.
В то же время запрет на поставки топлива за рубеж не коснется Гонконга и Макао.
Китайское правительство с помощью подобных мер сдерживает рост цен на дизельное топливо.
Отметим, что основными покупателями китайского горючего являются Вьетнам, Гонконг и Сингапур. Поднебесная отправляет за свои границы до 100 000 баррелей топлива ежедневно.
Ранее специалисты китайской государственной нефтяной компании CNPC прогнозировали замедление роста потребления нефти в Китае. В 2011 г. ожидается, что видимое потребление вырастет на 6,2%, достигнув 9,66 млн баррелей в сутки.
В 2010 г. рост составил 11,4%. Нефтеперерабатывающие мощности снизят производительность до 490 000 баррелей в сутки, тогда как в прошлом году этот показатель был 640 000 баррелей.
В то же время дизельное топливо будет пользоваться большим спросом, чем бензин. На этот процесс повлияет использование альтернативных видов топлива и ограничение продаж автомобилей на государственном уровне.
Напомним, что с 22 декабря 2010 г. в Китайской Народной Республике стоимость одной тонны бензина выросла на $46,3, а дизельного топлива - на $44,8. Рост цен на топливо в Поднебесной вызван непрерывным процессом увеличения стоимости нефтепродуктов на мировом рынке.
За первый квартал текущего года количество строительных проектов, одобренных правительством Камбоджи, удвоилось по сравнению с аналогичным периодом года прошлого.
Стоимость проектов, уже одобренных в этом году, оценивается в $324 миллиона. В прошлом году этот показатель составлял лишь $159 миллионов, сообщает International Business Times.
Во многом данный рост произошел благодаря усилиям министерства строительства страны, направленным на развитие отрасли. Глава ведомства Лао Тип Сейя отмечает рост числа строительных компаний, обращающихся за получением лицензий на работу, а также одобрений большого количества объектов крупного строительства. Сюда входят: сооружение новых гидроэлектростанций, текстильных фабрик и цехов по производству одежды, а также отелей и АЗС. Кроме того, было одобрено строительство нескольких новых проектов в области жилья.
Некоторые участники рынка обращают внимание на активизацию иностранных инвесторов. В основном это инвесторы из Малайзии, Филиппин, Вьетнама и Южной Кореи.
Управляющий камбоджийским филиалом компании CB Richard Ellis Дэниел Пэркис полагает, что в прошлом году рынок недвижимости Камбоджи достиг «дна», и что теперь он обладает неплохим потенциалом для непрерывного роста.
Расшифровка документов, принятых на заседании министров иностранных дел стран - членов ШОС в Алма-Ате в субботу, выявляет ключевое в них слово: Афганистан. Именно с ним связан предстоящий принципиально новый этап развития Шанхайской организации сотрудничества - этап, который еще не наступил, но к которому вся Центральная Азия усиленно готовится. Афганистан без войск США и НАТО - это будет совсем другой регион. Не обязательно более безопасный и более понятный, чем сейчас. Но другой.
Сценарий готов
ШОС - достаточно мощный политический механизм, работающий круглый год, на всех уровнях, начиная с высшего и заканчивая встречами студентов. Это сегодня классическая международная региональная организация, напоминающая АСЕАН в Юго-Восточной Азии или МЕРКОСУР в Латинской Америке. Заседают главы государств, правительств, министерств обороны и антинаркотических ведомств, банкиры и министры культуры, работают программы, создающие общие пространства безопасности и сотрудничества для региона, называемого Центральной Азией. К этому региону полностью или частично имеют отношение полноправные члены ШОС - Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан.
В этой механике Совет министров иностранных дел - такой, как заседал в эту субботу, - играет роль финальной подготовительной встречи перед ключевым событием, саммитом. Саммит в этом году пройдет уже не в Алма-Ате, а в столице Казахстана Астане, 15 июня. Министры иностранных дел, по сути, утвердили сценарий саммита. В таких случаях высшие лидеры государств обсуждают уже не столько итоговые документы, сколько то, что предстоит сделать ШОС в следующем году.
В Алма-Ате был подготовлен и согласован большой пакет документов - проект будущей Астанинской декларации, антинаркотическая стратегия и многое другое. И прозвучала - из уст российского министра Сергея Лаврова - новость: "На днях Афганистан обратился с просьбой предоставить статус наблюдателя. Этот вопрос будет рассмотрен на предстоящем саммите".
А это, во-первых, ключевой вопрос - кто, какие страны региона и их соседи должны быть членами ШОС, какие - наблюдателями, то есть их партнерами. Тут вопрос, по сути, того, о каком регионе идет речь. И, соответственно, что такое ШОС сегодня, чем она будет завтра, какими вопросами ему заниматься.
Конец и начало эпохи
Афганистан до сего дня был на особом статусе в ШОС - президент страны Хамид Карзай постоянно приезжал на саммиты организации в качестве гостя. То есть не имел статуса наблюдателя, как у Индии, Пакистана, Ирана, Монголии.
А еще Афганистан - страна, которая фактически и привела к созданию ШОС 10 лет назад, в Шанхае.
Это была очень драматичная история, потому что 10 лет назад - это был 2001 год. У ШОС до того была еще предыстория, несколько лет встреч лидеров стран, чьи территории сходились к бывшей советско-китайской границе. Надо было сделать эту границу безопасной, а отношения в регионе - предсказуемыми. Но еще, и как раз к лету 2001 года, у всех стран ШОС была общая угроза. Талибский режим в Кабуле. А угроза сплачивает, потому и решено было создать полномасштабную ШОС. Точно так же в 1967 году группой государств Юго-Восточной Азии была создана организация АСЕАН - по сути, причиной была коммунистическая угроза, исходившая из Китая (там тогда в разгаре была "культурная революция").
А дальше с ШОС произошла интересная история. Летом 2001 года угроза состояла в том, что через границу Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном шли талибские проповедники, создавались подрывные организации. Был теоретически возможен захват власти в Ташкенте или Душанбе настоящими террористами. Но только было принято "решение по ШОС", как случилось 11 сентября 2001 года, и вскоре после этого Афганистан стал страной, где были войска США. Ситуация изменилась радикальным образом.
Мне посчастливилось с близкого расстояния наблюдать за ходом действительно исторического заседания министров иностранных дел ШОС в Пекине в январе 2001 года. Решался вопрос - а теперь-то как, нужна ли нам ШОС в новой ситуации? Ответ был: а вот теперь и подавно нужна. Иначе центральноазиатские страны окажутся в роли Лаоса или Камбоджи в годы вьетнамской войны - их будут растаскивать поодиночке США и прочие силы, свергать там режимы, создавать военные базы где хотят, не спрашивая разрешения... Америке и прочим, воевавшим во Вьетнаме, этим предлагалось равноправное сотрудничество с группой государств, объединенных общим пониманием своих интересов в регионе. Как Америка отреагировала на это - другой вопрос. Сегодня уже не столь важный.
И вот теперь эпоха завершается. США и НАТО из Афганистана уйдут. А то еще и из Пакистана тоже. Процесс может оказаться быстрым или долгим, но в целом все равно уйдут. И Афганистан, судя по происходящему там сегодня, окажется страной, где конкурируют или сосуществуют интересы Китая, Индии, Пакистана, возможно - России, и Узбекистана и прочих стран тоже. То есть интересы либо членов ШОС, либо стран-наблюдателей. К этой новой эпохе надо готовиться.
Кто вступит
Накануне заседания министров в Алма-Ате прошла информация, что на самом заседании и на саммите в Астане ключевым будет вопрос о приеме новых членов. Хотя на саммите, скорее всего, лишь будут готовы образцы "приемных документов".
Понятно теперь, что в новой ситуации новые члены в ШОС будут вполне уместны. И ключевая проблема здесь вовсе не Иран, давно желающий туда вступить. Смягчится и станет более прозрачной политика Тегерана, прояснится вопрос с санкциями ООН против этой страны по поводу ее ядерных программ - и примут Иран в ШОС, он - реальный партнер множества стран региона.
Но теперь явно нет смысла держать перед дверями ШОС Индию и Пакистан, хотя насчет Индии возражал Китай. Иначе Афганистан будут тащить в разные стороны минимум две региональные силы - а кому это надо? Ну и с самим Афганистаном, как видим, все ясно. Он будет наблюдателем, а потом и членом ШОС. Уже хотя бы потому, что ключевая для ШОС антинаркотическая стратегия вряд ли принесет успех, если Афганистан не будет включен в структуру регионального сотрудничества.Заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС. Дмитрий Косырев
Китай прекратил экспорт дизельного топлива на неопределенное время, пишет The Financial Times со ссылкой на документы Национальной комиссии по развитию и реформам Китая. Запрет не затронет поставки дизеля в Гонконг и Макао.
Решение о прекращении экспорта принято в связи с необходимостью удовлетворения растущего спроса на этот вид топлива на внутреннем рынке. Кроме того, правительство поднебесной надеется таким образом держать цены на дизель на относительно низком уровне.
В прошлом месяце крупнейшая нефтяная компания КНР приостановила экспорт нефтепродуктов на фоне недовольства потребителей растущими ценами на топливо.
Нынешний запрет может подтолкнуть импортеров в регионе к тому, чтобы начать запасать топливо, считает аналитик Barclays Capital Амрита Сен.
Основными покупателями китайского дизеля являются Вьетнам, Гонконг и Сингапур. КНР экспортирует до 100 тысяч баррелей дизеля в день.
Ранее по подобному пути пошла Россия. Стремясь избежать нехватки нефтепродуктов на внутреннем рынке, власти РФ попытались ограничить экспорт бензина, увеличив экспортную пошлину. С 1 мая она составила 408,3 доллара за тонну. Бензиновый кризис привел к росту цен на топливо на внутреннем рынке.
Приближается сезон летних отпусков, а такой привычный для российского туриста отдых в Арабской Республике Египет все-таки стал проблематичным, так как страну по-прежнему лихорадит. Вряд ли стоит в ближайшее время отправляться и в Тунис – вторую страну, так любимую нашими соотечественниками за возможность бюджетного отдыха.
Что делать? Можно выбрать родное Черное море и, например, снять комнату в Геленджике, а можно выбрать еще одно популярное и доступное направление – Турцию, отдыхать в которой иногда получается значительно дешевле, чем в том же предолимпийском Сочи. Еще один вариант круглогодичного пляжного отдыха – Тайланд, правда, путевка туда будет стоить дороже, чем в страны, перечисленные выше. Кстати, многие аналитики и представители туроператоров предполагают, что если нестабильная обстановка в странах Северной Африки сохранится еще какое-то время, то приоритеты у туристов существенно изменяться именно в сторону Юго-Восточной Азии. Многие наши соотечественники помимо хорошо раскрученного отдыха в Паттайе или на Пхукете уже оценили привлекательность курортов Китая и Вьетнама. Единственное, с чем придется смириться россиянам – так это с тем, что отдых в азиатских странах обойдется дороже в силу их географической удаленности по сравнению со стоимостью туров в те же Египет или Тунис.
Еврокомиссия выдала разрешение на покупку российско-британской ТНК-ВР доли ВР в шельфовом проекте во Вьетнаме, говорится в сообщении комиссии.
Разрешение было выдано TNK Overseas Limited of Cyprus, которое контролируется ВР и консорциумом Alfa, Access, Renova. Разрешение было выдано по упрощенной процедуре.
ТНК-ВР в начале апреля подписала соглашения, подтверждающие покупку доли ВР в шельфовом добывающем газовом блоке 06.1 во Вьетнаме, а также получение компанией статуса оператора проекта. Соглашения, которые подлежат одобрению министерством промышленности и торговли Вьетнама, были подписаны ВР, как бывшим оператором проекта, а также партнерами ТНК-ВР по совместному предприятию - PetroVietnam и ONGC.
Во Вьетнаме, помимо доли BP в блоке 06.1, TНK-BP приобретет у BP долю в 32,7% в трубопроводе и терминале Nam Con Son, а также долю в 33,3% в электростанции Phu My 3. Перечисленные активы вместе образуют интегрированную цепочку от добычи газа до выработки электроэнергии с производственной мощностью в 30 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки (прямое долевое участие), или 15 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки исходя из компенсационной основы.
ТНК-ВР договорилась с ВР о покупке добычных, трубопроводных и электрогенерирующих активов британской компании во Вьетнаме и Венесуэле за 1,8 миллиарда долларов в октябре 2010 года.
Блок 06.1 является крупнейшим производителем газа во Вьетнаме и в 2011 году увеличит общую добычу ТНК-ВР на 18,8 тысячи баррелей нефтяного эквивалента в сутки исходя из компенсационной основы.
Сделки по приобретению ТНК-BP активов BP во Вьетнаме и Венесуэле реализуются в соответствии с планом. Завершение сделок ожидается в первой половине 2011 года.
Ранее заместитель председателя правления ТНК-BP Максим Барский говорил, что в текущем году компания не только не планирует значительных инвестиций в активы во Вьетнаме, но и предполагает получение значительных дивидендов.
ТНК-BP и вьетнамская государственная корпорация PetroVietnam в ноябре 2010 года подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает, что PetroVietnam поддержит вхождение ТНК-ВР на нефтегазовый рынок Вьетнама через покупку доли BP в шельфовом добывающем газовом блоке 06.1, а также намерения ТНК-ВР по дальнейшему расширению добывающего и перерабатывающего бизнеса во Вьетнаме.
TНK-BP и британская BP 18 октября 2010 года достигли соглашений о приобретении TНK-BP добывающих и трубопроводных активов ВР во Вьетнаме и Венесуэле на общую сумму 1,8 миллиарда долларов. Первый транш в 1 миллиард долларов был перечислен 29 октября. Согласно договоренностям, оставшиеся средства в размере 0,8 миллиарда долларов должны быть перечислены ВР по завершении сделок. При условии получения необходимых согласований со стороны правительств Вьетнама и Венесуэлы и выполнения прочих предварительных условий сделок, стороны ожидают их завершения в первом полугодии 2011 года.
При этом ТНК-ВР и клуб международных банков 14 октября 2010 года подписали соглашение о предоставлении компании необеспеченной кредитной линии, состоящей из двух траншей, на общую сумму 2 миллиарда долларов.
По условиям соглашений, в Венесуэле TНK-BP приобретет у BP долю в 16,7% в компании PetroMonagas SA, производящей высоковязкую нефть; долю в 40% в компании Petroperija SA, являющейся оператором месторождения DZO; а также долю в 26,7% в компании Boqueron SA. Работа на этих активах ведется в рамках совместных предприятий с венесуэльской PVDSA, а их совокупный объем добычи составляет 25 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
ТНК-ВР была создана в 2003 году. Ее добывающие активы расположены в Западной и Восточной Сибири, а также Волго-Уральском регионе. ТНК-BP принадлежат пять нефтеперерабатывающих заводов в России и на Украине и розничная сеть из 1,4 тысячи автозаправочных комплексов, работающих под брендами BP и ТНК. ТНК-ВР также владеет около 50% российской нефтегазовой компании "Славнефть". На долю ТНК-ВР приходится около 16% объема добычи нефти в России (включая долю в "Славнефти").
TNK-BP International, головная компания холдинга ТНК-ВР, в 2010 году увеличила чистую прибыль по US GAAP на 17% - до 5,815 миллиарда долларов, выручку - на 28%, до 44,646 миллиарда долларов.
В 2011 году ТНК-ВР планирует увеличить добычу на 1,3% - до 715 миллионов баррелей нефтяного эквивалента, а органические капвложения (не считая возможных покупок активов) - на 15%, до 4,6 миллиарда долларов.
По 50% ТНК-ВР принадлежит британской BP и российскому консорциуму AAR (25% - "Альфа-групп" Михаила Фридмана, по 12,5% - "Ренове" Виктора Вексельберга и Access Industries Леонарда Блаватника).
ООО «Пакистанская армия». Каждая страна имеет армию, но только в Пакистане армия имеет страну. В этой пакистанской шутке есть значительная доля правды. Бизнес-империю 600-тысячной армии Пакистана агентство Reuters оценивает в $15 млрд
За шесть с небольшим десятилетий существования государства Пакистан более половины этого срока им управляли военные. Хотя сейчас власть формально принадлежит гражданскому правительству, армия остается самой влиятельной, в том числе, в экономическом отношении, силой в одной из наиболее нестабильных стран планеты, имеющей ядерное оружие. Операция американского спецназа по уничтожению Усамы бен Ладена продемонстрировала то, во что многие пакистанцы до сих пор не хотели верить: пакистанская армия не только коррумпированная, но и неэффективная сила. По некоторым данным, пакистанские военные узнали о рейде американских «морских котиков» только после того, как рядом с домом главаря «Аль-Каиды» разбился американский десантный вертолет Black Hawk. К тому времени, как в воздух были подняты истребители F-16 пакистанских ВВС, американские десантники с телом Бен Ладена покинули территорию Пакистана.
Пакистанское общественное мнение разделилось: одни выражают возмущение тем, что американцы попрали суверенитет страны. Другие негодуют по поводу того, что Бен Ладен жил в Пакистане более пяти лет под самым носом у главной военной базы страны и в двух часах езды от штаб-квартиры могущественной пакистанской спецслужбы ISI. Либо военные тайно укрывали Бен Ладена, либо они настолько некомпетентны, что «прозевали» его. Во всех случаях представление о том, что за спиной неэффективных коррумпированных гражданских властей стоит солидная военная организация, становой хребет Пакистана и надежный союзник США, оказалось сильно преувеличенным.
Это, в свою очередь, заставляет экспертов в самом Пакистане и за его пределами внимательнее анализировать феномен пакистанской армии. Как во всякой стране, которая находится в состоянии постоянной военной готовности и враждует со своими соседями, армия выполняет гораздо более обширные функции, нежели специфически оборонительные. С 1947 года, т.е. с момента выделения Пакистана из бывшей британской колонии на полуострове Индостан пакистанцы трижды воевали с Индией. С учетом гигантского населения Индии, которое на порядок превосходит пакистанское (по данным ООН, к 2020 году Индия обгонит Китай по численности населения, которое превысит полтора миллиарда), Исламабад тратит на свою военную машину совершенно неподъемные 26% ВВП. И это не учитывая многомиллиардной американской помощи, идущей на подготовку, вооружение и содержание пакистанской армии.
Трудная дружба
В годы холодной войны Пакистан был одним из главных союзников Соединенных Штатов в Азии, с учетом того, что Индия с ее квазисоциалистической экономикой тяготела к Москве. С началом советского вторжения в Афганистан пакистанская армия выполняла ключевую роль: в тренировочных лагерях на территории Пакистана была фактически создана повстанческая армия талибов. С этого момента пакистанская спецслужба ISI приобретает влияние, которое делает ее серьезной политической силой.
Именно под крылом ISI Пакистан вопреки желаниям Вашингтона обзаводится ядерным оружием. Именно благодаря покровительству ISI создатель пакистанской ядерной бомбы Абдул Кадир Хан открыл свою «атомную лавку», продавая ядерные секреты самым одиозным режимам — от Северной Кореи до Триполи. Об этой подпольной торговле стало хорошо известно, не в последнюю очередь, потому, что ливийский диктатор Муаммар Каддафи предал гласности детали поставок ливийцам ядерных технологий из Пакистана, когда, заигрывая с Западом, отказался от собственной ядерной программы. С тех пор Кадир Хан, как принято считать, находится под домашним арестом, — то есть под защитой ISI.
Если Бен Ладена в Пакистане кто-то действительно прятал от американцев, то это были, скорее всего, люди из ISI. Их эффективность в этом случае можно оценивать по-разному. С одной стороны, не уберегли. С другой стороны, пять лет водили американцев за нос — на деньги американцев же.
Официальная позиция гражданских властей Пакистана, инициировавших расследование событий в городе Абботабад, заключается в том, что пакистанские военные продемонстрировали не больше некомпетентности, чем американские, которые столько лет безуспешно охотились на главаря «Аль-Каиды».
Американские и европейские аналитики не сомневаются в том, что у ISI имеются собственные интересы в Афганистане, которые расходятся с задачами Вашингтона. В частности, пакистанские спецслужбы не склонны особенно бороться с террористической группировкой «Хаккани», входящей в движение Талибан, поскольку считают ее силой, противодействующей влиянию Индии в Афганистане.
Проблема в том, что никакой иной реальной силы в пакистанском обществе, за исключением военных, нет. Гораздо хуже неэффективного сотрудничества с ними в войне с талибами станет приход к власти в Пакистане исламистов, которым достанется атомная бомба. Принято считать, что армия в целом не поражена религиозным фанатизмом.
Государство в государстве
Зато армия, по крайней мере, ее генералитет и значительная часть офицерского состава поражены коррупцией. В 2007 году политолог Аиша Сиддика выпустила книга Military Inc, в которой оценила оборот «корпорации» пакистанских военных в 15 миллиардов долларов. В интервью Reuters Сиддика заметила, что размах экономической деятельности армейских в Пакистане «не поддается воображению». На «микроуровне» военные владеют даже булочными и пекарнями. На «макроуровне» военным принадлежат целые отрасли экономики, включая нефть, газ, производство зерна и недвижимость.
Армия создала благотворительный Fauji Foundation; через этот фонд, по официальным данным, пособия получают 10 миллионов беднейших пакистанцев.
У армии имеется даже собственный «фонд благосостояния», Army Welfare Trust. Эта холдинговая компания владеет, в частности, половиной входящего в число крупнейших финансовых организаций Пакистана Askari Bank.
Такие активы позволяют армии проводить достаточно эффективные операции гражданского назначения, наподобие той, что военные осуществили после катастрофических наводнений прошлого года. Правительство проявило полнейшую некомпетентность. Президент Али Зардари даже не стал возвращаться на родину из поездки в Париж. Если бы военные не бросили на спасение пострадавших десантные подразделения на вертолетах, число жертв трудно себе представить.
Помимо госбюджета и собственных источников финансирования, вооруженные силы Пакистана получают щедрую помощь из Соединенных Штатов.
Помощь из США продолжит поступать
После рейда по уничтожению Бен Ладена в Америке раздаются призывы заморозить военную помощь Пакистану. Но если это и произойдет, то явно не сегодня. Как сообщил агентству Reuters представитель пакистанского Министерства финансов, в ближайшее время в Исламабад из США поступит 300 млн долларов в качестве компенсации за антитеррористические операции пакистанской армии. Речь идет о выплатах в рамках так называемого «фонда поддержки коалиции» (CSF). С 2001 года по этой линии Пакистан уже получил от американцев 7,4 млрд долларов. Важно отметить, что CSF является программой специального назначения и как таковая не проходит по разделу «финансовая помощь» в американском бюджете.
В американском конгрессе существуют серьезные сомнения не только в эффективности этих ассигнований, но и в том, что они используются по назначению. Так, в 2008 году американским аудиторам не удалось получить подтверждения целевого использования платежей по программе CSF.
Но американские деньги нужны в Исламабаде сейчас как никогда. Правительство страны зависит от иностранной финансовой помощи, переговоры с МВФ по выделению очередного транша кредита в 11,3 млрд долларов идут непросто. В августе 2010 г. МВФ прекратил выдавать пакистанцам кредит, поскольку правительство не соблюдает своих макроэкономических обязательств.
После устранения Бен Ладена место переговоров в качестве меры предосторожности перенесено из Исламабада в Дубаи. Михаил Бакланов
В Азербайджане лица, занимающиеся розничной торговлей сельхозпродукции, смогут повысить цену на товар лишь на 15%.
Как передает АПА-Экономикс, это предусмотрено в обсуждаемом в настоящее время в Милли Меджлисе законопроекте «О сельскохозяйственной кооперации».
Для предотвращения искусственного подорожания сельхозпродукции в законопроекте предусмотрен конкретный механизм, согласно которому оптовая база, закупающая продукцию у фермеров, сможет надбавить лишь 10% на цену, по которой она приобрела товар. В свою очередь лица, занимающиеся розничной продажей сельхозпродукции, смогут наценить всего 15%.
То есть, розничная цена на сельхозпродукцию может превышать оптовую не более чем на 15%. В результате разница между производственной ценой на сельхозпродукцию и потребительской может составить максимум 26,5%.
Как сообщили АПА-Экономикс в Милли Меджлисе, эта схема роста цен предусмотрена для предотвращения подорожания и искусственного завышения цен. Отметим, что такая практика существует в ряде зарубежных стран, в том числе во Вьетнаме и в некоторых европейских странах (в Испании).
Отметим, что контроль за ценами будут осуществлять местные исполнительные власти, муниципалитеты, Министерство сельского хозяйства.
На прошлой неделе в провинции Газни состоялась церемония открытия строительства двух новых мостов. На мероприятии присутствовали губернатор провинции Муса Хан Акбарзада и мэр города Газни Саид Абдул Басир.
Как сообщили в своих выступлениях представители местных властей, протяженность каждого из мостов составит 40 метров, а ширина – 2 метра. Предполагается, что строительные работы будут завершены в течение 2 месяцев, стоимость их проведения составит около 109 тысяч долларов (5 миллионов афгани).
Осуществление нового проекта позволит улучшить сообщение между берегами реки в южной части провинции и станет важной составляющей программы улучшения местной инфраструктуры, сообщает радиостанция «Салам Ватандар».
Научно-исследовательская деятельность Томского политехнического университета (ТПУ) в 2010 году достигла рекордных финансовых результатов в 1,2 миллиарда рублей, что является вторым результатом в России после МГТУ имени Баумана, сообщил в среду РИА Новости начальник информационно-аналитического управления ТПУ Сергей Могильницкий перед заседанием Ученого совета, приуроченного к 115-летнему юбилею вуза.
"Прошлый год был рекордным по бюджету. Финансовые результаты по научной деятельности по итогам 2010 года составили более 1,26 миллиарда рублей. В общем объеме научно-исследовательских опытно-конструкторских работ (НИОКР) мы вторые после "бауманки", - сообщил Могильницкий.
Он добавил, что "среди вузов, подведомственных министерству образования РФ, ТПУ, по итогам 2010 года, занимает первое место по числу защит кандидатских диссертаций и второе место - по защитам докторских диссертаций".
"В данный рейтинг не входят Московский и Санкт-Петербургский университеты", - уточнил Могильницкий.
Ранее ректор ТПУ Петр Чубик заявил, что в 2010 году ТПУ стал победителем нескольких конкурсов. В частности, "два проекта победили в конкурсе по постановлению правительства № 218 "О поддержке и кооперации вузов с промышленными предприятиями". В рамках того же постановления ТПУ является соисполнителем еще двух проектов: совместно с Томским госуниверситетом и Томским университетом систем управления и радиоэлектроники. Кроме того, "ТПУ вошел в число вузов-победителей конкурса программы развития инновационной инфраструктуры в рамках постановления правительства № 219".
Ранее губернатор Томской области Виктор Кресс в отчете обладминистрации за 2010 год сообщил, что государственное финансирование организаций томского научно-образовательного комплекса (НОК) в 2010 году превысило 21 миллиард рублей, что на 1 миллиард больше 2009 года (рост 5%).
"В 3,5 раза увеличился объем затрат на приобретение современного научного и диагностического оборудования, а также на технологические инновации в учреждениях науки. В целом это чуть меньше 3,5 миллиарда рублей", - сказал Кресс.
По информации обладминистрации, объем инвестиций в НОК Томской области в 2010 году увеличился на 14,7% и составил 10,9 миллиарда рублей. При этом более половины - 58% - это частные вложения. В 2009 году общий объем финансирования научной деятельности составил 9,5 миллиарда рублей.
ТПУ был основан в 1896 году как Томский технологический институт императора Николая II. В состав вуза сегодня входит 11 учебных институтов, три факультета, 100 кафедр, три НИИ, 17 научно-образовательных центров и 68 научно-исследовательских лабораторий.
Профессорско-преподавательский состав университета - 1,7 тысячи человек, в вузе обучаются 22,3 тысячи студентов, в том числе 224 студента из 31 страны дальнего зарубежья (Германии, Великобритании, Франции, Чехии, Китая, Японии, Вьетнама, Индии, Республики Корея, США, Израиля).
В 2009 году ТПУ вошел в число 12 вузов страны, получивших статус национального исследовательского университета (НИУ). Юлия Соколова.
В конце апреля спад на мировом рынке плоского проката постепенно сошел на нет. Цены стабилизировались, а в середине мая, по мнению многих специалистов, появятся и возможности для роста. В то же время, на тех региональных рынках, где цены в марте-апреле были более-менее стабильными, наоборот, началось понижение. На уступки потребителям пошли американские компании, а китайские производители, которые весь апрель пробовали увеличить стоимость своей продукции, неожиданно опустили экспортные котировки на горячий прокат до $685-695 за т FOB.
Непосредственной причиной своих действий китайцы называют появление в регионе конкурирующей российской продукцией. Во второй половине апреля российские металлурги, столкнувшись с серьезными сбытовыми проблемами внутри страны и за рубежом, обратили свое внимание на Дальний Восток – прежде всего, Корею, Индию и некоторые страны Юго-Восточной Азии. Предложения с их стороны поступали из расчета $720-740 за т CFR, что примерно соответствало стоимости аналогичной китайской продукции в середине апреля. Кроме того, по словам китайцев, их серьезно тревожила возможность конкуренции со стороны украинских компаний, в конце прошлого месяца продававших горячекатаные рулоны вообще по $630-640 за т FOB, что соответствовало менее $700 за т CFR в странах Восточной Азии.
Такая нервная реакция со стороны китайских металлургов обусловлена тем, что сейчас они как никогда нуждаются в рынках сбыта за рубежом. При этом, азиатские страны являются для них основным рынком. В марте 2011 года из 4,91 млн. т китайского экспорта стали, по данным MySteel, почти 2,6 млн. т пришлось на Корею, 1,4 млн. т – на Индию, Вьетнам и Таиланд, а всего в первой десятке покупателей китайского проката значились всего две неазиатские страны – Бельгия и США, закупившие в совокупности около 630 тыс. т стальной продукции (данные об объеме внешних поставок в марте, представленные MySteel, расходятся с официальными, превышая их, по меньшей мере, на 800 тыс. т). Крупнейшей статьей экспорта были горячекатаные рулоны – более 750 тыс. т.
В принципе, внутренние цены на плоский прокат на китайском рынке превышают экспортные. В начале мая средняя рыночная стоимость коммерческих горячекатаных рулонов в восточных провинциях превысила $765 за т с металлобазы. При этом, курс юаня к доллару непрерывно укрепляется. В начале мая он впервые с 1993 года превысил отметку 6,50 юаней за доллар. Это благоприятствует импорту сырья – железной руды и металлолома, но ставит в невыгодное положение экспортеров стальной продукции.
Тем не менее, экспорт сейчас очень важен для многих китайских компаний, что, собственно, и объясняет их ожесточенную борьбу за внешние рынки. В самом Китае ситуация постепенно ухудшается. Котировки на местном рынке, непрерывно поднимавшиеся с середины апреля, 4 мая пошли на спад. Ожидания большинства участников имеют негативный характер. Правительство страны, озабоченное самым высоким за последние три года уровнем инфляцию, последовательно ужесточает финансовую политику. На прошлой неделе, в частности, была повышена учетная ставка и были увеличены нормативы резервирования для банков. Предпринимаются меры по недопущению роста цен на недвижимость. Власти окончательно отказались от проведения политики стимулирования экономики с помощью инвестиций. Так, капвложения в строительство и реконструкцию железных дорог в этом году было решено уменьшить от 700 млрд. до 400 млрд. юаней. В реальный сектор поступает все меньше кредитных ресурсов, что ведет к сокращению объемов потребления стали. Сузились и масштабы потребительского кредитования, что привело к спаду в китайской автомобильной промышленности, с февраля сбавившей обороты.
В то же время, производство стали в апреле, по данным национальной металлургической ассоциации CISA, превышало 1,90 млн. т в день. Компании спешат, наращивая объемы выпуска несмотря на отчетливый избыток предложения на внутреннем рынке, чтобы успеть до лета. По оценкам правительства страны, в летние месяцы в ряде провинций вновь возникнет дефицит электроэнергии. В результате этого, как ожидается, власти, как и прошлой осенью, введут ограничения на энергоснабжение крупных промышленных потребителей, включая меткомбинаты.
В целом китайские сталелитейные компании не заинтересованы в понижении цен. В первом квартале текущего года, по данным CISA, себестоимость выплавки стали в стране возросла на 27,5% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности за счет подорожания сырья и энергоносителей. В то же время, цены увеличились примерно на 20-22%. Как заявляет CISA, в январе-марте средняя рентабельность 77 крупнейших металлургических компаний страны составляла 2,91%, на 3,3 процентных пункта ниже, чем в среднем по национальной промышленности, а 10 компаний и вовсе завершили этот период с убытком. Отправляя излишки стальной продукции на экспорт, китайские компании снижают давление на внутренний рынок и тем самым удерживают цены на нем от спада.
Судя по всему, китайцы в ближайшее время будут внимательно отслеживать действия российских компаний, особенно, уровень их предложений для стран Восточной Азии и Индостана. В коммерческом сегменте Китай твердо намерен удерживать статус поставщика наименее дорогостоящей стальной продукции, по крайней мере, в «своем» регионе.
С прошлого года количество квалифицированных иностранных специалистов, приехавших в Россию, увеличилось в два раза. Такие данные приводит ФМС. Среди высококлассных специалистов лидируют граждане Германии, среди квалифицированных — жители Китая
Глава Федеральной миграционной службы (ФМС) Константин Ромодановский сообщил об изменении миграционных потоков в Россию и об увеличении числа приезжающих на работу квалифицированных иностранных специалистов. По сравнению с прошлым годом их число увеличилось в два раза.
«Если мы сравниваем прошлый и нынешний год, то мы имеем практически двукратное увеличение количества и квалифицированных специалистов, высший технический топ-менеджмент, и высококвалифицированных специалистов», — заявил он.
С 1 июля 2010 года по 1 апреля этого года на работу в Россию больше всего высококвалифицированных сотрудников были привлечены из Германии — 14% от общего числа иностранных рабочих. 10% — из США, 9% и 8% — из Великобритании и Франции.
Также в Россию едут специалисты из Италии, Южной Кореи, Украины, Турции, Японии, Швеции. При этом среди квалифицированных специалистов, приезжающих в Россию, лидируют граждане КНР (15%), Украины (13%) и Турции (10%).
Также в списке стран, откуда выезжают квалифицированные специалисты, — представители Германии, Франции, Вьетнама и Индии. Такие данные глава ФМС привел на встрече с премьером Владимиром Путиным.
Упрощенная схема
Причина увеличения притока иностранных граждан в Россию заключается в изменениях, которые были внесены в прошлом году в миграционное законодательство, а именно в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», указывает Ромодановский.
Они вступили в силу с 1 июля 2010 года, а смягчение миграционного законодательства было связано и с желанием властей форсировать начало работы инновационного центра «Сколково». Для работы над проектами требовалось привлечение иностранных специалистов. В ноябре фонд «Сколково» и ФМС дополнительно заключили соглашение о сотрудничестве в реализации проекта «Сколково», которое предполагало упрощение визового режима и выдачу разрешений на работу иностранным гражданам по упрощенной схеме, без бюрократических проволочек.
Согласно поправкам, работодатель в двух случаях получил возможность привлекать иностранных специалистов, не имея на это разрешения: если иностранцы приехали в Россию по безвизовому режиму и если они являются высококвалифицированными специалистами.
За высококвалифицированного специалиста принимается иностранный гражданин, имеющий опыт работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности, если условия привлечения его к трудовой деятельности в РФ предполагают получение им заработной платы в размере 2 и более млн рублей за период, не превышающий одного года. При этом правительство РФ оставило за собой право снижать указанные требования к размеру заработной платы.
На таких специалистов квоты на привлечение иностранной рабочей силы не распространяются. Оценку компетентности иностранных граждан работодатель должен определять самостоятельно. Договор с таким специалистом может заключаться на срок, не превышающий три года (раньше он был ограничен одним годом). Продлевать его можно неоднократно. С 21 мая 2010 года доходы высококвалифицированных иностранных специалистов облагаются в России по ставке 13%.
В России, согласно ранее обнародованным данным ФМС, трудится от 3 млн до 5 млн человек – граждан иностранных государств. Какое количество мигрантов относится к квалифицированным работникам, эксперты оценить затруднились. По словам директора Центра этнополитических и региональных исследований Владимира Мукомеля, эта цифра не превышает «нескольких тысяч человек».
Ранее департамент труда и занятости Москвы предоставил данные о том, что в 2010 году от организаций поступило более 47 тысяч заявок на привлечение мигрантов. Уровень их заработной платы колеблется в зависимости от квалификации: для разнорабочих она составляет около 12 тысяч рублей в месяц, для руководителей среднего и высшего звена в компаниях — начинается уже от 1 млн рублей в месяц.
Самый высокооплачиваемый в России специалист-экспат получал в 2010 году 22,7 млн рублей в месяц, сообщала ранее газета «Ведомости». Его привлекла компания «Провими», которая специализируется на производстве пищевых добавок и комбикормов. Всего, по данным издания, в столице на 2010 год насчитывалось 46 иностранцев, чья заработная плата превышала 1 млн рублей в месяц.
Рейтинг востребованных профессий
На российском рынке труда по данным на апрель этого года самыми востребованными были менеджеры по продажам. Спрос на них составил 7,7% от совокупности запросов работодателей, свидетельствуют данные исследовательского центра рекрутингового портала Superjob.ru.
Квалифицированные рабочие — на втором месте. На третьем — инженеры.
Но высококвалифицированных специалистов из-за рубежа чаще всего нанимают на управленческие позиции, считает Мария Силина, менеджер по работе с клиентами «Агентство Контакт». Причем для многих российских собственников привлечение экспата — модная тенденция, рассказывает она BFM.ru.
«В настоящее время на рынке существует две тенденции: первая заключается в том, что международные компании нанимают на ключевые позиции экспатов из своего же филиала, то есть просто переводят их в Россию. Вторая состоит в том, что некоторые российские компании хотят видеть в качестве руководителя исключительно иностранца. И в этом случае иностранцев мотивируют размером заработной платы. Ряд компаний активно практикует данный метод, несмотря на то, что некоторые компании оказались в нем разочарованы», — говорит Мария Силина. Владимир Мукомель дополняет: больше всего экспатов привлекают компании финансового, банковского и IT-секторов.
Иностранцам на рынке труда места хватает
«Рост числа квалифицированных мигрантов не повлияет на российский рынок труда, — считает Мукомель. — Количество высокооплачиваемых иностранцев настолько мало, что не сделает погоды». При этом Россия по-прежнему нуждается в привлечении именно неквалифицированной рабочей силы, уверен эксперт. И, как ни странно, именно она в стране квотируется: ограничение на 2011 год составляет 1,7 млн человек.
С прошлого года иностранных рабочих – выходцев из стран СНГ обязали приобретать патенты — разрешения на работу у физических лиц. Как заявил сегодня Ромодановский, сейчас ежедневно оформляется 4,6 тысячи патентов в день. В бюджет уже поступило более 0,5 млрд рублей. Но столько же бюджет потерял из-за того, что иностранцы не выплачивали штрафы и уезжали из России, сообщил Ромодановский.
Что же касается квот, то в будущем есть вероятность того, что квоты на иностранную рабочую силу будут отменены. Это сейчас обсуждается в рамках «Стратегии 2020». Квоты, как ранее заявлял глава ФМС, бьют по малому и среднему бизнесу.
Яна Милюкова
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


























