Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
Гаагский Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи. Ему вменяют в вину преступления против человечности, совершенные во время подавления антиправительственных демонстраций. Впрочем, у ливийского лидера пока нет причин для беспокойства. Во-первых, Ливия не входит в юрисдикцию МУС. Во-вторых, неспособность Гаагского суда добиться ареста высокопоставленного политика доказал действующий президент Судана Омар аль-Башир, который должен был предстать перед международным правосудием еще два года назад.
Тем не менее вчера МУС признал Муаммара Каддафи, его сына Сейфа аль-Ислама и главу разведки Абдуллу аль-Санусси виновными в военных преступлениях против ливийского народа. По мнению суда, эти трое причастны к целенаправленному уничтожению мирного населения Ливии после того, как в феврале страну захлестнули антигосударственные демонстрации. В марте противостояние режима Каддафи и повстанцев превратилось в полноценную гражданскую войну.
Расследовать деятельность Каддафи в МУС рекомендовала резолюция Совбеза ООН №1970 от 26 февраля. 3 марта прокурор МУС Луис Морено-Окампо начал расследование и 16 мая попросил суд выдать ордер на арест ливийского лидера и его соратников. 27 июня просьба была удовлетворена решением МУС. На разбирательстве не присутствовали ни адвокаты Каддафи, ни представители его жертв. МУС ознакомился с собранными прокуратурой доказательствами и на их основе пришел к выводу, что режим Каддафи, наблюдая за народными волнениями в Тунисе и Египте, заранее разработал план действий на случай возникновения похожей ситуации в Ливии. «На самых высших уровнях власти было принято решение подавить антиправительственные выступления любой ценой, в том числе убийством мирных жителей», — гласит официальное заявление МУС.
Официальные представители режима Каддафи уже заявили, что не собираются прислушиваться к решению МУС. Юрисдикция суда на Ливию не распространяется вовсе, поскольку Триполи не подписывал Римский статут — договор о сотрудничестве с МУС. Напомним, что МУС был создан в 2002 году для расследования самых серьезных преступлений против международного сообщества как единого целого. В частности, суд занимается расследованием фактов геноцида, агрессии, преступлений против человечности и военных преступлений. В отличие от Международного суда ООН, также расположенного в Гааге, МУС непосредственно не является частью этой организации.
При выдаче ордера на арест МУС надеется на добровольное сотрудничество властей стран, где может находиться обвиняемый. Собственной полицейской службы у суда нет. Его юрисдикция в полной мере распространяется на 114 стран мира. Еще 34 страны подписали, но не ратифицировали Римский статут, что снимает с них формальные обязательства перед МУС. В их число входит и Россия, что позволяет отечественной дипломатии продолжать играть роль посредника между режимом Каддафи и ливийскими повстанцами.
Отсутствие реальных возможностей у МУС арестовать главу государства стало очевидным в марте 2009 года. Тогда был выдан первый ордер на арест первого лица страны — суданского лидера Омара аль-Башира, которого обвиняют в проведении этнических чисток в Дарфуре. Политик отказался повиноваться МУС и продолжил работу на своем посту. Более того, в марте 2009-го аль-Башир совершил первый после выдачи ордера иностранный визит в Эритрею. У партнеров Судана желания выдать его главу международному суду до сих пор не возникало. В день выдачи ордера на арест Каддафи аль-Башир собирался прибыть с официальным визитом в Китай, который также не сотрудничает с МУС. Однако за несколько часов до вылета выяснилось, что суданский лидер внезапно передумал и перенес дату визита на неопределенный срок. Игорь Крючков.
Советом Безопасности ООН единогласно одобрена резолюция о размещении 4200 военнослужащих Эфиопии в горячей точке Судана Абьей. Эфиопские солдаты получат все необходимые полномочия для защиты гражданских лиц, в том числе включая применение военной силы.
Появление в Судане голубых касок должно стабилизировать взрывоопасную обстановку в стране, сложившуюся накануне провозглашения независимости Южного Судана, которое намечено на 9 июля. Военнослужащие из Эфиопии будут находиться в Судане в течение полугода.
Напомним, в январе 2011 года в Южном Судане был проведен референдум по поводу независимости от Хартума. В пользу такого решения высказались 90% населения юга страны.
Между тем принятию резолюции Совбеза предшествовало соглашение между мусульманским Севером (официально действующим правительством Судана) и христианским Югом (Суданским народно-освободительным движением) о выводе войск сторон из пограничной зоны Абьей и допуска туда голубых касок. Но уже через два дня после его подписания вновь возобновились столкновения между суданской армией и повстанцами с Юга. Из района, охваченного боевыми действиями, уже бежали свыше 100 тысяч человек.
Судан – богатая залежами золота, алмазов и нефти страна. Многие разработки ведутся здесь открытым способом, с использованием самой разнообразной техники, в том числе и экскаваторов российского производства, которым часто требуются запчасти экг 5, а гражданская война, которая ведется между мусульманским севером и христианским югом, считается самой длительной в Африке. Фактически, боевые действия ведутся в стране, начиная с 1956 года. Теперь не только за ресурсы, но и на почве племенных и конфессиональных разногласий.
Россия приветствовала достигнутую 20 июня договоренность властей Севера и Юга Судана о демилитаризации пограничного района Абьей и размещении там миротворцев из Эфиопии.
"Мы положительно оцениваем волю к компромиссу, продемонстрированную в этом случае как Хартумом, так и Джубой", - заявил в понедельник в Совете Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Виталий Чуркин.
СБ ООН посвятил сегодняшнее заседание ситуации в Судане на фоне согласия между представителями Суданского народно-освободительного движения и правительства Судана, к которому они пришли после длившихся более недели в столице Эфиопии переговоров о судьбе Абьей. Как полагают наблюдатели, нерешенность вопроса о его принадлежности может привести к новой войне между Севером и Югом Судана.
"Хотелось бы надеяться, что подписание этого соглашения знаменует возникновение позитивной политической динамики, которая позволит подойти к решению и других вопросов в контексте реализации Всеобъемлющего мирного соглашения и предстоящего обретения независимости Южным Суданом", - сказал Чуркин.
По его словам, в нынешней ситуации Россия призывает обе стороны "воздерживаться от насилия и сделать все возможное для выправления гуманитарной ситуации".
Южный Судан станет независимым государством 9 июля по результатам референдума, состоявшегося в январе этого года. Его проведение стало возможным на основе Всеобъемлющего мирного соглашения от 2005 года после двух десятилетий гражданской войны. Обстановка в пограничном районе Абьей обострилась в конце мая - за полтора месяца до официального образования независимого государства на Юге Судана. По данным ООН, с начала этого года в Южном Судане в результате межплеменных столкновений и боев армии с мятежниками погибли более 800 человек.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун со своей стороны опубликовал в понедельник заявление, в котором призвал обе стороны конфликта выполнить достигнутые договоренности по Абьею и обеспечить размещение там эфиопских миротворцев, а также прекратить насилие в суданском пограничном штате Южный Кордофан, где две недели назад начались бои между военными северосуданских вооруженных сил и южносуданской народно-освободительной армии.
Гуманитарные организации ООН снабжают продовольствием Южный Кордофан, обеспечив питанием 31,5 тысячи человек, однако доступ в районы, охваченные столкновениями, остается для них закрытым.
С 2005 года в Судане находится миротворческая миссия ООН, насчитывающая 10 тысяч военнослужащих и 4 тысячи гражданских лиц из местного населения и граждан других стран. После обретения независимости Южного Судана, миссия ООН, как ожидается, будет свернута. Иван Захарченко
Сомали, Чад и Судан возглавили рейтинг самых нестабильных государств по версии Фонда мира (Fund for Peace). Именно эти страны набрали максимальные баллы по следующим показателям: перемещение беженцев, уровень нищеты, коррупции, беззакония и преступности и другим. Сомали занимает верхнюю строчку рейтинга четвертый год подряд.
Рейтинг составляется с 2005 года в сотрудничестве с журналом Foreign Policy. По сравнению с прошлым годом лидер списка не изменился. Это объясняется тем, что на территории Сомали, которая обычно указана в политических картах, фактически нет государства. Оно раздроблено на несколько автономных территорий. Власть признанного ООН правительства распространяется на небольшую часть территории.
Позиция России укрепилась - она опустилась на две строчки до 82-го места. Белоруссия в списке следует сразу же за Россией, а Украина оказалась на 110-м месте.
Наибольшее укрепление позиций продемонстрировала Грузия - она опустилась с 37-го места в прошлом году на 47-е в этом. Прошлогодняя революция в Киргизии навредила рейтингу этой страны - у нее зафиксировано самое большое антиповышение - до 31-ой позиции.
Самыми стабильными признаны Финляндия, Норвегия (в прошлом году имела лидерство), Швейция, Швейцария и Дания. США расположились на 158-м месте, на одну строчку обогнав Великобританию.
Южный Судан после официального объявления об образовании независимого государства на его территории откроет посольства в 21 стране, в том числе в Израиле, сообщил в субботу Суданскому информационному центру источник в правительстве Южного Судана.
В числе стран, где появятся диппредставительства нового государства, ведущие страны Евросоюза: Италия, Франция и Германия, - а также Великобритания, США и Израиль. Пока в планах правительства Южного Судана не значится открытие посольств в России и Китае.
Кроме того, диппредставительства нового государства начнут работать и в соседних африканских странах - Кении, Уганде и Эфиопии, с которыми Южный Судан тесно связан экономически.
Так, глава правительства Южного Судана Сальва Киир накануне заключил соглашение с президентом Кении о строительстве в кенийском городе Ламу нового порта, который будет использоваться для ввоза и вывоза товаров только тремя странами - Кенией, Южным Суданом и Эфиопией. Кроме того, главы Южного Судана и Кении обсудили проект создания железной дороги, которая соединит две страны. Сейчас товары из стран Восточной Африки поступают на Юг Судана через Север.
Официальное провозглашение независимости Южного Судана состоится 9 июля после завершения полугодового переходного периода, который начался после подведения итогов референдума об отделении Юга Судана от его северной части. Подавляющее большинство южан во время плебисцита высказались за создание отдельного государства на территории Южного Судана, который несколько десятков лет воевал с правительством Севера за свою независимость. Юлия Троицкая
Противоречивая информация поступает об оперативной обстановке из суданского пограничного штата Южный Кордофан, где две недели назад начались бои между военными северосуданских вооруженных сил и южносуданской народно-освободительной армии.
Так, губернатор Южного Кордофана, представитель правящего на Севере Национального конгресса, Ахмед Мухаммед Харун заявил агентству СУНА о том, что армия и полиция держат под контролем всю провинцию, за исключением отдельных анклавов. Он призвал жителей столицы штата Кадугли, которые поспешили покинуть город после начала военных действий, вернуться домой.
По сообщениям суданских СМИ, жизнь в Кадугли начала входить в обычное русло. В городе восстановлено электро- и водоснабжение. Открываются рынки, прибыл караван с гуманитарным грузом.
В то же время действующая с территории Юга Суданская народно-освободительная армия (СНОА) опровергла заявление Хартума о полном контроле над штатом и сообщила, что бои продолжаются даже в самом Кадугли.
"Мы подтверждаем, что бои идут в Кадугли, и СНОА все еще контролирует важные позиции в столице штата", - говорится в распространенном в воскресенье в прессе заявлении бывшего вице-губернатора Южного Кордофана Абдель Азиза аль-Хилу, который после поражения на выборах губернатора взялся за оружие.
Он обвинил главу провинции Харуна в "намеренном введении в заблуждение общественного мнения и уничтожении гражданского населения во время авиабомбардировок штата".
Бои между Суданской народно-освободительной армией и вооруженными силами Севера неожиданно вспыхнули 5 июня. Северяне обвинили СНОА в нападении на полицейский участок и краже оружия, в свою очередь, СНОА заявила о попытке армии Севера силой разоружить их части в Южном Кордофане.
Однако местные наблюдатели увязывают начало столкновений в провинции с итогами прошедших губернаторских выборов, которые отказалось признавать правящее на Юге Суданское народно-освободительное движение, чей кандидат проиграл ставленнику Севера.
В субботу директор военной разведки вооруженный сил Судана Осама Мухаммед заявил, что в распоряжении армии имеются документы и карты, которые раскрывают намерение СНОА ликвидировать ряд военных и политиков в Южном Кордофане, включая губернатора Харуна, разыскиваемого Международным уголовным судом за военные преступления в регионе Дарфур.
Южный Судан официально станет независимым государством 9 июля 2011 года. Юлия Троицкая
По словам президента ЮАР Джейкоба Зумы, зона свободной торговли ускорит региональную кооперацию, обеспечив лучшие условия торговли между африканскими странами
В Африке создана крупнейшая в мире зона свободной торговли, передает Reuters. В нее входят 26 африканских государств.
По словам президента ЮАР Джейкоба Зумы, ни одна из стран Африки не сможет добиться процветания самостоятельно.
"Зона свободной торговли ускорит региональную кооперацию, обеспечив лучшие условия торговли между африканскими странами", - прокомментировал Зума создание блока.
В новый торговый блок вошли три организации, в которых состоят 26 государств, - Сообщество развития Юга Африки (САДК), Восточно-африканское сообщество (ВАС) и Экономическое сообщество стран Восточной и Южной Африки (КОМЕСА). Предполагается, что подобное объединение поможет создать рынок объемом до 875 млрд долларов.
Однако, говорят эксперты, радужные перспективы могут разбиться о бюрократию, тарифные барьеры и плохо развитую инфраструктуру. Кроме того, усилению кооперации между странами может помешать политическая нестабильность в Ливии, Судане, Зимбабве и Мадагаскаре.
Остров Россия
Можно ли снова стать сверхдержавой и нужно ли это?
Резюме: Без решительного отказа от мифа о сверхдержавности никакой серьезный разговор о будущем России невозможен. Нужна нацеленность на реальное, а не риторическое, позиционирование страны как самостоятельного центра силы, обладающей ею не для экспансионистского проецирования, а для гарантии лучшей жизни своего народа.
Когда следишь за отечественными дискуссиями вокруг программы модернизации или прислушиваешься к риторике, сопровождающей очередной российско-американский саммит, складывается странное впечатление. Как будто мы чего-то недоговариваем. Зачем Россия хочет модернизироваться? Какие цели преследует на мировой арене? Да и более широко – как мы видим себя в мире? Ради чего начинаем программу перевооружения армии и флота?
Ответ напрашивается сам собой. Разумом мы, конечно, понимаем, что Россия – не Советский Союз. У нас другие ресурсы, несопоставимый потенциал и, как следствие, иные возможности воздействовать на судьбы мира. Но в то же время по сумме признаков мы по-прежнему воспринимаем себя как сверхдержаву. Или, если точнее, как вторую по силе и по влиянию державу мира. Первую роль мы признаем за Соединенными Штатами. Хотя нет более приятной забавы для российского интеллектуала, чем порассуждать о закате Америки.
Проблема заключается в том, что россияне не видят для своей страны другой достойной судьбы в XXI веке, кроме как роль сверхдержавы. Государства, реализующего себя прежде всего через влияние на мировые процессы. Причем, что характерно, такие настроения свойственны не только элите, но и достаточно широким слоям населения. Как моему поколению нынешних 45–50-летних, которые хорошо помнят Советский Союз, так и молодежи, которая толком-то и не видела ту сверхдержаву, что, по сути, самоликвидировалась в конце 1980-х годов. Альтернативного видения России – страны для себя, для своих граждан – почему-то не просматривается.
В этой связи уместно попытаться разобраться – а что такое сверхдержавность? Насколько свойственен России такой статус? Есть ли шансы в обозримой перспективе снова обрести его? И, если нет, то какова альтернатива?
Что такое сверхдержава
Понятие сверхдержавы утвердилось в годы холодной войны, когда мир был поделен на два лагеря с США и СССР во главе. Две конкретные страны обладали такой совокупной силой, прежде всего военной, которая на порядок отличала их от других государств, выводила за круг традиционных международных отношений. По существу, хотя и весьма упрощенно, можно сказать, что вся мировая политика сводилась тогда к взаимодействию этих двух держав. Причем дело было не только в том, что между ними, с одной стороны, и остальным миром – с другой, существовал качественный разрыв, но и в том, что обе они активнейшим образом боролись за мировое господство. Сверхдержава сама по себе и сама для себя, живущая в изоляции от остального мира, скажем, как империя инков, едва ли имеет смысл.
Пойдем дальше. Были ли прецеденты сверхдержавности в истории? Очевидно, да. Если не идти вглубь веков и не пытаться примерить соответствующие атрибуты к Древнему Египту и к империи Александра Македонского с учетом краткости ее бытия, то самый яркий пример, который напрашивается, это, конечно, Римская империя I–II вв. н. э. По своему потенциалу она возвышалась над остальным миром, по сути, представлявшим собой в ту пору расширенное Средиземноморье, и видела себя именно сверхдержавой, даже в отсутствие этого определения. Рим руководствовался сверхдержавной миссией – цивилизовать окружающие народы по своему образу и подобию. Уточним: как и в случае с Соединенными Штатами и Советским Союзом, пока последний не стал ускоренно загнивать, существовала ситуация колоссального отрыва Рима от остальных стран не по двум-трем критериям, а практически по всему набору показателей, характеризующих национальную мощь. А именно:
протяженность территории,численность населения,ВВП (насколько его можно было вычислить в те отдаленные времена),ВВП на душу населения,производительность труда,торговый оборот с окружающим миром,золотовалютные резервы,численность вооруженных сил,современные средства войны.
Абсолютные параметры Рима впечатляют даже сегодня.
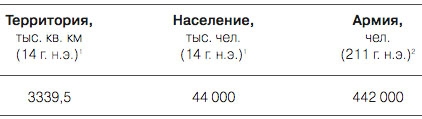
1 Angus Maddison,”Contours of the World Economy I-2030 AD”; Oxford University Press; (2007), р.35
2 MacMullen, R. How Big was the Roman imperial Army?; KLIO; (1980), р.454
На протяжении последующих 1700 лет истории не раз возникали державы, на порядок отрывавшиеся от других по своей мощи. Это империя Карла Великого и Арабский халифат при первых халифах, империи Чингисхана и Тимура, империя Карла V, Турция Мехмеда Завоевателя и Сулеймана Великолепного. Однако, строго говоря, ни одна из них не обладала необходимым набором признаков сверхдержавы. Всегда чего-то не хватало. Или речь шла исключительно о военно-завоевательном порыве. Или недоставало экономической базы. Или отсутствовала артикулированная идеология. Не была отстроена государственная машина, без которой настоящая сверхдержава невозможна. Мощь и ярость порыва держались исключительно на личности завоевателя. Мировая миссия сводилась к разрушению, не неся в себе никакого созидания.
Брать же для целей настоящей статьи примеры Китая при Маньчжурской династии или Индии при Великих Моголах бессмысленно, хотя по целому ряду показателей, таких как территория, численность населения, промышленное и сельскохозяйственное производство, они существенно опережали крупнейшие государства тогдашней Европы. Несмотря на все великие географические открытия и борьбу за колонии, вплоть до второй половины XIX века мировая политика варилась по существу в «кастрюле» расширенного Средиземноморья.
Была ли Византия сверхдержавой? Пожалуй, нет. Никогда. Даже при Юстиниане и Велизарии. На протяжении нескольких веков она обладала целым рядом признаков сверхдержавности. Однако отсутствовало главное – агрессивная установка на установление мировой гегемонии. Не было позитивной ориентированности в будущее – все свои 1100 лет, разве что, как ни странно, за исключением последнего кризисного столетия, Византия жила, скорее, в прошлом. Да и силенок недоставало, чтобы воспринимать себя как сверхдержаву. Все блистательные победы Византии, а их было немало, достигались очень небольшими силами – либо благодаря предельной слабости оппонентов (например, когда Велизарий восстанавливал контроль над Апеннинским полуостровом), либо за счет гениального дипломатического маневрирования и комбинирования, либо просто в результате исторической удачи – как на этапе столкновения с Арабским халифатом.
Отдельно разберемся с Францией при Наполеоне. Вроде бы, чем не сверхдержава? Хоть и на очень коротком отрезке времени. Но тоже не получается. Да, Наполеон за считанные годы сумел отстроить государственную и правовую систему значительно более современную и эффективную, чем что-либо существовавшее на тот момент в других странах Европы. Сумел покорить практически всю Европу. И гегемонистский запал, несомненно, был. Но реальных сил не хватало. Единого государства, пусть даже конфедеративного, на гибких шарнирах, создано не было. Франция оставалась Францией, а остальная Европа – завоеванными и частично завоеванными территориями в состоянии полубунта-полусаботажа. Так и случилось, что Англия в одиночку победила Францию на море, а Россия тоже в одиночку – на суше. Если бы Наполеон смог прорвать континентальную блокаду и консолидировать свои территориальные приращения в более или менее разумных пределах, если бы не поспешил вторгаться в Россию, возможно, все было бы иначе. Но это уже сослагательное наклонение.
Самостоятельный сюжет, на котором стоит остановиться, это потрясающие успехи относительно маленьких европейских стран в строительстве громадных колониальных империй. Испания: Кортес, опираясь на пятьсот головорезов с аркебузами, опрокидывает империю ацтеков с населением 15 млн человек. Португалия площадью 90 тысяч кв. км колонизирует Бразилию с территорией 8,5 млн кв. километров. Голландия, где на территории 40 тысяч кв. км проживает 2 млн, подчиняет 13-миллионную Индонезию (1,9 млн кв. км).
Имеем ли мы здесь дело с проявлениями сверхдержавности? Думаю, что нет, это другой феномен. На земном шаре существовало несколько миров. Сильно огрубляя, можно сказать, что их было три. Во-первых, Европа. Во-вторых, то, во что превратились бывшие великие цивилизации на севере Африки, Ближнем и Среднем Востоке, в Индии и Китае. В-третьих, все остальные территории. Эти три мира жили в различных временах, при различных уровнях развития производительных сил и общественной организации, соответственно, средств и методов ведения войны.
Когда эти миры сталкивались, мушкет, естественно, оказывался сто-, тысячекратно смертоноснее копья, пулемет стократно эффективнее кремниевого ружья, а броненосец с паровой машиной превосходил фелуку. Вот почему лорд Китчинер, потеряв 48 человек из 8 тысяч, мог спокойно разгромить в Судане 50-тысячную «Армию Махди», уничтожив пятую ее часть. Подобное произошло бы, приземлись завтра на Землю, не дай Бог, НЛО с планетной системы Тау Кита, и из него высадились бы 15 таукитян с каким-нибудь гравитационным оружием, против которого наши и американские СС-18 и «Минитмены» оказались бы столь же бессильны, как копья против пулеметов.
Безусловно, эффект цивилизационного и технического разрыва при подобных столкновениях срабатывает с потрясающей эффективностью. Однако как только эти миры объединяются, причем неважно, как это происходит – методом завоевания, слияния, поглощения, – эффект перестает действовать. Почему Алжир смог победить Францию, а Вьетнам – Америку? И почему сомалийские пираты (кстати, Сомали – одна из самых отсталых стран мира, не имеющая не только никакой промышленности, но даже собственной государственности) терроризируют весь цивилизованный мир вместе взятый? Потому что, помимо всего прочего, Северный Вьетнам и Вьетконг воевали советским оружием, по эффективности в принципе не уступавшим американскому. А сомалийские пираты плавают на современных катерах со сверхмощными моторами и стреляют из тех же АК-47 и РПГ-7.
Технологическое превосходство по-прежнему имеет значение. На определенных этапах роль этого фактора может даже возрастать, как показали первая и вторая иракские войны. Но в принципе в эпоху глобализации карта мира постепенно выравнивается с точки зрения распределения по ней силы. Не в том смысле, что сила «размазана» теперь по земному шару равномерно, как манная каша по плоской тарелке, а в том, что зависимость силы от ее первичных источников – численности населения и размеров территории – становится более жесткой и прямолинейной. Сегодня маленькая Голландия уже не смогла бы завоевать половину Азии.
Когда Россия была сверхдержавой?
Поговорим теперь о России. Была ли она когда-нибудь до советского периода сверхдержавой? Нет. Двести с лишним лет мы жили на положении протектората при Золотой Орде. В XVI веке безуспешно боролись за выход к морю и за вхождение в первую лигу европейских держав. В начале XVII столетия докатились до распада государственности. Затем с колоссальным трудом восстановились, кстати, попутно решив судьбоносный исторический спор с Польшей относительно того, вокруг какой оси, варшавской или московской, пойдет консолидация восточных славян.
Однако, несмотря на мощный национальный подъем 1613 г., большая часть XVII века прошла под знаком нараставшего тотального государственного и общественного застоя. Единственное светлое пятно – воссоединение с Украиной. Затем петровская модернизация, альтернативы которой не было, поскольку иначе Россия быстро превратилась бы в полузависимое, полуколониальное государство на обочине европейской цивилизации.
При Екатерине II Россия стала настоящей империей, прочно утвердившись в тройке-пятерке крупнейших и сильнейших европейских держав. Империей – но не сверхдержавой. Потому что по всем значимым показателям, составляющим понятие «национальной силы», Россия была одной из первых, но не первой. В чем-то опережая соперников, а в чем-то уступая им.
1812 год. Высшая точка российского национального подъема за всю историю. Даже 1945 г., наверное, не нес такого светлого положительного заряда, поскольку для многих победителей и освобожденных дорога с фронта и из немецкого рабства пролегала в сталинские лагеря. При Александре I после Парижского мира и создания под патронатом русского царя Священного союза Россия по военной силе – на континенте, а не на море – оказалась самой мощной державой Европы и оставалась таковой вплоть до поражения в Крымской войне в 1856 году. Самой мощной – но без отрыва на порядок. Не настолько, чтобы быть сильнее всех остальных вместе взятых, как было в случае с СССР и США. К тому же английский флот господствовал на море, а сама Англия все более утверждала себя «фабрикой мира». Из кубиков, старательно заготовленных Ост-Индской компанией, складывалась великая Британская империя, самая протяженная из когда-либо существовавших империй. А Россия снова столкнулась с феноменом застоя, на этот раз на почве дикого анахронизма в виде крепостного права. Собственно, поражение в Крымской войне и продемонстрировало эту системную слабость страны.
Отмена крепостного права в 1861 г. – одна из самых славных вех в российской истории. И царь Александр II – не гений, но мужественный, достойный человек, политик-модернизатор, со своим видением и реформаторской повесткой дня. Это была эпоха национального возрождения страны, роста здорового позитивного национализма. Россия побеждает Турцию в войне 1877–1878 гг., освобождает Болгарию, по-крупному ставит вопрос о принадлежности Черноморских проливов. Вступает в схватку за контроль над Центральной Азией и добивается серьезных успехов. Создает современную армию и военно-морской флот. Не боится на равных говорить с Англией, Францией и объединенной Германией. Россия – снова держава первого класса. Одна из крупнейших и сильнейших в мире. Но опять-таки не крупнейшая (только по численности населения среди европейских государств) и не сильнейшая. Тем более не сверхдержава.
Дальше неудачное царствование Николая II. Прогрессирующее загнивание режима. Настоящая война против российского государства, развязанная агрессивно-деструктивным меньшинством при симпатизирующем попустительстве общества и, по сути дела, предательстве и самоустранении царского режима. Знаковое деморализующее поражение в войне с Японией и вступление плохо подготовленными в войну с Германией. Несмотря на первоначальный националистический всплеск, эта война очень быстро до предела обострила страдания и возмущение народа. Большевикам оставалось только поднести спичку к этой пороховой бочке.
Дальше все по школьным учебникам.
Поскольку 1920–1930-е гг. СССР практически прожил на осадном положении, во враждебном окружении, выходит, что статусом сверхдержавы мы наслаждались с 1945 по 1990 гг., то есть ровно 45 лет. 45 лет из 1100 лет российской истории, если вести отсчет от полумифического факта прибивания Олегом щита к вратам Царьграда. То есть никакой многовековой традиции сверхдержавности нет. Есть привычка, и есть память двух послевоенных поколений, передавших ее своим детям, внукам, а ныне и правнукам.
Следовательно, речь идет не о том, чтобы следовать традиции, а о том, чтобы переломить ее, если мы хотим, чтобы Россия стала сверхдержавой. Оставим за скобками вопрос, почему столь многим, похоже, действительно искренне хочется этого. Сосредоточимся на другом вопросе – возможно ли сверхдержавие? При этом не забудем про правило, которое зафиксировали, анализируя маленькую Голландию и ацтеков. А именно – что на протяжении длительных исторических периодов совокупная сила государства и его способность позиционироваться в мире находятся в достаточно спрямленной зависимости от размеров территории и численности его населения. Подчеркнем еще раз и то, что в эпоху глобализации эта зависимость спрямляется еще больше.
Итак, есть ли у России шанс, соблюдая законы исторического жанра, стать сверхдержавой в XXI веке?
Сохранятся ли сверхдержавы?
А сохранятся ли вообще сверхдержавы в XXI веке? Вопрос не праздный. Россия выдвигает в качестве одного из постулатов своей внешнеполитической доктрины принцип многополярности, что по определению предполагает непризнание сверхдержавного статуса ни за одним из государств. Повсюду звучат рассуждения об аналогиях с XIX веком, с его «концертом держав», а то и о возврате в эпоху «сражающихся царств».
Разумеется, все относительно. Если придерживаться строгой трактовки понятия «сверхдержавы» как феномена, характерного исключительно для периода холодной войны, тогда, конечно, в XXI столетии сверхдержав нет и быть не может. Но эта трактовка ничего не решает. Немногое изменится и от того, что какие-то страны мы будем называть не «сверхдержавами», а, скажем, «великими державами первой категории», если они будут обладать признаками, качественно, системно отличающими их от других участников международного общения.
Если же брать проблему по существу, приходится констатировать, что в обозримом будущем две страны (если не произойдет чего-нибудь крайне маловероятного – типа фундаментальной внутренней дестабилизации в одной из них) будут именно в таком положении.
Это – Соединенные Штаты уже сегодня и Китай в перспективе полутора-двух десятилетий. Приводимая ниже таблица иллюстрирует масштабы разрыва между этими двумя государствами и остальным миром в проекции 2050 года.
Автор не разделяет теорию постепенного увядания США. Может быть, они и увядают, только очень медленно. Поэтому даже когда Китай обгонит Америку по ВВП, она, скорее всего, еще надолго останется сверхдержавой номер один – и не только благодаря военной силе. Просто по совокупности параметров силы, нравится нам это или нет, Соединенные Штаты системно лидируют в сфере финансов, коммуникаций, технологических инноваций, науки, образования, спорта, массовой культуры и т.д. Америка – страна, дающая значительной части мира модель того, как строить жизнь, причем не только на государственном, но и на бытовом уровне – как одеваться, питаться, заниматься спортом, дружить, любить и т.п. А в этом тоже проявляется сверхдержавность.
И при всем увлечении китайской культурой и едой огромные конкурентные преимущества, накопленные Америкой, например, по таким показателям, как количество иностранных студентов или нобелевских лауреатов, число регистрируемых патентов, аудитория выпускаемых фильмов, компакт-дисков и книг, в реалистичных сценариях нивелируются очень нескоро. Хотя в перспективе это, несомненно, произойдет. Как, впрочем, остановится и каток китайского роста. И тогда, может быть, и вправду мы снова окажемся в мире без сверхдержав.
Попробуем суммировать в виде таблицы основные прогнозные оценки относительно того, как ведущие державы мира будут выстраиваться, например в 2050 г., по основным параметрам национальной силы.

1) U.S. Census Bureau, International Data Base
2) PricewaterhouseCoopers, “The World in 2050”, January 2011, p. 9
Разумеется, есть еще собственно военная сила. И теоретически можно допустить, что военно-силовой элемент мог бы компенсировать нашу относительную демографическую и экономическую слабость в середине века. Этот фактор имеет место, но здесь также есть свои лимиты.
Возьмем данные по доле военных расходов в ВВП по трем странам: Россия, США, Китай – этого достаточно.

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Military Expenditure Database
Поскольку никакой серьезный прогноз не дает даже примерных прикидок по численности вооруженных сил и уровню военных расходов в мире в 2050 г., спроецируем эти проценты. Разрыв по военным потенциалам останется примерно таким же, как по демографии и ВВП. Такое соотношение можно «взломать», резко увеличив долю военных расходов в ВВП, но в таком случае мы говорим о другой модели политической и социально-экономической системы. То есть при сохранении превалирующих ныне тенденций Россия к середине XXI века к статусу сверхдержавы не придет. Объективно.
А может ли Россия переломить эти тенденции? Поскольку мы имеем огромную территорию и богатые природные ресурсы, в принципе это возможно. Но потребуются прежде всего три вещи. И все три на форсаже: массированная иммиграция, жесткое стимулирование рождаемости и форсированная модернизация. Для обеспечения этих трех условий мягкого авторитаризма будет недостаточно, потребуется настоящий полноценный тоталитаризм. Только нужен ли статус сверхдержавы такой ценой?
Варианты для России
Теперь можно, наконец, подойти к главному вопросу. Раз не ломая, не насилуя себя мы не можем рассчитывать на статус сверхдержавы, что тогда делать? Переберем варианты, включая самые абсурдные.
Самоликвидироваться – такая опция тоже существует. См. пример СССР.
Смириться, но при этом медленно угасать в исторической ностальгии.
Стать сателлитом США.
Стать сателлитом Китая.
Вступить в Евросоюз, приняв все сопутствующие драконовские правила, то есть по существу превратиться в большую Польшу.
Пойти своим путем.
Очевидно, для целей серьезной практической политики актуален только последний вариант, причем здесь речь идет, по сути, о том, чтобы буквально по Оруэллу превратить минус в плюс, а слабость в силу. Еще раз напомню, что главная причина, почему мы не можем стать сверхдержавой – нехватка населения. Аналогично: в чем главная причина, почему, если бы каким-то чудом удалось быстро решить демографическую проблему, Россия могла бы стать сверхдержавой – в размерах территории и богатстве природных ресурсов. Очень сильно огрубляя, положение России в сегодняшнем мире определяют прежде всего следующие характеристики: огромная территория и богатые природные ресурсы при малочисленном, но пока достаточно качественном населении и по-прежнему достаточно сильных вооруженных силах.
Это значит, что сравнительно небольшое население может очень хорошо жить. Только надо задать себе реалистичную установку. Ориентироваться на создание сильной, современной страны, способной защитить себя, свою территорию и природные ресурсы (иначе реальные сверхдержавы попробуют пооткусывать куски), но не загоняющей себя в исторический тупик, поскольку в погоне за сверхдержавным статусом нас ждал бы крах пострашнее 1991 года. Сильные вооруженные силы – нужны. Сильное государство – тоже, чтобы обеспечивать порядок и продвигать модернизацию. Но главное, на чем должны быть сфокусированы усилия нации – создание современной высокоэффективной экономики, без которой достижение устойчиво высокого качества жизни, несмотря на любые природные ресурсы, невозможно.
Пора перестать нагнетать негатив по поводу XXI века. Но это – непростой век, алгоритм которого в решающей степени задают крутые перемены, порой трудно предсказуемые.
Какое выбрать решение?
Остров Россия. Остров, уверенно и комфортно ощущающий себя между континентами Америки, Европы, Китая и Индии. Не впадающий ни в сверхдержавную гордыню, ни в фальшивое смирение общества, отрекшегося от своего прошлого.
Предлагая этот образ, автор отдает себе отчет в его потенциальной коварности. Того и гляди из шкафа извлекут жупел изоляционизма. Вспоминается «Остров Крым» Аксенова. Повод для подобных аллюзий такое сравнение дает. Однако здесь важнее представление об «острове» как о мощной монолитной структуре в бурном океане перемен. Открытой этим переменам, но и защищенной от их издержек и эксцессов. Потому что от международного терроризма, нелегальной иммиграции, диковинных болезней и даже от природных катаклизмов, включая цунами, можно и нужно защищаться.
У всех у нас на памяти успешный пример реализации именно такой концепции островного государства – Великобритания (можно было бы сослаться и на Венецию – но слишком давно это было). Со времени Великих географических открытий и до начала XX века – почти 500 лет – Англия оставалась самым динамичным государством планеты во многом благодаря зависимости от морской торговли, в свою очередь связанной с ее островным характером. Только сказав это, надо сказать и другое – английский эксперимент не состоялся бы в чистом виде, если бы островное положение не защищало Англию от волн завоеваний, регулярно прокатывавшихся по континентальной Европе. По крайней мере трижды Ла-Манш и британский флот спасли Англию – от Филиппа II, Наполеона и Гитлера.
Повторимся: подобная защита через совокупность компенсирующих мер – Россия, увы, все-таки не остров – была бы для нас не лишней в XXI веке, особенно с учетом того, что в обозримой перспективе два наших ближних соседа будут значительно сильнее нас.
России не нужно стремиться к вступлению в Евросоюз или к союзу с США или Китаем. Нужно уяснить, что мы, несмотря на наши 140 миллионов населения, хотя и не можем стать сверхдержавой, вполне способны быть достаточно сильным государством, чтобы жить сами по себе. И жить лучше очень многих – хотя и не всех – здесь тоже надо быть реалистами. Так что давайте поблагодарим Ермака Тимофеевича с Ерофеем Хабаровым за наши территориальные просторы, а Америка с Китаем пусть завидуют.
Создание «Острова Россия» – острова благополучия и качественной жизни в современном стремительно меняющемся и непредсказуемом мире – могло бы стать основой нашей национальной идеи и модернизационной платформы.
Особый случай
Вернемся еще раз к изначальному вопросу – может ли Россия вновь обрести статус сверхдержавы и, если это возможно, стоит ли ей вступать на этот путь. Проведенный анализ, как мне кажется, при всей своей поверхностности показывает: эта установка была бы сегодня или бесперспективной, или саморазрушительной.
Однако парадоксальность ситуации заключается в том, что пока отечественная элита не предложит альтернативы сверхдержавным устремлениям, и пока общество не примет эту альтернативу, игра вокруг сверхдержавности все равно будет продолжаться. При этом, по сути, мы по подобному пути не идем – это потребовало бы от общества совершенно других жертв и самодисциплины, к чему сегодня никто особенно не готов. Однако эта ностальгия по сверхдержавности – практически исключительно на идеологическом, политическом, психологическом и особенно атрибутивно-пропагандистском уровне – затрудняет поиски реальной национальной идеи и формирование настоящей, работающей национальной стратегии. А сверхвысокие цены на энергоносители – которые, к сожалению, похоже, сохранятся еще долго – создают видимость того, что у страны есть средства для превращения в сверхдержаву.
Не хочется повторять банальности, но Россия – особый случай в мировой истории. Многонациональная поликонфессиональная страна, сформировавшаяся вокруг русского этноса и православия, усвоившая крайне болезненное восприятие Запада, поскольку оттуда исходили как смертельные покушения на нашу независимость и само существование – «псы-рыцари», поляки, шведы, Наполеон, интервенция, Гитлер, так и все модернизационные импульсы. Отсюда наши хронические колебания между заискивающе-подражательным восхищением Западом (последний такой всплеск мы наблюдали в начале 1990-х гг.) и агрессивно-заносчивым пренебрежением по отношению к нему. Сейчас аналогичное раздвоение укореняется и в нашем отношении к Китаю.
Понятно, что с таким психологическим багажом обещание благоустроенной комфортной жизни на своем «острове» не заменит национальную идею. Если бы ее было так просто сформулировать, это давно было бы сделано. Тем не менее, хотел бы акцентировать несколько ключевых мыслей.
Во-первых, без решительного и бесповоротного отказа от мифа о сверхдержавности никакой серьезный разговор о будущем России невозможен.
Во-вторых, национальная идея и национальная стратегия России должны в обязательном порядке учитывать и национальную историческую традицию, критически развивая ее, и особенности того мира, который сейчас складывается на наших глазах.
В-третьих, сила еще, видимо, надолго останется базовым фактором, определяющим положение того или иного государства в мире, но содержание этого понятия кардинально меняется. И классическая формула, заданная известным вопросом Сталина: «А сколько дивизий у Ватикана?», в нынешнем веке будет еще менее актуальной, чем в предыдущем.
В-четвертых, у нас есть основания надеяться, что XXI век станет лучше, светлее, комфортнее, благополучнее и милосерднее века ХХ. Хотя бы по той причине, что более жестокого и мрачного столетия, чем прошлое, не было. Но все равно это не будет означать всеобщей любви и братства. И предстоящие десятилетия точно не будут временем для слабых и вялых.
Мы должны быть нацелены на реальное, а не риторическое, позиционирование России как самостоятельного центра силы. Не сверхдержавы, но великой страны, способной постоять за себя (и не только перед Грузией) и обладающей силой не для ее экспансионистского проецирования в мире, а для гарантии лучшей материальной и духовной жизни своего народа. Такая установка концептуально продуктивна для формирования национальной стратегии и платформы модернизации. В этом единственный смысл образа «острова России» – острова безопасности и устойчивого развития в стремительно меняющемся непредсказуемом мире.
Н.Н. Спасский – доктор политических наук, чрезвычайный и полномочный посол.
Популярность дайвинга, как одного из видов отдыха и активного времяпрепровождения, способствует повышению интереса потенциальных инвесторов к недвижимости на Красном море.
Побережье Красного моря протянулось более чем на 1000 км с севера на юг - от Суэца до границы с Суданом, представляя собой настоящее раздолье для дайверов. Число ныряльщиков, желающих получить очередной сертификат мастерства, ежегодно увеличивается на 6%. Только в этом году оно должно составить не менее 600 000 человек. По данным Всемирной Организации Туризма UNWTO – ведущей международной организации в туристической сфере, учрежденной ООН, - в последние годы дайвинг является наиболее быстро развивающимся туристическим сектором.
Неудивительно, что на побережье Красного моря, которое как нельзя лучше подходит и для начинающих, и для опытных ловцов подводных ощущений, недвижимость постоянно растет в цене. Как сообщает Property Community, стоимость элитных апартаментов с одной спальней на вторичном рынке таких популярных туристических курортов, как Шарм-эль-Шейх или Хургада, Саль-Хашиш или Таба, на сегодняшний день в среднем составляет $59 157. Частные лица чаще всего приобретают небольшие квартиры в качестве второго дома и постоянно сдают их, за исключением того времени, когда сами приезжают провести отпуск в Египте.
Еще одна «точка притяжения» для потенциальных инвестиций в египетскую недвижимость расположена в противоположной части страны, в Луксоре. В этом городке, экономика которого во многом ориентирована на туристов и привлечение денежных средств для развития из-за рубежа, строится огромный жилой комплекс с полем для гольфа, роскошными отелями, симпатичными виллами и разного качества апартаментами в многоквартирных домах.
Стоит отметить, что объемы сделок с жилой недвижимостью в Египте в течение последних нескольких лет стабильно увеличивались. Как сообщал в конце мая портал Prian.ru, правительству даже пришлось организовать специальный Комитет по недвижимости.
Директор завода «Вагон Парс» в Эраке Омид Хезаре в интервью агентству ИРНА сообщил, что возглавляемый им завод выпустит 400 шестиосных товарных вагонов для компании «Тука рэйл» (TUKA RAIL).
По словам Омида Хезаре, стоимость контракта на производство названных вагонов составляет 640 млрд. риалов (примерно 64 млн. долларов).
На проектирование и строительство вагонов отводится 22 месяца, и планируется ежемесячно производить и передавать заказчику по 25 вагонов.
Грузоподъемность шестиосных вагонов составит 90 т, и они будут использоваться для перевозки горнорудной продукции по железным дорогам страны.
Омид Хезаре сообщил, что с начала текущего года (с 21.02.11) на заводе «Вагон Парс» построено 50 двухосных товарных вагонов общей стоимостью 22 млрд. риалов (примерно 2,2 млн. долларов) для компании «Саманд рэйл» и на данный момент эти вагоны передаются заказчику.
Проектная производственная мощность завода «Вагон Парс» составляет около 1,5 тыс. железнодорожных вагонов в год. Названный завод считается крупнейшим производителем железнодорожной техники на всем Ближнем и Среднем Востоке. Как отметил Омид Хезаре, в последние месяцы после периода застоя на названном предприятии началась новая жизнь.
Железнодорожная техника, произведенная на заводе «Вагон Парс», помимо удовлетворения внутренних потребностей самого Ирана поставляется в такие страны, как Судан, Куба, Сирия, Бангладеш и Китай.
ТОРЖОК. Коренной русский городок неподалёку от Твери. Неторопливый, очаровательно уездный, дремлющий на июньском солнце, раскинувшись садами и скверами по обе стороны реки Тверца. В далёком прошлом остались и татарские набеги, и польские угрозы, и вражда со спесивой Тверью. Теперь это тихая провинция Твери. Сорок семь тысяч населения. Русь!
А ещё Торжок — это "столица" российской вертолётной авиации. Именно здесь находится легендарный Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации. На подъезде к городу в будний день легко заметить то и дело проскакивающие над шоссе стремительные "стрекозы" вертолётов. Это идут полёты. Не пожалейте времени — задержитесь. Где ещё удастся увидеть в воздухе одновременно такие уникальные машины, как Ми-28Н и Ка-52, Ми-26 и Ми-8, новинку Казанского авиазавода "Ансат" и многие другие вертолёты. Всё это проходит испытания и отработку в Центре.
В историческом очерке Михаила Никольского о Торжокском авиацентре сказано, что в 1964 г. при управлении Липецкого авиацентра был сформирован отдел боевого применения вертолетной авиации с приданием ему 12-й отдельной исследовательской вертолетной эскадрильи, которая базировалась в городе Луганске (Украина), а в 1967 году была передислоцирована в Воронеж. Здесь велись исследовательские работы на вертолетах Ми-6, Ми-8, Ми-10, Ми-24 и их модификациях. На рубеже 70-80-х годов шёл бурный рост вертолётной авиации, ежегодно формировалось два-три вертолетных полка, и новый Центр должен был не только вести исследовательскую и учебную работу, но также принимать участие в разработке и обосновании предложений для промышленности по созданию новой техники, обеспечивать строевые части методическими документами по летной и наземной подготовке, обобщать и внедрять передовой опыт. Инициаторами формирования нового Центра стали начальник отдела боевой подготовки армейской авиации ВВС генерал-майор П.Д. Новицкий и его заместитель полковник Ф.Ф. Прокопенко.
Первые два года существования Центра летный состав только набирали — переводы в другие части не разрешались. В период афганской войны в Торжке ежегодно проходило переучивание до 1300 человек, летали в две смены с двух аэродромов (Торжок и Выдропужск) четыре дня в неделю. Пик подготовки экипажей для вертолетов пришелся на 1985 и 1986 гг. Средний налет за год на летчика Центра составлял более 100 часов. Летный состав осваивал новую технику, готовили командиров звеньев и эскадрилий, передовых авианаводчиков. Все летчики и штурманы-операторы раз в пять лет проходили в Торжке переподготовку. Через афганские командировки прошло около 400 офицеров и прапорщиков Центра, 138 из них награждены орденами и медалями. За все время боевых действий в Афганистане потерь среди экипажей из Торжка не было. Это был высший показатель мастерства лётчиков Центра.
Сегодня в состав Центра входит 696-й инструкторский испытательный вертолётный полк, в котором ведется подготовка летчиков высшей категории с присвоением им квалификаций "лётчик-снайпер" и "штурман-снайпер", кроме этого в Центре ведется подготовка иностранных военных специалистов летного и технического состава. На базе центра действует единственная в мире пилотажная группа на боевых вертолётах — "Беркуты".
В полку проводятся испытания всех современных моделей и модификаций российской военной вертолётной техники. Для обучения и боевого применения полк располагает вертолетами Ка-50, Ми-28Н, Ми-26, Ми-24, Ми-8.
НА СТОЯНКЕ крутит винты Ми-28Н — вертолёт нового поколения. Он способен не только поддерживать огнём сухопутные войска, но и вести воздушный бой. И сегодня основной противник нашего "ночного охотника" — всё тот же американский боевой вертолёт АН-64D "Лонгбоу Апач". Сегодня вполне возможно провести виртуальный бой вертолёта Ми-28 и вертолёта "Апач". По возможностям обнаружения противника оба вертолёта примерно равны. А это значит, что при прочих равных велика вероятность ближнего боя. Хорошо известно, что, чем выше процент быстродействия втулки, тем больше способность вертолёта к маневренному воздушному бою. У вертолета Ми-28 этот показатель составляет 6%, у "Апача" — 4%. Ещё один критерий сравнения — скорость выполнения виража, иначе говоря, скорость создания крена. Так вот, крен в 60 градусов наша машина выполняет существенно быстрее, чем "Апач". Это подтверждают американцы. У американцев, в отличие от нас, вертолет создавался под определенную тактику. Тактика применения этих вертолётов состояла в том, что они выходили на линию боевого соприкосновения, зависали, применяли оружие, пробивали брешь в обороне и улетали. Но так возможно воевать только в условиях слабой ПВО. В условиях же боя с технически высокооснащённым противником такая тактика — самоубийство. Все последние серьёзные учения и испытания это показывают. Таким образом, у американцев изначально было заложено то, что вертолёт практически не ведёт маневренный бой. Отсюда и один из серьёзнейших недостатков "Апача" — слабая защищённость основных жизненно важных узлов. У американского вертолёта применяется лишь лёгкое бронирование некоторых узлов и бронеплиты для защиты лётчиков, при этом почти полностью открыта кабина. Поэтому совершенно неудивительно, что в Ираке американцы потеряли уже больше 40 "Апачей". "Апач" просто не создавался как вертолёт, который будет находиться над полем боя под огнём противника. "Апач" — дитя концепции 80-х годов, формулы "прилетел, обнаружил, поразил и, не входя в зону ПВО, улетел", а потому это уже вертолёт вчерашнего дня. У Ми-28Н боевая живучесть поставлена на порядок выше, чем у американцев, и исход боя "Ночного охотника" с "Апачем" более чем сомнителен для "Апача".
Над аэродромом ревут движки. "Ночной охотник" отрабатывает один из элементов программы. Настоящий воздушный боец. Солдат будущего. Несмотря на трудный и долгий путь к аэродрому, он ни на день не устарел, он весь в завтрашнем дне. Его "глаза" — радиолокационные станции — способны обнаруживать цели за десятки километров, его ночное зрение — тепловизор, "увидит" за километры не то что костёр в ночном лесу, но сигарету в рукаве вражеского солдата, а заодно и собравшихся вокруг него "камрадов". При этом Ми-28Н не станет пассивной жертвой истребителей, для которых ещё совсем недавно вертолёты считались лёгкой добычей. Ми-28Н уверенно даст сдачи — его РЛС позволяет вести воздушный бой и поражать воздушные цели. Вертолёт предупредит лётчика о том, что находится в прицеле чужой РЛС, собьет с курса пущенную по нему ракету, забив помехами её головку самонаведения, уведёт в сторону на тепловую ловушку ракету с тепловой головкой, а если надо — прижмётся фактически к земле, и на высоте всего 10-15 метров в режиме огибания рельефа затеряется в складках местности, растворится, исчезнет. Его "латы" способны принимать и гасить в себе мощь зенитных снарядов и пуль, его остекление не пробьёшь крупнокалиберным пулемётом, его движки прикрыты от ракет и способны выдерживать прямые попадания. И, даже будучи сбитым, он способен с помощью уникальной системы гашения удара спасти жизнь своего экипажа, упав со стометровой высоты…
О месте Центра в составе нынешних ВВС нагляднее всего свидетельствует небольшая историческая справка:
С 1 декабря 1979 г. переведён в состав 344-го центра боевого применения и переучивания (лётного состава армейской авиации) и переименован в 696-й отдельный вертолётный полк (исследовательско-инструкторский).
С 1 декабря 2009 г. 696-й исследовательско -инструкторский вертолётный полк (транспортно-десантных вертолётов) переименован в 7086-ю авиационную базу, г.Торжок.
В теЧение 50 лет личный состав авиационной базы выполнял правительственные задания как в стране, так и за ёё пределами. Имя авиационной базы знают более чем в 30 странах мира. Личный состав авиационной базы участвовал в составе миротворческих сил ООН в Анголе, Кампучии, Таджикистане, Сьерра-Леоне. Выполнял практическое переучивание ИВС в Китае, Венгрии, Румынии, Чехословакии, Корее, АРЕ (Египет), на основанной базе: в Армении, Грузии, Индии, КНДР, Индонезии, Зимбабве, Кипре, Судане, Венесуэле. Личный состав авиационной базы выполнял специальные задания по поиску и спасению космических аппаратов "Восток-1", "Восток-2", Восток-3", "Луна-16; по темам "Зенит", "Восток". Участвовал в крупномасштабных учениях, проводимых Министерством обороны: "Днепр-67", "Двина-70", "Неман-71", "Запад-72", "Запад-81", "Кант-2004", "Запад-2009". Осуществлял воздушный и наземный показ новой авиационной техники иностранным военным делегациям: Китая, Венгрии, Чехословакии, КНДР, Южной Кореи, Вьетнама, Судана, Перу, Индии, Пакистана, Турции, Кипра, Индонезии, Эритреи, Анголы. Участвовал в международных авиакосмических салонах и выставках: "ИНДЕКС-97", "МАКС", "ЛИМА-95".
С 1958 г. Центр постоянно участвовал в воздушных парадах, показах новой авиационной техники в воздухе и на земле, в городеах Москва, Тула, Иваново, Гатчина, Кубинка, Тверь, Ржев, Самара.
В 2010 г. — личный состав авиационной базы принимал участие в параде, посвящённом 65-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
В этом году лётчики Центра единственные, кто участвовал в воздушной части парада. Вертолёты пронесли над Красной площадью флаги России и различных видов Вооружённых сил.
Сейчас для обучения и боевого применения полк располагает вертолетами Ка-50, Ка-52, Ми-28Н, Ми-26, Ми-24, Ми-8 различных модификаций.
НА СОСЕДНЕЙ СТОЯНКЕ застыл извечный конкурент Ми-28 "Аллигатор" — Ка-52. Детище КБ имени Камова. Постановлением Совета Министров СССР от 16 декабря 1976 года было поручено начать разработку перспективного ударного вертолёта, предназначенного для уничтожения бронетехники на поле боя на конкурсной основе, ОКБ Миля и ОКБ Камова. ОКБ Камова, длительное время создававшее морские вертолёты, решило разработать принципиально новую концепцию вертолёта поля боя. Под руководством главного конструктора Михеева прототип боевого вертолёта, названный В-80 (изделие 800), получил традиционную для морских вертолётов ОКБ Камова, но впервые применённую на сухопутных боевых машинах, соосную схему расположения несущих винтов и с экипажем, состоящим из одного лётчика. Выбор соосной схемы определился более высокой тяговооружённостью машины, обусловленной отсутствием потери мощности силовой установки на привод рулевого винта, что, в свою очередь, обеспечивает высокую скороподъёмность и больший статический потолок. Меньший диаметр основных винтов определяет меньшую линейную скорость законцовок лопастей, что уменьшает волновое сопротивление и позволяет увеличить скорость движения аппарата в целом. Упразднение трансмиссии рулевого винта, с одной стороны, уменьшило вес машины, с другой же стороны, исчезли механизмы, повреждение которых в боевых условиях сказалось бы на живучести и эффективности вертолёта. После защиты эскизного проекта и макета в мае 1981 года был построен первый лётный экземпляр (бортовой номер 010), совершивший под управлением лётчика-испытателя Бездетного свой первый полёт 17 июня 1982 года. Данная машина была предназначена для проведения лётных испытаний и не располагала как многими системами, так и штатными двигателями. Второй лётный экземпляр (бортовой номер 011), поднявшийся в воздух 16 августа 1983 года, был оборудован всеми основными штатными устройствами и предназначался для отработки вооружения и авиационного оборудования. В октябре 1983 года состоялось совещание с участием Министерства обороны и представителей авиационной промышленности. Целью совещания являлись сравнение и выбор между В-80 и Ми-28 (конкурсное предложение ОКБ Миля). Большинство участников высказалось за выбор В-80 как машины, имеющей лучшие лётно-технические характеристики и обладающей лучшим соотношением цена/качество. Проведённые в 1984 году сравнительные испытания, включающие в себя 27 испытательных полётов, показали превосходство В-80 над Ми-28. На основании проведённых испытаний в октябре 1984 года был подписан приказ министра авиационной промышленности о подготовке серийного производства камовской машины. Она получила классификационный номер Ка-50 и прозвище "Чёрная акула". Но 3 апреля 1985 года, во время исследований предельных режимов полёта, в результате превышения пилотом допустимой отрицательной перегрузки произошёл схлёст лопастей, и вертолёт потерпел крушение. Пилот лётчик-испытатель Герой Советского Союза Евгений Иванович Ларюшин, пытаясь спасти машину, погиб.
Эта авария позволила конкурентам, фирме "Миля", реанимировать свой проект Ми-28. В недрах министерства обороны СССР было решено производить оба вертолёта. Ещё больше затормозила выход Ка-50 в серию трагическая гибель при аналогичных обстоятельствах в 1998 году одного из главных "сторонников" Ка-50, начальника торжокского центра боевого применения легендарного вертолётчика генерал-майора Бориса Воробьёва, который впервые в истории вертолётной авиации смог на боевом вертолёте Ка-50 выполнить косую "мёртвую петлю". Поэтому серийное производство Ка-50, который к этому моменту уже превратился в двухместный вертолёт Ка-52 и из "Чёрной акулы" стал "Аллигатором", началось небольшими партиями лишь в 2008 году. Предполагается, что до 2012 года Российская армия получит 30 таких вертолётов.
Конкуренция между этими двумя замечательными машинами продолжается. И у каждой есть свои поклонники и противники как среди лётчиков, так и в корпусе чиновников, но разрешить этот спор смогут только боевые действия, в котороых обе этих машины проявят себя в полной мере. А пока российский бюджет в разделе закупки новых боевых вертолётов, вопреки здравой логике, делится между двумя фирмами. Россия — страна богатая… Владислав Смоленцев.
Совместный доклад координаторов Российско-Американской Президентской комиссии
Основное внимание Президентской комиссии на втором году ее работы было посвящено расширению общей повестки дня наших отношений и созданию новых возможностей для налаживания партнерских связей между Россией и США. С июня 2010 года действующие в ее рамках 18 рабочих групп провели более 150 встреч и обменов, благодаря которым появились новые совместные проекты и инициативы в приоритетных областях, отвечающих национальным интересам обеих стран.
Инновации – это важная тема, охватывающая все направления деятельности Комиссии и стимулирующая плодотворную деятельность между нашими странами. Мы обменялись делегациями экономистов и бизнесменов, работающих в аэрокосмической отрасли, сфере био- и информационных технологий, с целью налаживания отношений, которые способствовали бы наращиванию торговых и инвестиционных возможностей в обеих странах. Обмены между представителями малого бизнеса, партнерства в образовательной сфере и конкурентоспособные программы грантов способствуют развитию предпринимательства и коммерциализации инноваций. Сотрудничество в таких вопросах, как патентная защита и государственные закупки, направлено на оптимизацию работы государства с нашими бизнесменами и компаниями. Новая инициатива по повышению квалификации молодых руководителей российских и американских компаний без отрыва от работы поможет обмениваться опытом, способствующим сближению экономик наших стран.
Вместе эти усилия работают на повышение экономического благосостояния обеих наших стран. Символом такого конструктивного взаимодействия становится российский проект «Сколково», в реализации которого принимают участие американские компании, уже взявшие на себя обязательство вложить в него свыше миллиарда долларов («Майкрософт», «Сиско системз», «Сигюлер гафф»). Открытие российского инновационного центра (представительство «Роснано», РВК и «Сколково») в Кремниевой долине станет еще одним мостом, соединяющим российские и американские высокотехнологические компании, инвесторов и научно-исследовательские институты. Недавнее приобретение компанией «Аэрофлот» новых авиалайнеров «Боинг» поможет сохранить десятки тысяч рабочих мест в России и США. Налаживаются новые партнерские связи между российскими и американскими компаниями, работающими в сферах электроники, передовых медицинских технологий, нано-технологий, бумагопереработки, пищевой промышленности и машиностроения.
В области энергоэффективности российские и американские города и коммунальные службы, в том числе в Сан-Диего и Белгороде, сотрудничают в целях максимально широкого развития новой технологии «Интеллектуальные электросети» и принятия энергосберегающих производственных планов инновационного характера. Наши эксперты в области энергетики также провели обмен мнениями по вопросам регулирования и стратегического развития в интересах стимулирования энергоэффективности и повышения надежности всех электрораспределительных сетей. Сотрудничество по линии российских и американских научных учреждений сфокусировано на поиске новых направлений применения нано-технологий в сферах энергетики, защиты окружающей среды и здравоохранения. Мы также развиваем совместные научно-исследовательские проекты и другие инициативы в целях дальнейшего внедрения инноваций в сфере «чистой энергетики». Установлены новые партнерские связи между нашими университетами и сотрудничество в области образовательных обменов, в том числе в рамках программы У.Фулбрайта, в целях расширения взаимодействия по совместному проведению научных исследований и наращиванию предпринимательского потенциала. Ассоциация ведущих университетов России и Ассоциация американских университетов выступили с многопрофильной долгосрочной инициативой, направленной на расширение сотрудничества между университетами двух стран, где ведутся научные исследования.
Учреждение Российско-американского научно-медицинского форума и соглашения о сотрудничестве в сфере биомедицинских наук и ВИЧ/СПИДа помогут добиться новых успехов в медицине, которые принесут пользу людям во всем мире. Российские и американские компании и неправительственные организации находятся на передовой усилий по предоставлению медицинской информации молодым матерям посредством СМС-сообщений. Проведя в прошлом месяце празднования 50-й годовщины первого полета человека в космос, космические агентства России и США ускоряют прогресс в сфере инноваций путем совместного использования Международной космической станции, обмена данными в области наук о Земле и космосе, а также сотрудничества по изучению космического пространства за пределами околоземной орбиты.
Параллельно с нашими совместными усилиями по ускорению процесса модернизации всех секторов экономики наших стран, мы также продолжаем добиваться значительных успехов в укреплении нашего сотрудничества в области безопасности. Стороны приступили к полномасштабной реализации ДСНВ. Продолжается диалог и по другим вопросам, связанным с контролем над вооружениями и международной безопасностью. Мы завершили подготовку совместного доклада об оценке ракетных вызовов XXI века.
Мы обсуждали, совместно с нашими партнерами, работу по укреплению и модернизации режима контроля над обычными вооружениями в Европе. Значительные успехи также достигнуты по нашей повестке дня в области ядерной энергетики и безопасности. Мы провели консультации по вопросу возможных последствий аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Разделяем мнение, что атомная энергетика остается безопасным и надежным источником энергии, при этом мы привержены идее укрепления международного режима обеспечения безопасности АЭС. Мы примем активное участие в конференции высокого уровня в МАГАТЭ в июне с.г. по вопросам укрепления международного сотрудничества и нормативной базы в области ядерной безопасности.
Мы считаем, что дальнейшее развитие сотрудничества в сфере укрепления физической ядерной безопасности должно оставаться приоритетным направлением. Но основе имеющихся совместных планов в период с 2009 года мы ввезли 900 кг высокообогащенного уранового (ВОУ) топлива российского и американского происхождения из третьих стран. Проводятся технико-экономические исследования целесообразности перевода отдельных исследовательских реакторов в России и США на использование низкообогащенного уранового топлива. Мы также провели серию совместных мероприятий в области учета, контроля и физической защиты ядерных материалов, по обмену наилучшей практикой и реагированию на чрезвычайные ситуации.
Мы отмечаем, что вступление в силу Соглашения между Россией и США о мирном использовании атомной энергии открывает новые перспективы и создает прочную юридическую основу для налаживания практической кооперации в ядерной энергетике. В частности, мы конкретно условились о сопряжении усилий в таких областях, как развитие инновационных технологий, торговля ядерными материалами и технологиями, создание современных реакторов, проведение совместных экспериментов, испытаний и исследований, научно-технические обмены и решение экологических задач, в том числе при утилизации ядерных отходов.
Российские и американские эксперты в области внешней политики также провели консультации по кризисным ситуациям, возникшим в последнее время в Ливии и на Ближнем Востоке, и продолжили тесную координацию по ядерным программам Ирана и Северной Кореи. Углублялось сотрудничество по поддержке международных сил в Афганистане, результатом чего стало обеспечение транзита американского контингента через российское воздушное пространство (осуществлено более 1000 рейсов, которыми перевезено более 170 000 военнослужащих). Кроме того, мы оказали содействие в переброске важнейшего оборудования для тылового обеспечения национальных сил безопасности в Афганистане. С учетом просьбы американской стороны была осуществлена переброска четырех российских вертолетов из Чада в Судан для усиления МООНС на период проведения референдума по Южному Судану.
Активизировалось также сотрудничество по линии антинаркотических ведомств России и США. В результате, в прошлом году в Афганистане было изъято более одной тонны героина и ликвидированы сети, занимавшиеся контрабандой наркотиков между США и Россией. Мы также обмениваемся опытом в области инициатив по снижению спроса на наркотические вещества, которые охватывают системы здравоохранения, школьного образования и уголовного правосудия. Принимаются совместные шаги для противодействия террористическим угрозам нашим транспортным сетям, а также привлечению к суду подозреваемых в терроризме и их пособников. В нынешнем году США предприняли шаги по ликвидации сети финансовой подпитки лидера международной террористической группировки Доку Умарова и организации «Кавказский эмират», что продемонстрировало нашу решимость искоренить глобальные террористические организации. Продолжают улучшаться отношения между нашими вооруженными силами. По итогам совместных учений по противодействию угону самолетов «Зоркий орел», которые впервые состоялись летом прошлого года, мы также договорились укреплять оперативную координацию в целях противодействия террористическим угрозам, итогом чего в мае с.г. явилось подписание меморандума о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, а также осуществлять совместное планирование в области ядерной безопасности и ликвидации последствий кризисов. Мы договорились предпринимать совместные усилия в целях противодействия опасности самодельных взрывных устройств. Всего в 2011 году по линии наших военных ведомств намечено 67 мероприятий, обменов, учений и консультаций. Аналогичные каналы общения были открыты между нашими экспертами по оборонной политике, обсуждавших такие вопросы, как противоракетная оборона, военная реформа, оборонные технологии, материально-техническое обеспечение, людские ресурсы, обучение и подготовка.
Под эгидой Комиссии наше двусторонние сотрудничество обогатилось новыми направлениями, способствуя совместным усилиям по защите нашей планеты и реагированию на новые глобальные вызовы. Объявленная в ноябре прошлого года новая инициатива по сохранению популяции российских амурских тигров является продолжением активного сотрудничества в природоохранной сфере, в том числе между нашими НПО по защите тихоокеанского лосося и других представителей фауны, обитающих в обеих странах. Состоялись успешные обмены делегациями экспертов по вопросам охраны водных ресурсов, утилизации опасных отходов, сельского и лесного хозяйства. Новые контакты между нашими национальными службами по природоохранной деятельности обеспечивают условия для создания совместной охранной зоны в регионе Берингова пролива и других механизмов сотрудничества между российскими и американскими национальными и региональными заповедниками. Российские и американские представители министерств здравоохранения совместно работают над искоренением полиомиелита во всем мире, в том числе через проведение совместных миссий по мониторингу процесса вакцинации в Таджикистане и Киргизии. Продолжает расширяться сотрудничество между российскими и американскими агентствами по чрезвычайным ситуациям, распространяясь на такие области, как предотвращение лесных пожаров, медицину катастроф, прогнозирование чрезвычайных ситуаций и планирование на случай их возникновения, поисково-спасательные работы в городских условиях, а также мероприятия в международной ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Наконец, Комиссия добилась успехов в укреплении связей между нашими гражданами. Представители гражданского общества России и США объединяют усилия с целью защиты детей от эксплуатации, а также обмениваются идеями относительно содействия эффективной интеграции мигрантов и борьбы с проблемами ксенофобии и торговли людьми. Осуществляется сотрудничество по мониторингу коррупции и внедрению новой передовой практики в сфере корпоративного управления, а также по оказанию экспертной поддержки в таких областях, как реабилитация и реинтеграция бывших заключенных. Новые обмены – от балета до музыки в стиле «хип-хопа» и юношеского хоккея – также помогают россиянам и американцам лучше познакомиться с культурными богатствами и талантами наших стран. Студенты театральных вузов Москвы и Лос-Анджелеса организовали совместные постановки, а лидеры студенческих организаций подключились к дискуссиям и обсуждениям по внешней и внутренней политике. Мы активно работаем над преодолением паузы в наших обменах произведениями искусства и надеемся как можно быстрее восстановить это важное направление сотрудничества.
Что касается следующего года, то мы рекомендуем расширить мандат Комиссии, сформировав новую рабочую группу по инновациям с тем, чтобы придать особое внимание мерам стратегической политики в целях внедрения инноваций и улучшить сотрудничество в инновационной сфере, как это было определенно Президентами двух стран в июне прошлого года. Мы также согласны, что верховенство права является жизненно важным условием для построения процветающей экономики и рекомендуем учредить рабочую группу по правовым вопросам под председательством министров юстиции России и США с целью расширения нашего сотрудничества в этой сфере.
Уганда закупает в России истребители на сумму 740 миллионов долларов, предположительно - Сухой Су-30, сообщает южноафриканский информационный портал Defenceweb.co.za со ссылкой на официального представителя Вооруженных сил Уганды подполковника Феликса Кулайиги (Felix Kulayigye).
"Обретение военно-воздушной мощи является частью оборонной политики по защите территориальной целостности и ресурсов. Тем не менее, я должен добавить, что это не несет в себе угрозу нашим соседям", - заявил Кулайиги, добавив, что политика его страны является "оборонительной, а не наступательной или агрессивной".
Уганда планирует начать разработку нефтяных месторождений в граничащем с Демократической Республикой Конго (ДРК) регионе озера Альберт и закупает вооружение для обеспечения их безопасности.
По данным кенийской газеты East African, средства на закупку вооружения поступили из дополнительного бюджета и были взяты из Центрального банка без санкции парламента. Однако позднее парламент одобрил действия властей.
"Каждая страна должна быть хорошо оснащена, чтобы защищать свои стратегические интересы", - заявил министр информации Уганды Кабакумба Мацико (Kabakumba Matsiko).
Как отмечает портал, Уганда обеспокоена нестабильностью в Южном Судане и на границе с ДРК.
В апреле прошлого года российские СМИ сообщили, что "Рособоронэкспорт" заключил контракт на поставку в Уганду шести Су-30МК2.
Однако Кулайиги тогда опроверг эти сообщения, заявив, что цена оказалась слишком высокой. Вместо этого, Уганда направила в Россию на модернизацию шесть истребителей МиГ-21, отметил Кулайиги.
Судан и Европейский Союз договорились возобновить диалог и начать поиск новых путей для сотрудничества и качественного партнерства, сообщил журналистам в субботу глава МИД Судана Али Карти по итогам переговоров между комиссаром ЕС по развитию Андрисом Пиебалгсом и вице-президентом Али Османом Мухаммедом Тахой.
"В отношениях с Евросоюзом открывается новая страница. ЕС пообещал поддержать Судан по поводу списания суданского внешнего долга, решив вопрос с Парижским клубом, которому принадлежит половина суданской задолженности", - сказал Карти.
Внешний долг Судана составляет около 37 миллиардов долларов. Ранее в суданских СМИ проходила информация, что ЕС и США готовы списать долги Судана только в случае полного урегулирования конфликта в регионе Дарфур, где с 2003 года продолжаются военные действия между повстанцами и правительственными войсками.
Кроме того, по словам министра, ЕС обещал поддержать Хартум относительно вступления в ВТО. Юлия Троицкая
Миссия ООН в Судане (МООНВС) решительно осудила совершенное накануне в пограничном между Севером и Югом районе Абьей нападение на четырех миротворцев из Замбии, говорится в поступившем в среду в РИА Новости информационном сообщении МООНВС.
По данным миссии, неизвестные обстреляли миротворцев во время патрулирования ими территории в районе населенного пункта Голи примерно в 25 километрах от города Абьей.
Получившие ранения миротворцы, состояние одного из которых оценивается как тяжелое, были эвакуированы для оказания медицинской помощи в Абьей.
"Миссия ООН решительно осуждает это провокационное нападение и требует провести расследование инцидента", - говорится в сообщении.
Ранее совместный технический комитет с участием представителей властей Севера и Юга Судана под патронажем миссии ООН принял решение, что вывод с территории Абьей всех незаконно размещенных северянами и южанами вооруженных формирований будет произведен в течение недели - с 10 по 17 мая под надзором комитета.
Кроме того, правящие партии Северного и Южного Судана договорились предпринять усилия, чтобы разрядить обстановку в районе, которая серьезно накалилась в апреле, когда в столкновениях между военными Севера и Юга погибли несколько десятков человек.
Вопрос о принадлежности богатого нефтяными запасами района Абьей остается самым острым в отношениях между Севером и Югом Судана. Юлия Троицкая
Правящий на Севере Судана Национальный конгресс (НК) пригрозил не признать новое государство Южный Судан, которое будет образовано 9 июля, если в его временной конституции спорный пограничный район Абьей будет включен в состав территории Юга.
"Референдум, который прошел на Юге в январе 2011 года, не охватывал Абьей, и будущая республика Южный Судан вправе включить в свой состав только те территории, которые находятся в границах, установленных в 1956 году", - заявил в среду журналистам ад-Дердири Ахмед, ответственный за решение вопроса Абьей в НК.
Заявление последовало вслед за намерением властей Юга прописать в новой временной конституции будущего государства, что Абьей входит в состав Южного Судана.
По словам Ахмеда, НК в таком случае не только откажется признать конституцию Южного Судана, но и пересмотрит свою позицию по поводу признания государства Южный Судан в июле этого года.
Он отметил, что включение Абьей или любой другой территории Севера в состав Южного Судана нарушает Всеобъемлющее мирное соглашение.
В свою очередь, суданский президент Омар аль-Башир, выступая в среду перед жителями штата Южный Кордофан, на границе которого находится район Абьей, заявил, что Абьей останется в составе Севера после отделения Южного Судана.
"Абьей расположен в Северном Судане и останется у Севера", - сказал аль-Башир, который приехал в Южный Кордофан для поддержки кандидата от НК Ахмеда Харуна на губернаторских выборах, которые пройдут в провинции на следующей неделе.
Власти Юга тоже выставили своего кандидата для участия в губернаторских выборах в стратегически важном для них регионе. Ожидается, что во время предстоящих выборов между претендентами от Севера и Юга развернется серьезная борьба.
Вопрос о принадлежности богатого нефтяными запасами района Абьей остается самым острым в отношениях между Севером и Югом Судана.
Референдум по Абьей, который планировалось провести одновременно с плебисцитом по самоопределению Южного Судана, был отложен на неопределенное время из-за разногласий между Севером и Югом по вопросу о его участниках.
Правительство Юга считает, что кочевники миссерия, несколько раз в год проходящие по району со своими стадами, не имеют право участвовать в голосовании, на чем настаивает Север.
Власти Севера ранее пригрозили, что любая попытка южан решить проблему Абьей в одностороннем порядке может закончиться войной. Юлия Троицкая
Судан намерен использовать российский опыт при создании независимого государства на юге страны, об образовании которого будет официально объявлено 9 июля, заявил во вторник посол Республики Судан в РФ Мухаммед Хусейн Заруг.
"При становлении двух независимых государств в Судане мы будем придерживаться опыта Российской Федерации, который она получила во время создания СНГ, в том числе юридических аспектов процесса", - сказал он на пресс-конференции в РИА Новости.
Южный Судан станет самостоятельным 9 июля. За независимость во время январского референдума проголосовали более 98% его жителей. Проведение референдума стало возможно после заключения в 2005 году всеобъемлющего мирного соглашения между правительством Судана и повстанцами Юга, которое положило конец многолетней гражданской войне.
По словам Заруга, первой страной, которая признает независимое государство на юге Судана, станет Республика Судан и "она, естественно, окажет необходимую помощь в становлении нового образования".
Посол также назвал односторонним решение США снять после 9 июля экономические санкции только с Южного Судана. По мнению Заруга, такая позиция "является нарушением США и странами Западной Европы взятых на себя ранее обязательств по оказанию поддержки Судану".
"Если они (США и Западная Европа) действительно хотят помочь в образовании нового государства, то необходимо отменить санкции в отношении всей страны, две части которой крепко связаны и фактически составляют единую экономическую структуру", - сказал посол.
США ввели экономические санкции в отношении Судана в 1997 году за то, что Хартум предоставлял убежище "международным террористам", среди которых фигурировали главарь "Аль-Каиды" Усама бен Ладен и Ильич Рамирес Санчес, известный по кличке Карлос. Однако в Южном Судане санкции почти не соблюдались. В ноябре 2010 года президент США Барак Обама продлил еще на один год экономические санкции против Хартума.
Заруг вместе с тем предупредил, что двум суданским государствам придется решать множество еще спорных проблем, в частности вопросы границ, распределения нефтяных ресурсов в приграничных районах и запасов воды в бассейне Нила, внешнего долга.
Комментирую неспокойную ситуацию в странах Северной Африки и Ближнего Востока и относительно стабильное положение в самом Судане, Заруг сказал, что суданские власти всегда стремились решать любые внутренние конфликты за столом переговоров, "даже с вооруженными группировками, которые 20 лет вели борьбу с центральным правительством". По мнению посла Судана в России, "если бы другие арабские страны имели хотя бы часть тех свобод, которые существуют в Судане, у них не было бы повода для революций".
Хрупкий мир. Обострение ситуации в Южном Судане показывает, что, несмотря на действие Всеобъемлющего мирного соглашения, свободные выборы и референдум о самоопределении юга, конфликтный потенциал в этой стране не исчерпан. Правда, и самые завзятые оптимисты не ожидали, что разделение богатого нефтью Судана пройдет абсолютно гладко.
Конфликтный потенциал накоплен в Судане за десятки лет его новейшей истории. Столкновения там обусловлены не одной какой-то причиной, которую относительно легко убрать, а комплексом причин — этнической и религиозной разнородностью населения, границами, проведенными колониалистами, неравномерным распределением нефтяных месторождений по территории страны, исторической памятью племен, экологическими проблемами. Эти конфликты за последние 30 лет унесли 2 млн человеческих жизней, еще 1 млн суданцев покинули пределы страны, а общее количество беженцев достигло 4 млн человек.
В связи с последними событиями уместно напомнить, что Судан — пограничное государство, расположенное между арабской Северной Африкой и негроидной Черной Африкой. Северная и центральная часть страны населена арабами, исповедующими ислам. А на юге, западе и востоке живет множество африканских племен с разными языковыми группами. Среди них преобладают христиане, есть и язычники. О конфликтности между северным Хартумом и южной Джубой можно говорить как о постоянном явлении в истории страны. А есть еще разделенный на три штата Дарфур, в котором периодически возникали кровавые столкновения африканских племен с кочевыми арабами, а затем началось восстание против центральных властей Судана. Да и юг страны, народ которого высказался за отделение от севера, нестабилен, не все амбиции местных политиков сегодня удовлетворены.
Конкретно же обострение ситуации в Южном Судане вызвано углублением раскола в рядах правящего Суданского народно-освободительного движения (СНОД). Этот раскол начался после всеобщих выборов в апреле 2010 года, когда некоторые высокопоставленные функционеры движения не попали в партийный список. Среди них оказался бывший генерал вооруженных сил юга Джордж Атор. Он пользуется влиянием в штате Джонглей, а в Центральном Экваториальном штате страны идут бои его отрядов с правительственными войсками. Еще несколько генералов южносуданской армии образовали другой театр военных действий. Они близки Ламу Аколю, бывшему министру иностранных дел Судана и архитектору Всеобъемлющего мирного соглашения, который руководит небольшой оппозиционной партией. Именно в боях с этими мятежниками-генералами стороны потеряли как минимум 100 человек. Если Хартум поддерживает Атора и Аколя, то Джуба поддерживает дарфурских повстанцев.
Война стала фоном консультаций о разделе страны, прежде всего нефтеносного штата Абъей. Одновременно обсуждаются и условия раздела прибыли от эксплуатации месторождений. Консультации продвигаются туго, и стороны в качестве дополнительных аргументов активно используют мятежников на юге и в Дарфуре.
Так что о прочном мире в этой стране пока говорить рано — там лишь перемирие, хрупкость которого усугубляется начавшимся сегодня дележом нефтяных богатств. Есть явные признаки ожесточенной борьбы за властные полномочия и связанные с этим барыши. А это увеличивает вероятность того, что ситуация будет развиваться по опасному сценарию, в результате которого в Африке появится еще одно проблемное государство. Поэтому властям Южного Судана следует до 9 июля текущего года приложить все усилия, чтобы урегулировать ситуацию. На эту дату намечено провозглашение нового государства. Михаил Маргелов. Cпецпредставитель президента в Африке, глава комитета Совета Федерации по международным делам
Судан может пополнить список проблемных африканских государств, считает спецпредставитель президента РФ по странам Африки, председатель международного комитета Совета Федерации Михаил Маргелов.
В последние месяцы многие страны Ближнего Востока и Северной Африки охвачены массовыми народными протестами. В субботу в Южном Судане, который по итогам референдума должен в июле отделиться от Севера, армия неожиданно вступила в бой с мятежниками. По данным ООН, с начала этого года в Южном Судане в результате межплеменных столкновений и боев армии с мятежниками погибли более 800 человек.
"Если начавшееся в этой стране кровопролитие продолжится, а в дележе нефти стороны к согласию не придут, в Африке может появиться еще одно проблемное государство", - заявил Маргелов, который ранее был спецпредставитель президента РФ по Судану, РИА Новости в понедельник.
В январе этого года подавляющее большинство населения Южного Судана проголосовало на референдуме за отделение от Севера и образование независимого государства на своей территории, которое официально будет образовано 9 июля. В середине апреля правящее на Юге Судана Народно-освободительное движение (СНОД) наотрез отказалось от предложения властей Севера делить доходы от нефтедобычи в течение некоторого времени после отделения Юга.
Российский сенатор отметил, что в преддверии провозглашения нового государства на Юге Судана обстановка в этой части страны обострилась и ряд местных политиков, которые считают себя обделенными при распределении постов после всеобщих выборов, открыли театр военных действий.
"В ходе конфликта, которому способствовало углубление раскола в правящем Суданском народно-освободительном движении, погибло с обеих сторон около 100 человек", - сказал он.
Ранее в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило со ссылкой на отдел общественных связей Суданской народно-освободительной армии, что число погибших в результате столкновений южносуданской армии с мятежниками за прошлую неделю достигло 105 человек.
Как отметил Маргелов, поскольку военные действия совмещены во времени с переговорами о разделе страны и нефтяных месторождений, переговорщики используют конфликтующие стороны "в качестве аргументов в ожесточенных спорах".
Судан ежедневно добывает 500 тысяч баррелей нефти, при этом около 75% нефтедобычи приходится на месторождения на Юге.

Пресса под ружьем
Как современная журналистика помогает войнам
Резюме: Когда гора идет к Магомету, ему уже не нужно напрягаться. В большинстве своем журналисты ленивы. Везде и всюду средства массовой информации охотно бросаются потреблять то, что им скармливают правительства и ведущие политики, обладающие подлинным или дутым авторитетом.
Безопасность, политика государств и общественное мнение – три феномена, которые оказывают друг на друга взаимное влияние. Правительства используют общественное мнение и пытаются его формировать. Средства массовой информации служат при этом их инструментами, иногда становясь хозяевами, а иногда – прислужниками. Новейшие технологии качественно преображают массмедиа, что, в свою очередь, меняет и характер их воздействия на настроения общества. Недавние кадры трассирующих снарядов в небе над Триполи в очередной раз продемонстрировали, насколько актуальна эта проблема.
Новая информационная эпоха наступила 17 января 1991 г. в 2.40 местного времени, когда с налета американских ВВС на Багдад началась первая война в Персидском заливе. При рождении эры тотального телевидения присутствовала телекомпания CNN. С балкона своего номера в отеле «Мансур» корреспондент Питер Арнетт в прямом эфире транслировал, как ракеты, запускаемые с самолетов США, разорвав черное небо яркой вспышкой, поражали цели. Спутниковые антенны и тарелки сделали свое дело, любой житель Земли, включивший в тот момент телевизор, впервые смог ощутить сопричастность настоящей войне в режиме реального времени.
С тех пор синхронность происходящих событий и их одновременное восприятие потребителями новостей значительно повысили степень манипулятивности информации. Стремительное распространение любительского видео, снятого при помощи мобильного телефона, усугубляет эту тенденцию. Диктат оперативности и давление конкуренции в сочетании с коммуникационными возможностями, имеющимися сегодня в распоряжении печатной прессы, меняют содержание и вес новостей.
Постоянная гонка и требование максимальной краткости губят рефлексию. Раньше у журналиста была функция очевидца. Тот факт, что он находился на месте событий и располагал средствами передачи информации, легитимировал его высказывание. Возможно, он прибыл всего час назад, впервые в этой стране, не владеет языком, не знает там ни единого человека и имеет лишь туманное представление о политической и социальной предыстории. Он описывает, что происходит, либо то, что имеет возможность увидеть или узнать из происходящего. Если репортеру повезло, и ему сразу встретились правильные люди, если он имеет богатый опыт работы и обладает интуицией и способностью чувствовать настроения и улавливать впечатления, вполне возможно, что мы получим качественные репортажи.
Но обстоятельства описывать намного сложнее, чем сами события. Между тем обстоятельства несопоставимо важнее, особенно если именно они становятся причиной потрясений. До тех пор, пока не исследованы обстоятельства, сиюминутные слепки меняющейся реальности только сбивают с толку, переключая внимание на побочные темы. Но именно эти сиюминутные слепки, иногда и вовсе совершенно мимолетные, формируют устойчивые представления миллионов людей. А настроениями этих миллионов, их оценками и предубеждениями руководствуются политики. На этой основе они принимают решения, иногда – ошибочные.
Техническая простота и доступность имеют оборотную сторону. Комментаторы от Тайбэя до Торонто, работой которых является интерпретация событий, вводят одни и те же ключевые слова в поисковую систему Google и получают идентичный набор из нескольких десятков статей. Стандартизация в оценке мировых событий и определенное интеллектуальное нивелирование при этом неизбежны.
Юбер Бёв-Мери, основатель Le Monde, когда-то внушал своим журналистам: будьте невыносимо скучными! Так, утрируя, он побуждал сотрудников к тому, чтобы они ставили содержание над формой, предпочитали существенное броскому. А ведь он даже не догадывался о грядущем пожелтении серьезных изданий и торжестве инфотейнмента.
Подмена точной информации привлекательной оболочкой превратилась в смертный грех нашего ремесла. Дэн Разер, который много лет возглавлял информационную службу CBS, давно предупреждал о «голливудизации» новостей. Правда, будучи противником такого подхода, он сам являлся его большим мастером. Однажды на встрече руководителей подразделений информации теле- и радиокомпаний он сказал: «Глубокие аналитические материалы никому не нужны. Растет спрос на шоу в прямом эфире. На работу надо нанимать мастеров видеоэффектов, а не писателей. Секрет хорошего интервью – удачный грим, а не хитрые вопросы. И, ради всего святого, никого не раздражайте. Make nice not news».
Триумф поверхностности, нежелание публики вникать в сложные контексты – это западня, в которой репортер одновременно оказывается и преступником, и жертвой. Существует множество причин небрежной работы журналистов. Вероятно, наиболее важной из них является следующее: даже самые мыслящие потребители новостей зачастую воспринимают только те факты, которые вписываются в их устоявшуюся картину мира. То, что выходит за ее рамки, вытесняется и быстро забывается. Оценки, вынесенные однажды, крайне редко пересматриваются на основе новых фактов.
Отсюда и труднопреодолимая инертность медиа, которые не хотят разбираться в запутанных взаимосвязях. Перевороты в арабском мире – свежий пример того, что западная картина исламского мира давно уже определяется преимущественно средствами массовой информации. Внимание журналистов десятилетиями приковано к региональным конфликтам от Йемена и Бахрейна, до Балкан и Чечни, от Ливии и Палестины, до Судана и Афганистана. Но в освещении мотивов и действующих лиц почти всегда преобладает негативизм.
Все мы знаем, что терроризм, апеллирующий к исламу, является делом крошечного меньшинства мусульман. Но восприятие широкой общественностью террористической угрозы ведет к упрощению общей картины. Ислам, политический ислам, исламизм, фундаментализм во всех его проявлениях, религиозно мотивированный экстремизм и готовность применять насилие для большей части западной публики сплавились в амальгаму, если не стали взаимозаменяемыми понятиями. Арабские деспоты успешно эксплуатировали эту амальгаму, утверждая десятилетиями: или мы, или исламистский хаос, и большинство СМИ популяризировали это послание.
Первой жертвой любой войны становится правда, писал Редьярд Киплинг. Вторая жертва – язык. Искажение действительности часто начинается со словоупотребления. Бомбежки превращаются в «хирургические удары», оккупированные земли – в «спорные территории», эскадроны смерти – в «элитные подразделения», убийства – в «точечные ликвидации». Несуществующее оружие массового уничтожения Саддама Хусейна, послужившее поводом к войне, до сих пор (хотя война доказала его отсутствие) именуется в многочисленных публикациях «преувеличенными данными» и «недостатками работы разведслужб». Никого не смущает, когда в нейтральном информационном тексте арабский или исламский политик характеризуется как «антизападный». Называли ли когда-нибудь какого-либо американского политика «антиарабским»? Радикальные исламисты «ненавидят» Израиль. Разве нет израильских экстремистов, которые ненавидят палестинцев?
Последняя война, репортажи о которой были относительно независимыми, – Вьетнам. Именно неприкрашенная картинка действительности способствовала растущему неприятию боевых действий в американском обществе, что заставило Вашингтон пойти на попятный. Но военные выучили урок. Переизбыток информации – одна из форм управления общественным мнением. Это наглядно продемонстрировала первая иракская война. Никогда раньше так много журналистов, снаряженных столь современным оборудованием, не видели настолько мало из происходящего.
Когда гора идет к Магомету, ему уже не нужно напрягаться. В большинстве своем журналисты ленивы. В прекрасно оборудованном пресс-центре в Саудовской Аравии, за сотни километров от боевых действий, не прекращался дождь из пресс-релизов, издавались горы вспомогательных материалов, услужливые сотрудники пресс-служб по первому требованию были готовы предоставить статистику и графическую информацию. Бесконечные пресс-конференции превратились в холостую словесную канонаду, поток сообщений ширился и нарастал.
Вторую иракскую войну освещали «прикомандированные журналисты» – новый термин, который неизбежно напоминает о военных шорах. Эти люди видят происходящее сквозь прорезь прицела, а не глазами пострадавших. Тема терроризма ведет к похожим искажениям оптики. Редко кто замечает, что место удара ракеты, запуск которой санкционирован государством, выглядит ровно так же, как и то место, где взлетел на воздух начиненный взрывчаткой автомобиль. По крайней мере, для жертв никакой разницы нет.
Когда в триумфальном коммюнике, выпущенном вооруженными силами НАТО в Афганистане, провозглашается, сколько убито талибов, кому-то из тех, кто занимает ответственные должности в органах власти или редакциях, стоит задуматься о том, что у каждого из убитых есть братья, сыновья, близкие родственники-мужчины, которые с того момента мечтают только об одном – о мести. Бывший британский посол в Риме Айвор Робертс метко назвал президента США Джорджа Буша лучшим агентом по вербовке в ряды «Аль-Каиды».
Тот, кто для одного является террористом, другому всегда представляется борцом за свободу. Для немецких оккупантов и режима Виши во Франции террористами были бойцы французского Сопротивления. Десять лет спустя в этой роли – теперь уже для французов – выступали повстанцы из алжирского Фронта национального освобождения. «Террористом» считался в свое время Нельсон Мандела. Будущие главы правительства Израиля Ицхак Шамир и Ицхак Рабин разыскивались за терроризм британской администрацией подмандатной Палестины. И Ясир Арафат, прежде чем он появился на лужайке перед Белым домом в качестве партнера по международным договорам, был террористом. Некоторые из вышеперечисленных лиц даже стали лауреатами Нобелевской премии мира. Об этом полезно вспомнить каждый раз каждому, кто утверждает, что его трактовка есть истина в последней инстанции.
Мы не ведем переговоров с террористами. Питер Устинов, человек удивительной выдержки, сказал однажды, может быть, слегка перегнув палку: терроризм – это война бедных, война – это террор богатых.
Везде и всюду средства массовой информации охотно бросаются потреблять то, что им скармливают правительства и ведущие политики, обладающие подлинным или дутым авторитетом, вплоть до того, что комментаторы заимствуют официальный вокабулярий. Когда президент каждую неделю твердит об иракском оружии массового поражения или иранских планах стать ядерной державой, они превращаются в виртуальную реальность. Средства массовой информации плохо приспособлены к тому, чтобы сопротивляться подобной ситуации. Все, что говорит президент или официально заявляет министр, должно быть изложено снова и снова, причем на наиболее видном месте.
Самым ужасным результатом в долгосрочном плане является то, что пропагандистские усилия приводят к дегуманизации, «расчеловечиванию» противника. Убийства или унижения врагов, объявленных террористами, становятся «простительными» прегрешениями. Тем самым мы загоняем в тупик себя самих, потому что рубим под корень возможность диалога и перспективу урегулирования. Стабильность и безопасность, в том числе нашу собственную безопасность, невозможно обеспечить, ведя беседу только с единомышленниками.
Наш альянс с коррумпированными тираническими режимами Ближнего Востока надолго дискредитировал в глазах народов этого региона идеалы демократии и прав человека, которые мы на словах проповедуем. Привычка к клише ведет нас самих к фатальному недоразумению. Нет ничего опаснее, чем начать верить собственной пропаганде.
Нашей публике, взращенной телевидением, нужны герои недели. В какой-то момент ими стали ливийские революционеры. О них практически ничего не известно. Кто-то из этих людей наверняка причисляет себя к либералам, но плечом к плечу с ними стоят религиозные экстремисты, представители племен, имеющих счеты к Каддафи, и перебежчики из числа его клевретов. Две наиболее значимые персоны в Национальном переходном совете еще пару недель назад занимали посты в правительстве Джамахирии, между прочим, они служили не главами почтового или какого-либо подобного ведомства, а министрами внутренних дел и юстиции, опорами любой диктатуры. Но стоило им только произнести волшебные слова «свобода» и «реформа», как немедленно выстроилась длинная очередь желающих поверить в сказку. Если кто-то на Западе заикается о том, что все на самом деле намного сложнее, он, как правило, вызывает неприязнь.
Где бы ни вспыхивали протесты против диктаторского режима, международные массмедиа без промедления приклеивают манифестантам ярлык «продемократического движения», обычно не задаваясь вопросом, действительно ли целью мятежников является свобода. В свое время некоторые комментаторы считали борцами за свободу и «красных кхмеров».
Рудольф Кимелли – немецкий журналист и писатель, долго работавший на Ближнем Востоке, корреспондент газеты Suddeutsche Zeitung в Париже.

Ветер ужаса и ветер надежды
Большой Магриб: джихадисты и их заклятые враги
Резюме: Либерализация в Северной Африке сталкивается с двумя вызовами: угрозой джихадизма и бесправием этнических и религиозных меньшинств. Власть пытается сохранить равновесие между сдерживанием исламистов и противодействием джихадистам, с одной стороны, и замедлением демократических реформ – с другой.
Данный текст – глава из ставшей пророческой книги «Грядущая революция. Борьба за свободу на Ближнем Востоке» (The Coming Revolution. Struggle for Freedom in the Middle East), опубликованной осенью 2010 г. в издательстве Threshold Editions. Русский перевод выйдет в серии «Библиотека “КоммерсантЪ”» издательства «Эксмо», которое любезно предоставило материал журналу.
У племен и народов, живших испокон веку от Египта до Атлантики, включая пустыни Ливии, Туниса, Алжира и Марокко до самой Мавритании, есть три общих особенности. Во-первых, они коренные жители Северной Африки. Во-вторых, все они в течение многих столетий находились под игом одной мусульманской империи (Османской). В-третьих, испытывали и до сих пор испытывают тиранию националистических арабских режимов и крайнюю жестокость современных джихадистов. Среди этих народов выделяются следующие в порядке их численности: берберы Магриба (живущие преимущественно в Марокко, Алжире и частично в Сахеле), копты Египта и чернокожие племена южной Мавритании. Арабо-мусульманское большинство в этих странах также лишено многих свобод, и их права тоже часто ущемляются, но этнические меньшинства испытывают на себе двойной или даже тройной пресс.
Давление на культурно-лингвистические и религиозные меньшинства с целью заставить их отказаться от своей «самобытности» оказывается во многих странах Большого Ближнего Востока и арабского мира. В Северной Африки они подвергались дискриминации в течение многих веков, но особенно агрессивно это происходит в наши дни. Процессы культурной и политической эмансипации в этих странах всячески сдерживаются.
Если арабо-мусульманское большинство ущемляется по политическим мотивам, то неарабские мусульманские общины подавляются в силу самого их существования. На Большом Ближнем Востоке идет борьба между силами авторитаризма и джихадизма (хотя джихадисты нередко устраивают разбирательства друг с другом), с одной стороны, и гражданским обществом (в особенности его меньшинствами) – с другой.
Один и тот же сценарий в целом повторяется во многих странах Северной Африки, но с местными культурно-историческими особенностями. Большинство правительств авторитарны по своей сути, с разной степенью напористости. Ливия – единственная настоящая диктатура, которая держит в застенках тысячи политзаключенных. Режим Муаммара Каддафи, вдохновляемый радикальным арабским национализмом, идеями социализма и политического исламизма, находится у власти с 1969 года. В Египте, Тунисе, Алжире и в какой-то степени в Марокко существует многопартийная система, но, по мнению оппозиционных движений, правительства этих стран находятся под контролем авторитарных элит, а политзаключенные томятся в тюрьмах по много лет.
Дебаты относительно демократизации этих четырех стран продолжаются, и эксперты выделяют несколько факторов, по которым можно судить о легитимности находящихся у власти режимов. Во внимание принимается тот факт, что правящие круги этих стран наращивают давление и сохраняют контроль над оппозицией и гражданским обществом в целом. (Статья написана до начала политических перемен в регионе. – Ред.)
Арабские страны Северной Африки пока не достигли уровня демократизации Турции, Израиля или Кипра, своих средиземноморских соседей. Но если посмотреть на эволюцию политических систем, в глаза бросается колоссальная разница между четырьмя многопартийными конституциями Марокко, Алжира, Туниса и Египта и грубой диктатурой в Ливии, которая больше напоминает режимы Сирии, Ирана и Судана. В четырех недиктаторских, но авторитарных государствах Северной Африки у оппозиции есть доступ к газетам, и она может критиковать правительство (в известной степени), а представители оппозиции имеют возможность избираться в законодательные собрания. В Марокко конституционная монархия постоянно подвергается нападкам оппозиции, но у свободы слова есть пределы. В Алжире, Тунисе и Египте оппозиционные партии могут организовываться и участвовать в выборах разными способами. «Братья-мусульмане» в Египте хоть и стремятся к смене режима и установлению эмирата вместо республики, контролируют фракцию членов египетского законодательного собрания.
Многочисленные исследования последнего десятилетия свидетельствуют о том, что демократические движения в Северной Африке, как и в целом в арабском мире, становятся все более организованными и энергичными, добиваются расширения гражданских прав и свобод. Они все еще далеки от достижения полной либерализации, которая позволила бы гражданскому обществу иметь все те свободы, которыми пользуются на северном побережье Средиземного моря. Процесс либерализации сталкивается с двумя вызовами: угрозой джихадизма и суровой дискриминацией этнических и религиозных меньшинств. Власть пытается сохранить равновесие между сдерживанием исламистов и противодействием джихадистам, с одной стороны, и замедлением демократических реформ – с другой. Но по крайней мере в двух странах государственная идеология по-прежнему отвергает полную эмансипацию этнических меньшинств. Иллюстрацией может служить состояние меньшинств в Алжире и Египте, а также проблема рабства в Мавритании.
Берберы и краткая история их борьбы
Наряду с коптами в Египте, берберы являются старейшими жителями Северной Африки. Их опыт сродни тем переживаниям, которые выпали на долю индейцев в США. Арабские националисты, мусульманские историки, идеологи и политики дружно отвергают мысль о том, что представители этих меньшинств имеют законное право на самоопределение, независимость или даже на автономию и самоуправление. Исламисты и, естественно, джихадисты утверждают, что поскольку вся эта территория была честно завоевана халифатом 13 веков назад, она снова должна стать частью мусульманской империи. Мало того, они считают необходимым противодействовать созданию на этих землях небольших независимых государств, в том числе и мусульманских. Исламисты, поддерживающие идею возвращения к халифату, считают, что даже такие большие страны, как Марокко и Алжир, должны исчезнуть с карты мира. Тем более, по их мнению, нельзя допускать даже мысли о возникновении на пространствах Магриба, на западе Северной Африки, отдельной страны для берберов. Однако исламисты приглашают берберов присоединиться к движению салафизма и джихадизма, чтобы наравне с арабскими этническими группами участвовать в джихаде во имя восстановления праведного и справедливого халифата.
Арабские националисты, большинство из которых являются социалистами и сторонниками авторитарных режимов, прибегают к более конкретным аргументам, отвергая право берберов на самоопределение. Каддафи часто заявлял, что берберы – это те же арабы, потому что «они пришли сюда с Аравийского полуострова примерно 4 тысячи лет назад», то есть задолго до арабского вторжения на континент. Каддафи и его прислужники из числа националистов также пытаются утверждать, что берберы – это арабы, даже если отказываются это официально признавать. Это все равно что англосаксы Америки сказали бы американским индейцам: «Вы европейцы, потому что пришли сюда из Евразии примерно 10 тысяч лет тому назад, так что мы такие же коренные жители Америки, как и вы, и ваши земли – это наши земли».
Древние берберские народы под названием «мазих» или «амазих» имеют афро-хамитское происхождение и всегда населяли территории между Марокко и Западным Египтом, которые на юге простирались до самого Сахеля. Их многочисленные царства встретились с финикийскими поселенцами, основавшими Карфаген, и берберы сформировали ядро населения Карфагенской империи. После окончания Пунических войн берберов завоевывали римляне, византийцы и вандалы. Однако им удавалось сохранять свои культурные особенности на протяжении многих веков. Среди регионов их обитания называют Нумидию, Мавританию и некоторые другие. Христианство распространилось по Северной Африке в течение первых веков новой эры, и новый город Карфаген стал оплотом североафриканского христианства параллельно с Александрией, в которой обосновалась патриархия коптов.
Крупные еврейские общины начали появляться на берберских территориях в первом веке нашей эры.
После вторжения в Египет под командованием Амр Ибн Аль-Аса полчища халифата совершили марш-бросок через пустыню Сахара, дойдя до берберских поселений, где столкнулись с упорным сопротивлением в 642 и 669 гг. н. э., особенно в районах современного восточного Алжира и Туниса. Завоевание арабами берберских территорий стало важной исторической вехой, подобно англо-иберийскому освоению обеих Америк. Оно ознаменовало полное изменение облика преобладающей культуры, существенное преобразование этнического большинства, а также смену религиозной принадлежности.
После ряда сражений, которые начались в Киренаике (современной Ливии) и распространились на некоторые западные регионы Северной Африки (современные Тунис, Алжир и Марокко), завоеватели халифата под предводительством полководцев и эмиров, назначаемых на Аравийском полуострове, сломили сопротивление берберов. Огромные территории на севере африканского континента были присоединены к империи, расширяющейся с востока. Арабские войска собрались в Кайруане к югу от города Тунис и продвинулись к Атласским горам и окружающим их равнинам. Исконная родина берберов пала жертвой мусульманской экспансии в Северной Африке, с берегов которой произошло последующее вторжение в Испанию.
В отличие от предыдущих завоевателей, арабские правители настаивали на полной ассимиляции. С начала VII века в процессе арабизации и исламизации серьезным испытаниям была подвергнута самобытность крупных сегментов берберского населения. Важно отметить, что хотя сопротивление берберов замедлило процесс ассимиляции, некоторые коренные племена присоединились к завоевателям, как это происходило в Сирии и Месопотамии.
Одним из известных берберов, вставших под знамена халифата, был Тарик бен Зияд – блестящий полководец оккупационных войск, которые высадились на побережье Испании и примерно в 715 г. н. э. разгромили армии христиан-вестготов. В его честь гора, возвышающаяся над узким проливом между Иберией и Марокко, была названа «горой Тарика». В европейских языках это название со временем превратилось в «Гибралтар». Тарик провел армию халифата через всю Иберию, дав сначала династии Омейядов, а затем династии Аббасидов то, что не мог себе представить ни один предводитель мусульманской империи: часть христианской Европы. В этой местности были плодородные земли и множество пресноводных источников. Завоеватели назвали ее Андалусией, или землей вандалов. Однако полководец, который был для халифата примерно тем же, что спустя многие века Кортес для испанской империи, не удостоился тех почестей, которых заслуживал. Как только он добился победы в Андалусии, арабская знать из Дамаска захватила власть от имени чисто арабской династии Омейядов, известной своим пренебрежительным отношением к другим этническим группам, особенно к выходцам из Африки, даже если последние были мусульманами.
С самым знаменитым бербером в арабской истории обошлись как с второразрядным обывателем, несмотря на то, что он бросил несметные богатства к ногам правителей арабского халифата в Леванте. «Просто с этнической точки зрения он не был первостатейным подданным, – говорит Ферхат Мехенни, лидер современного движения за автономию берберов в Алжире, – потому что не являлся выходцем из правящего класса арабов, двигавшихся с востока со времени начала завоевания».
История Тарика в высшей степени показательна для всей многовековой истории вплоть до наших дней. Берберы разделились на две группы.
Первая группа – это арабизированные берберы, ставшие частью арабского населения, переселившегося в эти места из Аравии и Леванта. Это эквивалент метисов в Латинской Америке – смесь европейцев с коренным американским населением. Некоторые утверждают, что арабо-берберы, обратившиеся в ислам, вполне возможно, сегодня являются демографическим большинством в регионе от Марокко до Алжира. Вторая группа берберов сохранила свои доарабские культурные традиции и наследие – в частности, в отдельных анклавах, встречающихся на территории всего Магриба.
С утратой Андалусии западные границы халифата отступили к северному Марокко. Арабские правители, опасаясь дальнейших набегов европейцев, ослабили процесс арабизации берберов. В XVI веке Османский султанат заявил о притязаниях на всю Северную Африку, назначив своих чиновников «валисами» в Магрибе. Эти исторические события дали берберам возможность перевести дух и вздохнуть свободнее. Они позволили их культуре пережить еще несколько столетий, пусть и под игом султаната. Постепенно турецкое владычество отступило, и в 1830 г. Магриб начали колонизировать европейские державы. Франция прибрала к рукам Алжир, Марокко и Тунис, Испания захватила север Марокко, а Италия установила контроль над Ливией. И арабы, и берберы оказались оккупированными западными державами.
Когда в середине XIX века европейцы начали селиться в Алжире, французские власти попытались заручиться поддержкой берберов против усиливающегося влияния арабского национализма и ваххабизма. В течение нескольких десятилетий внутри общин берберов «амазих» сталкивались две тенденции. Одна идеология призывала берберов к более решительной поддержке ислама для противодействия французскому колониализму, тогда как другая утверждала, что реальной угрозой для берберского этноса является арабский национализм.
Историки берберских народов соглашаются с двусмысленностью эволюции их политических движений. Хотя многие берберы сражались с французским колониальным игом с самого начала вплоть до достижения полной независимости всех стран Магриба, другие сосредоточились на борьбе за автономию и независимость берберских народностей. Перед этими коренными народами стоял выбор: либо примкнуть к арабскому националистическому движению (в частности, в Алжире) и воевать с французами за светское постколониальное государство, либо вести битву непосредственно за берберское государство или несколько государств.
Эту дилемму было нелегко разрешить. Будучи в основной массе мусульманами, берберы не обладали стойким иммунитетом против призывов к джихаду, чтобы покарать «неверных» колонистов. Арабские националисты при всей своей светскости нередко использовали идею «великого джихада против Франции», чтобы поднять на борьбу племена «амазих». Французские алжирцы и местные власти разыгрывали карту автономии берберов, направленной против будущего арабского доминирования. В конце концов, большинство берберских политических лидеров решили примкнуть к этническим арабам в их противостоянии французскому владычеству, и в Магрибе образовалось три арабских государства: Марокко, Тунис и Алжир. Все это бывшие провинции арабского и османского халифата.
В Марокко, обретшем суверенитет в 1956 г., этнические берберы составляют 40% населения. В современном Алжире, независимом с 1962 г., эта группа представляет собой внушительное меньшинство примерно в 30%. Однако, если учесть арабо-берберов, то численность коренного населения «амазих» может достигать свыше 70% всего Магриба. Как и в Судане, количество арабских переселенцев здесь уступает по численности коренным североафриканским жителям. Однако смешанное население Магриба в политическом отношении находится под влиянием арабских националистов и исламистов, хотя в повседневной культурной жизни дают знать о себе как берберские, так и арабские корни.
Гораздо более многочисленные берберы Марокко, особенно те, что живут в районе Атласских гор, чувствуют себя намного комфортнее алжирских соплеменников. Конституционная монархия в Марокко связана кровными узами со многими представителями этих племен. Но даже в умеренном Марокко некоторые берберы опасаются джихадизма, поскольку он угрожает их образу жизни и робким попыткам установить выборную демократию.
В отличие от Марокко, в Алжирской Народно-Демократической Республике берберский вопрос стоит намного острее. Центром борьбы берберов в Алжире является регион Кабилия, стремящийся к автономии. Его жители поднимают вопросы самоопределения и демократизации так настойчиво, как никто этого еще не делал в истории Магриба.
Проблема кабилов
Берберское население распространено по всему региону – от небольших общин в Ливии, Тунисе и Египте до более крупных групп в Сахеле, таких как туареги, живущие в Мавритании, Мали и Нигере и до северных пределов Буркина-Фасо. Самые многочисленные берберские народности живут в Магрибе. Среди них шилу, ташелхиты на юге Марокко численностью 8 миллионов человек, народ риффиан на севере Марокко и шауйи в Алжире.
Однако наибольшее стремление к автономии и берберский этнический национализм присущи народности кабилов в северном Алжире, которая в значительной степени сохранила свой древний язык и культуру.
Географически Кабилия располагается к востоку от столичного города Алжир. В этой преимущественно гористой местности живет 5 миллионов кабилов-берберов. Большинство сосредоточено в трех берберских провинциях: Тизи-Узу, Беджая и Буира. Примерно 50% населения провинций Сетиф, Бордж-Бу-Арреридж и Бурмедес также говорят на кабильском языке. Кроме того, половина населения в трехмиллионной столице Алжир – это кабилы. В силу бедности и плотности населения Кабилия – источник более половины всех алжирских эмигрантов во Франции. Будучи одним из старейших очагов сопротивления в берберской культуре, Кабилия бунтовала несколько раз за последние несколько десятилетий, требуя культурной автономии, которая включала бы и право получать образование на древнем языке амазих.
С Ферхатом Мехенни, президентом Движения за автономию кабилов, я встречался в Конгрессе США осенью 2009 г., где он ознакомил конгрессменов с положением дел на его родине. Он, в частности, заявил: «На протяжении многих веков, в полной изоляции от внешнего мира, наш народ всячески оберегал самобытность своей горной родины, когда весь регион находился во власти династий Омейядов, Аббасидов и Османов, а также их вассалов. Во времена французского колониализма наш народ стремился к автономии, поэтому кабилы присоединились к движению сопротивления, чтобы создать независимый, свободный и светский плюралистический Алжир, где арабы и берберы, включая кабилов, мусульман и немусульман, могли бы жить в мире и справедливости. Но после освобождения арабские националисты захватили власть в Алжире и не пожелали создать кабильскую автономию. С тех пор мы сражаемся за наши фундаментальные права – право на сохранение самобытной культуры и право просто быть другими, несмотря на совместное проживание с арабами».
Подобно многим кабильским лидерам, Мехенни находится в изгнании, живет во Франции и служит послом своей этнической общины, странствующим по всему миру. В Вашингтоне проявили интерес к его делу, но для начала задали на удивление простые вопросы: «Кто такие кабилы? Кто такие берберы? Вы арабы? Какую религию вы исповедуете?» – спрашивали законодатели, руководители исследовательских центров и даже журналисты. Подобные вопросы никогда не задаются в отношении палестинцев, не говоря уже об израильтянах или курдах. Почему на Западе проявляют такое невежество в отношении этого народа численностью 5 миллионов человек, будучи прекрасно информированы о населении Косово? Кабилы боролись за свою культурную самобытность и политические права с 70-х гг. прошлого века, когда их подавлял правящий Фронт национального освобождения (ФНО), североафриканская разновидность партии Баас в Сирии и Ираке. Режим, поглощенный процессом арабизации, систематически отвергал требования ввести язык амазих для обучения детей в школах и в качестве одного из государственных языков.
По словам Алекса Медуни, представителя кабилов в Вашингтоне, навязывание со стороны ФНО арабского языка и арабской культуры берберам в целом и кабилам в частности воспринималось этими меньшинствами как разновидность «этнических чисток». «С самого первого дня независимости кабилы непрестанно подавлялись на протяжении трех десятилетий – прежде всего панарабистами и социалистической элитой в Алжире. Когда после окончания холодной войны власть военных была демонтирована и произошла смена режима, арабские националисты, поддерживаемые военными, а также набирающим силу движением исламистов-салафитов, возобновили давление. У кабилов не было передышки после ухода французов, и это несмотря на то, что они сражались на передовой линии освободительной борьбы». Первое поколение изгнанных с родины кабилов продолжило борьбу за права своего народа в эмиграции. Ряд изгнанных берберов-интеллектуалов поддерживали идею создания берберского государства или по крайней мере кабильской автономии.
В 1980-е гг. в арабских националистических кругах Леванта и во всем Магрибе не допускалось и мысли о том, что неарабские меньшинства могут быть чем-то недовольны. Разговоры на эти темы – от проблемы курдов в Ираке до бедственного положения берберов в Алжире – считались под запретом. В эти бурные годы, пока продолжалась холодная война, я писал о деле кабилов и берберов в ежемесячной газете, которую издавал в Бейруте. В крайне враждебном окружении, где всякий, кто поднимал вопрос о положении меньшинств в арабском мире, считался врагом, мои статьи были заклеймены как «подстрекательство к дроблению региона путем распространения вредоносной пропаганды о бедственном положении меньшинств в арабском мире».
Кабилы и джихадисты в алжирской гражданской войне
В 1991 г. Исламистский фронт спасения (ИФС) с небольшим перевесом победил на первых многопартийных выборах в Алжире. Хотя исламисты находились в меньшинстве, многочисленные слои населения, включая берберов, проголосовали против прежних авторитарных кандидатов, поддерживаемых ФНО. Однако ИФС не скрывал своих намерений сразу после прихода к власти установить исламистский режим, в котором не будет места светской многопартийной системе. С тех пор многие исламисты-салафиты прибегают к джихадистскому насилию и ведут террористическую войну.
В течение последнего десятилетия гражданская война в Алжире ведется джихадистами посредством вооруженных исламских групп салафитов (ВИГ), которые боролись не только с правительством, но и со светским гражданским обществом. Алжирские гражданские лица, арабы и берберы, сильно пострадали, находясь между джихадистами и правительственными войсками, как между молотом и наковальней. В результате варварской бойни от рук салафитов-террористов погибло 140 тыс. гражданских лиц. Слепой террор салафитов был в равной мере направлен против арабов и берберов. Женщины, дети, старики, художники и музыканты, государственные служащие были убиты или изувечены.
Джихадисты расправлялись с гражданским населением, стремясь посеять панику среди светски и умеренно настроенных граждан. В частности, убийство знаменитого кабильского певца Лунеса Матуба в 1998 г. послужило сигналом к эскалации конфликта между арабскими джихадистами и кабилами амазих. Матуб, убитый в районе Тизи-Узу, столицы Кабилии, был гордостью берберов. Помимо гражданской войны между салафитами и правительством, а также терактов джихадистов против светских символов, вспыхнула конфронтация между джихадистами и кабилами.
Столкновение джихадистов с этой особенно умеренной и светской общиной берберов имело ярко выраженные и глубокие идеологические корни. На поверку исламисты-салафиты ВИГ оказались экстремистской разновидностью джихадистов, своим фундаментализмом напоминающей «Талибан». Их призывы к созданию радикального исламского государства, естественно, противоречили интересам светских и либеральных кабилов. Джихадисты не только идеологически чужды кабилам, говорящим на языке амазих, но и олицетворяют в их глазах возрождение средневекового халифата, вооруженное вторжение которого в VII веке привело к падению берберских государств.
Борьба между джихадистами и кабилами всегда была борьбой между возрождающимся тоталитарным халифатом и либеральной демократией, между прошлым и будущим. Столкновения на территории компактного проживания кабилов и берберов оставили незаживающие душевные раны у миллионов людей, живущих в Алжире и в эмиграции.
Кабилы и будущее региона
После терактов 11 сентября и войны в Ираке 2003 г. борьба кабилов стала восприниматься в совершенно ином свете. Прежде всего, в рамках глобальной войны с джихадистами кабилы позиционировали себя как движение сопротивления тоталитарным террористам, и во многом им помогли в этом алжирские салафиты. Хотя верно то, что «“Аль-Каида” в Магрибе», новый оплот алжирских и марокканских джихадистов с 2006 г., вербовала в свои ряды немало кабилов, верно и то, что берберское общество в северном Алжире и во всем регионе всегда было более решительно настроено против салафитской повестки дня, чем другие меньшинства в регионе. Светские кабилы – самые непримиримые и интеллектуальные противники идеологии «Аль-Каиды».
Помимо идеологического столкновения, кабилы были вдохновлены другими событиями в регионе: «Мы видели, как член Лиги арабских государств Ирак предоставил курдам фундаментальные права через несколько лет после падения партии Баас», – сказал мне Ферхат Мехенни. Далее этот политический лидер, глубоко тронутый гибелью кабильского музыканта, провел своего рода историческую параллель. Почему бы с кабилами и берберами в целом не обращаться как с курдами в Ираке? Почему не предоставить им автономию, право на формирование местных органов самоуправления, культурных и общеобразовательных учреждений? И курды, и кабилы являются неарабскими этническими группами, волей судеб живущими в арабском государстве. В конце концов, им должны предоставить фундаментальные права или позволить создать собственное государство. Мехенни также упомянул Дарфур и чернокожее население Судана – еще одной арабской страны, которая отказывается предоставить фундаментальные права своим меньшинствам. В отличие от Курдистана или Дарфура, Кабилия не переживала бойни или резни таких масштабов, как та, что имела место в Ираке и Судане. «Но все зависит от того, кто находится у власти в Алжире, – сказал Медуни, американский лидер кабилов. – Если джихадисты захватят власть в Алжире, и арабы, и кабилы заплатят высокую цену», – справедливо заключил он.
Сложность ситуации в Алжире состоит в том, что там существуют три враждующих полюса: правительство, джихадисты и кабилы. Кабилы обвиняют режим в том, что он препятствует признанию самобытности берберов амазих. Признание Алжиром кабилов имеет огромное значение для этой доарабской народности. «Наше правительство активно участвует в международных форумах в поддержку прав палестинцев, которые находятся на расстоянии нескольких тысяч километров от нас, но не признает права собственного народа в Кабилии», – говорит Мехенни. Он и его единомышленники недоумевают, почему Лига арабских стран добивается справедливости в отношении Газы и требует вывода вооруженных сил с Западного берега, но не обращает внимания на положение дел в Тизи-Узу. Этнические притязания кабилов законны и должны быть рассмотрены международным сообществом и правительством Алжира.
Правительство Алжира ведет тяжелую битву против «Аль-Каиды» и местных террористических группировок. Многие алжирские арабы являются светскими людьми и гуманистами, решительно сопротивляющимися наступлению салафитов. Международное сообщество должно помочь алжирскому правительству противостоять джихадистам и в то же время облегчить диалог между Алжиром и Тизи-Узу.
Лучшим решением, в пользу которого выступают представители кабильских демократов, стало бы создание коалиции либеральных алжирцев, кабилов и других берберов. Вне всякого сомнения, это привело бы к образованию демократического большинства в Алжире. Такая коалиция и светское правительство образовали бы единый фронт, оставив «Аль-Каиду» в изоляции. «В случае подобного поворота демократическая культура могла бы возобладать в стране, и в конечном итоге центр признал бы периферию», – говорит Мехенни. Летом 2010 г. он и его соратники сформировали правительство в изгнании.
Если арабы и кабилы вместе выступят в защиту демократии, они смогут осуществить настоящую революцию против тоталитарных доктрин джихадистов. Проблема в том, чтобы найти мужественное меньшинство, которое начнет реформу большинства.
На берегах Северной Африки дуют два ветра: ветер ужасов джихадизма и ветер надежды на демократическое обновление.
Валид Фарес – американский ученый и публицист ливанского происхождения, автор многих книг о ситуации на Ближнем Востоке.

После стабильности
Арабский мир и пределы авторитарной модернизации
Резюме: Процессы, идущие сегодня в странах Северной Африки и Ближнего Востока, не надо сравнивать с падением Берлинской стены. Арабские события – это не «бархатные революции» в Восточной Европе, хотя западные журналисты с надеждой ищут аналогии.
В феврале в Мюнхене проходила очередная конференция по безопасности, на которую собирается весь мировой истеблишмент. Организаторы загодя составили насыщенную повестку дня, но выдерживать ее удавалось с трудом. Участникам явно не терпелось досидеть до перерывов, чтобы в прямом эфире увидеть трансляцию с главной площади Каира. Искушенные в международных делах, они казались обескураженными.
Неожиданные потрясения в Северной Африке и на Ближнем Востоке сформировали другую повестку дня не только мюнхенской конференции, но и, по сути, всей большой политики. Осмысление новой ситуации, которая продолжает стремительно развиваться сразу в нескольких странах региона, еще впереди, и, судя по судорожным шагам, предпринимаемым внешними игроками, они слабо понимают, что именно происходит. По крайней мере, готовность ведущих западных держав вмешаться в гражданскую войну в Ливии, не имея не только плана действий, но даже достоверных данных о диспозиции на месте, демонстрирует скорее растерянность, чем решительность. Между тем, кровь мирного населения льется и в других частях Ближнего Востока. И если коалиция, спешно собранная против полковника Каддафи, захочет быть последовательной в своей политике, то конца вмешательству в дела этого региона не видно.
Причины революций – вовне и внутри
Первая реакция Запада на народные выступления в Северной Африке и на Ближнем Востоке оказалась дежурной. В Вашингтоне и европейских столицах заговорили о фундаментальных ценностях – о правах человека и демократии. То есть о том, чем длительное время в отношении североафриканских и ближневосточных режимов пренебрегали. Ради интересов относительной стабильности и нефти.
Незадолго до нынешних событий, в ноябре прошлого года, состоялся саммит Евросоюз – Африка. Лидер ливийской революции полковник Муаммар Каддафи объявил, что Африка готова сотрудничать только с теми европейскими государствами, которые не будут выставлять «непомерных» требований по части соблюдения прав человека и норм демократии. И заодно запросил у Брюсселя 5 млрд евро на предотвращение миграции в Европу.
Надо сказать, что Запад не то что «непомерных», а вообще никаких сколько-нибудь серьезных требований такого рода к Каддафи и не предъявлял. Как и к другим руководителям Северной Африки и Ближнего Востока, которые теперь либо свергнуты, либо продолжают сопротивляться. Лишь изредка из Брюсселя раздавались вежливые сожаления о том, что в государствах региона права человека все же нарушаются, управление экономикой и обществом не укладывается в демократические нормы, а экспорт беженцев не сокращается.
Подход с моральной точки зрения сомнительный, но рациональный. Ведь без двойных стандартов странам НАТО пришлось бы жить в условиях постоянных санкций против недемократических режимов, а то и воевать с каждым из множества диктаторов, сменяющих один другого. Чтобы разорвать этот замкнутый круг, требовались бы длительные оккупации освобожденных от тиранов территорий, что влетает в копеечку. К тому же есть невеселый опыт силового распространения демократии в Ираке и войны в Афганистане. Там оккупационные контингенты попросту застряли при удручающем, с точки зрения целей вторжения, эффекте.
Волнения в Северной Африке и на Ближнем Востоке начались внезапно. Правда, эксперты указывают на «рейтинг ботинкометания», составленный летом прошлого года Всемирным банком, который сопоставлял такие показатели, как уровень нищеты, грамотности населения, безработицы, коррупции и прочее. В среднем для бунтующего сегодня региона цифры оказались если и не на предреволюционном, то уж точно на весьма тревожном уровне. Но внимание на это обратили только задним числом.
Устроить революцию извне, о чем сейчас много говорят, невозможно, если к ней нет предрасположения внутри. Вероятнее всего, имеет место комплексный феномен, который включает в себя разнообразные факторы экономического, социального, геополитического характера. Например, ряд экспертов справедливо говорят об общем росте национального самосознания в арабском мире. Среди прочего он порожден неудачами Израиля, извечного «экзистенциального» оппонента, в ливанской кампании 2006 г. и операции в секторе Газа два года назад, да и вообще некоторым ослаблением политических позиций еврейского государства.
Нельзя сбрасывать со счета коммуникационный фактор. С одной стороны, массовая доступность данных о «настоящей» жизни в более благополучных частях планеты, с другой – повсеместное распространение «революционной литературы» через информационные и социальные сети. Если большевистскую «Искру», выходившую крошечными тиражами, по мере возможностей несли в массы курьеры-одиночки, то «твиттер» позволяет пустить революционную искру повсюду и в режиме реального времени.
Можно назвать и вполне конкретные экономические причины взрыва. Так, в начале года индекс цен на продовольствие превысил 230 пунктов, что исчерпало способность правительств субсидировать базовые продукты питания. Прогнозы Всемирной продовольственной организации на текущий год не радужные – мировое производство зерна снизилось из-за засухи в США и России, наводнений в Австралии и Канаде. Более долгосрочные продовольственные прогнозы тоже тревожны. Среди причин кризиса называют производство биотоплива. Только в Соединенных Штатах от пищевых нужд отвлекается на замену бензина до трети всего урожая кукурузы. И велика вероятность, что мировое сообщество в скором времени столкнется с массовыми «голодными бунтами», которые дестабилизируют прежде всего африканские страны, расположенные южнее нынешней горячей линии.
Правда, в Северной Африке удорожание продовольствия все-таки трудно отнести к главному спусковому крючку восстаний. В той же Ливии Муаммар Каддафи за счет нефтяных доходов обеспечил вполне приемлемый уровень жизни, хотя с безработицей среди молодежи он не справился. Ливийская конъюнктура в целом положительно оценивалась и МВФ, и Всемирным банком, а мировой кризис весь этот регион, как ни странно, пережил сравнительно легко. Специалисты российского МГИМО полагают, что решающую роль в раскачивании лодки сыграл не абсолютный, а относительный уровень благополучия – в североафриканском обществе возник взрывоопасный «разрыв между ожиданиями роста благосостояния и реальностью».
Политики на юге и севере Судана, в Эфиопии, Джибути, Объединенных Арабских Эмиратах говорят, конечно, о подрывной роли США, Израиля и неких неправительственных организаций. Но даже они признают, что основные причины революций в Египте и Тунисе, которые открыли «ящик Пандоры», кроются в поколенческом разрыве. В глазах молодых людей существующие несменяемые или династические режимы утратили либо быстро утрачивают легитимность, которую за ними признавали предыдущие поколения.
Институциональный дизайн региона не менялся с середины прошлого века. Большой Ближний Восток, по сути, обошли потрясения, прокатившиеся по мировой политике в конце ХХ столетия и радикально преобразившие Европу, Восточную Азию, Латинскую Америку и юг Африки. Нынешняя молодежь не выбирала тех, кто десятилетиями сидит у власти. Ей надоело терпеть и искать лучшей доли за границей, стыдиться за свою страну, сидеть во внутренней эмиграции и выслушивать вранье пропаганды. Надоели уверовавшие в собственное величие лидеры, за которых, будь выборы честными, едва ли кто-то проголосовал бы. И люди в арабском мире теряют страх.
Отрыв местного правящего сословия, семей и кланов руководителей, практически приватизировавших национальные богатства, от народа столь велик, что говорить о каких-то общих целях бессмысленно. Североафриканские и ближневосточные элиты не поспевали за обстановкой, прозевали появление среднего класса. В странах региона под предлогом угрозы исламского экстремизма была уничтожена всякая системная оппозиция, отсутствовала социальная мобильность. Стабильность режимов Северной Африки и Ближнего Востока оказалась видимостью.
Однако оппозиция состоит не только из эмансипированных молодых людей. Противники режимов разношерстны, и, скажем, волнения в Бахрейне и частично в Сирии имеют выраженный межрелигиозный характер. Среди тех, кто сражается против Каддафи, обнаружены боевики «Аль-Каиды». Революционные выступления в Тунисе и Египте, наиболее продвинутых государствах региона, стали предлогом для выяснения отношений с властью в других странах Африки и Ближнего Востока, где ситуация иная. Авторитарные режимы региона поражены кризисом, нуждаются в реформах, но разные группы оппозиционеров под прикрытием вполне демократических лозунгов могут преследовать и разные цели.
Главная мина еще не взорвалась
После того как коалиция, собранная для предотвращения резни в Бенгази, приступила к выполнению резолюции СБ ООН 1973, внимание политиков и экспертов сосредоточилось на Ливии. Но страсти не утихают и в других странах региона, а если говорить об Африке, то кровь льется и южнее средиземноморского побережья.
В Сирии демонстрации проходили в городах Нава, Тафас, Хомс, Эс-Санамейн, Алеппо. В Латакии сожгли офис правящей партии Баас. В город ввели войска. Основные требования демонстрантов – положить конец коррупции, улучшить систему социального обслуживания населения, решить проблему безработицы, отменить чрезвычайное положение. Президент Асад после долгих колебаний согласился на отмену ЧП. Но причины волнений, очевидно, не сводятся только к этому.
Господствующее положение в стране занимают алавиты – шиитское меньшинство, составляющее чуть более 10% от общего населения. В свое время, когда страна была еще подмандатной территорией Франции, эта община пользовалась французским покровительством. В 1982 г. Хафез Асад уничтожил 50 тысяч суннитов в Хаме. И надо полагать, что отголосок этой истории присутствует и в нынешних выступлениях против его сына Башара. Есть сведения о бесчинствах исламских экстремистов, которые занимаются поджогами и атакуют тех, кто требует реформ. Волнениями охвачена северо-восточная часть страны, населенная курдами. Лозунг курдов, многие из которых не имеют сирийского гражданства: «Мы хотим не только гражданства, но и свободы». Новый кабинет министров, назначенный президентом Асадом, приступил к работе над обновлением законодательства. Учрежден Институт по исламским и арабским исследованиям, что расценивается как попытка Дамаска привлечь на свою сторону духовенство.
В Египте события развиваются более благоприятно – гарантом плавных реформ выступает армия. Переходное правительство утвердило закон об уведомительном создании политических партий, но сохраняется запрет на партии, которые проводят дискриминацию по религиозному, этническому, половому или расовому признаку. Исламизации политики не заметно – глава Высшего военного совета заявил, что Египет не планирует разрывать мирный договор с Израилем, а операция в Ливии у Каира озабоченности не вызывает. В отношении видных представителей режима Мубарака и его семьи заведены коррупционные дела, его партия распущена.
В Иордании бунтующая молодежь требует отставки премьер-министра, прекращения политических репрессий, проведения реформ. Требования молодых оппозиционеров такие же, как в соседних странах – борьба с коррупцией и безработицей, принятие закона о выборах, упразднение марионеточного парламента и секретной службы. Премьер аль-Бакит был назначен на этот пост месяц назад. Ему-то король Абдалла II и поручил провести реформы. Но аль-Бакит уже был главой правительства в 2005–2007 гг., и оппозиция не видит в нем проводника обновления.
В Бахрейне борьбу с суннитской королевской династией ведет шиитская оппозиция. Военную помощь в подавлении выступлений оказала Бахрейну Саудовская Аравия. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) возложил на Иран ответственность за события в Бахрейне. Есть сведения, что члены Совета готовят высылку граждан Ливана и Ирана, которых обвиняют в связях с «Хезболлой» и иранской разведкой. Дело зашло далеко – Бахрейн прекратил воздушное сообщение с Ираном, Ливаном и Ираком. Отозваны послы – Бахрейна в Иране и Ирана в Бахрейне. Тегеран обвиняется и во вмешательстве во внутренние дела Кувейта. Там раскрыта шпионская сеть, работающая на Иран. Два иранца и один кувейтец приговорены за шпионаж к смертной казни, послы отозваны и между двумя этими странами.
Уместно заметить, что Бахрейн, пожалуй, самое модернизированное государство арабского мира. Половину мест в парламенте, который выбирается так, как положено, занимает оппозиция. Женщины уравнены в правах с мужчинами, во всяком случае, могут голосовать.
В Йемене продолжаются массовые волнения. Президент Али Абдалла Салех, занимающий этот пост более тридцати лет, согласился уйти в отставку до конца 2011 г. и мирно передать власть военному совету. Но это не устраивает оппозицию. ССАГПЗ открыто призывает Салеха уйти, в США опасаются, что междоусобица отвлекает власти Йемена от антитеррористической борьбы. Есть информация, что в эту страну прибывают боевики «Аль-Каиды» и вступают в вооруженную борьбу с силами безопасности. А офицеры правительственных войск переходят на сторону восставших. Йеменская оппозиция вроде бы согласна вести переговоры с властями при посредничестве Эр-Рияда, однако столкновения не утихают. Война в Йемене способна поколебать относительную стабильность в Саудовской Аравии.
Сохраняется вероятность нового взрыва в Алжире. Оружия там не меньше, чем в Ливии, а исламисты уже побеждали на демократических выборах в 1991 г. и вели кровопролитную войну против военно-бюрократического режима. Новая междоусобица грозит вовлечением в нее Марокко. Ведь проблема спорной Западной Сахары не решена, а бойцы фронта ПОЛИСАРИО штыков в землю не воткнули. Боевые действия могут пересечь границы стран зоны Сахеля: Мали, Чада, Нигера, а есть еще и неспокойные районы Судана. Власти Алжира укрепляют границы с Ливией, откуда, по их мнению, просачиваются боевики «Аль-Каиды» в странах исламского Магриба. Они известны как похитители европейцев, но их может привлечь и шанс отомстить за поверженных когда-то братьев по идеологии. Тогда в Алжире главной действующей силой окажутся откровенные радикалы-исламисты.
Огонь бикфордова шнура, подожженного в Тунисе, еще не дошел до самой большой мины, которая заложена под существующий порядок на Большом Ближнем Востоке. Это возможность противостояния между самой мощной шиитской державой Ираном и его суннитским аналогом – Турцией. Судя по тому, как стремительно демократические движения в той же Сирии или Бахрейне переходят в шиито-суннитский конфликт, к тактическим союзам Анкары и Тегерана, которые сейчас демонстрируют друг другу подчеркнутую почтительность, следует относиться осторожно. Потому что обе эти страны откровенно претендуют на лидерство в исламском мире, обе достаточно сильны в военно-экономическом отношении. Каждая из них следует собственным модернизационным исламским проектам и настойчиво предлагает их близким и далеким соседям.
Неуемный полковник
В отличие от президентов Туниса и Египта глава Ливии не отступил перед оппозицией и развернул боевые действия против повстанцев. Иначе говоря, Каддафи не выполняет резолюцию СБ ООН 1973. Россия и Китай воздержались при голосовании по этой резолюции, другими словами, «пропустили» ее. Суть документа – защита гражданского населения Ливии от насилия, совершаемого его собственным правительством, но формулировки открывают возможность широкой военной операции против войск Триполи.
Резолюция 1973 – первый в истории документ ООН, разрешающий военное вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Сербию бомбили без санкции ООН, вторжение в Ирак тоже происходило в обход Совета Безопасности. Иначе говоря, резолюция 1973 – это признание того факта, что в случае с Ливией отсутствие насилия извне означает его рост внутри.
Разумеется, у ведущих членов коалиции есть интересы в Северной Африке. Личные счеты к ливийскому полковнику, вероятно, имеются и у Николя Саркози, и у Сильвио Берлускони, двух европейских руководителей, которые особенно усердствовали в налаживании коммерческих отношений с Триполи. Лондон тоже не отставал, но в лице предыдущих лейбористских властей, так что консерватор Дэвид Кэмерон в этом смысле запятнаться не успел. Как бы то ни было, среди причин бомбовых ударов по Ливии не стоит искать следы мирового заговора или американских нефтяных интересов (2% мировой добычи – не настолько солидный куш). Скорее речь идет о беспомощности мирового сообщества перед теми, кто стреляет в собственный народ. Поспешные удары еще до составления каких-либо конкретных планов операции – это следствие смятения, которое охватило западных лидеров после начала событий в регионе.
Некоторые из друзей Каддафи (надо сказать, весьма немногочисленных) именуют его сейчас не иначе как «лидером арабского мира». И утверждают, что Запад развернул на него охоту именно в этом качестве. На самом деле полковник никогда таковым не являлся, хотя очень хотел. Хотел настолько, что вызвал стойкое отторжение практически у всех соседей, что и аукнулось при голосовании в СБ ООН по резолюции 1973 – не поддержи ее активно Лига арабских государств, ни Россия, ни Китай, вероятнее всего, не согласились бы «пропустить» документ.
Каддафи всегда был неугомонным революционером. Во имя реализации своих экстравагантных идей бомбил Хартум. Разжигал гражданскую войну в Чаде, да так, что ухитрился объединить против себя таких антагонистов, как Ирак, Египет и США. Семь раз принимался сколачивать союзы с Сирией, Египтом, Тунисом и Чадом. Вошел в историю как автор всполошившего Африку плана Великой исламской сахарской империи. Все кончилось, однако, убийством президента Гвинеи-Бисау, свержением президента Верхней Вольты и неудавшимся переворотом в Нигерии и Гамбии.
Подвергаться атакам Каддафи тоже не впервой. Рональд Рейган бомбил Триполи и Бенгази в 1986 г. в качестве возмездия за теракт на берлинской дискотеке, где погибли американские военные. В 1989 г. Соединенные Штаты наносили удары по Ливии, подозревая, что полковник строит завод по производству боевых отравляющих веществ. Много говорят об американском лайнере, сбитом в 1988 г. над Шотландией, но это отнюдь не единственный такого рода «подвиг» вождя Джамахирии. Кстати, остается только диву даваться, как при таком послужном списке Муаммар Каддафи сумел не просто договориться с Западом в начале 2000-х гг., но и стать для всех желанным деловым партнером.
Ливийская кампания, как и всякая локальная война, весьма непрозрачна. Например, только спустя несколько недель после начала событий более или менее прояснились основные группировки внутри повстанцев. Среди них – исламисты, в том числе боевики «Аль-Каиды» и регионалисты. Эти силы первоначально шокировали своих французских покровителей антисемитскими лозунгами. Третьей силой эксперты считают ливийских берберов, претензии которых на собственную этничность Каддафи не признавал. На самом деле они составляют чуть ли не десятую часть всего населения и относятся к числу наиболее непримиримых противников полковника.
Лондонская конференция, которая прошла в конце марта без участия главы Лиги арабских государств, представителей России, Китая и Африканского союза, наконец, выдвинула некий план и обозначила цель: Каддафи должен уйти – живым или мертвым. (О резолюции 1973 на этом собрании напоминало, пожалуй, лишь присутствие Генсека ООН.) Свои выступления перед прессой авторы плана неизменно заканчивали заявлением, что после ухода Каддафи ливийский народ должен сам решать свою судьбу. Такого рода стратегии составлялись накануне вторжения и в Афганистан, и в Ирак с той же конечной целью – предоставить народам право решать свои судьбы. Прошли годы, а иностранные державы по-прежнему не могут покинуть эти страны. Именно не могут, хотя явно все больше хотят. Есть основания предполагать, что в Ливии все может сложиться похожим образом.
Мирный выход или бесконечная рознь
К резолюции 1973 есть обоснованные претензии. Россия справедливо критикует ее за расплывчатые формулировки. Де-факто коалиция, не мудрствуя лукаво, встала на сторону повстанцев, которых, по сути, нельзя считать чисто гражданским населением – они вооружены. Среди причин, по которым Россия только «пропустила» резолюцию, а не проголосовала за нее, министр иностранных дел Сергей Лавров назвал именно отсутствие в документе четких ограничений применения силы. Полагаю, что Москва заняла совершенно верную позицию по отношению к происходящему в Ливии: у нас хватает дел внутри страны, скоро выборы, нужна модернизация и т.д. Театр этих военных действий от России достаточно далек, но у Москвы есть возможность претендовать на посредничество, требовать прекращения огня и скрупулезного следования резолюции 1973.
Стороны конфликта в Ливии предельно ожесточены. Но это не основание, чтобы отвергать инициативы мирного урегулирования. Прецедент есть – развод противоборствующих сторон в Судане без применения силы, который, правда, закончился отделением Юга страны от Севера. Зато появились возможности их мирного развития. Потребовалось заинтересованное сотрудничество стран «большой пятерки» СБ ООН. Оно состоялось в том числе благодаря перезагрузке российско-американских отношений, российско-китайскому стратегическому партнерству и желанию Евросоюза обрести субъектность во внешней политике. Общими усилиями удалось переломить скептическое отношение к официальному Хартуму Великобритании и Франции. Помогла, конечно, и слаженная работа с ООН и Африканским союзом. Решающую роль сыграл консенсус элит Севера и Юга Судана, которые прагматично согласились, что лучше справедливо делить нефтяные прибыли, чем лить кровь и бесчинствовать ради неких идеологических догм.
Заметную роль в суданском урегулировании сыграл институт специальных представителей, среди которых был и спецпредставитель президента России. Главная их задача состояла в том, чтобы контролировать Всеобъемлющее мирное соглашение и следить за ситуацией в Дарфуре. Спецпредставителю России выпала особая роль в «суданском досье», ведь западные посредники обязаны были избегать личных встреч с президентом Судана Омаром Аль-Баширом, на которого завел дело Международный уголовный суд. У российской стороны сложились исключительно конструктивные отношения со всем пулом международных посредников, прежде всего с представителями США и Китая. При всех тонкостях работы не было зафиксировано ни единого случая, когда российские позиции разошлись бы с американскими. Это очевидное, хотя не столь известное свидетельство успеха перезагрузки. Представляется, что мы недооцениваем нашу собственную роль в суданском урегулировании. А ведь это демонстрация реальных возможностей России играть важную роль в делах Африки и Ближнего Востока.
Надо сказать, что жестокости, которыми сопровождалась междоусобица в Судане, намного превосходили то, что пока наблюдается в Ливии. Однако международные организации, ООН и Африканский союз вместе с институтом спецпредставителей добились демократических (по африканским меркам) всеобщих выборов и референдума по самоопределению суданского Юга. Это кропотливая работа – челночная дипломатия между центрами Юга и Севера страны, консультации с лидерами соседних стран, с ООН, с контингентом миротворцев, с вождями повстанцев, инспекции лагерей беженцев в Дарфуре и т.д. Имея такой опыт, можно с уверенностью сказать – при желании мировое сообщество в состоянии обойтись в Ливии и без бомбометания. И это – главный урок суданского урегулирования. Тем более что за прекращение огня в Ливии вместе с Россией выступает и Африканский союз, сыгравший чрезвычайно важную роль в установлении мира в Судане.
Есть угроза, что после свержения Каддафи Ливия пойдет путем, с которого в Судане в конце концов удалось сойти – бесконечная племенная рознь, замешанная на деньгах, этнической неоднородности и религии. Если коалиция сумеет привести к власти в Триполи лояльное правительство, оно тут же погрузится в поиски мучительного компромисса по дележу нефти между племенами. А с востока грянет новое наступление, теперь уже подкрепленное силами «Аль-Каиды» и не гнушающееся откровенно террористическими методами. И тогда вмешиваться в ливийские дела извне придется вновь и вновь, а поток беженцев начнет захлестывать Европу.
К сожалению, вероятность такого сценария высока. Процессы, идущие сегодня в странах Северной Африки и Ближнего Востока, не надо сравнивать с падением Берлинской стены. Арабские события – это не «бархатные революции» в Восточной Европе, хотя западные журналисты с надеждой ищут аналогии. Параллели успокаивают. Но у народов Восточной Европы были идеологии, ясные цели и явные вожаки. В Северной Африке и на Ближнем Востоке демократические лидеры, мягко говоря, не ярки, зато со всех концов света срочно прибывают фигуры из ранее запрещенных экстремистских организаций. А в программах оппозиций внятно звучит только требование отставки президентов, после чего следуют общие пожелания. В обыденной жизни это называется «сорвать зло». А вот кто воспользуется затем революционным порывом – большой вопрос.
Ситуация в Северной Африке и на Ближнем Востоке имеет и еще одно толкование. В значительной степени это кризис авторитарных модернизаций в регионе, то есть такой политической модели, когда власти вознамериваются осчастливить и просветить свой народ без его участия. Такие страны, как Тунис, Египет, Ливия, Сирия, Иордания, Бахрейн не назовешь отсталыми, все они относительно успешно развивались (исключение составляет, пожалуй, Йемен). Но чтобы добиться устойчивости и социальной гармонии, мало одних только рыночных реформ, высоких темпов роста ВВП и приличного состояния финансовой сферы. Наступает время, когда народ больше не желает удовлетворяться материальными подачками, а требует свобод и прав. И подробный анализ социально-экономической ситуации в странах региона дал бы нам возможность увидеть пределы, на которые натыкаются авторитарные модернизации.
М.В. Маргелов – председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Федерального Собрания РФ, специальный представитель президента России по Африке.
Премьер-министр Эфиопии, Мелес Зенави, во вторник призывал к изменению режима в Эритрее и обвинил оппозиционную партию Medrek в эскалации насилия, а также в подстрекательстве к дестабилизации обстановки в Эфиопии. Зенави также обвинил Египет в поддержке усилий Эритреи дестабилизировать обстановку в Эфиопии.
«Эфиопия не хочет больше терпеть разрушительную политику эритрейского правительства и вынуждена изменить собственную политику «пассивного вызова» к непосредственным действиям, чтобы непосредственно помочь эритрейскому населению сменить существующий режим», - сказал Зенави, представляя отчет об исполнении восьмимесячного правительства парламенту.
По словам премьер-министра, эритрейское правительство продолжает свои попытки дестабилизировать Эфиопию, укрывая террористов на своей территории и оказывая помощь «разрушительным силам», таким как Освободительный Фронт Оромо (OLF) и Огденский Фронт национального освобождения (ONLF), так же как группе экстремистов Сомали Аль Шабаб.
Также он заявил, что до сиз пор «наша стратегия защищала наш суверенитет, ускоряя наше развитие. Теперь мы приходим к выводу, что не можем больше заниматься только пассивной защитой».
«Мы должны попытаться помочь жителям Эритреи избавиться от диктаторского режима. У нас нет намерения вторгаться в их страну, но мы должны расширить в ней собственное влияние.
Если эритрейское правительство попытается напасть на нас, то мы также ответим пропорционально», - добавил Мелес.
Эфиопская Главная Церковь обнаружила, что египтяне работают с Эритреей, чтобы дестабилизировать Эфиопию, чтобы препятствовать ее решению построить дамбу на Ниле.
Мелес заявил Парламенту, “Недавно Эритрея начала обучение и развертывание подразделений организации Аль Шабаб на местном уровне, что в результате может привести к тому, что эти силы захотят терроризировать и нашу страну. Однако за действиями этих разрушительных элементов просматривается рука Египта, который поддерживает их».
«Чтобы воспрепятствовать строительству нашей плотины на Ниле, Египет и Эритрея создали собственный фронт», - добавил он.
Однако он подтвердил, что у Эфиопии нет никакого намерения вторгаться в Эритрею или развязать новую войну между странами.
Премьер-министр Эфиопии также добавил, что его страна будет приветствовать усилия как Египта, так Эритреи и Судана в строительстве плотины на Ниле, если они сочтут нужным это сделать, а не противостояние или потакание террористическим организациям, представляющим угрозу для Эфиопии.
Совместный совет по безопасности Севера и Юга Судана принял решение о создании пограничного "пояса безопасности" после планируемого образования в июле этого года самостоятельного государства на юге страны, сообщили в четверг суданские СМИ.
Заседание совета прошло в столице Эфиопии Аддис-Абебе.
Стороны договорились, что площадь буферной зоны между двумя государствами, свободной от присутствия каких-либо вооруженных сил, составит от 5 до 10 километров. Следить за порядком на ее территории будут мобильные патрули.
Однако стороны пока не согласовали вопросы, связанные с созданием в этой зоне безопасности "коридоров" и контрольно-пропускных пунктов для перемещения людей и товаров.
Кроме того, представителям комитета не удалось достигнуть компромисса по вопросу о продлении пребывания миротворцев миссии ООН. Правящее на Юге Народно-освободительное движение настаивает, что миротворцы должны остаться еще на год, чтобы предотвратить возможное возвращение к войне между Севером и Югом.
В свою очередь Национальный конгресс на Севере считает, что после окончания переходного периода в июле необходимость в работе миссии ООН в Судане отпадает.
Во время референдума в январе этого года южане проголосовали за создание независимого государства на территории Южного Судана. Оно официально будет образовано после завершения переходного периода 9 июля 2011 года. В настоящее время власти Севера и Юга страны пытаются урегулировать вопросы о границах, валюте, гражданстве.
Проведение референдума стало возможно после заключения в 2005 году всеобъемлющего мирного соглашения между правительством Судана и повстанцами Юга, которое положило конец многолетней гражданской войне. Юлия Троицкая
Катар предложил своего кандидата на пост генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ), который должен освободиться уже в мае этого года после ухода нынешнего главы панарабской организации Амра Мусы, сообщила во вторник саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат".
По информации издания, кандидат Катара - бывший генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Абдель Рахман аль-Атыйя. "Катар решил выдвинуть своего кандидата на пост генсека ЛАГ, учитывая стремительные события в арабском мире, которые требуют новых идей в работе этой организации", - сказал газете катарский дипломатический источник.
По его словам, кандидат Катара имеет богатый опыт управления такой важной региональной организацией, как Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
При этом Аль-Атыйя уже заручился поддержкой стран Персидского залива на недавнем совещании в Саудовской Аравии.
Амр Муса, срок пребывания которого на этом посту завершается 15 мая, заявил, что покидает ЛАГ. Этот видный египетский политик намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих в конце текущего года выборах президента Египта.
Традиционно пост генсека ЛАГ занимал представитель крупнейшего арабского государства - Египта, хотя это и не прописано в уставе организации. Однако ряд государств выступили за ротацию этого поста.
Небольшое по площади и численности населения, но богатое природными ресурсами государство Катар стремится играть важную роль на международной арене, в частности, в арабском мире. Катар активно участвует в урегулировании ряда региональных конфликтов, в том числе в Ливии, Судане и на палестинских территориях.
Очередной саммит ЛАГ пройдет в мае этого года в Багдаде. Штаб-квартира Лиги арабских государств находится в Каире.
«По иракскому варианту...». Экс-посол РФ в Ливии отвечает на вопросы «Завтра»
По протекции замечательного советского дипломата Олега Ивановича Фомина я был приглашён на встречу Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Ливийской Джамахирии Владимира Васильевича Чамова. Того самого Чамова, которого три дня назад господин Медведев своим указом отстранил от должности посла в Ливии.
В зал официальных делегация Чамов вошёл стремительно и энергично, словно прямо отсюда должен был стартовать куда-то за тридевять земель, а не вернулся домой после изнурительной командировки. Крепкие объятия друзей, приветствия, радость. Вообще, слово "энергично", как ни одно другое, подходит к этому человеку. Никакой растерянности, опустошения, наоборот — собранность, точность и какая-то философская ироничность. И прямо в аэропорту, пока Владимир Васильевич ждал багаж, мне удалось накоротке побеседовать с ним. И это было его первое интервью на родной земле.
Информация к размышлению.
Владимир Васильевич Чамов родился 4 апреля 1955 года в Москве. В 1977 году окончил МГИМО. Владеет арабским, французским и английским языками. На разных должностях работал в посольствах СССР и России в Чаде, Тунисе и Ливане. В 1999-2002 годах — советник-посланник посольства России в Ираке, с 2002 по 2005 годы начальник отдела Египта и Судана департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД. С 2005 по 2008 годы посол в Ираке, с 2008 года до 19 марта 2011 года —посол в Ливии. Женат, имеет двоих сыновей.
"Завтра". Владимир Васильевич, ваша отставка с должности посла буквально взорвала информационное пространство. За много лет это первая такая громкая отставка в нашем МИДе. Интернет буквально кипит от слухов и обсуждений. Одни называют вас героем, до последнего сражавшегося за российские интересы, другие, наоборот — человеком, который не справился с обязанностями. Что вы сами знаете об этом решении?
Владимир Чамов. В указе президента всё сказано предельно чётко: отрешить за неадекватное представление интересов России. Больше ничего. И ничего сверх этого я не знаю. Я выполнил указание: сдал дела и вернулся в Россию. Возможно, здесь мне объяснят подробнее причины этого решения. Гадать на кофейной гуще — отчего и почему, я не хочу, не привык. Я делал свою работу: доводил до сведения ливийского руководства позицию России, честно и добросовестно передавал в Россию всё то, что до меня доводила ливийская сторона, ведь посол — это не только человек, представляющий свою страну, но и человек, через которого до его страны доводится информация страны пребывания. Какая из этих сторон моей деятельности послужила причиной отрешения, я думаю, что узнаю уже в ближайшее время. Но каких-то обид на это решение у меня нет. И по большому счёту это решение президента правильное. Цель дипломатической работы — защита интересов своей страны, сохранение мира, недопущение войны. Эти цели в Ливии нами не были достигнуты. Идёт война, убивают людей, ущерб нашим интересам в этой стране огромен. И, значит, дипломаты со своей задачей не справились.
"Завтра". Для российского наблюдателя ваша отставка грянула как гром среди ясного неба. Но, может быть, это было связано с тем, что для нас здесь ливийские события были лишь картинкой на телеэкране в выпусках новостей, а у вас это был совсем иной процесс. Ощущалось ли какое-то накопление раздражения со стороны Москвы? Или отставка оказалась неожиданной?
В.Ч. Мне трудно ответить на этот вопрос. Все эти дни я находился в громадном напряжении. Нужно было в кратчайшие сроки собрать в пункты эвакуации и вывезти из страны наших граждан. При этом действовать приходилось одновременно и на территориях, которые контролировали официальные власти, и на территориях, где действовала оппозиция. Поверьте, это очень трудно найти одновременно язык и с теми, и с другими. Но мы смогли вывезти из страны почти всех наших граждан, это тысяча сто шестнадцать человек, кроме этого, мы помогали в эвакуации граждан и других стран. На сегодняшний день в Ливии осталось около ста российских граждан. Сорок человек сотрудников посольства и членов их семей, остальные — это наши граждане из смешанных семей. Все они имели возможность покинуть Ливию, но разным причинам решили остаться. Поэтому я просто физически не мог сосредоточиться на улавливании настроений Москвы. Мне было не до этого. Я выполнял свой долг. Каких-то прямых замечаний или одёргиваний не было.
"Завтра". Фактически вы уже ответили на вопрос, который сейчас хотят вам задать очень многие, но всё же я его озвучу, чтобы расставить все точки над "и". Правда ли, что находясь на должности посла в Ливии, вы написали обращение или письмо на имя президента, в котором обвинили Кремль в предательстве интересов России?
В.Ч. Я успел только спустится с трапа, как меня уже со всех сторон начали донимать звонками и вопросами о каком-то, не то письме, не то обращении, которое я якобы написал. Хочу закрыть этот вопрос раз и навсегда. Никаких обращений и писем я не писал. Всё это не более чем досужие слухи и сплетни. Я тридцать лет служу в министерстве иностранных дел и отлично понимаю значение слова дисциплина. Так поступить я просто не мог. Будучи послом в Ливии, я писал только официальные телеграммы, их было много. И на всех этих телеграммах стоял соответствующий гриф. Ничего другого я не писал. Шла обычная дипломатическая работа.
"Завтра". Главный для всех вопрос — что сейчас происходит в Ливии? Вы, я думаю, знаете об этом как никто другой.
В.Ч. С каждым днём ситуация всё хуже. Бомбёжки всё более интенсивные. Фактически всё идёт по иракскому варианту. Все разговоры об "ограниченных целях военной операции" это разговоры для отвода глаз. Все военные объекты, которые были объявлены как цель операции — позиции ПВО, военные базы давно поражены и теперь удары наносятся по резиденциям руководства, госучреждениям, центрам управления, а это уже удары по местам, где живут обычные мирные жители. И каждый день мирные жители гибнут под бомбами и ракетами. На очереди инфраструктура страны — электростанции, узлы связи, коммуникации. Скоро возьмутся за них. У страны ограниченный запас продовольствия, Ливия традиционно ввозила большую его часть его из-за рубежа, но теперь вокруг Ливии установлена блокада — ни один корабль в страну не пропускается, и очень скоро в полный рост может стать проблема голода. Страна стоит на грани раскола. Уже заговорили о Ливии как о конгломерате племён, слова ливийская нация звучат всё реже. Если ситуация продолжит развиваться в этом ключе, то вместо одной из самых стабильных стран Северной Африки мир получит новый Ирак или даже Сомали. И я полностью согласен с нашим премьер-министром в его оценке этой войны.
"Завтра". Но что привело Ливию к такому страшному итогу? Ведь ещё совсем недавно она казалось оплотом стабильности на Ближнем Востоке, положение полковника Каддафи незыблемым, а будущее Ливии безоблачным. Нефтяная страна, вырвавшаяся из списка "стран-изгоев", выстроившая отношения с Западом, визиты западных лидеров. И вдруг гражданская война, а теперь и военная операция вчерашних друзей из НАТО на полное уничтожение. Что случилось? В чём причина?
В.Ч. На мой взгляд здесь нет одной причины. Это целый букет причин. С одной стороны это события на границах Ливии, смена власти в Египте и Тунисе, что не могло не перекинутся на соседей, учитывая их этническую близость. Это и влияние извне — роль крупнейших арабских телеканалов в раскачивании Ливии ещё ждёт своего исследователя, это и новейшие информационные технологии, твиттер, массовые рассылки СМС, интернет. Ну и, конечно, нужно понимать, что просто ушла эпоха таких правителей как Каддафи, Мубарак, Салех. Мир меняется. И в арабском обществе есть огромный запрос на обновление. Старые схемы управления и методы перестали быть адекватны времени. В какой-то мере в арабском мире сегодня наступил свой 1917 год. Идёт ломка старого мира и поиск нового. Отличие только в том, что сегодня этой ситуацией пытаются воспользоваться страны, которые объединены в закрытый клуб хозяев мира. Они откровенно пытаются оседлать эти процессы и развернуть их в своих интересах. И если это не получается сделать скрытыми методами, то в ход идёт грубая сила.
"Завтра". В последние дни в разных СМИ стала обсуждаться тема возможного бегства Каддафи из страны. Назывались даже конкретные страны, где он может скрыться: Венесуэла, Куба и даже Белоруссия. Заговорили о неадекватности Каддафи, о том, что Каддафи деморализован и не появляется на людях. Как вы относитесь к этой информации?
В.Ч. Я думаю, что всё это информационная война. За несколько дней до моего отъезда Каддафи пригласил к себе китайского посла, индийского посла и меня. Мы почти сорок минут беседовали с Каддафи. Он был абсолютно адекватен, спокоен, взвешен в оценках и произвёл впечатление человека уверенного в себе и своей правоте. Каддафи будет биться до конца. Он сам сказал об этом в одном из своих выступлений, перед народом: "Я не какой-то президент, эмир или султан, которого свергают. Я революционер. Поэтому я пойду до конца". Я думаю, здесь он душой не кривил. Я не думаю, что Каддафи может покинуть Ливию. Это его страна и с нею он останется.
"Завтра". Эксперты уже оценили потери российской экономики от разрыва отношений с Ливией в случае "иракского сценария" — пятнадцать миллиардов долларов из которых четыре миллиарда долларов это оружейные контракты, а остальные это наши совместные проекты и ливийские заказы размещённые в России. Адекватны ли эти оценки?
В.Ч. Я не подсчитывал убытки нашей экономики в результате всех этих событий. Но думаю, что они огромны. На самом деле очень грустно смотреть на то, что происходит сейчас с этой прекрасной страной. В последние годы здесь велось огромное строительство. Возводились сотни домов, строились заводы, больницы, социальные объекты, прокладывались трассы, мы строили железную дорогу. У России во всех этих проектах было своё очень достойное место. И всё это сейчас замерло, всё стоит брошенное — специалисты уехали, строители уехали. Потеряли контракты и наши компании. Уехала "Татнефть", которая прекрасно здесь работала и была широко известна в Ливии. РЖД выполняла очень крупный контракт по строительству в Ливии железной дороги. Сорвались крупные контракты по перевооружению ливийской армии. По экономике страны нанесён страшный удар — она отброшена на десятилетия в прошлое. И с распадом страны всё это вообще превратится в руины. Нет слов, как это больно и грустно. И конечно это болезненный удар по нашим экономическим интересам.
"Завтра". Сегодня идёт много дискуссий вокруг голосования России по ливийскому вопросу в ООН. Должна ли была Россия воспользоваться правом "вето"? как вы думаете, могла ли Россия своим "вето" предотвратить эту войну?
В.Ч. Не думаю, что наше "вето" в ООН что-то бы изменило. Если вспомнить ситуацию с Ираком десятилетней давности, то США начали там войну даже вопреки решению ООН. Последнее десятилетие США и НАТО открыто демонстрируют "право силы". Если они решили кого-то стереть с лица земли, то сделают это, не считаясь ни с какими международным правом. Поэтому в одиночку, я думаю, мы бы эту войну не остановили. Нужна была консолидированная решимость целой группы стран, не считаться с которыми не могут даже американцы. Ну, например, кроме нас, России, ещё Китая и Индии. Но этого не случилось. Почему — это уже вопросы не ко мне. Получилось то, что получилось.
Меня удивило вот что. Когда была принята первая резолюция 19-70, и мы и многие западники говорили, что резолюция хорошая, она точная, адресная, бьёт по самому Каддафи. Были введены военные санкции, были введены финансовые санкции. Это был очень серьёзный фактор для Каддафи. Нужно было дать ей поработать. И вдруг совершенно неожиданно, "в затылок" первой, тут же принимается вторая резолюция. При этом принималась она на фоне того, что Ливия никак не могла ни прокомментировать свою позицию, ни даже просто согласиться или возразить, она вообще не имела никакого голоса в ООН. Тот человек, который якобы представлял интересы Ливии тогда, при голосовании резолюции и при подготовке, Ливию давно уже не представлял. Меня с послами Китая, Бразилии и Индии вызывал министр иностранных дел Ливии и просил нас содействия тому, чтобы американцы выдали въездную визу новому постпреду в ООН, очень известному ливийскому дипломату Али Трики. Оказалось, что американцы не давали ему въездную визу. И даже просьба Пан Ги Муна ничего не изменила. Ливия в ООН так и осталась, образно говоря, с завязанным ртом. Это выглядит крайне двусмысленно.
"Завтра". Какие политические силы и какие племена сегодня поддерживают Каддафи? Насколько вовлечены в ливийские события племенные союзы?
В.Ч. Что касается племен. Мало кто знает, но племенная карта Ливии много лет являлась государственным секретом Ливии. Тому были свои причины. Был разрыв между официальными заявлениями и реальностью. В официальных СМИ говорилось, что ливийский народ един, что он двигается вперед по линии, проложенной и начерченной в "Зеленой книге". На самом же деле, племена как были, так они и оставались. И раскол в ходе этих событий прошёл как раз по линиям раздела племён. Одни были близки Каддафи, другие наоборот — оппозиционны. Практически весь запад Ливии, то, что называется Триполитания, и центр, где находится родной город Каддафи Сирт, поддерживает Каддафи. Восток до Адждабии оппозиционен. И эти две части теперь уже очень сложно будет соединить в единое целое. Теперь весь вопрос в том, сколько будет длиться эта ситуация и что будет со страной, расколется ли страна на две части или всё же сохранится как единое целое. И чем дольше продолжается эта война тем меньше шансов у Ливии сохраниться единой страной.
"Завтра". Какие ваши ближайшие планы?
В.Ч. Главный план — исполнить многолетнюю мечту — увидеть русскую весну. Я шесть лет не видел нашу весну и соскучился по ней чрезвычайно…
Беседу вёл Владислав Шурыгин
P.S. …Я ехал в аэропорт и ожидал встретить человека уязвлённого обидой, я готов был увидеть перед собой чиновника разочаровавшегося в своих руководителях, бунтаря-неофита. Но встретил интеллектуала, арабиста, для которого Восток это не просто работа, а судьба, часть его души. Тот тип русского дипломата, который на протяжении двух последних столетий составляли славу мировой арабистики, кто заложил прочнейший фундамент дружеских связей арабского мира и России. И на протяжении всего времени нашего общения, меня не оставляло ощущение, что Чамов оказался разменной фигурой в какой-то огромной геополитической игре. Ещё больше этот вывод укрепили разговоры с знакомыми чиновниками МИДа. В МИДе, похоже, удручены отставкой Чамова, и всячески уклоняются от каких-либо негативных комментариев в его адрес. И сегодня у меня остался только один вопрос, на который бы я хотел найти ответ — кто "заказал" устранение Чамова?
Директор департамента экспорта автопромышленной группы «Сайпа» Ахмед Эсмаили в интервью агентству ИРНА на 7-ой Международной азербайджанской автомобильной выставке AutoShow в Баку заявил, что объем экспорта АГ «Сайпа» в завершающемся 1389 году (21.03.10-20.03.11) вырос на 300% по сравнению с предыдущим годом.
По словам Ахмеда Эсмаили, в текущем году в результате реализации намеченных программ на экспорт было отправлено более 45 тыс. автомобилей производства АГ «Сайпа» в такие страны, как Ирак, Сирия, Алжир, Египет, Венесуэла, Азербайджан и Судан.
В наступающем 1390 году (21.03.11-20.03.12) количество стран, в которые будут поставляться иранские автомобили, возрастет (Украина, Беларусь, Нигерия и Камерун), и планируется увеличение объема экспортных поставок АГ «Сайпа» до 75 тыс. автомобилей.
Ахмед Эсмаили отметил, что Азербайджан представляет собой хороший рынок для продукции АГ «Сайпа» и на сегодня в эту страну поставлено более 300 легковых автомобилей. В АГ «Сайпа» запланировано до конца 2011 года экспортировать в Азербайджан более 800 автомобилей семейства «Прайд».
Продукция АГ «Сайпа» будет поставляться для таксопарков Баку и других азербайджанских городов. Планируется также экспортировать пикапы с дизельными двигателями для сельскохозяйственной отрасли и транспортной системы Азербайджана.
Открытие 7-ой Международной азербайджанской автомобильной выставки AutoShow состоялось 16 марта в Бакинском выставочном центре, и ее работа продлится до 19 марта.
Еще лет 30 назад Поднебесная и не помышляла об экспорте оружия. Теперь ситуация меняется. Используя специфические преимущества, китайский ВПК прокладывает дорогу на мировые рынки вооружений. Даже когда дело касается оружия, для отдельного покупателя качество – далеко не всегда определяющий аргумент. Эксперты предостерегают: странам-экспортерам вооружения, в числе которых и Россия, стоит внимательнее присмотреться к Китаю. Стремительный рост качества китайского ВПК и появление новых разработок обещают сделать страну серьезным игроком на рынке вооружения уже через несколько десятилетий.
Поздний старт
В гонку вооружений Китай вступил значительно позже ведущих мировых держав: первые попытки создать современный ВПК страна предприняла лишь в XIX веке, в рамках политики самоусиления, а современная китайская военная промышленность родилась и того позднее – в 1950-е годы, при непосредственной помощи СССР. Построенные тогда предприятия, например авиационные комплексы в Шэньяне, Харбине, Сиане и Чэнду, танковый завод в Баотоу (Внутренняя Монголия, так называемый завод №617), а также комплекс предприятий по производству стрелково-артиллерийского оружия на северо-востоке страны, до сих пор являются основой китайского ВПК. Позже Китай перенес границы сотрудничества в области военпрома и на другие страны, активно скупая технологии и приобретая лицензии на производство вооружения. (Кстати, подобное ученичество специалисты называют в качестве одной из причин схожести ряда образцов китайского вооружения с российскими, а также мировыми).
С 1980-х открылась новая страница ВПК Китая: началось продвижение китайского вооружения на мировые рынки. Уже к 1996 году Китай вышел на шестое место среди лидеров мирового оружейного экспорта, поставив в другие страны вооружений и военной техники более чем на $4 млрд (3,7% общемирового экспорта). В 2006 году КНР стала четвертой, к 2008-му, правда, откатившись на шестое место. Однако специфические преимущества, которые предлагают китайские военные своим покупателям, дают основания предположить, что занятую нишу страна уже не покинет. Так что же делает продукцию китайского ВПК, которая по техническим характеристикам во многом уступаем мировым аналогам, конкурентоспособной?
Преимущество первое – дешевизна
Где Китай оттачивает навыки оружейного экспорта? По данным Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), за восемь лет, с 2002-го по 2009 г., абсолютное большинство единиц оружия Китай продавал в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (56% от общего баланса военного экспорта КНР). На втором месте – Ближний Восток (25,4%), далее – страны “черной” Африки (государства, расположенные южнее пустыни Сахара) с 12,9%, Южной Америки – с 4,3%, Северной и Северо-Восточной Африки – с 1,4%. Получается, главным рынком сбыта вооружения после внутреннего для Китая стали небогатые страны Азии, Африки и Латинской Америки. Почему же для оттачивания навыков оружейного экспорта были выбраны эти страны? Ответ прост: абсолютное большинство импортеров китайского вооружения не претендуют на закупки передовых образцов, для них зачастую определяющим является вопрос цены. Понимая сложности приобретения и обслуживания высокотехнологичной военной техники, эти страны с удовольствием закупают как подержанные образцы вооружений, так и клоны известных брендов. Китаю в этой связи есть что предложить. Действительно, большими плюсами военно-технической продукции из Поднебесной являются низкая цена и приемлемое качество.
Характерным в данном контексте может считаться письмо главы РСК “МиГ” и АХК “Сухой” Михаила Погосяна в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству и в “Рособоронэкспорт” летом 2010 г., в котором он выступил против подписания нового крупного контракта на поставку российских реактивных двигателей РД-93 – ими оснащаются китайско-пакистанские истребители FC-1 (в пакистанской версии – JF-17). По мнению Погосяна, FC-1 является прямым конкурентом российского МиГ-29. В чем причина? В низкой стоимости китайского истребителя. Кстати, не только Погосян, но и многие другие специалисты полагают, что очень скоро Китай начнет серьезно осложнять Москве торговлю оружием за счет дешевизны продукции своего ВПК. И эти опасения имеют под собой почву: МиГ-29 лучше по характеристикам, но стоит $35 млн, а китайский FC-1 – всего $10 млн, поэтому для летчиков среднего уровня подготовки сгодится и такой. То есть, там, где российское (а также американское или европейское) оружие покупателю не по карману, появляется китайское.
Преимущество второе – интеграция
КНР, например, успешно замещает российские гаубицы Д1 клонами своего производства (стоит ли говорить, что они более привлекательны по стоимости?) в Судане, Алжире, Египте и Руанде. В другие африканские страны поставляются китайские копии советских танков, самолетов, бронетранспортеров, подводных лодок, надводных кораблей, артиллерийских систем. Более того, российский (точнее, советский) опыт и российская же база военной техники, используемая китайцами для клонирования, дают им возможность интегрировать в существующие комплексы производства РФ элементы собственного изготовления. К примеру, в 2010 г. российские средства ПВО соединений Национальной Боливарианской военной авиации были дооснащены китайскими радарами JYL-1-3D производства China Electronics Technology Group (CETC).
Копия копии рознь
Копии китайского производства пока еще не могут в полной мере соперничать с оригиналами – слабым местом вооружения из Поднебесной остается качество. Вернее, те его слагаемые, которые не заключаются в точном повторении геометрических размеров (в КНР настолько развит станочный парк, что повторить можно буквально все), а связаны с технологиями практического материаловедения. Изготовление специальных сталей и сплавов содержит такое количество производственных секретов, раскрыть и повторить которые китайцам пока не хватает ни навыков, ни знаний. Как результат: в Афганистане китайские “автоматы Калашникова” по причине их недолговечности дешевле российских. Авиационные двигатели, скопированные китайцами с российских, имеют меньший ресурс. И все из-за отсутствия в Поднебесной собственных технологий изготовления материалов и сплавов. Однако есть у Китая и видимые достижения. Так, по информации Центра анализа стратегий и технологий в Москве, китайские специалисты доработали двигатель истребителя Су-27СК, продлив его эксплуатационный ресурс с 900 до 1500 летных часов. Еще пример: в одном из номеров китайского специализированного издания “Танки и бронемашины” генеральный конструктор китайской БМП ZBD04 рассказывал, что не “слепо скопировал” российскую БМП-3, а усовершенствовал ряд ее параметров, в частности систему управления огнем.
Как бы там ни было, пока военный экспорт Китая ориентирован в первую очередь на клиента не слишком притязательного – Пакистан. Второе место по импорту китайских вооружений с большим отставанием от лидера занимает Египет.
Опт в любых размерах
В вопросе стремительного совершенствования Китаем технологий показательным можно считать условие, которое поставили перед Пекином устроители крупнейшей выставки вооружения сухопутных войск и противовоздушной обороны Eurosatory-2010 в Париже, – никаких явных копий и чужих образцов. А их, собственно говоря, и не было, потому что Китай использовал участие в мероприятии исключительно с целью продемонстрировать свои амбициозные планы на международном рынке вооружений. И для этого выставил на обозрение макеты всего, что может делать, – обозначил спектр. Но и макеты очень даже впечатляли – танки, самоходные орудия, бронетранспортеры, средства ПВО и РСЗО. Тем более что КНР готова была предлагать их в большом количестве. Сила Китая – в массовом производстве. И это вполне можно отнести к дополнительному конкурентному преимуществу китайского ВПК.
Учитывая все нюансы, оптимальным вариантом для российского ВПК остается возможность работать в тех нишах, где высокие специфические требования рынка служат естественным барьером от экспансии китайцев. По большому счету, на этом строятся наши взаимоотношения с Индией.
Штучным товаром по самолюбию конкурентов
Еще одну модель поведения китайского ВПК на международном рынке вооружений, которая делает его продукцию конкурентоспособной, можно сформулировать словами: “Китайцы убытков не боятся”. Парадокс, но, судя по поведению страны, можно предположить, что КНР вообще не интересуется прибылью при продаже вооружений, а работает только для того, чтобы работать. Это сильно напоминает стратегию известных китайских брендов, которые за счет демпинга и упорного труда своих сотрудников, день и ночь повышавших квалификацию, расчищали себе путь к успеху. На практике это выражается в том, что китайцы готовы торговать не только оптом, но и штучно, таким образом противопоставляя себя тому же “Рособоронэкспорту” и одновременно закрепляясь на рынке. К примеру, за 2007 г. КНР поставила Пакистану 18 основных боевых танков, Танзании и Чаду – по десять боевых бронированных машин, Бангладеш – один истребитель, Руанде – шесть орудий крупного калибра, Гане – четыре самолета, Йемену – две ракеты и пусковую установку, Индонезии – семь ракет и пусковую установку.
Обмен рынками
Помимо всего прочего, Поднебесная, демонстрируя производимое ею вооружение, очень пристально смотрит на Европу, что было замечено на выставке Eurosatory-2010 в Париже. И не просто смотрит, а фактически не скрывает готовности к возможному взаимовыгодному обмену вооружениями. Не зря как раз во время работы Eurosatory-2010 Центральное телевидение Китая рассказывало о большой емкости внутреннего китайского рынка вооружений. Правда, для выхода на него европейцам предлагалось открыть китайцам свой. И уже само участие предприятий ВПК КНР в парижской выставке можно расценить как зарождение нового вектора взаимоотношений с европейцами, которые вполне могут сделать китайцам предложение стать подрядчиками. На дворе кризис, денег не хватает, в том числе и на вооружение. Почему бы не попробовать поэкспериментировать с дешевой китайской военной техникой и заодно изнутри посмотреть на рынок Поднебесной?
В сезоне-2010/11 экспорт кинноу (сорт цитрусовых, выращиваемый преимущественно в Пакистане и Индии) из Пакистана составил всего 210 тыс. тонн, что на 50 тыс. тонн меньше запланированного объема. Главная причина заключается в падении производства в связи с неблагоприятными погодными условиями и слаборазвитой инфраструктурой в стране.
По словам пакистанских экспертов рынка, производство сократилось на 400 тыс. тонн - до 1,4 млн. тонн.
Главными импортерами кинноу стали Россия, куда было экспортировано около 35% всего экспортного объема, а также Иран с долей 25% и ОАЭ с долей 20%. Также высоким спросом пользовалась продукция в Саудовской Аравии, Великобритании, Нидерландах, Канаде, Гонконге, Филиппинах, Индонезии, Шри-Ланке, Бангладеш, Маврикии и Судане. Импортеры пакистанского кинноу отмечали высокое качество плодов в текущем сезоне. Также сообщалось, что цена на кинноу в этом сезоне на международном рынке выросла до $0,55 кг.
Начиная с 1-го апреля 2011 года, в Эдинбург можно будет летать до 5 раз в неделю. Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" будет выполнять код-шеринговые рейсы совместно со своим новым партнером - авиакомпанией British Midland International (bmi).
Благодаря удобным стыковкам в Брюсселе, теперь МАУ связывает своими воздушными маршрутами не только 2 столицы - Киев и Эдинбург, - но также обеспечивает сообщение между Донецком, Днепропетровском, Одессой, Симферополем и Эдинбургом.
Рейсы между Киевом и Эдинбургом будут выполняться ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Вылет из Киева - в 10:15, вылет из Эдинбурга - в 06:25.
"МАУ, ведущий украинский авиаперевозчик, с радостью объявляет об открытии воздушного сообщения между Киевом и его городом-побратимом Эдинбургом, - отметил Саймон Бандл, вице-президент МАУ по управлению доходами и развитию сети. - МАУ - первая украинская авиакомпания, которая будет выполнять рейсы между этими великими городами".
"Отныне путешественникам из Украины станет еще проще добираться до Эдинбурга, - отметил коммерческий директор авиакомпании British Midland International Йорг Ханнеман. - Мы рады сотрудничеству с МАУ, благодаря которому мы имеем возможность расширить сеть наших маршрутов".
Забронировать и купить билеты, а также ознакомиться с дополнительной информацией можно на веб-сайте МАУ www.flyUIA.com и веб-сайте bmi www.flybmi.com.
British Midland International - вторая по объемам перевозок авиакомпания, базирующаяся в одном из крупнейших узловых аэропортов мира - лондонском аэропорту Хитроу. Сеть маршрутов авиакомпании охватывает такие города как Абердин, Аддис-Абеба, Алматы, Амман, Баку, Базель; Бейрут, Белфаст, Берген, Берлин, Бишкек, Каир, Касабланка, Дамаск, Дамам, Дублин, Эдинбург, Франкфурт, Фритаун, Глазго, Ганновер, Джадда, Хартум, Лондон (Хитроу), Манчестер, Марракеш, Москва (Домодедово), Эр-Рияд, Ставангер, Тбилиси, Тегеран, Триполи, Вена и Ереван.
Авиакомпания British Midland International является членом альянса Star Alliance. Этот альянс был создан в 1997 году как первый по-настоящему международный авиационный союз. Основной целью создания организации является обеспечение доступа пассажирам в любую точку мира. Признание альянса на рынке было подтверждено многочисленными наградами, был признан мировым лидером авиаперевозок (Air Transport World Market Leadership Award), а также лучшим авиационным альянсом мира по версии журнала Business Traveller и британской консалтинговой компании Skytrax. Членами альянса являются: Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Blue1, bmi , Brussels Airlines, Continental Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, Spanair, SWISS, TAM Airlines, TAP Portugal, Turkish Airlines, THAI, Unite d и US Airways. Авиакомпании Air India, Avianca-TACA, Copa Airlines и Ethiopian Airlines присоединятся к альянсу в ближайшем будущем. Ежедневно самолётами авиакомпаний альянса выполняется более 21 тысячи регулярных рейсов в 1160 аэропортов в 181 страну мира.
Север и Юг Судана, разделившегося на две части по итогам референдума о самоопределении Юга, согласовали уже 85% совместной границы, сообщил в четверг посол Судана в РФ Мохаммед Хусейн Зарук.
«На данный момент мы согласовали 85% границы. Оставшиеся 15% вызывают некоторые сложности и требуют дальнейших переговоров», – сказал он на пресс-конференции в РИА Новости.
По словам посла, граница между двумя частями Судана является одной из самых протяженных в Африке (в общей сложности 1,9 тыс.км.).
Зарук подчеркнул, что границы между двумя государствами «должны быть гибкими». «Основное население, которое живет на границе между Севером и Югом Судана – кочевники, скотоводы, которые привыкли передвигаться свободно. Этот фактор необходимо учитывать», – отметил суданский посол.
Кроме того, он указал, что представители Севера и Юга продолжат переговоры и по остальным вопросам, которые пока остаются нерешенными. В частности, будут решаться вопросы о разделе нефтяных ресурсов, которые находятся в пограничных районах, а также вопрос транзита товаров из Южного Судана, который не имеет выхода к морю.
Решение об отделении Южного Судана и образовании на его территории независимого государства было одобрено голосами более 98% южан во время референдума о самоопределении, который проходил с 9 по 15 янв.
Южный Судан станет 53 государством в Африке после окончания переходного периода 9 июля этого года.
Эфиопия настаивает на заключении соглашения о сотрудничестве с Египтом и Суданом в области использования вод Нила, заявил в интервью российским журналистам премьер-министр страны Мелес Зенауи.
«Несмотря на то, что Эфиопии принадлежат земли, дающие более 85% стока Нила, соглашение о сотрудничестве поможет всем странам с большей выгодой использовать нильскую воду без нанесения ущерба чьим-либо интересам», – сказал Зенауи.
По его словам, решение какой-либо страны, в т.ч. Эфиопии, о развитии только собственной ирригационной системы может существенно сократить количество воды в Ниле для других стран.
«Мы видим решение проблемы в заключении всеобъемлющего соглашения с Египтом и Суданом, тогда мы сможем сберечь много воды и увеличить ирригационный потенциал Нила не только в Эфиопии, но и в Египте с Суданом», – добавил эфиопский премьер.
Он отметил, что Эфиопия нуждается в увеличении ежегодного потребления воды из Нила на 8,5 млрд.куб.м.
В то же время Мелес обвинил Египет в попытках помешать реализации ирригационных проектов в Эфиопии оказанием давления на иностранные фирмы с целью вынудить их отказаться от участия в эфиопских проектах освоения Нила. «Мы можем строить без иностранной помощи и кредитов, но вместе с ними мы способны делать это быстрее и в больших масштабах», – пояснил премьер.
Кроме того, он считает Каир причастным к попыткам дестабилизировать политическую ситуацию в Эфиопии, чтобы она не смогла начать проекты в области ирригации и гидроэнергетики. «Нам нужно это соглашение, чтобы прекратить попытки Египта саботировать развитие ирригационной системы в Эфиопии», – сказал Мелес.
При этом премьер отметил, что власти страны не станут дожидаться заключения такой договоренности для запуска новых жизненно важных проектов по освоению Нила. «Мы предпринимаем усилия для подписания соглашения, но это не означает, что мы отказываемся начинать наши проекты по Нилу до его заключения. В течение пяти лет будут реализованы большинство наших крупных нильских проектов», – сообщил он.
Разработанные на сегодняшний день в Эфиопии ирригационные системы, предусматривающие увеличение посевных площадей на 2 млн. гектар, рассчитаны в основном на использование вод нильского бассейна.
Египетско-суданское соглашение о разделе вод Нила от 1959г. не признается Эфиопией и другими странами нильского бассейна. Более того, установленные по нему квоты расхода нильской воды (3/4 в пользу Египта и 1/4 – Судана) оспариваются и Хартумом. Судан требует увеличения своей доли по этому соглашению на 12,65 млрд.куб.м. Юлия Троицкая
Эфиопия признает новое государство в Африке, которое официально будет образовано на территории Южного Судана в июле 2011г., заявил в интервью российским журналистам премьер-министр Эфиопии Мелес Зенауи. «Мы признаем Южный Судан и будем помогать ему на этапе становления, при этом сохраняя наши традиционные отношения с Северным Суданом», – сказал премьер.
Зенауи отметил, что Эфиопию связывали «хорошие отношения с Республикой Судан», и она намерена сохранить их теперь уже с двумя независимыми государствами.
Решение об отделении Южного Судана от Северного и образовании на его территории независимого государства было принято более 98% южан во время референдума о самоопределении Юга, который проходил с 9 по 15 янв. Южный Судан станет 53 государством в Африке после окончания переходного периода 9 июля этого года. Юлия Троицкая
Президент Судана Омар аль-Башир не будет участвовать в следующих выборах на пост главы государства, сообщает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на представителя правящей партии страны Рабие Абделати (Rabie Abdelati).
«Аль-Башир объявил, что он не будет участвовать в предстоящих президентских выборах», – приводит агентство слова Абделати.
Как отмечает агентство, согласно действующей конституции, выборы в стране должны пройти через четыре года, а решение аль-Башира было принято в рамках комплекса мер, направленных на демократизацию в стране.
В результате проведенных в апр. 2010 всеобщих выборов Омар аль-Башир остался на посту президента, несмотря на выданный Международным уголовным судом в 2009г. ордер на его арест в связи с обвинениями в преступлениях в западной суданской провинции Дарфур.
Президент Судана Омар аль-Башир предложил российским компаниям принять участие в проектах по развитию инфраструктуры на севере страны. Возможности укрепления экономического сотрудничества между двумя странами аль-Башир обсудил в субботу на встрече со спецпредставителем президента РФ по Судану Михаилом Маргеловым.
«Мы обсудили целый блок экономических вопросов, в т.ч. готовность суданцев предоставить России подряд на строительство железной дороги от Порт-Судана до города Эль-Генейна в Западном Дарфуре, а также контракты на возведение тепловых электростанций в стране», – рассказал РИА Новости Маргелов после завершения встречи.
Кроме того, по его словам, суданские власти готовы допустить российские компании до разведки и разработки нефтяных месторождений в Дарфуре. Суданцы намерены перестроить экономику страны после того, как в июле этого года Южный Судан отделится и образует самостоятельное государство.
Аль-Башир, отметил российский спецпредставитель, с оптимизмом смотрит на процесс распада единой страны на два государства и считает, что все спорные вопросы будут решены вовремя, и им удастся наладить мирные и добрососедские отношения со своими соседями на Юге.
«Аль-Башир отметил, что они полностью выполнили условия всеобъемлющего мирного соглашения, безоговорочно признав итоги референдума по отделению Юга», – сказал Маргелов.
Он проинформировал президента Судана о результатах встречи с главным прокурором Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, где он побывал перед приездом в Хартум, и тех компромиссных вариантах решения вопроса о судьбе вынесенного МУС обвинительного вердикта в адрес аль-Башира.
Эти варианты предусматривают либо выработку приемлемого для всех сторон политического решения, либо начало юридического процесса, либо создание гибридного суда.
В 2009г. МУС выдал ордер на арест аль-Башира за военные преступления в регионе Дарфур на западе страны, где с 2003г. ведутся военные действия между властями и мятежными группировками. Юлия Троицкая
Подразделение крупной китайской компании China Communications Construction Company, которая специализируется на строительстве транспортной инфраструктуры, выиграла тендер на строительство нового международного аэропорта в суданской столице Хартум. Проект оценивается в 1,21 млрд.долл.
Как сообщила Администрация по контролю и управлению госимуществом при Госсовете КНР (SASAC), китайские специалисты построят взлетно-посадочную полосу, которая будет способна принимать и отправлять такие самолеты, как, например, Аirbus A380. Это – широкофюзеляжный двухпалубный реактивный пассажирский самолет, который считается одним из самых крупных серийных авиалайнеров в мире. Его вместимость достигает 853 пассажиров.
Контракт предполагает также строительство терминала, ангара, контрольно башни и других необходимых объектов.По данным SASAC, реализация проекта позволит China Communications Construction Company расширить свое присутствие на рынке Судана.
Отметим, что в наст.вр. в Судане действуют валютные ограничения. Так, по законам этой страны, покупка билетов на авиаперелет не может осуществляться в иностранной валюте. А транзакции по кредитным картам при оплате поездок на самолетах тоже невозможны из-за санкций США, введенных еще в 1997г. А власти Евросоюза запретили полеты в Судан из соображений безопасности. Из-за этого авиакомпании, которые и так малочисленны на рынке авиаперевозок в Судане, сокращают свои операции в этой стране.
На этом фоне китайское правительство развивает отношения с Суданом с расчетом на еще более крепкие связи с лидерами этой страны в будущем. В 2010г. именно Судан стал для Поднебесной шестым по величине поставщиком нефти.

Восстание арабов
А.Г. Аксенёнок – кандидат юридических наук, Чрезвычайный и Полномочный Посол, опытный дипломат, арабист, долго работавший во многих арабских странах, в том числе в качестве посла России в Алжире, а также спецпредставителем на Балканах и послом Российской Федерации в Словакии.
Резюме На протяжении всей современной истории Египет был и остается лидером арабского мира, центром, из которого расходятся круги политических перемен. От того, каким путем будет преодолен кризис власти в Каире, зависит геополитический расклад на всем мусульманском Востоке и в более широком глобальном масштабе.
«Жасминовая революция» в Тунисе, начавшаяся самосожжением 20-летнего юноши, быстро перекинулась на запад (Алжир, Мавритания), юг (Судан) и восток (Египет, Иордания, Йемен) арабского мира. И хотя масштаб внутренних потрясений в этих странах различен и в каждой из них своя специфика, ясно одно. Социальная почва для народных выступлений созрела, и созрела давно. Свержение режима Зин эль-Абидина Бен Али в Тунисе сыграло лишь роль неожиданного катализатора.
Социально-политические причины взрыва
Уличные демонстрации, митинги и другие проявления массового протеста сотрясали Арабский Восток и раньше, особенно часто в 50–70-е гг. прошлого столетия. Тогда, на этапе становления национальных государств, гнев «арабской улицы» был направлен против внешних сил – Израиля и империализма США. Отдельные протестные выступления последнего десятилетия носили в основном экономический характер. Теперь же, после того, как впервые в современной истории смена режимов в двух арабских странах произошла не в результате военного переворота, внешнего или внутреннего «дворцового заговора», а под давлением снизу, на повестку дня встал вопрос о кардинальных политических переменах, возможно, на всем Ближнем Востоке, включая смену «несменяемых» арабских правителей.
Как быстро, в каких формах и насколько радикально перемены будут происходить в каждой отдельно взятой арабской стране, пока трудно спрогнозировать. В то же время глубинные процессы внутреннего развития, которые подготовили эту «социальную бомбу», уже давно были предметом экспертных обсуждений. В этом смысле при всех различиях в затронутых волнениями арабских государствах имеется много общего.
Прежде всего это часть арабского мира с более низким уровнем жизни большинства населения, особенно Египет и Йемен. Если в Алжире и Ливии – странах – экспортерах нефти – правительствам удалось на время нейтрализовать народное возмущение ростом цен, а граждане Кувейта даже получили по 3,5 тыс. долларов США разовых денежных дотаций и дополнительные добавки к социальному пакету, то, к примеру, в Египте финансовые лимиты на популистские меры оказались исчерпанными.
Социальную базу протестных движений составила молодежь, отчаявшаяся улучшить свое материальное положение, и зарождающийся средний класс, недовольный коррупцией в верхах, непотизмом и авторитарными методами правления.
Как отмечалось на Давосском форуме по Ближнему Востоку (Мертвое море, 18–20 мая 2007 г.), занятость среди молодежи в этом регионе катастрофически низка (не более 30%) даже по сравнению с такими неблагополучными в этом отношении регионами, как Центральная и Восточная Европа и республики бывшего Советского Союза. При этом уже сегодня очевиден дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, а в перспективе прогнозируется только усугубление этой проблемы. Дефицит требуемой рабочей силы на Арабском Востоке в ближайшие два десятилетия должен, по подсчетам экономистов, составить от 80 до 90 млн рабочих мест. Как заполнить этот дефицит – самый большой вызов социально-экономическому развитию всего региона, где общая численность молодых людей в возрасте до 30 лет приближается к 70% населения, и большинство из них, по проведенным опросам, мечтает о выезде за границу.
Другим серьезным раздражителем на уровне субъективного восприятия политической реальности в массах стала несменяемость власти и всего правящего класса. Бен Али оставался президентом Туниса более 23 лет, а Мубарак возглавлял Египет неполные 30 лет. Нынешние главы двух других арабских государств, Ливии и Йемена, пришли к власти в результате военных переворотов еще раньше – соответственно в 1969 и 1978 годах.
Кроме того, во всех этих четырех странах были широко известны планы передачи власти по наследству. В Тунисе ходили слухи о властных амбициях жены президента и ее клана, установившего свой контроль практически над всеми жизненно важными сферами национальной экономики. Сценарий передачи власти от отца к сыну получил одиозную огласку и в Египте. Банкир Гамаль Мубарак, сын президента, вошедший в руководство правящей Национально-демократической партии (НДП), символизировал срастание финансовых интересов бизнеса и официального политического класса.
За последние годы имущественная поляризация в Египте шла настолько быстро, что образовавшаяся пропасть между богатством верхов и бедностью большинства населения выглядит сегодня особенно разительной. В окрестностях Каира по соседству с трущобами, называемыми «народными кварталами», выросли коттеджные поселки новой бизнес-элиты из числа бывших военных и партийных функционеров. И это в стране, где 40% населения живет за чертой бедности и 30% продолжает оставаться неграмотными. Стабильность поддерживалась репрессивными методами традиционно разветвленных в стране спецслужб и путем дотирования продуктов питания. В результате бюджетный дефицит достиг 8%, а государственный долг вырос до 72% ВВП.
Широкое недовольство в Египте вызвали результаты состоявшихся в ноябре 2010 г. парламентских выборов. В отличие от предыдущих выборов 2005 г., когда «Братья-мусульмане», выступавшие как «независимые» кандидаты, получили 20% мест, на этот раз НДП практически полностью монополизировала законодательный орган власти (97% мест). Оппозиция объявила итоги сфальсифицированными. Накануне президентского голосования, намеченного на сентябрь 2011 г., было изменено конституционное законодательство, что сделало участие в выборах независимых кандидатов практически невозможным. Все это наряду с социальными факторами также повлияло на рост антирежимных настроений, предопределив перерастание чисто экономических требований в радикально политические.
Говоря о побудительных мотивах народных волнений, особенно в Тунисе и Египте, следует отдельно отметить рост современных коммуникационных технологий. У многих экспертов и наблюдателей возник вопрос: как поддерживалась организованность народных выступлений в условиях разобщенности оппозиции и давления репрессивного аппарата? К тому же до сих пор не вполне понятно, какие политические силы стояли за этим, или поначалу больше сработали элементы стихийности и подверженности эмоциональному взрыву. По свидетельству очевидцев, для координации действий использовался Интернет, особенно такие социальные сети, как Facebook, мобильная связь. Разумеется, подобные средства коммуникации на Арабском Востоке распространены не столь широко, как в Западной Европе, но даже 8–10% в Египте (в Тунисе этот процент выше) оказалось вполне достаточно для общения среди активистов. Не случайно власти не раз прибегали к блокированию Интернета и мобильной связи.
Маневры армии
Если в Тунисе после бегства Бен Али из страны контуры переходного периода в основном согласованы, что позволило временному правительству сбить волну народных выступлений и заручиться сотрудничеством оппозиции в подготовке новых парламентских и президентских выборов, то в Египте ситуация, вероятно, долго останется неопределенной.
Под давлением протестов и западной реакции президент сделал ряд шагов навстречу требованиям народа. Впервые за время его правления был назначен вице-президент (этот пост оставался вакантным с момента, когда в 1981 г. его покинул сам Хосни Мубарак), которому предполагалось передать часть президентских полномочий. Произведена замена правительства, начался переговорный процесс с оппозиционными партиями и новыми молодежными движениями о политических и конституционных реформах. К числу приоритетов нового правительства отнесено удовлетворение жизненных потребностей народа, то есть главных экономических требований протестующих.
Вместе с тем президент Египта сначала решительно отказался немедленно покидать свой пост, ограничившись обещанием не выдвигаться на предстоящих в конце этого года президентских выборах.
Тактика президента и военно-политического истеблишмента в разгар кризиса заключалась в следующем:
ослабить накал народных выступлений, опираясь на массовое присутствие армии на улицах в качестве стабилизирующей силы;
не допустить падения режима, обеспечив условия для его упорядоченной мирной эволюции с «сохранением лица»;
в диалоге с оппозицией договориться об условиях «достойного» ухода президента в течение «переходного периода», возможно, до новых президентских и парламентских выборов.
Однако эти расчетам не суждено было оправдаться. Количество манифестантов достигло критической массы, а требования отставки президента стали распространяться по всей стране, поставив государство на грань коллапса. Экономические потери катастрофически нарастали (150 млн долл. США в день, 1 миллиард от оттока туристов). Беспрецедентной силы достигло внешнее давление со стороны главного союзника Египта Соединенных Штатов и примкнувшей к ним Западной Европы. В этих условиях президент Египта по договоренности с армейским командованием, а, возможно, и под его нажимом вынужден был покинуть свой пост 11 февраля 2011 года и передать верховную власть Высшему военному Совету. Первым шагом этого коллективного органа было объявление о приостановке действия конституции и роспуске парламента.
Важная особенность ситуации в Египте заключается в той роли, которую играет там институт армии. Она традиционно является не только военной организацией, но и политической корпорацией, источником верховной власти, пользуется авторитетом в народе как гарант национального суверенитета. Многие генералы в отставке возглавляют государственные и частные компании, правительственные агентства, местные органы власти, образуя своего рода «внутренний круг», который гораздо шире, чем непосредственное окружение президента. От того, как поведет себя армия, во многом зависит дальнейшее развитие событий, особенно теперь, когда они вышли за конституционные рамки.
С другой стороны, и оппозиции не удалось быстро заполнить политический вакуум. Она также оказалась застигнутой врасплох силой и размахом народного гнева. Опасения в Израиле и на Западе насчет вероятности прихода к власти организации «Братья-мусульмане» вполне понятны, хотя и представляются несколько преувеличенными. С самого начала исламские лозунги на улице полностью отсутствовали, а сама организация египетских исламистов переживает период раскола на почве разногласий в отношении тактики поведения после парламентских выборов в ноябре 2010 года.
В этих условиях руководство «Братьев-мусульман» предпочло действовать совместно со светскими партиями, присоединившись к образованной ими коалиции оппозиционных сил. Шансы этого объединения выступить единым фронтом на переговорах с официальными властями представляются малозначительными, особенно когда энергия народного гнева начнет сходить на нет. Другое дело, что исламисты со временем обязательно попытаются оседлать волну антирежимных настроений, используя опыт организационной работы в массах и спекулируя на антиамериканских чувствах, широко распространенных в Египте (по последним опросам, рейтинг доверия к США не превышает 30%).Но и в этом случае «Братья-мусульмане», по прогнозам египетских политологов, могут рассчитывать только на 20% голосов избирателей.
Оппозиция разрозненна и многоцветна. Политический спектр простирается от старейшей правой египетской партии «Вафд» до радикалов из находящейся вне закона организации «Братья-мусульмане». В состав этой широкой коалиции входит и образованная манифестантами аморфная демократическая ассоциация «За перемены», выдвинувшая своим лидером нобелевского лауреата, бывшего генерального директора МАГАТЭ Мохаммеда эль-Барадеи. Разумеется, оппозиционерам будет нелегко договориться даже между собой о формировании переходного «правительства народного единства» для внесения поправок в конституцию, обеспечивающих проведение «свободных выборов».
Нынешний этап политического развития Египта является по-настоящему переломным. Центр внутренних борений сосредоточен вокруг того, кто будет контролировать переходный период. Останется ли контроль в руках армии или же под давлением толпы стихийно перейдет к старым и новым политическим силам, в том числе родившимся на волне массовых выступлений. В первом случае шансы на мирный переход к демократическим переменам значительно выше. Во втором – внутренний хаос может затянуться надолго.
11 февраля Египет совершил «прыжок в неизвестность».Как бы ни развивались события дальше, драматический уход президента (а верховная власть в Египте со времен Гамаля Абдель Насера освящена ореолом если не божественности, как при фараонах, то во всяком случае непререкаемости) знаменует собой начало качественно новой эпохи. Переход к демократии, как показывает мировой опыт революционных потрясений, отнюдь не гарантирован ни при диктатуре армии, ни при диктатуре народа.
Турецкая модель?
Если свержение Бен Али в Тунисе дало импульс народным выступлениям египтян (барьер страха был преодолен), то от того, каким путем и как быстро будет преодолен кризис власти в самом Египте, во многом зависит геополитический расклад на всем мусульманском Востоке и в более широком глобальном масштабе. На протяжении всей современной истории Египет был и остается лидером арабского мира, центром, из которого расходятся круги политических перемен. На Египте, этой первой арабской стране, заключившей мирный договор с Израилем, покоится вся, пока еще шаткая, система региональной безопасности. Также велика его роль в сдерживании исламского экстремизма и великодержавных амбиций Ирана.
Если демократические реформы в Египте примут обвальный характер, то такой оборот событий повысит градус напряжения в арабских странах – экспортерах нефти и газа с непредсказуемыми последствиями для мировой экономики и финансов. В любом случае обширный регион Ближнего Востока и Северной Африки ожидает время болезненных перемен. По прогнозам Генерального секретаря Лиги арабских государств, этот волатильный период продлится от двух до пяти лет. Арабские правители, получившие столь тревожный сигнал снизу, уже вряд ли смогут управлять прежними методами. Другое дело, какой характер примут внутриполитические преобразования, насильственный или мирный, как они отразятся на перспективах урегулирования арабо-израильского конфликта и архитектуре международной безопасности в целом.
С точки зрения внутреннего расклада сил, модели дальнейшей трансформации в каждой из арабских стран, не затронутых модернизационными процессами по децентрализации власти и внедрению политического плюрализма, могут быть различными. Выработка работоспособных механизмов представительной демократии с учетом специфики мусульманского Востока и будет составлять содержание переходного периода.
По мнению многих комментаторов, для Египта и Алжира с сильными светскими традициями и стабилизирующей ролью армии более приемлема была бы турецкая модель. Насер, как и Кемаль Ататюрк, заложил традиции обновления сверху при сохранении консолидирующей роли армии, но ни при нем, ни при Анваре Садате и далее Мубараке не возникло гибкой политической системы, в которой институционально сочетались бы интересы широкого спектра сил, порожденных современным развитием. Насеровский Арабский социалистический союз и Национально-демократическая партия Садата и Мубарака не выдержали испытания временем как правящие партии, представляющие интересы коррумпированной государственной бюрократии и крупного капитала.
В Йемене армия, приведшая к власти Али Абдаллу Салеха, также может сыграть роль страховочного инструмента от сильных потрясений в условиях политического вакуума. Чисто местная особенность выражается здесь в сохраняющейся племенной структуре общества. Президент Салех поспешил объявить о том, что он отказывается выдвигаться на очередной срок. До сих пор ему удавалось лавировать между запросами племен в попытках, не всегда успешных, удовлетворить интересы поглощенной им южной части Йемена и северян, завязанных больше на Саудовскую Аравию, а также поддерживать внешние атрибуты современной государственности. Со временем делать это будет гораздо труднее.
Монархические режимы в Иордании и Марокко имеют свои глубоко укоренившиеся династические традиции, восходящие к пророку Мухаммеду. Эти страны в отличие от большинства монархий Аравийского полуострова далеко продвинулись по пути политической модернизации. Поэтому можно полагать, что устои этих режимов менее уязвимы, хотя сами верховные руководители, судя по всему, восприняли происходящее в высшей степени серьезно.
Иранская модель «теократической демократии» – это скорее шиитский феномен, она вряд ли способна стать притягательным примером для арабских государств с преобладанием ислама более мягкого суннитского толка. Вместе с тем противопоставление современного развития национальным и религиозным традициям – гарантия неудачи. Политические реформы в большинстве мусульманских стран не будут успешными, если они осуществляются как альтернатива исламу и, следовательно, воспринимаются мусульманским сообществом в качестве угрозы религиозным ценностям. Линия на искусственную демократизацию и переориентацию традиционного мусульманского общества с целью внедрения либеральных ценностей несет опасность дестабилизации и играет на руку исламским экстремистам.
Международному сообществу, реакция которого на события в Тунисе и особенно в Египте была непоследовательна и противоречива, предстоит еще пройти между Сциллой и Харибдой, чтобы найти разумные балансы между требованиями сохранения стабильности и демократизации. Заявления ряда руководителей западноевропейских государств на конференции по безопасности в Мюнхене в феврале 2011 г. о том, что не все критерии западной демократии применимы к Арабскому Востоку, внушают некоторый оптимизм. В то же время мировые державы демонстрируют очевидную растерянность перед лицом мощной волны социально-политического пробуждения, которая поднимается на Ближнем Востоке.

Революция и демократия в исламском мире
Резюме: Падающее воздействие великих держав создает политический вакуум на Ближнем и Среднем Востоке. Часть его заполнит Индия (в Афганистане), но в основном – на всей территории – усилится Китай. С учетом роста влияния Турции и Ирана состав игроков этого огромного региона и распределение сил будет в XXI веке больше напоминать XVII, чем ХХ столетие.
События в Тунисе и Египте продемонстрировали удивительный парадокс. Революции, вызвавшие эффект домино и поставившие на грань существования всю систему сдержек и противовесов в арабском мире, приветствовали не только Иран и «Аль-Каида», но и ряд западных политиков, первыми из которых должны быть названы президент и госсекретарь Соединенных Штатов. Отказ Николя Саркози предоставить убежище бежавшему из Туниса президенту Зин эль-Абидину Бен Али, который на протяжении десятилетий был оплотом интересов Парижа в Магрибе, еще можно было списать на растерянность или неизвестные широкой публике «старые счеты». Но призывы Барака Обамы и Хиллари Клинтон, которые в разгар охвативших Египет бунтов, погромов и антиправительственных выступлений требовали от египетского президента Хосни Мубарака немедленно включить Интернет, обеспечить бесперебойную работу иностранных СМИ, вступить в диалог с оппозицией и начать передачу ей власти, вышли за пределы не только разумного, но и допустимого. Вашингтон в очередной раз продемонстрировал, что в регионе у него нет не только союзников, но даже сколь бы то ни было ясно понимаемых интересов.
Непоправимые ошибки Америки
Откровенное до бесхитростности предательство главного партнера США в арабском мире, каким до недавнего времени полагал себя Мубарак, никак не может быть оправдано с практической точки зрения. «Либеральная оппозиция» во главе с экстренно прибывшим в Египет «брать власть» Мохаммедом эль-Барадеи, влияние которого в стране равно нулю, не имеет никаких шансов. Если, конечно, не считать таковыми возможное использование экс-главы МАГАТЭ в качестве ширмы, ликвидируемой немедленно после того, как в ней отпадет надобность. Заявления «Братьев-мусульман» о том, что, придя во власть, они первым делом пересмотрят Кэмп-Дэвидский договор, и сама их история не дают оснований для оптимизма. Амбиции еще одного потенциального претендента на египетское президентство, Генерального секретаря Лиги арабских государств Амра Мусы, несопоставимы с возможностями генерала Омара Сулеймана, которого Мубарак назначил вице-президентом. А переход власти к высшему военному командованию хотя бы оставляет надежду на управляемый процесс.
Ближний Восток: история проблемы
Георгий Мирский. Шииты в современном мире
Евгений Сатановский. Новый Ближний Восток
Усмотреть смысл в «выстреле в собственную ногу», произведенном американским руководством, очень трудно. Разве что начать всерьез воспринимать теорию заговора, в рамках которого Соединенные Штаты стремятся установить в мире «управляемый хаос», для чего готовы поддерживать любые протестные движения и организовывать какие угодно «цветные» революции, не важно, за или против кого они направлены. Альтернатива – полагать, что руководство США и ряда стран Европы охватила эпидемия кратковременного помешательства (кратковременного – потому что через несколько дней риторика все-таки стала меняться). Такое впечатление, что в критических ситуациях лидеры Запада следуют не голосу рассудка, государственным или личным обязательствам, но некоему инстинкту. Тому, который заставляет их во вред себе, своим странам и миропорядку в целом приветствовать любое неустроение под лозунгом «стремления к свободе и демократии», где бы оно ни происходило и кого бы из союзников ни касалось.
Какие выводы сделаны из этого всеми без исключения лидерами стран региона от Марокко до Пакистана – не стоит и говорить. Во всяком случае, израильтяне, которые до сих пор полагали, что в основе предвзятого отношения администрации Обамы к правительству Биньямина Нетаньяху лежат столкновение популистских американских теорий с торпедировавшей их ближневосточной реальностью, антиизраильское лоббирование и личная неприязнь, внезапно начали осознавать: дело гораздо хуже, это работает система.
В рамках этой системы исторически непоправимых ошибок, последовательно совершаемых президентами Соединенных Штатов, Джимми Картер в 1979 г. заставил шаха Ирана Мохаммеда Резу Пехлеви отказаться от противостояния с аятоллой Хомейни. Исламская революция в Иране, не встретив сопротивления, победила со всеми вытекающими для этой страны, региона и мира последствиями, одним из которых было введение советских войск в Афганистан.
Сменивший Картера Рональд Рейган поддержал не только фанатиков-моджахедов, но и создание «Аль-Каиды» во главе с Усамой бен Ладеном. Можно только вспоминать генерала ХАД (аналог КГБ в Демократической республике Афганистан) Наджибуллу, который при поддержке Запада мог стать в Афганистане не худшим руководителем, чем генералы КГБ и МВД СССР Алиев и Шеварднадзе в Азербайджане и Грузии. Вместо этого шиитский политический ислам в Иране получил достойного соседа и конкурента в лице террористического суннитского «зеленого Интернационала». Джордж Буш-старший в связи с краткосрочностью пребывания на президентском посту свой вклад в дело укрепления радикального политического ислама не внес. Он лишь провел «Войну в Заливе», ослабив режим Саддама Хусейна, но не уничтожив его в тот непродолжительный исторический момент, когда это могло быть поддержано всеми региональными игроками с минимальной выгодой для экстремистских организаций.
Зато Билл Клинтон, смотревший сквозь пальцы на появление ядерного оружия у Пакистана и проворонивший «черный ядерный рынок», организованный отцом пакистанской бомбы Абдулом Кадыр Ханом, поддержал авантюру израильских левых, приведшую Ясира Арафата на палестинские территории, и операцию пакистанских спецслужб по внедрению движения «Талибан» в качестве ведущей военно-политической силы Афганистана. Именно ближневосточный курс Клинтона привел к «интифаде Аль-Акса» в Израиле и мегатеракту 11 сентября 2001 г. в Соединенных Штатах.
Президент Джордж Буш-младший, пытаясь привести в порядок тяжелое ближневосточное наследство Клинтона, расчистил в Ираке плацдарм для деятельности не только «Аль-Каиды» и других суннитских радикалов, но и таких шиитских радикальных групп, как поддерживаемая Ираном Армия Махди. Иран, лишившийся в лице свергнутого и повешенного Саддама Хусейна опасного соседа, получил свободу рук для реализации имперских амбиций, в том числе ядерных, стремительно превращаясь в региональную сверхдержаву. Попытка иранского президента-либерала Мохаммеда Хатами наладить отношения с Вашингтоном после взятия американской армией Багдада была отвергнута, что открыло дорогу к власти иранским «неоконам» во главе с президентом Махмудом Ахмадинежадом. В Афганистане не были разгромлены ни талибы, ни «Аль-Каида», их лидеры мулла Омар и Усама бен Ладен остались на свободе, зато администрация, ведомая госсекретарем Кондолизой Райс, всерьез занялась демократизацией региона.
В итоге ХАМАС стал ведущей военно-политической силой в Палестине и, развязав гражданскую войну, захватил сектор Газа. Проиранская «Хезболла» укрепила позиции в Ливане, «Братья-мусульмане» заняли около 20% мест в парламенте Египта, а успешно боровшийся с исламистами пакистанский президент Первез Мушарраф и возглавляемая им армия уступили власть коррумпированным кланам Бхутто-Зардари и Наваза Шарифа. Страна, арсеналы которой насчитывают десятки ядерных зарядов, сегодня управляется людьми, стоявшими у истоков движения «Талибан» и заговора Абдула Кадыр Хана.
Наконец, Барак Обама, «исправляя» политику своего предшественника, принял политически резонное, но стратегически провальное решение о выводе войск из Ирака и Афганистана и смирился с иранской ядерной бомбой, которая, несомненно, обрушит режим нераспространения. Попытки жесткого давления на Израиль, переходящие все «красные линии» в отношениях этой страны с Соединенными Штатами, убедили Иерусалим в том, что в лице действующей администрации он имеет «друга», который опаснее большинства его врагов. Несмотря на беспрецедентное охлаждение отношений с Израилем, заигрывания с исламским миром, стартовавшие с «исторической речи» Обамы в Каире, не принесли ожидаемых дивидендов. Ситуацию с популярностью США под руководством Барака Обамы среди мусульман лучше всего характеризует реакция египетских СМИ на эту речь: «Белая собака, черная собака – все равно собака».
Поддержка американским президентом египетской демократии в варианте, включающем в систему власти исламских радикалов, помимо прочего откроет двери для дехристианизации Египта. Копты, составляющие 10% его населения и без того во многом ограничиваемые властями, несмотря на демонстрацию лояльности к ним, являются легитимной мишенью террористов. Их будущее в новом «демократическом» Египте обещает быть не лучшим, чем у их соседей – христиан Палестины, потерявшей за годы правления Арафата и его преемника большую часть некогда многочисленного христианского населения.
Упорная поддержка коррумпированных и нелегитимных режимов Хамида Карзая в Афганистане и Асифа Али Зардари в Пакистане, неспособность повлиять на правительственные кризисы в Ираке и Ливане, утечки сотен тысяч единиц секретной информации через портал «Викиликс», несогласованность действий Госдепартамента, Пентагона и разведывательных служб, череда отставок высокопоставленных военных и беспрецедентная публичная критика, с которой они обрушились на гражданские власти… Все это заставляет говорить о системном кризисе не только в ближневосточной политике, но и в американской управленческой машине в целом.
Инициативы Обамы по созданию «безъядерной зоны на Ближнем Востоке» и продвижению к «глобальному ядерному нулю», настойчиво поддерживаемые Саудовской Аравией, направлены в равной мере против Ирана, нарушившего Договор о нераспространении (ДНЯО), и Израиля, не являющегося его участником. Проблема не только в том, что эти инициативы не имеют шансов на реализацию, но в том, что они полностью игнорируют Пакистан, хотя опасность передачи части пакистанского ядерного арсенала в распоряжение Саудовской Аравии, а возможно, и не только ее, не менее реальна, чем перспективы появления иранской ядерной бомбы. Активная позиция в поддержку ядерных инициатив Барака Обамы, занятая в конце января с.г. в Давосе принцем Турки аль-Фейсалом, наводит на размышления. Создатель саудовских спецслужб известен не только как архитектор «Аль-Каиды», его подозревают в причастности к организации терактов 11 сентября в США и «Норд-Ост» в России. На этом фоне поспешные непродуманные заявления в адрес Хосни Мубарака только подчеркнули: Америка на Ближнем и Среднем Востоке (БСВ) действует исходя из теории, а не из практики, и, не считаясь с реальностью, строит фантомную «демократию» (как когда-то СССР – фантомный «социализм»), безжалостно и бессмысленно сдавая союзников в угоду теоретическому догматизму.
Демократия с ближневосточной спецификой
Принято считать, что демократия – наилучшая и самая современная форма правления. Соответствующая цитата из Уинстона Черчилля затерта до дыр. Право народа на восстание против тирании, которое легло в основу западного политического обустройства последних веков – это святыня, покушения на которую воспринимаются в Вашингтоне и Брюсселе как ересь, сравнимая с попытками усомниться в непогрешимости папы римского. При этом расхождения между теоретической демократией и ее практическим воплощением в большей части стран современного мира не только не анализируются, но даже не осознаются «мировым сообществом», точнее политиками, политологами, политтехнологами, экспертами и журналистами, которые принадлежат к узкому кругу, не только называющему, но и полагающему себя этим сообществом.
Констатируем несколько аксиом ближневосточной политики. Знаменующий окончательную и бесповоротную победу либеральной демократии «конец истории» Фрэнсиса Фукуямы не состоялся, в отличие от «войны цивилизаций» Самьюэла Хантингтона. Во всяком случае, на Ближнем и Среднем Востоке демократий западного типа нет, и в ближайшие десятилетия не предвидится. В регионе правят монархи, авторитарные диктаторы или военные хунты. Все они апеллируют к традиционным ценностям и исламу до той поры, пока это ислам, не подвергающий сомнению легитимность верховной власти. Республиканские режимы БСВ могут до мелочей копировать западные органы власти, но эта имитация европейского парламентаризма не выдерживает проверки толерантностью. Права этно-конфессиональных меньшинств существуют до той поры, пока верховный лидер или правящая группировка намерены их использовать в собственных целях и в той мере, в которой это позволено «сверху», а права меньшинств сексуальных не существуют даже в теории. В отличие от западного сообщества, права большинства не подразумевают защиту меньшинств, но в отсутствие властного произвола дают большинству возможность притеснять и физически уничтожать их. Политический неосалафизм приветствует это, а ссылки теоретиков на терпимость ислама в корне противоречат практике, в том числе современной.
Любая демократизация и укрепление парламентаризма в регионе, откуда бы они ни инициировались и кем бы ни возглавлялись на начальном этапе, в итоге приводят исключительно к усилению политического ислама. Националистические и либеральные светские партии и движения могут использоваться исламистами только как временные попутчики. Исламизация политической жизни может быть постепенной, с использованием парламентских методов, как в Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, или революционной, как в Иране рахбара Хомейни, но она неизбежна.
Период светских государств, основатели которых воспринимали ислам как историческое обоснование своих претензий на отделение от метрополий, а не как повседневную практику, обязательную для всего населения, завершается на наших глазах. Все это сопровождается большой или малой кровью. Различные группы исламистов апеллируют к ценностям разных эпох, от крайнего варварства до сравнительно умеренных периодов. Некоторые из них готовы поддерживать отношения с Западом – в той мере, в какой они им полезны, другие изначально настроены на разрыв этих отношений. В одних странах исламизация общественной и политической жизни сопровождается сохранением государственных институтов, в других – их ликвидацией. Каждая страна отличается по уровню воздействия на ситуацию племенного фактора или влияния религиозных братств и орденов. Но для всех без исключения движения, которые, взяв власть или присоединившись к ней, будут обустраивать режимы, возникающие в перспективе на Ближнем и Среднем Востоке, характерны общие черты.
Движения эти жестко противостоят укоренению на контролируемой ими территории «западных ценностей» и борются с вестернизацией, распространяя на Западе «ценности исламского мира», в том числе в замкнутых этно-конфессиональных анклавах, растущих в странах Евросоюза, США, Канаде и т.д., под лозунгами теории и практики «мультикультурализма». Наиболее известными итогами сложившейся ситуации являются «парижская интифада», датский «карикатурный скандал», борьба с рождественской символикой в британских муниципалитетах, покушения на «антиисламских» политиков и общественных деятелей и убийства некоторых из них в Голландии, общеевропейская «война минаретов», попытка построить мечеть на месте трагедии 11 сентября в Нью-Йорке. Несмотря на заявления таких политиков, как Ангела Меркель и Дэвид Кэмерон о том, что мультикультурализм исчерпал себя, распространение радикального исламизма на Западе зашло далеко и инерция этого процесса еще не исчерпана. Усиление в среде местного населения Швейцарии, Австрии, Бельгии и других стран Европы консервативных антииммигрантских политических движений – реакция естественная, но запоздавшая. При этом антиглобалистские движения, правозащитные структуры и международные организации, включая ООН, с успехом используются исламистами для реализации их стратегических целей.
Консолидация против Израиля
Одной из главных мишеней современного политического ислама всех толков и направлений является Израиль. Борьба с сионизмом – не только единственный вопрос, объединяющий исламский мир, но и главное достижение этого мира на международной арене. Как следствие – гипертрофированное внимание мирового сообщества, включая политический истеблишмент и СМИ, к проблеме отношений израильтян и палестинцев. Утверждение в умах жителей не только исламского мира, но и Запада идеи исключительности палестинской проблемы – на деле едва ли не наименее острой в череде раздирающих регион конфликтов. Во имя создания палестинского государства многие готовы идти против экономической, политической и демографической реальности, да и просто против здравого смысла, о чем свидетельствует «парад признания» рядом латиноамериканских и европейских государств несуществующего палестинского государства в границах 1967 года.
Израиль пока выжидает и готовится к войне, дистанцируясь от происходящих в регионе событий, чтобы не провоцировать конфликт. Руководство страны осознает, что ситуация с безопасностью в случае ослабления режимов в Каире и Аммане, поддерживающих с Иерусалимом дипломатические отношения, вернется к временам, которые предшествовали Шестидневной войне. Любая эволюция власти в Египте и Иордании возможна только за счет охлаждения отношений с Израилем, поскольку на протяжении десятилетий главным требованием арабской улицы в этих странах был разрыв дипломатических и экономических отношений с еврейским государством. Этот лозунг используют все организованные оппозиционные группы, от «Братьев-мусульман» до профсоюзов и светских либералов.
Не только Амр Муса и эль-Барадеи, известные антиизраильскими настроениями, но и Омар Сулейман, тесно контактировавший на протяжении длительного времени с израильскими политиками и военными, либо другой представитель высшего генералитета будет вынужден (сразу или постепенно) пересмотреть наследие Мубарака в отношениях с Израилем. Как следствие, неизбежно ослабление или прекращение борьбы с антиизраильским террором на Синайском полуострове, поддерживаемым не только суннитскими экстремистскими группами, но и Ираном. Завершение египетской блокады Газы означает возможность доставки туда ракет среднего радиуса действия типа «Зильзаль», способных поразить не только ядерный реактор в Димоне и американский радар в Негеве, контролирующий воздушное пространство Ирана, но и Тель-Авив с Иерусалимом. Поддержка ХАМАС со стороны Сирии и Ирана усилится, а Палестинская национальная администрация (ПНА) на Западном берегу ослабеет. Все это резко повышает вероятность терактов против Израиля и военных действий последнего не только в отношении Ирана, к чему Иерусалим готовился на протяжении ряда лет, но и по всей линии границ, включая Газу и Западный берег.
Военные действия против Ливана и Сирии возможны в случае активизации на северной границе «Хезболлы». Война с Египтом вероятна, лишь если исламисты придут к власти и разорвут мирный договор с Израилем. В зависимости от того, прекратят ли США поставки вооружения и запчастей Египту, возможны любые сценарии боевых действий, включая, в случае катастрофичного для Израиля развития событий, удар по Асуанской плотине. При этом ситуация в Египте резко обострится через 3–5 лет, когда правительство Южного Судана, независимость которого обеспечил проведенный в январе 2011 г. референдум, перекроет верховья Нила, построив гидроузлы. Ввод их в действие снизит сток в Северный Судан и Египет, поставив последний на грань экологической катастрофы, усиленной катастрофой демографической. Физическое выживание населения Египта не гарантировано при превышении предельно допустимой численности жителей, составляющей 86 миллионов человек (в настоящий момент в Египте живет 80,5 миллионов).
Конфликт Израиля с арабским миром может быть спровоцирован кризисом в ПНА. Палестинское государство не состоялось. Улучшения в экономике Западного берега связаны с деятельностью премьер-министра Саляма Файяда, находящегося в глубоком конфликте с президентом Абу Мазеном. Попытка свержения президента бывшим главным силовиком ФАТХа в Газе Мухаммедом Дахланом привела к высылке последнего в Иорданию. Главный переговорщик ПНА Саиб Эрикат обвинен в коррупции. Абу Мазен полностью изолирован в палестинской элите. Агрессивные антиизраильские действия руководства ПНА на международной арене контрастируют с его полной зависимостью от Израиля в экономике и в сфере безопасности. Население Западного берега зависит от возможности получения работы в Израиле или в израильских поселениях Иудеи и Самарии. Без поддержки со стороны израильских силовых ведомств падение режима в Рамалле – вопрос нескольких месяцев.
Иран и другие
Последствия этого для Иордании могут быть самыми тяжелыми. Пока король Абдалла II сдерживает палестинских подданных, опираясь на черкесов, чеченцев и бедуинов. Смена премьер-министра и ряд других мер политического и экономического характера позволяют ему избежать сценария, реализованного его отцом в «черном сентябре» 1970 года (подавление палестинского восстания). Ситуацию в Иордании дополнительно отягощает фактор иракских беженцев (до 700 тысяч человек), а также финансовые и земельные аферы, в которых обвиняются палестинские родственники королевы Рании. В отличие от времен короля Хусейна, Иордании не грозит опасность со стороны Сирии и Саудовской Аравии, однако страна остается мишенью для радикальных суннитских исламистов. Следует отметить сдвиг в отношениях между Иорданией и Ираном.
Последний, наряду с Турцией, является ведущим военно-политическим игроком современного исламского мира, успешно соперничающим за влияние с такими его традиционными лидерами, как Египет, Саудовская Аравия и Марокко. Несмотря на экономические санкции, Иран развивает свою ядерную программу и хотя, по оценке экс-директора «Моссад» Меира Дагана, не сможет изготовить ядерную бомбу до 2015 г., накопил объем расщепляющих материалов, которого хватает для производства пяти зарядов, а к 2020 г., возможно, будет готов к ограниченной ядерной войне. При этом непосредственную опасность Исламская Республика Иран (ИРИ) представляет исключительно для своих соседей по Персидскому заливу и Израиля, который официальный Тегеран последовательно обещает уничтожить.
Предположения о возможности нанесения Ираном удара по Европейскому союзу или Соединенным Штатам представляются несостоятельными. Нанесение ракетно-бомбового удара по ядерным объектам ИРИ со стороны Израиля и США маловероятно. Америка может уничтожить промышленный потенциал Ирана, но не имеет людских ресурсов для проведения сухопутной операции, обязательной, чтобы ликвидировать иранскую ядерную программу. Израиль не обладает необходимым военным потенциалом, хотя поразивший иранские ядерные объекты компьютерный вирус не без основания связывают с противостоянием этих двух стран.
Борьба за власть в Иране завершается в пользу генералов Корпуса стражей исламской революции, оттесняющих на периферию аятолл. «Зеленое движение», объединившее ортодоксов и либералов, потерпело поражение. Сохраняя лозунги исламской революции, ИРИ трансформируется в государство, основой идеологии которого во все возрастающей степени становится великодержавный персидский национализм. Тегеран успешно развивает отношения с КНР, странами Африки, Латинской Америки и Восточной Европы, Индией, Пакистаном и Турцией, фактически поделив с последней сферы влияния в Ираке, правительство которого координирует свои действия не только с США, но и с ИРИ. На территории БСВ интересы Ирана простираются от афганского Герата до мавританского Нуакшота (усиление позиций Тегерана в Мавритании спровоцировало разрыв Марокко дипломатических отношений с ним). Было бы наивным полагать, что закрепление ИРИ на мавританском правобережье реки Сенегал вызвано исключительно желанием вытеснить оттуда Израиль, дипломатические отношения с которым правительство Мавритании прекратило, сближаясь с Тегераном. Скорее захолустную Мавританию можно полагать идеальным транзитным пунктом для переброски оружия, а возможно и чего-либо, связанного с иранской ядерной программой, наиболее близким к латиноамериканским партнерам Ирана – Венесуэле и Бразилии.
Тегеран избегает прямых конфликтов с противниками, предпочитая «войны по доверенности», которые ведут его сателлиты. Ирано-израильскими были Вторая ливанская война, операция «Литой свинец» в Газе, да и за конфликтом йеменских хауситских племен с Саудовской Аравией, по мнению ряда аналитиков, стоял Иран. Агрессивная позиция ИРИ в отношении малых монархий Персидского залива подкрепляется наличием в таких странах, как Бахрейн, Катар, в меньшей степени Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Кувейт шиитских общин. Единственным союзником Ирана в арабском мире по-прежнему является Сирия, которая при поддержке «Хезболлы» постепенно возвращает контроль над ситуацией в Ливане и продолжает курировать ХАМАС, политическое руководство которого дислоцировано в Дамаске. С учетом наложенных на Иран санкций, перспективы его газового экспорта в Евросоюз зависят от кооперации с Турцией, которая будет использовать эту ситуацию в своих интересах, пока они не войдут в противоречие с интересами ИРИ (что в перспективе, несомненно, произойдет).
Турецкое руководство, взяв курс на построение «новой Османской империи», опередило события, приступив к постепенной исламизации политической и общественной жизни в стране. Оттесняя армию от власти под лозунгами демократии и борьбы с коррупцией, правящая партия провела необходимые конституционные изменения парламентским путем, подавив в зародыше очередной военный путч. Экономические успехи Турции позволяют ей действовать без оглядки на Европейский союз и Соединенные Штаты. А участие в НАТО в качестве второй по мощи армии этого блока дает свободу маневра, в том числе в иракском Курдистане и в отношениях с Израилем, значительно охладившихся после инцидента с «Флотилией свободы». При этом страна расколота по национальному признаку (курдский вопрос по-прежнему актуален), светская оппозиция правящей Партии справедливости и развития сильна, а в руководстве армии продолжается брожение. Однако, какие бы факторы (или их сочетание) ни спровоцировали антиправительственные волнения, триумвират премьера, президента и министра иностранных дел сохраняет достаточный ресурс для реализации планов экономической и дипломатической экспансии в Африке, исламском мире и Восточной Европе. Турция с большим основанием, чем Иран, претендует на статус региональной сверхдержавы, имея для этого необходимый потенциал, не отягощенный, в отличие от ИРИ, внешними конфликтами.
Сирийская стабильность опирается на сотрудничество с Турцией и Ираном, при улучшении отношений с США и странами ЕС. Правящая алавитская военная элита во главе с Башаром Асадом балансирует между арабами-суннитами и арабами-христианами, подавляя курдов и используя деловую активность армян. Однако в случае резкого усиления египетских «Братьев-мусульман» в Сирии не исключены волнения, наподобие подавленных большой кровью Хафезом Асадом в 1982 г., которые способны ослабить или обрушить режим. Последний усилил свои позиции в Ливане, но обстановку в самой Сирии осложняет присутствие там иракских (до 1 млн) и в меньшей мере палестинских (до 400 тыс.) беженцев.
Ливан после падения правительства Саада Харири переживает собственный кризис, вызванный противостоянием сирийского и саудовского лобби (последнее, поставив на конфронтацию с Дамаском, проиграло). Не исключено постепенное сползание в гражданскую войну, в качестве ведущей силы в которой будет выступать «Хезболла» шейха Насраллы. Роль детонатора конфликта могут, как и в 1975–1978 гг., сыграть заключенные в лагеря палестинские беженцы (более 400 тыс.).
На Аравийском полуострове катастрофическая ситуация сложилась в Йемене, почти неизбежный распад которого после отстранения от власти президента Али Абдаллы Салеха, правящего в Сане с 1978 г. и контролирующего Южный Йемен с 1990 г., может спровоцировать необратимые процессы в Саудовской Аравии. На территории Йемена столкнулись интересы Ирана и США, Катара и Саудовской Аравии. Эта страна – не только родина многих бойцов «всемирного джихада» (корни Усамы бен Ладена – в Йемене), но настоящий «котел с неприятностями». Конфликт между президентом и племенами, категорически отвергшими попытку передать власть по наследству, напоминает схожую проблему в Египте. Однако противостояние южан-шафиитов и северян-зейдитов, усиленное недовольством отстраненной от власти и обделенной благами бывшей военной элиты юга – местная специфика.
Йемен – первая страна БСВ, которая способна развязать с соседней Саудовской Аравией «водную войну». В ближайшее время Сана рискует стать первой столицей мира с нулевым водным балансом, тем более что ряд исторических йеменских провинций был аннексирован саудовцами в начале ХХ века. Дополнительным фактором риска является нищета поголовно вооруженного населения, которое находится под постоянным воздействием местного наркотика «кат». Не стоит гадать, смогут ли 25,7 млн саудовцев, большая часть которых в жизни не брала в руки оружия, противостоять 23,5 млн йеменцев, большинство которых на протяжении всей жизни оружия из рук не выпускало. Способность саудовской элиты, правящая верхушка которой по возрасту напоминает советское Политбюро 1980-х гг., контролировать ситуацию иначе, чем через подкуп воинственных племен на южных границах и радикалов из «заблудшей секты» внутри страны, сомнительна. С учетом значения пролива Баб-эль-Мандеб воздействие потенциального конфликта между Йеменом и Королевством Саудовская Аравия или гражданской войны в Йемене на мировой рынок энергоносителей сравнимо с перекрытием Суэцкого канала. В отсутствие на президентском посту человека, способного сменить генерала Салеха, а такого человека в Йемене, в отличие от Египта, нет, страна рискует стать такой же пиратской территорией, как Сомали, тем более что сотни тысяч сомалийских беженцев и так уже живут на его территории.
Какие последствия обрушение правящего режима в Йемене вызовет в ибадитском Омане, где правящий страной с 1970 г. султан Кабус бен Саид не имеет наследников, и малых монархиях Персидского залива, предсказать трудно. Балансируя между Соединенными Штатами (военные базы в Кувейте, Катаре и на Бахрейне), Великобританией (присутствие в Омане) и Францией (анонсировавшей строительство военной базы в ОАЭ), с одной стороны, Ираном (конфликт с ОАЭ и Бахрейном), с другой, и Саудовской Аравией – с третьей, все эти страны на случай возможной войны наладили неофициальные отношения с Израилем. Израильские опреснительные установки, агрокомплексы и системы обеспечения безопасности стратегических объектов, без указания страны-производителя или с указанием зарубежных филиалов израильских фирм – столь же обычное явление на южном берегу залива, как иранские суда в местных портах, иранские счета в банках и иранцы в деловых центрах. Оман пребывает в самоизоляции, усиленной раскрытием исламистского заговора, в организации которого Маскат обвинил ОАЭ.
Кувейт не оправился от последствий иракской оккупации 1990–1991 годов. Влияние Бахрейна ограничено нелояльностью шиитского большинства населения суннитской династии. Экономический кризис ослабил ОАЭ, особенно Дубай, обрушив «пирамиду недвижимости», на которой в последние годы было основано его благополучие. Свое политическое влияние укрепляет лишь умеренно ваххабитский Катар, обладатель третьего в мире газового запаса. В качестве медиатора региональных конфликтов он успешно соперничает с такими гигантами арабского мира, как Египет и Саудовская Аравия. Главное оружие катарского эмира в борьбе за доминирование на межарабской политической арене – «Аль-Джазира», эффективность которой доказывает ее запрет в Египте, где телеканал в немалой мере способствовал «раскачиванию лодки». Но этот инструмент может оказаться бесполезным в случае перенесения беспорядков на территорию самого Катара. При этом главным фактором нестабильности в монархиях Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, могут стать иностранные рабочие, в ряде стран многократно превосходящие их граждан по численности.
Еще одним дестабилизирующим фактором для полуострова является его близость к Африканскому Рогу, на побережье которого сосредоточены самые бедные, охваченные междоусобицей и полные беженцев страны: Эритрея, Джибути и пиратское Сомали, распавшееся на анклавы, крупнейшими из которых являются Пунталенд и Сомалиленд. Исламисты из движения «Аш-Шабаб» и других радикальных группировок – единственная сила, способная объединить эту страну, подчинив или уничтожив полевых командиров, подобно тому как талибы в свое время проделали это в Афганистане. Пугающая перспектива, особенно на фоне полнейшего банкротства мирового сообщества в борьбе с пиратами, бесчинствующими на все более широкой акватории Индийского океана. Не стоит забывать и о проблеме границ, обширный передел которых неизбежен после бескровного распада Судана. Север Судана в ближайшей исторической перспективе может объединиться с Египтом, особенно в случае исламизации последнего. Не случайно лидер суданских исламистов Хасан ат-Тураби опять арестован властями.
Волнения в Тунисе и Египте грозят самым прискорбным образом сказаться на ситуации в Алжире, вялотекущая гражданская война в котором идет с 1992 года. Президент Абдулазиз Бутефлика стар, конфликт арабов с берберами так же актуален, как и десятилетия назад, а исламисты никуда не делись. Под угрозой стабильность в Марокко, на территории которого еврейские и христианские святыни являются для «Аль-Каиды» Магриба столь же легитимными объектами атаки, как и иностранные туристы. Мавритания, где число рабов, по некоторым оценкам, достигает 800 тыс., находится в полосе военных путчей и восприимчива к любым революционным призывам.
Не стоит забывать и о том, что экспрессивный Муамар Каддафи в Ливии правит с 1969 г. и легко может стать жертвой «египетского синдрома». Тем более что собственных сыновей в руководство страны он продвигает не менее настойчиво, чем Мубарак и Салех, а поддержкой на Западе и в арабском мире пользуется куда меньшей.
Единственным, хотя и слабым утешением в сложившейся ситуации может служить то, что региональное потрясение основ ничем не угрожает Ираку, Афганистану или Пакистану. Первые два давно уже не столько государства, сколько территории. Последнему же, с исламистами в Северо-Западной провинции и Пенджабе, пуштунскими талибами в зоне племен, сепаратистами Белуджистана и Синда и противостоянием правительства, армии и судебной власти, для развала достаточно и одного Афганистана. После чего его внушительные ядерные арсеналы пойдут на «свободный рынок», а мировое сообщество получит куда более значимый повод для беспокойства, чем судьба палестинского государства или правителя отдельно взятой арабской страны, даже если эта страна – Египет.
Констатируем напоследок, что падающее влияние на БСВ великих держав создает вакуум, часть которого в Афганистане заполнит Дели. На всей прочей территории, включая и Афганистан, усилится влияние Пекина. Как следствие, состав игроков и распределение сил на Ближнем и Среднем Востоке в XXI веке будет более напоминать XVII, чем ХХ столетие. Что соответствует теории циклического развития истории, хотя и несколько обидно, если рассматривать это через призму интересов Парижа, Лондона, Брюсселя или Вашингтона.
Е.Я. Сатановский – президент Института Ближнего Востока.
Политбюро правящего на юге Суданского народно-освободительного движения (СНОД) во главе с его лидером Сальва Киром утвердило в качестве названия нового государства, которое должно появиться на карте страны в июле, название «Южный Судан».
«Политбюро выбрало для нового государства название Южный Судан и будет продвигать это решение в парламенте», – сообщил в понедельник журналистам генеральный секретарь СНОД Паган Амум.
Заместитель генсека движения Ясир Арман считает, что такое название для будущей страны оставляет надежду на объединение с Севером на новой основе или создание конфедерации между двумя странами.
Кроме того, СНОД приняло решение, что его крыло, действовавшее на Севере, перестает существовать, а вместо него появится новая независимая партия.
Решение об отделении Южного Судана от Севера было принято во время референдума, который прошел в янв. Более 98% участников плебисцита высказались за создание независимого государства на своей территории.
Название нового государства, которое появится на Юге после завершения переходного периода 9 июля, еще не выбрано. В числе рассматриваемых вариантов есть предложение назвать страну «Экватория». Юлия Троицкая
Спецпосланник США по суданскому урегулированию Скотт Грэйшн будет назначен послом в Кении, сообщила пресс-служба Белого дома. «Президент Барак Обама намерен назначить. Скотта Грейшна послом США в Республике Кения. Кандидатуру посланника Обама внес на утверждение в сенат в четверг», – говорится в сообщении пресс-службы.
Должность спецпосланника по Судану генерал-майор ВВС Грейшн занял 18 марта 2009г. До этого он работал в Белом доме помощником президента по персоналу. С 1974 по 2006г. служил в военно-воздушных силах США. В начале службы был пилотом-инструктором на истребителях F-5 и F-16, участвовал в миссии в рамках сотрудничества ВВС США и Кении. Грэйшн говорит на суахили, имеет степень магистра в сфере исследований проблем безопасности. Денис Ворошилов
Север и Юг Судана способны установить добрососедские уважительные отношения после образования независимого государства в Южном Судане, заявил журналистам генеральный секретарь основной силы – Суданского народно-освободительного движения (СНОД) Паган Амум.
В понедельник председатель комиссии по проведению референдума по самоопределению Юга Судана, который проходил с 9 по 15 янв., сообщил, что подведены окончательные итоги голосования, согласно которым 98,83% участников высказались за отделение от Севера.
«Это действительно исторический день, поскольку объявлены результаты народного волеизъявления. Жители Юга проголосовали за отделение от Севера, и все политические силы уважают этот выбор», – отметил Амум.
По его мнению, власти на Юге и Севере страны должны использовать время до окончания переходного периода в июле этого года для выполнения оставшихся нереализованными положений Всеобъемлющего мирного соглашения, которое было заключено в 2005г. после гражданской войны. Одним из пунктов этого соглашения было проведение референдума по самоопределению Юга.
«Мы сосредоточим усилия на поиске компромисса относительно еще нерешенных вопросов, в т.ч. о принадлежности пограничного района Абьей, чтобы начать наши отношения с Севером в качестве двух самостоятельных государств без взаимных претензий на основе добрососедства и сотрудничества», – добавил генсек СНОД.
В то же время он отметил, что решение проблемы Абьей власти Юга видят в присоединении района к своей территории с соблюдением прав кочевого племени миссерия на перегон скота через Абьей.
Однако правительство на Севере Судана решительно выступает против включения богатого нефтяными запасами Абьей в состав Южного Судана, а также против попыток правительства Юга в одностороннем порядке решить вопрос о его принадлежности.
Референдум о статусе Абьей планировалось провести одновременно с всенародным голосованием о судьбе Южного Судана, но из-за разногласий между партнерами по мирному соглашению он был отложен на неопределенное время. Юлия Троицкая
США признают Южный Судан самостоятельным государством в июле 2011г., говорится в заявлении президента США Барака Обамы. «От лица народа США я поздравляю народ Южного Судана с успешным и вдохновляющим референдумом, в котором подавляющее большинство избирателей предпочли независимость. В связи с этим я рад объявить о намерении Соединенных Штатов официально признать Южный Судан самостоятельным, независимым государством в июле 2011г.», – говорится в заявлении американского лидера.
Более 98% участников недавнего референдума по самоопределению Южного Судана проголосовали за то, чтобы регион стал независимым государством. Официальное провозглашение нового, 53 по счету государства Африки, состоится 9 июля 2011г. после окончания переходного периода. В 2005г. после 20-летней гражданской войны в Судане правительственные силы, представляющие Север, подписали Всеобъемлющее мирное соглашение с повстанцами Юга. По его условиям, вопрос о самоопределении богатого нефтью Южного Судана должен был решиться в ходе референдума.
По словам президента США, референдум стал очередным шагом на длительном пути Африки к справедливости и демократии.
«Теперь все стороны несут ответственность за то, чтобы этот исторический многообещающий момент положил начало стабильному движению вперед. Всеобъемлющее мирное соглашение должно осуществляться в полной мере, а все споры должны решаться мирным путем», – заявил Обама.
Он также подчеркнул необходимость окончания конфликта в суданском Дарфуре. «США продолжат поддерживать чаяния всех суданцев – живущих на юге и севере, востоке и западе. Мы будем работать вместе с правительством Судана и Южного Судана для того, чтобы обеспечить плавный и мирный переход к независимости. Для тех, кто следует всем своим обязательствам, открывается путь к большему процветанию и нормальным отношениям с США, в т.ч. к рассмотрению возможности исключения Судана из списка государств, поддерживающих терроризм», – сказал Обама. Мария Табак
Комиссия по проведению референдума по самоопределению Южного Судана объявит окончательные официальные результаты голосования в понедельник, 7 фев., сообщили в воскресенье местные СМИ.
Оглашение итогов плебисцита, который проходил по всей стране и в ряде зарубежных государств с 9 по 15 янв., пройдет в торжественной обстановке в зале Дружбы в Хартуме. На этой церемонии будут присутствовать президент Судана Омар аль-Башир, глава правительства Южного Судана Сальва Киир, а также министры, депутаты парламента, дипломаты. Ожидается, что аль-Башир и Киир заявят о своем признании итогов референдума.
По всей вероятности, окончательные итоги голосования мало чем будут отличаться от предварительных результатов, согласно которым 98,83% участников референдума высказались за отделение Юга и только 1,17% из них поддержали единство страны.
Как сообщил газете «Ас-Сахафа» официальный представитель правительства Юга Барнаба Марьял, власти Южного Судана уже создали рабочую группу под руководством замглавы правительства Рика Машара для подготовки официального празднования по случаю образования нового государства на его территории, которое пройдет на Юге 9 июля.
По словам Марьяла, приглашения для участия в церемонии провозглашения нового государства будут разосланы в разные страны, в первую очередь, участникам Межправительственной организации по развитию Восточной Африки (ИГАД) и тем, кто был задействован в подготовке Всеобъемлющего мирного соглашения, одним из условий которого и было проведение референдума по самоопределению Южного Судана.
В 2005г. после 20-летней гражданской войны в Судане правительственные силы, представляющие Север страны, подписали Всеобъемлющее мирное соглашение с повстанцами Юга. Согласно его условиям, вопрос о самоопределении богатого нефтью Южного Судана должен был решиться в ходе плебисцита. Юлия Троицкая
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун положительно оценивает итоги проведения референдума о независимости и создании нового государства на территории Южного Судана. «В целом референдум прошел мирно и достойно», – сказал Пан Ги Мун, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.
По его словам, теперь местным властям и международному сообществу необходимо решить много проблем, связанных с новым статусом территории, демаркацией границ, безопасностью. «Надо помочь новому государству с созданием инфраструктуры», – отметил генсек ООН.
В 2005г. после 20-летней гражданской войны в Судане правительственные силы, представляющие Север страны, подписали Всеобъемлющее мирное соглашение с повстанцами Юга. Согласно его условиям, вопрос о самоопределении богатого нефтью Южного Судана должен решиться в ходе плебисцита, проведенного в янв. 2011г.
Референдум о самоопределении Южного Судана прошел с 9 по 15 янв. Почти все участники голосования в десяти южных штатах, по предварительным данным, высказались за отделение Юга страны.
Видно, суданские власти не боятся, что их страну по примеру Туниса и Египта охватит «революция», несмотря на все призывы оппозиции к народу выходить на улицу. Иначе вряд ли бы суданский президент Омар аль-Башир рискнул покинуть страну и уехать в Эфиопию на двухдневный саммит Афросоюза именно в тот день, на который были намечены массовые демонстрации в Хартуме.
Почему же все-таки аль-Башир не боится повторения тунисского, а теперь уже и египетского сценария развития событий? Так уверен в мощи и надежности армии и полиции, в народной поддержке?
Конечно, силы безопасности дремать не стали и быстро разогнали те несколько сотен студентов, которые вышли требовать отмены повышения цен на бензин и продукты питания в день участия президента в саммите Афросоюза. Кстати, никаких антиправительственных лозунгов демонстранты не выкрикивали.
И, похоже, разогнали студентов для их же блага, потому что когда толпа молодежи двинулась в центр Хартума, к ним стали присоединяться люди совсем с другим настроем. Эти наоборот кричали лозунги в поддержку действующего президента.
То есть, смешались два потока – антиправительственный и проправительственный. И сторонников президента было ничуть не меньше, чем его противников. Вмешательство полиции предотвратило возможные драки между теми и другими.
Разумеется, оказавшись вблизи «революций», суданская полиция бдит, но, как можно видеть на примере Египта, даже пули не останавливают людей, если они доведены до отчаяния.
У суданского президента много противников, но немало и тех, кто его поддерживает, несмотря на то, что совсем недавно президент наотрез отказался снижать цены на бензин и основные продукты питания, которые в Судане очень высоки, а с начала года стали еще на 40% выше. Сказал как отрезал: цены снижать не будем, но будем увеличивать зарплаты в госсекторе и оказывать персональную помощь тем, кто бедно живет.
Однако при всем этом суданцев не переполняют такой силы гнев и недовольство против президента и правительства, как египтян, которые открыто говорят, что ненавидят своего президента и называют его «убийцей».
Впрочем, судьба аль-Башира в чем-то схожа с жизненным путем его египетского коллеги. Он, конечно, значительно младше Мубарака, которому 82г.
Аль-Баширу 67 лет, но он тоже военный. В 1966г. окончил военный колледж около Северного Хартума и получил звание лейтенанта. Военную службу проходил в основном в воздушно-десантных войсках. Прошел подготовку инструкторов воздушно-десантных войск в Академии имени Насера в Египте, в составе суданского контингента участвовал в Октябрьской войне 1973г. на суэцком фронте.
Во власти аль-Башир тоже не новичок, он правит Суданом почти столько же, сколько бежавший президент Туниса – 22г. К власти пришел в результате государственного переворота в июне 1989г., когда, будучи бригадным генералом, возглавил группу старших офицеров и отстранил от власти гражданское правительство Садыка Махди.
Западные страны и мировые СМИ давно приклеили к аль-Баширу ярлык «диктатора» – в отличие от Мубарака и Зина аль-Абидина.
Но почему тогда в Судане, где люди живут значительно беднее Туниса (как говорит один мой знакомый тунисец, лучшая улица Хартума выглядит как худшая улица Туниса) и хуже, чем египтяне (при сходных заработках цены в Судане намного выше египетских), народ все-таки не проявляет явного стремления свергать своего «диктатора»? Это выглядит еще более странно, если учесть, что на последних выборах в апр. пред.г. «диктатор» аль-Башир набрал всего 69% голосов, чтобы стать президентом. В то время как Мубарака на выборах в 2005г. поддержали более 88% египтян, а уж бен Али в 2009г. – вообще более 89%.
Но главное отличие упомянутых стран – наличие в Судане большей политической свободы. «У нас хотят – президента ругают, хотят – правительство, хотят – правящую партию, проблем нет», – совершенно спокойно сказал мне один правительственный чиновник. В Судане и рядовые граждане, и журналисты, и политики позволяют себе высказываться очень откровенно и против правительства, и против президента.
И когда недавно оппозиционная партия Умма выдвинула ультимативные требования к правительству, грозя вывести на улицы людей, президент сам поспешил приехать к лидеру партии, чтобы обсудить с ним их условия и заверить, что требования оппозиции услышаны и рассматриваются.
Еще один момент: то, что аль-Башир – диктатор, не говорил только ленивый, а закручивание гаек в Египте и Тунисе проходило мимо внимания мирового сообщества. Явную антипатию своих народов правители Египта и Туниса заслужили, вероятно, тем, за что их так восхваляли и продолжают хвалить в других странах. Это так называемая «прозападность», «светскость», «демократичность», хотя где у этих двоих углядели последнее, остается непонятным.
В отличие от Мубарака и Зина аль-Абидина, суданский президент никогда не выказывал себя политиком, склонным к тесной дружбе с Западом, или светским правителем. Он никогда не стремился построить из Судана даже подобия светского государства, что так нравилось в Египте и Тунисе внешним наблюдателям, но, видимо, не очень-то приходилось по вкусу людям, которые там живут.
Он всегда строго придерживался исламских традиций и не перестает откровенно заявлять, что альтернативе существованию в Судане государства, простроенного на принципах шариата, нет.
Это только живущему по своим правилам западному миру кажется, что бедные восточные общества спят и видят, как бы им освободиться от тисков религии, и думают, что религия – это страшная обуза. На самом деле, наказание для глубоко религиозных людей, которых в арабском обществе больше, чем в каком-либо другом, – это жить в светском или полусветском государстве.
Предложи в том же Судане сделать общество светским, отделить религию от государства, чтобы женщины перестали покрывать волосы и отказались от скрывающего их тело суданского «тоба» в пользу мини-юбок и декольте, а молодежь жила друг с другом, не скрепляя брака в мечетях или церквях, они сами откажутся от этого наотрез.
Потому что это их традиции, история, жизнь многих поколений людей. И даже те, кто временно оказываются вырваны из этой атмосферы, уезжая учиться или работать в страны с другим образом жизни, непременно возвращаются к своим истокам и не хотят жить по-другому, несмотря на навязываемые глобализмом, интернетом и голливудскими фильмами стереотипы.
Складывается впечатление, что Мубарак за время своего правления не заметил, что его страна изменилась, что он один остался таким прозападным и светским, а вокруг уже совсем другие люди. Ведь это только туристам кажется, будто египтяне не слишком религиозны, и им очень нравится западный образ жизни.
За время правления Мубарака подавляющее число женщин сменило европейский стиль одежды на скрывающие фигуры абайи и платки, в стране стали чрезвычайно популярны религиозные курсы. При этом большинство людей сами проявляют настойчивое желание изучать свою религию и жить по религии.
В отличие от Египта, в Судане нет сильной религиозной оппозиции, которая встречает серьезную поддержку у людей не только из-за духовной составляющей их идеологии. Исламские партии и их фонды в арабских странах – это те, кто помогают людям в нужде, когда о них забывают власти. Как, впрочем, и церкви.
В Судане само государство стоит на таких позициях, и, что бы там ни говорили наблюдатели со стороны, которым это может нравиться или нет, но сами граждане этой страны в большинстве своем поддерживают такую политику.
Да, в Судане у людей меньше личной свободы, чем в Египте или в Тунисе. Здесь спиртное не продают даже в гостиницах. Нет баров, ночных клубов и дискотек. Все вечеринки, включая свадебные торжества, если отмечаются вне дома, заканчиваются не позднее полночи, а в основном – в 11 часов вечера. Но зато большинство людей читает прессу – не потому, что там новости из жизни «звезд», а потому, что могут найти там разные мнения по поводу ситуации в своей стране.Именно поэтому суданский президент позволяет себе покидать страну, казалось бы, в самый неподходящий для этого момент. Юлия Троицкая
Система государственного устройства Судана не изменится до окончания переходного периода в июле 2011г., невзирая на итоги референдума в пользу отделения Юга страны, заявил в понедельник на пресс-конференции вице-президент Судана Али Осман Мухаммед Таха.
«До 9 июля в стране продолжит действовать конституция переходного периода, и все госструктуры будут работать по-прежнему», – отметил Таха, комментируя появившуюся информацию о том, что сразу после объявления окончательных итогов референдума о независимости Южного Судана в середине фев. в стране начнется масштабная административная реформа.
Таха уточнил, что вначале страну ждет выработка новой конституции. В дальнейшем, подчеркнул он, «речь не идет о проведении новых выборов или роспуске существующих госинститутов, которые были созданы не на переходный период, а действуют на постоянной основе».
Говоря о предложении президента сформировать правительство на «широкой платформе», вице-глава государства уточнил, что в наст.вр. ведутся переговоры с оппозицией о механизме работы такого кабинета министров.
Он отметил, что в предстоящий период шансы «принять участие в строительстве нового Судана» возрастут для всех граждан государства, в т.ч. для тех, кто не состоит в каких-либо партиях. «Участие в государственной системе, в т.ч. в правительстве, различных сил расширится», – добавил вице-президент.
С 9 по 15 янв. в Судане прошел референдум о самоопределении Южного Судана почти все участники которого в десяти южных штатах, согласно предварительным официальным результатам, проголосовали за отделение Юга страны. Юлия Троицкая
Обстановка во всех провинциях Судана спокойная и не вызывает опасений после прошедших накануне в Хартуме демонстраций, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-офисе суданской полиции.
Собеседник агентства подтвердил, что накануне «полиция задержала группу студентов и других граждан, которые пытались устроить беспорядки во время демонстрации, в т.ч. хотели поджечь машину скорой помощи».
Всего, по данным источника, в полицейских участках оказались 40 студентов и 30 граждан, которых отпустили через час после проведения беседы.
В полиции не смогли подтвердить информацию о том, что один из студентов скончался прошлой ночью в больнице в результате побоев, полученных от полицейских во время демонстрации возле университета «Аль-Ахлия» в пригороде Омдурман.
Накануне несколько сот молодых людей, в основном студенты и выпускники вузов, приняли участие в акции протеста против безработицы и повышения цен в Хартуме и Омдурмане. Однако полиция не дала им возможности устроить шествие по городу и разогнала участников демонстрации, используя дубинки.
В наст.вр. возле университетов Хартума и Омдурмана дежурят усиленные наряды полиции.
В понедельник на пресс-конференции вице-президент Судана Али Осман Мухаммед Таха заявил, что у государства нет будущего, если оно выступает против свободы граждан. Однако он отказался назвать действия суданской полиции против демонстрантов «ущемлениями свободы».
«Мы за свободу, но она не должна приводить к анархии, беспорядкам, угрожать безопасности и целостности имущества граждан», – сказал Таха.
Правящая в стране партия Национальный конгресс обвинила оппозицию в организации акций протеста. По словам представителя руководства партии, министра информации Судана Кемаля Обейда, некоторые политические силы стараются таким образом решить свои внутренние проблемы. Юлия Троицкая
Катар, ОАЭ и Кувейт лидируют среди арабских стран по состоянию здоровья и продолжительности жизни населения, сообщает в понедельник газета «Emirates business 24/7» со ссылкой на опубликованный в Каире социально-экономический отчет Лиги арабских государств о состоянии здоровья арабов по итогам 2008г.
Газета констатирует лидерство Катара среди более 20 арабских стран. Продолжительность жизни в этом эмирате, одной из самых богатых стран региона, составляет 78 лет.
Занимающий второе место Кувейт незначительно уступает лидеру по этой медико-демографической характеристике, обеспечив своим гражданам среднюю продолжительность жизни, достигающую 77,4г. Жители Эмиратов живут в среднем на полгода меньше.
Средняя продолжительность жизни в занимающем четвертое место Бахрейне равна 74.8г.
Саудовская Аравия не вошла в первую пятерку по этому показателю, составляющему в королевстве 73,4г., и пропустила вперед Тунис, жители которого в среднем живут на целый год больше.
Всемирная организация здравоохранения ставит своей задачей повышение величины продолжительности жизни до 75 лет на каждой определенной территории.
В то время как нефтедобывающие арабские страны Персидского залива достигли этой цели или близки к ее достижению, для ряда арабских госудрств повышение продолжительности жизни до 75 лет является задачей недостижимой в течение ближайших десятилетий. В Джибути, являющейся одной из беднейших арабских стран, продолжительность жизни населения едва превышает 43г. В Сомали она составляет 47 лет, а в Судане не превышает 60 лет. Остальные арабские страны более благополучны демографически, но даже 65-летний рубеж остается для них далекой целью. Виктор Лебедев
Глава правительства Южного Судана Сальва Киир назвал объявленные в воскресенье первые официальные предварительные итоги референдума о независимости Юга страны «приемлемыми». Голосование по вопросу об отделении Юга Судана от Севера проходило по всей стране и за рубежом с 9 по 15 янв.
Как сообщил на пресс-конференции председатель комиссии по проведению референдума Мухаммед Ибрагим Халиль, более 99% участников референдума по вопросу самоопределения Южного Судана, голосовавших на Юге страны, высказались за его отделение, на Севере и в других странах за независимость Южного Судана отдали голоса 77%.
Выступая с речью после оглашения результатов плебисцита, Киир обратил внимание, что специально будет говорить по-арабски, который является официальным языком пока еще единой страны.
Он призвал президента страны Омара аль-Башира «действовать ради мира и принять итоги референдума». «В предстоящий период Южный Судан столкнется со многими вызовами, поскольку он станет новым государством, поэтому мы все должны объединиться, проявить ответственность и предоставить защиту проживающим здесь северянам и иностранцам», – сказал глава Юга.
Окончательные результаты всенародного голосования будут обнародованы к середине фев. В 2005г. после 20-летней гражданской войны в Судане правительственные силы, представляющие Север страны, подписали Всеобъемлющее мирное соглашение с повстанцами Юга. Согласно его условиям, вопрос о самоопределении богатого нефтью Южного Судана должен решиться в ходе плебисцита, который стартовал 9 янв. 2011г. Юлия Троицкая
Госкорпорация «Роснано» и группа компаний «Новомет» согласовали основные условия инвестиционного соглашения, подписание которого намечено на первый квартал 2011г., тогда же стартует совместный проект по расширению производства высокоэффективного нефтедобывающего оборудования, сообщили в понедельник РИА Новости представители «Роснано» и «Новомета». Общий бюджет проекта составит 18,5 млрд. руб.
«В рамках проекта, рассчитанного на пять лет, будут вестись работы по трем направлениям: реконструкция и модернизация производства, инновационное направление, сервисное направление, связанное с приобретением и строительством сервисных баз», – сказал управляющий директор «Роснано» Александр Кондрашов.
«Проект будет реализован на предприятии «Новомета», его запуск состоится в I кв. 2011г.», – сообщил источник в «Новомете».
В наст.вр. «Новомет» эксплуатирует погружное оборудование в Судане, Сирии, Египте, Индонезии и Сербии и участвует в тендерах нефтяных компаний Ирана, Таиланда и других стран. «Совместный проект «Новомета» и «Роснано» ориентирован на переход к новой бизнес-модели – от производства и продажи оборудования к оказанию сервисных услуг», – отметил Кондрашов.
«Одним из основных результатов реализации этого проекта станет усиление присутствия «Новомета» на зарубежных рынках нефтепромыслового оборудования», – подчеркнул Кондрашов. По его словам, на ближайшие годы запланировано строительство нескольких сервисных баз.
Группа компаний «Новомет» – один из российских и мировых лидеров по производству нефтепогружного оборудования, ориентированного на работу в осложненных условиях и имеющего высокий уровень надежности. В структуру компании входят ЗАО «Новомет-Пермь» (производство и продажа нефтепогружного оборудования), ООО «Новомет-Сервис» (услуги по сервисному, гарантийному обслуживанию и прокату нефтепогружного оборудования) и ОАО «ОКБ БН Коннас» (функции НИОКР по созданию и усовершенствованию погружных установок).
Российская государственная корпорация нанотехнологий «Роснано» основана в 2007г. для реализации государственной политики в сфере нанотехнологий.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


























