Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
Депутаты из Франции, Великобритании и Греции чаще своих коллег в Европарламенте голосовали против ассоциации Украины с ЕС. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте организации независимых наблюдателей VoteWatch Europe.
Ратификацию соглашения об ассоциации с Украиной не поддержали более трети французских парламентариев (27 из 74), треть британцев (22 из 73) и более половины греческих депутатов (12 из 21). Также свои голоса против ассоциации отдали евродепутаты из Германии, Чехии, Испании, Нидерландов, Венгрии, Италии, Польши, Австрии, Бельгии и Португалии.
Странами, единогласно принявшими ратификацию соглашения, стали Болгария, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Литва, Эстония, Финляндия, Мальта и Люксембург.
Верховная рада Украины и Европарламент 16 сентября ратифицировали соглашение об ассоциации Киева с ЕС. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об ассоциации сразу после ратификации документа.
Диаспоры и «Диаспоры»
(Обзор журнала «Диаспоры»)
А. И. Рейтблат
В 1990-х в науке обострился интерес к проблеме диаспоры. Во многом это было связано с ростом числа и значимости различных диаспор — и порожденных трудовой миграцией, как турки в Германии, арабы и негры во Франции, индусы в Великобритании, и возникших по политическим причинам — в ходе распада СССР и Югославии. Рост числа публикаций на эту тему повлек за собой складывание если не научной дисциплины, то, по крайней мере, общего проблемного поля и, соответственно, возникновение специальных научных изданий. В 1991 г. начал выходить англоязычный журнал «Diaspora», а со сравнительно небольшим опозданием (в 1999 г.) и российский — «Диаспоры».
Тогдашний главный редактор издания (ныне — его заместитель) В.И. Дятлов писал в обращении «К читателям», открывавшем первый номер журнала, что «он призван заполнить пробел в комплексном междисциплинарном изучении процесса формирования диаспор, логики их внутреннего развития, сложнейших проблем их взаимоотношений с принимающим обществом. Необходимо также обсуждение самого термина и понятия "диаспоры". Назрела потребность строже определиться в самом предмете изучения, а, следовательно, привести в некую систему уже имеющиеся критерии, подвергнуть их критике, возможно, сформулировать новые» (с. 5). При этом он предупреждал, что «при составлении выпусков журнала предполагается идти путем не узкого априорного очерчивания понятия "диаспоры" с соответствующей селекцией материалов, а путем широкого определения поля исследований, анализа и сопоставления конкретных ситуаций с последующей концептуализацией» (там же).
Издание не связано ни с какой организационной структурой и в подзаголовке позиционируется как «независимый научный журнал». Вначале он выходил два раза в год, с 2002-го — четырежды, но с 2007 г. вернулся к первоначальному графику. Обычно в номере бывает ключевая тема, с которой связана значительная часть входящих в него статей. Как правило, такой темой становится либо народ, диаспора которого рассматривается: евреи (2002. № 4; 2009. № 2; 2011. № 2); армяне (2000. № 1/2; 2004. № 1); татары (2005. № 2); поляки (2005. № 4); корейцы и китайцы (2001. № 2/3); «кавказцы» (2001. № 3; 2008. № 2); русские (2002. № 3; 2003. № 4; 2010. № 1), либо регион, в котором находятся те или иные диаспоры (преимущественно на территории бывшего СССР): Москва (2007. № 3), Юг России (2004. № 4), Сибирь и Дальний Восток (2003. № 2; 2006. № 1), Прибалтика (2011. № 1), Центральная Азия (2012. № 1) и др. Но есть и номера, составленные по проблемному принципу: язык в диаспоре (2003. № 1; 2007. № 1/2), диаспоральная идентичность (2002. № 2; 2009. № 1), гендер и диаспора (2005. № 1), молодежь в диаспоре (2004. № 2), диаспоры в литературе (2008. № 1/2) и др.
Значительная часть статей основывается на эмпирическом материале; многие авторы применяют в работе социологические методы: опросы населения и экспертов, фокус-группы, контент-анализ и т.д.
С первого номера в журнале была введена теоретическая рубрика «Диаспора как исследовательская проблема». В.И. Дятлов в статье «Диаспора: попытка определиться в понятиях» (1999. № 1) указывал, что термин этот употребляется в самых различных значениях и нередко трактуется предельно широко, как синоним «эмиграции» или «национального меньшинства». Попытавшись дать более четкую трактовку данного термина, основное внимание он уделил специфическим чертам диаспоральной ситуации, предполагающей как заботу о сохранении собственной идентичности, так и умение интегрироваться в окружающий жизненный уклад. Он подчеркивал, что для диаспоры «сохранение собственной идентичности становится <...> насущной, повседневной задачей и работой, постоянным фактором рефлексии и жесткого внутриобщинного регулирования. Этому подчинялись все остальные стороны жизни социума» (с. 10—11). Интересным и продуктивным представляется положение, что жители империй, оказавшись в колониях или иных государствах, «не испытывали тревоги по поводу сохранения своей идентичности» и «не смогли образовать устойчивого, развивающегося на собственной основе социума» (с. 12). Например, русские эмигранты в ХХ в. в первом поколении рассматривали себя как беженцев, а во втором и третьем поколениях ассимилировались и «растворились» в окружающем обществе.
Как и Дятлов, другие авторы, статьи которых помещены в этой рубрике, не столько анализируют само ключевое понятие, сколько пытаются определить его, исходя из рассмотрения конкретных случаев и ситуаций. Так, видный американский социолог Р. Брубейкер в статье «"Диаспоры катаклизма" в Центральной и Восточной Европе и их отношения с родинами (на примере Веймарской Германии и постсоветской России)» (2000. № 3) рассматривает аспект, который исследователи диаспор либо игнорируют, либо не считают значимым, — влияние «метрополий» на положение «своих» диаспор (защита их прав и интересов, оказание помощи и т.п.). Взяв два указанных в подзаголовке статьи примера, автор исследует судьбы диаспор в связи с развитием различных типов «постмногонационального» национализма:
1. «национализирующий» национализм, когда титульная нация рассматривается как «владелец» страны, а государство — как призванное служить этой нации (например, в Эстонии, Латвии, Словакии, Хорватии и т.п.);
2. «национализм родины» — когда граждане других стран воспринимаются в качестве этнокультурно родственных, по отношению к которым «родина» считает своей обязанностью защищать их права и интересы. Он «рождается в прямой оппозиции и в динамичном взаимодействии с национализмом национализирующегося государства» (с. 11) (Сербия, Хорватия, Румыния, Россия); 3) национализм диаспор, возникших после распада полиэтнических государств. Они требуют от властей признать их как особую национальную общность и дать им основанные на этом коллективные права. Исследователь показывает, насколько опасным может быть столкновение выделенных им типов национализма.
Ряд авторов рассматривают феномен диаспоры на основе «модельной» диаспоры — еврейской (Милитарев А. О содержании термина «диаспора» (К разработке дефиниции) (1999. № 1); Членов М. Еврейство в системе цивилизаций (постановка вопроса) (там же); Милитарев А. К проблеме уникальности еврейского исторического феномена (2000. № 3); Попков В. «Классические» диаспоры. К вопросу о дефиниции термина (2002. № 1)). Во многом по этому же пути идет американский политолог У. Сафран в статье «Сравнительный анализ диаспор. Размышления о книге Робина Коэна "Мировые диаспоры"» (2004. № 4; 2005. № 1), переведенной из канадского журнала «Diaspora».
О политических аспектах диаспор идет речь в статье израильского ученого Г. Шеффера «Диаспоры в мировой политике» (2003. № 1), а о политических контекстах использования этого слова — в статье В. Тишкова «Увлечение диаспорой (о политических смыслах диаспорального дискурса)» (2003. № 2).
При всей неравноценности работ, помещавшихся в теоретической рубрике (были там, например, и довольно декларативные и схоластичные статьи, например «Диаспоры: этнокультурная идентичность национальных меньшинств (возможные теоретические модели)» М. Аствацатуровой (2003. № 2) и «Диаспора и состояния этнического индивида» М. Фадеичевой (2004. № 2)), она играла в журнале важную роль, создавая теоретическую «рамку» для многочисленных чисто эмпирических статей. Но с 2006 г. эта рубрика в журнале, к сожалению, исчезла.
Один из ключевых сюжетов журнала — диаспоральная идентичность, этой теме посвящена львиная доля статей, особенно касающихся положения российской диаспоры за рубежом и различных диаспор в России.
Представленные в журнале работы показывают всю сложность диаспоральной идентичности, характерным примером является статья К. Мокина «Диаспорная идентичность в динамике: конвергенция и энтропия (изучая армян Саратовской области)» (2006. № 4). Автор рассматривает идентичность как продукт сложного социального взаимодействия, основу которого представляет «процесс идентификации, при котором индивид позиционирует себя по отношению к известным ему людям, определяет свое место в обществе» (с. 152). Исследователи установили, что «территория исхода и миграционные устремления являются существенным фактором размежевания в рамках армянской общины» (с. 159), члены которой в Саратовской области выделяют внутри общины пять групп: «армянские армяне» (из самой Армении, которые всячески подчеркивают свою связь с Арменией и знают язык), «азербайджанские армяне» (из Баку, Нагорного Карабаха и т.д.), идентичность которых не столь определенна, они хорошо владеют русским языком; «среднеазиатские армяне», у которых очень размытое понятие о том, что такое «армянин»; «русские армяне», то есть армяне, уже несколько поколений живущие в России; «трудовые мигранты». Оказалось, что «для диаспоры важным является не проблема выбора альтернативного направления в формировании идентичности и самоопределения, а проблема синтеза выбранных культурных ориентиров и создания особого типа диаспорной идентичности» (с. 163).
Любопытный пример «плавающей идентичности» дает поведение живущих на юге России хемшилов — армян, принявших мусульманство. В зависимости от ситуации они позиционируют себя то как армян, то как турок (см. статью Н. Шахназаряна «Дрейфующая идентичность: Случай хемшилов (хемшинов)» в № 4 за 2004 г.).
Исследования показали, что в разных частях диаспоры или в диаспоре и метрополии основу диаспоральной идентичности лиц, которых принято относить к одной и той же национальности, могут составлять во многом различные факторы. Так, например, в США, по данным социологических исследований, ключевыми для формирования еврейской идентичности являются принадлежность к еврейской общине, иудаизм, поддержка государства Израиль и Холокост (см. статью Е. Носенко «Факторы формирования еврейской идентичности у потомков смешанных браков» (2003. № 3)). В России же ключевым фактором является современный антисемитизм, в число других важных факторов вошли еврейская литература и музыка, праздники и кухня.
При этом опрошенные чаще определяли себя как «русских евреев» или «россиян», что дало основание исследователям говорить об их «двойственной этничности» (Гительман Ц., Червяков В., Шапиро В. Национальное самосознание российских евреев. (2000. № 3; 2001. № 1, 2/3)).
Об условном, чисто конструктивном характере этничности свидетельствуют многочисленные примеры «реэмиграции» представителей ряда проживавших в СССР народов на свои исторические родины. Так, в статье И. Ясинской-Лахти, Т.А. Мяхёнен и др. авторов «Идентичность и интеграция в контексте этнической миграции (на примере ингерманландских финнов)» (2012. № 1) идет речь о финнах, уехавших из России в Финляндию в 2008— 2011 гг. Многие из них являются потомками финнов, переселившихся в Россию несколько веков назад, ассимилировавшимися и забывшими финский язык. Тем не менее они считали себя финнами, видя в себе «финские» черты характера, например честность. Они надеялись успешно интегрироваться в финское общество, не утратив свою культуру и установив контакты с финским окружением. Однако в Финляндии их считали русскими и относились к ним соответственно. В результате произошла «(финская) национальная деидентификация, а также актуализация русской идентификации в связи с этим негативным опытом» (с. 189).
Подобное отторжение — не исключение. Точно такая же судьба, когда «свои» не принимают и называют приехавших «русскими», а приезду сопутствуют не только снижение профессионального статуса, но и культурное отчуждение от новой среды, социальная маргинализация, ждала переехавших из России немцев в Германии, греков в Греции, евреев в Израиле (см.: Менг К., Протасова Е., Энкель А. Русская составляющая идентичности российских немцев в Германии (2010. № 2); Кауринкоски К. Восприятие родины в литературном творчестве бывших советских греков-«репатриантов» (2009. № 1); Рубинчик В. Русскоязычные иммигранты в Израиле 90-х гг.: иллюзии, действительность, протест (2002. № 2); Ременник Л. Между старой и новой родиной. Русская алия 90-х гг. в Израиле (2000. № 3)).
Любопытно, что с аналогичными проблемами столкнулись и русские, приехавшие в Россию после распада СССР, о чем пишут английские исследователи Х. Пилкингтон и М. Флинн («Чужие на родине? Исследование "диаспоральной идентичности" русских вынужденных переселенцев» (2001. № 2/3)): «Переезд оказался для них не идиллическим "возвращением домой", а тяжелым испытанием, связанным с конфронтацией и необходимостью отстаивать свои права» (с. 17). Исследователи в 1994—1999 гг. провели в ряде областей России опросы русскоязычных переселенцев из других стран. Оказалось, что у них нет четко выраженной диаспоральной идентичности. Их отношение к бывшей стране проживания в значительной степени определялось имперским сознанием, трактовкой себя как цивилизаторов. При этом, наряду с невысокой оценкой квалификации и трудолюбия местного населения, они положительно отзывались об атмосфере межнационального общения, о местной культуре и местных традициях. В языке опрошенных отсутствовали «русскость», ощущение общности языка и родины с россиянами, исследователи фиксируют «странную искаженность представлений о том, что "дом там" ("у нас там"), а "они здесь", в России ("они — тут")» (с. 17). Авторы приходят к важному выводу, что «классические модели диаспоры вряд ли приложимы к опыту выживания русскоязычных имперских меньшинств в новых независимых государствах — из-за особенностей заселения ими бывшей союзной периферии и их объективной, но отнюдь не субъективной, "диаспоризации" в постсоветский период» (с. 28). Родина для них разделилась на два воплощения — «дом» (место, где они жили) и «родину» (как воображаемое сообщество).
Другой вывод, который следует из представленных в журнале статей, — это различия в диаспоральном поведении лиц, приехавших в Россию из стран бывшего СССР, и русских, оказавшихся в странах бывшего СССР. Первые налаживают между собой социальные связи, создают механизмы поддержания национальной идентичности. Хороший пример этого дает армянская община в небольшом городе Кольчугино во Владимирской области, имеющая общий денежный фонд, в который вносят деньги все члены общины и на основе которого существуют воскресная школа, газета на армянском языке, оказывается помощь членам общины, испытывающим финансовые трудности, и т.д. (см.: Фирсов Е., Кривушина В. К изучению коммуникационной среды российской армянской диаспоры (по материалам полевых исследований локальных групп Владимирской области) (2004. № 1)).
Иначе ведут себя русские, оказавшиеся в других государствах после распада СССР. Они, как показывает норвежский исследователь Поль Колсто в статье «Укореняющиеся диаспоры: русские в бывших советских республиках» (2001. № 1), так или иначе приспосабливаются к жизни там и не очень склонны (если судить по данным социологических опросов, см. с. 29) считать Россию своей родиной.
Н. Космарская в статье «"Русские диаспоры": политические мифологии и реалии массового сознания» (2002. № 2) отмечает, что во многом «диаспоризация» русских за границами России — это миф, создаваемый СМИ, которые утверждают, что эти люди воспринимают Россию как родину и стремятся вернуться в ее пределы. Русскоязычным сообществам приписываются характеристики «настоящих» диаспор: «1) этническая однородность; 2) обостренное переживание своей этничности, причем именно как общности с материнским народом; 3) высокая степень сплоченности (имеющей к тому же хорошо развитую институциональную основу — в виде "институтов русских общин"), а также управляемости, доверия к лидерам и, наконец, социальной гомогенности, собственно, и делающей возможным подобное единодушие (как в "общине"); 4) ориентация на этническую (историческую) родину в качестве базового элемента идентичности; стремление с ней воссоединиться» (с. 114—115).
В реальности, как пишет Н. Космарская, опираясь на данные социологических исследований в Киргизии, ситуация носит гораздо более неоднозначный и многовариантный характер. Во-первых, там живет немало людей, не являющихся этническими русскими, для которых русский язык и русская культура являются родными; во-вторых, подобные русскоязычные сообщества быстро дифференцируются, в том числе и в отношении к России; в-третьих, самосознание этой группы — «сложная и динамически развивающаяся структура», в которой соперничают разные идентичности, а «русскость» — лишь одна из них; в-четвертых, консолидация их может происходить на разной основе.
Среди русских в Киргизии Россию назвали своей родиной 18,0%, а Киргизию — 57,8%; в Казахстане назвали Казахстан своей родиной 57,7%, а Россию — 18,2%, в Украине назвали ее родиной 42,5% опрошенных русских, а Россию — 18,4% (с. 134).
Существует и другой уровень идентичности — среднеазиатское сообщество, то есть идентичность локальная (например, солидарность с народами этого региона). Русские Киргизии осознают себя несколько отличающимися от русских в России.
И. Савин в статье «Русская идентичность как социальный ресурс в современном Казахстане (по материалам исследования представителей русской элиты)» (2003. № 4) пишет, что у русских в Казахстане «нет родственных или соседских структур взаимопомощи, скрепляемых символическими атрибутами общеразделяемой этничности» (с. 101), «в каждом русском другой русский не видит автоматически потенциального социального партнера» (с. 92). При этом большинство не знает казахского языка, т.е. не собирается ассимилироваться. Таким образом, по мнению исследователя, язык (и отношение государства к языку) — это основа идентичности русских в Казахстане. Аналогичную картину неспособности к сплочению и достижению общих целей у русских Узбекистана рисует Е. Абдуллаев («Русские в Узбекистане 2000-х гг.: идентичность в условиях демодернизации» (2006. № 2)).
В Прибалтике же у русских довольно интенсивно идут процессы ассимиляции, идентификации себя с «коренным населением». Так, Е. Бразаускене и А. Лихачева в статье «Русские в современной Литве: языковые практики и самоидентификация» (2011. № 1) на основе исследования, проведенного в 2007—2009 гг., приходят к выводу, что русские Литвы «ощущают себя непохожими на русских России и полагают, что и в России их не считают своими. 20% русских Литвы не возражают, если их будут считать литовцами, 46% заявили в ходе опроса, что им все равно, как их будут называть — русскими или литовцами, 10% воздержались от определенного ответа и лишь около 14% не согласны на то, чтобы их считали литовцами» (с. 71). В то же время русские Литвы отмечают и свое отличие от литовцев. Основа такой самоидентификации — русский язык.
Любопытную ситуацию рассмотрел М. Рябчук в статье «Кто самая крупная рыба в украинском пруду? Новый взгляд на отношения меньшинства и большинства в постсоветском государстве» (2002. № 2). В отличие от других государств постсоветского пространства в Украине оказалось два многочисленных коренных для этой территории народа. Автор характеризует социокультурное и политическое противостояние двух частей населения — с украинской идентичностью и с русской идентичностью, между которыми находится довольно многочисленная группа «обрусевших украинцев, отличающихся смешанной, размытой идентичностью» (с. 26) и определяющих себя через регион проживания («одесситы», «жители Донбасса» и т.п.). Первые стремятся создать национальное украинское государство с одним государственным языком — украинским, вторые не хотят утрачивать принадлежавшую им в прошлом, а во многом и сейчас позицию культурного доминирования, а промежуточная группа не имеет, по мнению автора, четкой позиции, и за нее борются обе крайние группы. Правительство же не проводит в этом аспекте никакой последовательной политики, что создает очень неустойчивую ситуацию.
Автор не верит, что существующее статус-кво можно сохранить надолго. Он видит два возможных варианта развития событий: либо маргинализация украинцев (т.е. Украина станет «второй Белоруссией»), либо маргинализация русских. Второй вариант он считает предпочтительным, поскольку «"убежденные" украинцы, сумевшие защитить свою языковую идентичность даже под мощным давлением российской и советской империй, никогда не примут маргинальный статус меньшинства в своей стране, в независимой Украине» (с. 27). По данным социологических опросов, на которые ссылается М. Рябчук, лишь 10% русских Украины считают Россию родиной, почти треть этой группы не возражают против того, что их дети (внуки) будут учиться в школе на украинском языке (с. 21), за десять постсоветских лет почти половина русских Украины стала идентифицировать себя с украинцами (с. 22).
Приведенные данные о ситуации русских, оказавшихся после распада СССР за пределами России, когда возникают самые разные варианты диаспоральной идентичности, ярко демонстрируют сложность как научного изучения проблемы диаспоры, так и практической деятельности России по оказанию им помощи и поддержки.
Оценивая проделанную редакцией журнала (и отечественным «диаспороведением»?) работу, следует констатировать, что в ходе ряда исследований были собраны разнообразные эмпирические данные о ситуации проживания одних народов (главным образом бывшего СССР) среди других, о их самосознании и идентификации. Однако обещанная в первом номере журнала «последующая концептуализация» пока не осуществлена. На наш взгляд. это связано с тем, что, охотно используя социологические методы сбора информации, исследователи не практикуют социологическое видение материала. Это выражается в том, что, изучая идентичность диаспор, они обычно игнорируют социальные институты, «отвечающие» за создание и поддержание диаспоральной идентичности. Так, в журнале очень редко встречаются работы, в которых бы исследовалась роль школы, церкви, литературы, кино, средств массовой коммуникации, особенно Интернета, в этом процессе.
Любопытно, что социальные причины возникновения организаций, претендующих на выражение интересов реально не существующих или существующих вне связи с ними диаспор (своего рода «псевдодиаспор»), и их дальнейшее функционирование были подвергнуты в журнале обстоятельному исследованию в статье С. Румянцева и Р. Барамидзе «Азербайджанцы и грузины в Ленинграде и Петербурге: как конструируются "диаспоры"» (2008. № 2; 2009. № 1). Авторы продемонстрировали, что «азербайджанская и грузинская "диаспоры" (вос)производятся через институционализацию бюрократических структур и дискурсивные практики, в пространстве которых этнические активисты (интеллектуалы и бизнесмены) и "статистические" азербайджанцы и грузины объединяются в многочисленные сплоченные сообщества, наделяются общими целями и выстраивают, в качестве коллективных политических авторов, отношения с политическими режимами стран пребывания и исхода» (2009. № 1. С. 35).
Но социальными механизмами, с помощью которых формируется реальная диаспора (то есть церковью, партиями, культурными организациями, прессой, телевидением и радио, Интернетом и т.д.), мало кто занимается. Нередко СМИ и литература рассматриваются в их «отражательной» роли — «зеркала» (пусть зачастую и весьма кривого) диаспор, например в блоке статей «Жизнь диаспор в зеркале СМИ» (2006. № 4), а также в работах М. Крутикова «Опыт российской еврейской эмиграции и его отражение в прозе 90-х гг.» (2000. № 3), С. Прожогиной «Литература франкоязычных магрибинцев о драме североафриканской диаспоры» (2005. № 4); Д. Тимошкина «Образ "кавказца" в пантеоне злодеев современного российского криминального романа (на примере произведений Владимира Колычёва)» (2013. № 1). А вот их созидательная роль, участие в создании и сохранении диаспор почти не изучается. Так, роли Интернета для диаспор посвящены лишь четыре работы. В статье М. Шорер-Зельцер и Н. Элиас «"Мой адрес не дом и не улица.": Русскоязычная диаспора в Интернете» (2008. № 2) на материале анализа русскоязычных эмигрантских сайтов не очень убедительно обосновывается тезис о транснациональности русскоязычной диаспоры, а в статье Н. Элиас «Роль СМИ в культурной и социальной адаптации репатриантов из СНГ в Израиле» на основе интервью с эмигрантами из СНГ делается вывод, что «СМИ на русском языке, с одной стороны, укрепляют культурные рамки русскоязычной общины, с другой — способствуют интеграции иммигрантов на основе формирования нового самосознания, включающего актуальную общественную проблематику» (с. 103).
Гораздо больший интерес представляют две работы О. Моргуновой. Первая — статья «"Европейцы живут в Европе!": Поиски идентичности в интернет-сообществе русскоязычных иммигрантов в Великобритании» (2010. № 1), в которой анализируется интернет-дискурс русскоязычных мигрантов в Великобритании. Основываясь на материалах веб-форумов «Браток» и «Рупойнт», автор показывает, как там складывается идея «европейскости», которая затем используется для формулирования собственной идентичности. «Европейскость» выступает как синоним «культурности» и «цивилизованности» (такая трактовка распространена в самой Европе в течение трех последних веков), причем «культура» в основном ограничивается XVIII— XIX вв., современные искусство и литература не включаются в нее, это «культура, созданная в прошлом и практически не изменившаяся» (с. 135). Автор приходит к выводу, что система групповых солидарностей мигрантов включает в себя два типа положительного Другого (внешний — британец и внутренний — мигрант из Украины) и два таких же типа отрицательного Другого (внешний — мигранты-«неевропейцы» и внутренний — «совок»), причем в основе этой типологии лежит идея «европейскости».
Во второй статье — «Интернет-сообщество постсоветских мусульманок в Британии: религиозные практики и поиски идентичности» (2013. № 1) — речь идет не столько о национальной, сколько о религиозной идентичности в диаспоре. На основе интервью и анализа соответствующих сайтов автор приходит к выводу, что в силу различных причин мусульманки, приехавшие с территории бывшего СССР, «переносят религиозные практики в Интернет, где следуют исламу в кругу подруг и родственников, оставаясь не замеченными британским обществом» (с. 213). Именно Интернет становится сферой конструирования и проявления их религиозности.
На наш взгляд, наблюдающаяся в журнале при выборе тем недооценка СМИ неоправданна, поскольку они кардинально изменили сам характер современных диаспор. Все, пишущие о диаспоре, согласны, что ее составляют представители какого-либо народа, живущие за пределами родной страны, осознающие свою связь с ней и стремящиеся сохранить свою культурную (религиозную) специфичность. При этом историки знают, что, оказавшись в подобной ситуации, одни народы создают диаспоральное сообщество, а другие через одно-два поколения ассимилируются. Понятно, что предпосылкой создания диаспоры является «сильный» культурный «багаж» (принадлежность к древней и богатой культуре, вера в миссию своего народа и т.д.), но для того, чтобы реализовать эту предпосылку, нужны особые социальные институты, обеспечивающие как поддержание чисто социальных связей (институты взаимопомощи, благотворительности и т.п.), так и сохранение, трансляцию национальной культуры (церковь, школа, издание книг и периодики и т.д.).
В традиционной диаспоре возникающая в силу территориальной удаленности от родины культурная оторванность компенсируется бережным сохранением (в определенной степени — консервацией) унесенного с родины культурного багажа. Если для метрополии маркеры национальной идентичности не так важны, то диаспора, в силу ее существования в инокультурном контексте, нуждается в четких границах, поэтому она культурно консервативнее по сравнению с метрополией. Тут всегда подчеркивается верность прошлому, ключевым символам, и поддержанию традиции уделяется гораздо больше внимания, чем новаторству.
Процесс глобализации во многом меняет характер диаспор. Во-первых, развивается транспорт, и самолеты, скоростные поезда, автомобили и т.п. обеспечивают быстрое перемещение, в том числе возможность частых поездок на родину для иммигрантов. Во-вторых, телевидение и Интернет создали возможность для синхронной, «онлайновой» коммуникации, для повседневного коммуникационного (в том числе делового, политического, художественного) участия в жизни родины.
Меняется и характер «национальной» идентичности. Если раньше она была «двухслойной» («малая родина» и страна), то теперь возникают гибридные образования (например, «немецкие турки», у которых тройная идентичность — «турок», «немцев» и «немецких турок»), не говоря уже о транснациональной идентичности («житель Европы»).
Теперь нет такой оторванности диаспоры от метрополии, какая была ранее. Всегда можно вернуться домой, можно часть времени работать (жить) за рубежом и т.д.
Но, с другой стороны, с развитием СМИ и Интернета поддержание социальных и культурных связей облегчается, что создает предпосылки для более простого формирования и поддержания диаспоральной идентичности (особенно это касается народов, которые изгнаны с родных мест).
Все эти процессы ставят под вопрос традиционную трактовку феномена диаспоры, поэтому исследователям придется искать для него новые термины и новые теоретические модели.
Опубликовано в журнале:
«НЛО» 2014, №3(127)
Около 2000 человек могут быть эвакуированы из-за наводнения в Хорватии, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.
Причиной наводнения стали проливные дожди, затопившие дома и дороги и переполнившие реки. Пострадали те же районы, что и в мае этого года, когда на страну обрушилась стихия, вызвавшая самое сильное наводнение за последние 120 лет. В результате него погибли более 50 человек в Хорватии, а также граничащих с нею Боснии и Герцеговине и Сербии.
"Вся Хорватия находится в опасности", — сказал премьер-министр Хорватии Зоран Миланович, совершивший поездку по районам страны в субботу. Особенно это относится к жителям города Карловац, расположенного в центральной части Хорватии, где сотни людей были вынуждены переехать на верхние этажи своих домов, так как нижние уже затоплены.
За семь лет работы российских саперов в Сербии, участвующих в проекте гуманитарного разминирования в этой стране, не было зафиксировано ни одного инцидента или несчастного случая, сообщил РИА Новости куратор проекта Дмитрий Харченко.
В понедельник он принял участие в церемонии по случаю завершения очередного этапа работ по гуманитарному разминированию в районе города Парачин в Центральной Сербии, где в 2006 году взорвался военный арсенал.
По словам эксперта, отсутствие происшествий во многом связано как с профессионализмом саперов, так и со схемой их работы, согласно которой проводится сначала механическое и только потом ручное разминирование.
"На протяжении семи лет не было несчастных случаев или серьезных травм. Все это благодаря созданной комплексной системе механического и ручного разминирования. Специалисты МЧС России здесь прошли очень хорошую школу и приобрели полезный опыт. То же можно сказать и о сербских специалистах, участвующих в проекте по гуманитарному разминированию", — отметил Харченко.
Российско-сербский отряд гуманитарного разминирования в его нынешнем виде был сформирован в 2010 году. В него входят две группы ручного разминирования из российского персонала, сербская группа ручного разминирования и группа механической очистки из Хорватии. Всего в отряде работают 45 человек, 26 из них составляет российский персонал, 16 сербов и трое хорватов.
Российские саперы участвуют в проекте по гуманитарному разминированию в Сербии с 2008 года, за это время была обследована территория свыше 4 миллионов квадратных метров, обнаружено и обезврежено свыше 12,6 тысячи взрывоопасных предметов. Саперы находят и обезвреживают боеприпасы, оставшиеся в земле со времен Первой и Второй мировой войн, после взрыва на армейском складе в Парачине в 2006 году и после бомбардировок НАТО в 1999 году.
В следующем году саперам предстоит проверить территорию также близ Парачина площадью около 578 тысяч квадратных метров. Ожидается, что новый этап работ, осуществляемый на средства РФ, начнется в апреле. Николай Соколов.

Почему Запад повинен в кризисе на Украине
Либеральные авантюры, которые спровоцировали Путина
Джон Миршаймер – профессор политологии в Чикагском университете.
Резюме Вашингтону может категорически не нравиться российская позиция, но нельзя не понимать ее логику. Это «геополитика для чайников»: великие державы всегда крайне чувствительны к потенциальным угрозам по соседству.
Статья опубликована в журнале Foreign Affairs, № 5, 2014.
На Западе преобладает мнение, согласно которому кризис на Украине вызван почти исключительно российской агрессией. По этой логике российский президент Владимир Путин прибег к аннексии Крыма ради осуществления своей заветной мечты возродить советскую империю, а впоследствии он может попытаться установить контроль над всей Украиной и другими странами Восточной Европы. По мысли апологетов этой теории, изгнание президента Виктора Януковича в феврале 2014 г. было лишь предлогом для Путина, приказавшего российским войскам захватить часть соседнего государства.
Но это ошибочная точка зрения: большую часть вины за кризис должны взять на себя США и их европейские союзники. Главная причина постигшей нас беды – это расширение НАТО, которое стало стержнем более широкомасштабной стратегии по выведению Украины из российской орбиты и ее интеграции с западным миром. Другими важными элементами были расширение ЕС на восток и поддержка Западом продемократического движения на Украине, начиная с «оранжевой революции» 2004 года. С середины 1990-х гг. российские лидеры твердо противостояли расширению НАТО, а в последние годы дали ясно понять, что не будут спокойно наблюдать за тем, как их стратегически важный сосед превращается в бастион Запада. Последней каплей стало незаконное свержение демократически избранного и пророссийского президента Украины, которое тот справедливо охарактеризовал как «государственный переворот». На эти действия Путин ответил захватом Крыма – полуострова, который, как он опасался, станет военно-морской базой НАТО. Он также дестабилизировал ситуацию на Украине, чтобы она забыла о своих планах стать частью Запада.
Не стоит удивляться подобной агрессивной реакции Кремля. Ведь Запад начал хозяйничать на заднем дворе России, угрожая ее ключевым стратегическим интересам, против чего Путин неоднократно и эмоционально предостерегал. Американские и европейские элиты были потрясены и застигнуты врасплох последними событиями лишь потому, что придерживаются ошибочного взгляда на мировую политику. Они склонны считать, что логика реализма неактуальна в XXI веке, а Европа может быть единой и свободной благодаря таким либеральным принципам, как власть закона, экономическая взаимозависимость и демократия.
Но этот генеральный план не сработал на Украине. Кризис в этой стране показывает, что реальная политика остается актуальной, и государства, которые пренебрегают ею, многим рискуют. Американские и европейские лидеры глубоко просчитались, попытавшись превратить Украину в оплот Запада на границах с Россией. Теперь, когда последствия этих неразумных действий стали очевидны, было бы еще более грубой ошибкой продолжать эту непродуманную политику.
Наносит публичное оскорбление
Когда холодная война закончилась, советские лидеры согласились с тем, что американские войска останутся в Европе, и блок НАТО не будет расформирован, поскольку им казалось, что это позволит воссоединенной Германии быть миролюбивой страной. Но ни они, ни их российские преемники не хотели, чтобы Североатлантический альянс расширялся, и исходили из того, что западные дипломаты понимают их озабоченность. Администрация Клинтона, по-видимому, мыслила иначе и в середине 1990-х гг. начала добиваться расширения НАТО.
Первый этап произошел в 1999 г. – тогда к блоку примкнули Чешская Республика, Венгрия и Польша. На втором этапе в 2004 г. в НАТО вошли Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения. Москва горько сетовала и протестовала с самого начала расширения. Например, когда НАТО бомбила боснийских сербов в 1995 г., президент России Борис Ельцин сказал: «Это первое знамение того, что может происходить, когда блок НАТО приблизится к границам России… Вся Европа будет охвачена пламенем войны». Но русские тогда были слишком слабы, чтобы помешать. В любом случае это не выглядело слишком угрожающе, потому что ни один из членов блока не граничил непосредственно с Россией, за исключением крошечных стран Балтии.
Но затем альянс обратил взоры еще дальше на восток. На апрельском саммите 2008 г. в Бухаресте НАТО подняла вопрос о принятии Грузии и Украины. Администрация Джорджа Буша поддержала этот шаг, но Франция и Германия выступили против, поскольку не хотели раздражать и провоцировать Россию. В конце концов, нашли компромиссное решение: альянс не начал формальных процедур, ведущих к членству, но выступил с заявлением, в котором поддерживались устремления Грузии и Украины, и самоуверенно говорилось: «Эти страны рано или поздно станут членами НАТО».
Однако в глазах Москвы это был отнюдь не компромиссный вариант. Тогдашний заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сказал: «Членство Грузии и Украины в альянсе – это колоссальная стратегическая ошибка, которая повлечет за собой самые серьезные последствия для панъевропейской безопасности». Путин неоднократно заявлял, что присоединение этих стран к НАТО будет «прямой угрозой» для России. Одна российская газета сообщала, что в разговоре с Бушем Путин сказал без обиняков: «Если Украина будет принята в НАТО, она перестанет существовать».
Вторжение России в Грузию в августе 2008 г. должно было развеять любые сомнения относительно решимости Путина не допустить присоединения Грузии и Украины к альянсу. Президент Грузии Михаил Саакашвили, твердо намеренный привести свою страну в НАТО, решил летом 2008 г. вернуть в состав Грузии два сепаратистских региона – Абхазию и Южную Осетию. Но Путин хотел, чтобы Грузия оставалась слабой, разделенной и за пределами альянса. После того как начались боевые действия между грузинскими войсками и южноосетинскими сепаратистами, российские войска взяли под контроль Абхазию и Южную Осетию. Москва предельно ясно донесла свою позицию. Однако, несмотря на это ясное предостережение, НАТО так публично и не отказалась от своей цели интегрировать Грузию и Украину. И расширение блока продолжалось – в 2009 г. его членами стали Албания и Хорватия.
ЕС также продвигался на Восток. В мае 2008 г. он обнародовал инициативу по созданию «Восточного партнерства» – программы, которая, по мысли европейских стратегов, должна была способствовать процветанию таких стран, как Украина, и их интеграции в экономику Евросоюза. Неудивительно, что российские лидеры считают этот план противоречащим национальным интересам России. В феврале, до того как Януковича вынудили покинуть президентский пост, российский министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил Евросоюз в попытке создать «сферу влияния» в Восточной Европе. В глазах Москвы расширение Европейского союза – это предлог для экспансии НАТО.
Последний инструмент, который Запад использовал для изоляции Киева от Москвы – усилия по распространению западных ценностей и продвижения демократии на Украине и в других постсоветских странах. Подобные планы часто влекут за собой финансирование прозападных политиков и организаций. Виктория Нуланд, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, оценила в декабре 2013 г., что Соединенные Штаты с 1991 г. инвестировали более 5 млрд долларов, чтобы помочь Украине добиться «того будущего, которое она заслуживает». В рамках этих усилий правительство США субсидировало Национальный фонд поддержки демократии. Эта некоммерческая организация финансировала более 60 проектов, направленных на укрепление гражданского общества на Украине, а президент Фонда Карл Гершман назвал эту страну «самым большим призом». После победы Януковича на президентских выборах в феврале 2010 г. Фонд решил, что новый президент мешает осуществлять поставленные цели, поэтому удвоил усилия, направленные на поддержку оппозиции и укрепление демократических институтов страны.
Методы социальной инженерии, применяемые Западом на Украине, вызывают тревогу у российских лидеров, они опасаются, что их страна может стать следующей мишенью. И это отнюдь не беспочвенные страхи. В сентябре 2013 г. Гершман написал следующее в газете The Washington Post: «Решение Украины стать частью Европы ускорит гибель идеологии российского империализма, олицетворяемой Путиным». И добавил: «У россиян также есть выбор, и Путин может оказаться в стане проигравших не только в ближнем зарубежье, но и внутри самой России».
Создание кризиса
Тройственная политика Запада – расширение НАТО, расширение Евросоюза и продвижение демократии – подлила масла в огонь, готовый вспыхнуть в любой момент. Искрой стали события ноября 2013 г., когда Янукович отверг крупную экономическую сделку, которую обсуждал с ЕС, и решил принять контрпредложение России на сумму 15 млрд долларов. Это породило антиправительственные демонстрации, усиливавшиеся в течение трех последующих месяцев и приведшие в середине февраля к трагической гибели ста человек из числа протестующих. Западные эмиссары в спешном порядке вылетели в Киев, чтобы помочь в урегулировании кризиса. 21 февраля правительство и оппозиция заключили договоренность, позволившую Януковичу остаться у власти до новых выборов. Но она тут же развалилась, и на следующий день Янукович бежал в Россию. В Киеве установилось правительство, прозападное и антироссийское до мозга костей. В него вошли четыре высокопоставленных чиновника, которых с полным правом можно было бы назвать неофашистами.
Хотя роль Соединенных Штатов в украинском кризисе не до конца понятна, ясно, что Вашингтон поддержал государственный переворот. Нуланд и сенатор-республиканец Джон Маккейн приняли участие в антиправительственных демонстрациях, а Джеффри Пайет, посол Соединенных Штатов на Украине, заявил после свержения Януковича, что «этот день войдет в учебники истории». Как выяснилось после опубликования записи телефонного разговора, Нуланд выступала за смену режима и хотела, чтобы премьер-министром нового правительства стал Арсений Яценюк, который в итоге и занял эту должность. Неудивительно, что россияне всех политических убеждений считают, что Запад сыграл значимую роль в изгнании Януковича.
Для Путина настало время переходить к решительным действиям против Украины и Запада. Вскоре после 22 февраля он приказал российским войскам отнять Крым у Украины, а затем присоединил полуостров к России. Эта задача оказалась сравнительно простой, поскольку многотысячный российский воинский контингент уже находился на военно-морской базе в крымском порту Севастополь. Крым также стал легкой мишенью, поскольку этнические русские составляли 60% населения и большинство жителей не желали оставаться в составе Украины. После этого Путин оказал серьезное давление на новое правительство в Киеве, убеждая его не солидаризироваться с Западом против Москвы, дав ясно понять, что развалит украинскую государственность и будет сеять хаос в этой стране, но не позволит Украине превратиться в западную твердыню на заднем крыльце России. С этой целью он предоставил советников, вооружения и дипломатическую поддержку пророссийским сепаратистам в Восточной Украине, которые подталкивают страну к гражданской войне. Он сосредоточил большую армию у границ с Украиной, угрожая вторжением в случае, если правительство попытается уничтожить мятежников. Кроме того, Путин резко поднял цену на газ, который Россия продает Украине, и потребовал выплатить задолженность за прежние поставки. Путин использует силовые методы.
Диагноз
Действия Путина нетрудно понять и объяснить. Наполеоновской Франции, императорской Германии и нацистской Германии пришлось преодолеть для начала огромные равнинные пространства, чтобы нанести удар по России. Украина представляет собой буферное государство, которое чрезвычайно важно для России. Ни один российский лидер не потерпел бы того, чтобы военный альянс, бывший до недавнего времени злостным врагом, занял Украину. И ни один российский лидер не стал бы праздно наблюдать за тем, как Запад помогает привести к власти на Украине правительство, твердо намеренное добиваться интеграции страны в западные структуры.
Вашингтону может не нравиться позиция Москвы, но ему следует понять логику, которая за ней стоит. Это «геополитика для чайников»: великие державы всегда чутко реагируют на потенциальные угрозы в непосредственной близости от собственной территории. Представьте себе ярость Вашингтона, если бы Китай сколотил сильный военный альянс и попытался включить в него Канаду и Мексику. Дело не только в логике – российские лидеры неоднократно говорили своим западным визави, что считают включение Грузии и Украины в НАТО неприемлемым, равно как и любые попытки настроить эти страны против России. Российско-грузинская война 2008 г. не оставила сомнений в решительном настрое Москвы.
Официальные лица из США и их европейские союзники утверждают, что изо всех сил старались успокоить встревоженную Россию и заверить в том, что у альянса нет планов, направленных против нее. Помимо постоянного отрицания того, что расширение НАТО направлено на сдерживание России, альянс никогда не размещал на постоянной основе вооруженные силы в новых государствах-членах. В 2002 г. был даже создан Совет Россия–НАТО с целью стимулировать сотрудничество.
Пытаясь еще больше успокоить Россию, США объявили в 2009 г., что развернут новую ракетную оборонительную систему на военных кораблях в европейских водах (по крайней мере на начальном этапе), а не на территории Польши и Чехии. Но ни одна из этих мер не сработала; русские по-прежнему категорически возражали против расширения НАТО, особенно за счет Грузии и Украины. И именно русские, а не Запад, в конечном итоге решают, что считать угрозой.
Чтобы понять, почему Запад, особенно Соединенные Штаты, не смогли уразуметь, что их политика на Украине закладывает фундамент для крупного столкновения с Россией, необходимо вернуться в середину 1990-х гг., когда администрация Клинтона встала на позицию расширения НАТО. Ученые-политологи выдвигали различные аргументы за и против расширения, но всеобщего согласия добиться не удалось. Большинство иммигрантов в США из Восточной Европы и их родственники, например, решительно поддерживали расширение, потому что хотели, чтобы НАТО защитила такие страны, как Венгрия и Польша. Немногие реалисты также одобряли эту политику, поскольку считали, что Россию все еще необходимо сдерживать.
Но большинство реалистов противостояли расширению, полагая, что едва ли нужно сдерживать переживающую упадок великую державу со стареющим населением и одномерной экономикой. Они опасались, что расширение альянса лишь стимулирует Москву сеять беды в Восточной Европе. Эту точку зрения четко изложил американский дипломат Джордж Кеннан в интервью 1998 г. – вскоре после того, как Сенат одобрил первый этап расширения НАТО. «Мне кажется, что русские постепенно начнут крайне враждебно к этому относиться, что повлияет на их внешнюю политику, – сказал он. – Думаю, что это трагическая ошибка. Для этого не было никаких причин: никто никому не угрожал».
С другой стороны, большинство либералов, в том числе многие ключевые фигуры администрации Клинтона, приветствовали расширение. Они считали, что окончание холодной войны ознаменовало фундаментальную трансформацию мировой политики, и новый постнациональный порядок пришел на смену логике реализма, когда-то преобладавшей в Европе. Соединенные Штаты были не только «незаменимой страной», как выразилась Мадлен Олбрайт, тогдашний госсекретарь, но также и «милостивым гегемоном», а потому вряд ли могут считаться угрозой в Москве. По сути дела, цель заключалась в том, чтобы весь континент стал похож на Западную Европу.
Поэтому США и их союзники стремились насаждать демократию в странах Восточной Европы, усиливать экономическую взаимозависимость между ними и встраивать их в международные организации. После победы в Соединенных Штатах либералам не составило большого труда убедить своих европейских союзников поддержать расширение НАТО. В конце концов, с учетом прошлых достижений ЕС, европейцы еще в большей степени, чем американцы, сроднились с идеей о том, что геополитика больше не играет никакой роли, а всеобъемлющий либеральный порядок позволит сохранить мир в Европе.
Либеральная точка зрения до такой степени возобладала в рассуждениях о европейской безопасности в первом десятилетии XXI века, что даже когда альянс взял на вооружение политику открытых дверей и бесконтрольного роста, расширение НАТО почти не встречало сопротивления со стороны реалистов. Либеральное мировоззрение – общепринятая догма среди нынешних американских официальных лиц. Например, в марте президент Барак Обама произнес речь об Украине, в которой постоянно говорил об «идеалах», мотивирующих политику Запада, и как часто этим идеалам угрожают «более традиционные, устаревшие взгляды на власть». По реакции госсекретаря Джона Керри на кризис вокруг Крыма видно, что он руководствуется теми же установками: «В XXI веке нельзя вести себя так, как это было принято в XIX, вторгаясь в другую страну под совершенно надуманным предлогом».
По сути, две стороны действовали, руководствуясь разными политическими принципами: Путин и его соотечественники мыслят и действуют как реалисты, тогда как их западные визави придерживаются либеральных взглядов на мировую политику. В результате Соединенные Штаты и их союзники неосознанно спровоцировали серьезный кризис вокруг Украины.
Взаимные обвинения
В том же интервью 1998 г. Кеннан предсказал, что расширение НАТО спровоцирует кризис, после которого сторонники расширения скажут примерно следующее: «Мы всегда говорили, что русские именно так себя ведут в силу своей природы». Как по заказу, большинство официальных лиц Запада представляют Путина истинным виновником безвыходного положения на Украине. В марте, согласно сообщению The New York Times, канцлер Германии Ангела Меркель предположила, что Путин утратил связь с реальностью. Она сказала Обаме, что Путин, по-видимому, живет «в другом мире». Хотя у Путина, вне всякого сомнения, имеется склонность к авторитаризму, нет никаких фактов, доказывающих его умственную неуравновешенность. Скорее напротив: он первоклассный стратег, которого следует бояться и уважать всем, кто оспаривает его внешнеполитическую линию.
Другие аналитики ссылаются на то, что Путин сожалеет о распаде Советского Союза и твердо намерен обратить вспять этот процесс путем расширения границ России. Такая версия представляется более правдоподобной. Согласно этому истолкованию, захватив Крым, Путин в настоящее время прощупывает почву, чтобы понять, не пришло ли время завоевать всю Украину или по крайней мере ее восточную часть. И в конечном итоге он будет вести себя агрессивно по отношению к соседним странам. С точки зрения некоторых аналитиков из этого лагеря, Путин – современный аналог Адольфа Гитлера, и заключение с ним каких-либо сделок будет означать повторение ошибки, допущенной в Мюнхене. Таким образом, НАТО должна принять в свои ряды Грузию и Украину, чтобы сдерживать Россию и не позволить ей угнетать своих соседей и угрожать Западной Европе.
При ближайшем рассмотрении этот аргумент не выдерживает критики. Если бы Путин был привержен идее создания Большой России, то эти его намерения как-то проявлялись бы и до 22 февраля. Однако не существует фактически никаких доказательств того, что он был склонен к захвату Крыма или тем более других украинских территорий до этой даты. Даже западные лидеры, поддерживавшие расширение НАТО, делали это не из страха перед тем, что Россия вот-вот прибегнет к военной силе. Действия Путина в Крыму застигли их врасплох и кажутся им спонтанной реакцией на изгнание Януковича. Сразу после февральских событий Путин сказал, что выступает против отделения Крыма, но затем быстро изменил свое решение.
Кроме того, даже если бы Россия этого хотела, она не сможет так легко завоевать и аннексировать Восточную Украину, не говоря уже об остальной территории страны. Примерно 15 млн человек, или треть населения Украины, живут между рекой Днепр, которая делит страну на две части, и российской границей. Подавляющее большинство этих людей хотят быть гражданами Украины и, конечно, будут сопротивляться российской оккупации. Кроме того, у довольно посредственной российской армии, не подающей особых надежд на превращение в современный «вермахт», мало шансов на покорение всей Украины. Москва находится не в том положении, чтобы оплачивать дорогостоящую оккупацию; ее слабая экономика еще больше пострадала бы от новых санкций.
Но даже имея мощную военную машину и впечатляющую экономику, Россия все равно оказалось бы неспособна осуществить успешную оккупацию Украины. Достаточно вспомнить о горьком советском и американском опыте в Афганистане, американском опыте во Вьетнаме и Ираке, российском опыте в Чечне, чтобы понять, что военная оккупация обычно заканчивается очень плохо. Путин, конечно, понимает, что пытаться покорить Украину – все равно что проглотить дикобраза. Его реакция на события в этой стране – оборонительная, а не наступательная.
Выход
Учитывая, что большинство западных лидеров продолжают отрицать тот факт, что поведение Путина может быть продиктовано законной озабоченностью относительно безопасности России, нет ничего удивительного в том, что они пытаются изменить его, идя ва-банк в проводимой ими политике и наказывая Россию, чтобы сдержать ее дальнейшую агрессию. Хотя Керри утверждает, что «рассматриваются все варианты», ни США, ни их союзники по НАТО не готовы применить силу для защиты Украины. Вместо этого Запад полагается на экономические санкции, чтобы заставить Россию прекратить оказание помощи повстанцам в Восточной Украине. В июле Соединенные Штаты и Евросоюз ввели третий этап ограниченных санкций, главной мишенью которых стали в основном высокопоставленные лица, тесно связанные с российским правительством, некоторые крупные банки с государственным участием, энергетические компании и оборонные предприятия. Прозвучала также угроза еще более жестких санкций против целых отраслей российской экономики.
Подобные меры не возымеют большого эффекта. В любом случае жесткие санкции с большой вероятностью могут повредить экономике западноевропейских стран, особенно Германии. Не случайно Берлин не хотел вводить их из опасений, что Россия может предпринять ответные меры и нанести ЕС серьезный экономический ущерб. Но даже если Соединенным Штатам удастся убедить союзников пойти на жесткие меры, Путин вряд ли изменит курс. История показывает, что страны готовы переносить большие тяготы и лишения ради защиты своих ключевых стратегических интересов, и нет повода считать, что Россия – исключение из этого правила.
Западные лидеры проводили провокационную политику, которая в первую очередь ускорила приближение кризиса. В апреле вице-президент США Джозеф Байден встретился с украинскими законодателями и сказал им: «Вам представилась вторая возможность завершить то, ради чего была совершена “оранжевая революция”». Директор ЦРУ Джон Бреннан не оздоровил обстановку, когда посетил Киев в том же месяце. По заявлению Белого дома, его визит был призван улучшить сотрудничество с украинским правительством в сфере безопасности.
Тем временем Евросоюз продолжает продавливать свое «Восточное партнерство». В марте Жозе Мануэл Баррозу, председатель Еврокомиссии, подытожил размышления ЕС по поводу Украины, заявив: «У нас есть долг проявить солидарность с этой страной, и мы будем работать над тем, чтобы она была как можно ближе к нам». А 27 июня наконец состоялось подписание экономического соглашения между Европейским союзом и Украиной, отказ от которого семью месяцами ранее стоил Януковичу президентского кресла. Также в июне, на совещании министров иностранных дел стран НАТО, было решено, что альянс останется открытым для принятия новых членов, хотя министры воздержались от прямого упоминания Украины. «Никакая третья страна не может накладывать вето на расширение НАТО», – заявил генеральный секретарь Андерс Фог Расмуссен. Министры иностранных дел также договорились поддержать меры для повышения военных возможностей Украины в таких областях, как командование и управление войсками, материально-техническое обеспечение и кибербезопасность. Российские лидеры, естественно, выразили возмущение подобными действиями; реакция Запада на кризис еще больше усугубляет и без того плохую ситуацию.
Однако кризис на Украине можно разрешить, хотя для этого Запад должен принципиально изменить подход к этой стране. Соединенным Штатам и их союзникам следует отказаться от плана вестернизации Украины и вместо этого попытаться сделать ее нейтральным буферным государством между НАТО и Россией, каким была Австрия в эпоху холодной войны. Западным лидерам следует признать: Украина так много значит для Путина, что они не могут поддерживать антироссийский режим в этой стране. Это не означает, что будущее правительство Украины должно быть пророссийским или антинатовским. Суверенная Украина, независимая от России и Запада, – вот цель, к которой нужно стремиться.
Для достижения этой цели Соединенным Штатам и их союзникам следует публично исключить возможность расширения НАТО на Грузию и Украину. Запад должен также помочь в разработке экономического плана спасения для Украины, который будет финансироваться ЕС, МВФ, Россией и США. Москве следует приветствовать это предложение, учитывая ее заинтересованность в процветающей и стабильной Украине на юго-западном фланге. И Западу стоит существенно ограничить методы социальной инженерии внутри Украины. Вместе с тем американским и европейским лидерам нужно призывать Украину к уважению прав меньшинств, особенно языковых прав русскоязычного населения.
Некоторые могут утверждать, что изменение политики в отношении Украины на этом позднем этапе может серьезно подорвать доверие к США во всем мире. Конечно, какие-то издержки неизбежны, но цена осуществления глубоко ошибочной стратегии может быть намного выше. Кроме того, другие страны, скорее всего, будут уважать государство, способное учиться на своих ошибках и вырабатывать целесообразную политику для эффективного решения возникающей проблемы. Выбор остается за Соединенными Штатами.
Нередко приходится слышать утверждение, что Киев имеет право сам решать, кто будет его союзником, и русские не вправе мешать объединению с Западом. Это опасный образ мышления для Украины, когда речь идет о внешнеполитическом выборе. Печальная правда заключается в том, что в политике великих держав на первый план часто выходит право силы. Абстрактные права, такие как право на самоопределение, оказываются бессмысленными, когда могущественные страны конфликтуют с более слабыми государствами. Имела ли Куба право создавать военный альянс с Советским Союзом в эпоху холодной войны? США, конечно, так не считали, и русские придерживаются той же логики, когда речь заходит о присоединении Украины к Западу. В интересах Украины понять эту правду жизни и вести себя осторожно во взаимоотношениях со своим более могущественным соседом.
Но даже если не принимать во внимание этот анализ ситуации и считать, что Украина имеет право направить просьбу о присоединении к ЕС и НАТО, Соединенные Штаты и их европейские союзники вправе отклонить такую просьбу, и это несомненный факт. У Запада нет причин принимать в свои ряды Украину, если она будет склонна проводить ошибочную внешнюю политику, особенно если защита этого государства не входит в жизненно важные приоритеты Запада. Потакание мечтаниям некоторых украинцев может слишком дорого стоить украинскому народу, если это спровоцирует серьезный военный конфликт.
Конечно, некоторые аналитики могут согласиться, что НАТО неправильно строила отношения с Украиной, но при этом утверждать, что Россия – недружественная страна, которая со временем будет становиться все более грозным противником, а потому у Запада нет иного выбора, кроме как продолжать нынешний курс. Но это глубоко ошибочная точка зрения. Россия – слабеющая держава, и со временем она будет еще больше ослабевать. Более того, даже если бы Россия была усиливающейся державой, то и в этом случае не имело бы смысла принимать Украину в НАТО по одной простой причине: США и их европейские союзники не считают Украину частью своих стратегических интересов или приоритетов, что ясно видно из их нежелания помогать этой стране военной силой. Поэтому было бы верхом глупости сотворить нового члена альянса, которого другие члены блока не намерены защищать. В прошлом альянс расширялся в силу убеждения либеральных политиков Запада, что ему никогда не придется делом подтверждать гарантии безопасности, которые он дает своим новым членам. Однако нынешние силовые игры России показывают, что если принять Украину в НАТО, это может привести к вооруженному столкновению между Россией и Западом.
Продолжение нынешней политики осложнит отношения Запада с Москвой и по другим вопросам. Соединенным Штатам нужна помощь для вывода оборудования из Афганистана через российскую территорию, подписания соглашения с Ираном по ядерной энергетике и стабилизации ситуации в Сирии. Фактически Москва в прошлом помогала Вашингтону по всем трем вопросам; летом 2013 г. именно Путин выполнил за Обаму самую трудную работу, склонив Сирию к подписанию соглашения, по которому она обязалась уничтожить арсеналы химического оружия. Тем самым он избавил США от необходимости нанесения удара, которым Обама угрожал Асаду. Когда-нибудь Соединенным Штатам также понадобится помощь России для сдерживания усиливающегося Китая. Однако нынешняя американская политика лишь толкает Москву и Пекин в объятия друг друга.
У США и их европейских союзников есть выбор, какую политику проводить на Украине. Они могут продолжать нынешний курс, который усугубит вражду с Россией и приведет к полному разорению Украины в процессе этого противостояния. В случае реализации подобного сценария проиграют все. Либо американцы могут изменить проводимую политику и направить усилия на создание процветающей, но нейтральной Украины, которая не угрожает России и позволит Западу восстановить конструктивные отношения с Москвой. При таком подходе выиграют все стороны.
Ученые из Уфы разработали и запатентовали технологию получения новой вакцины для профилактики гриппа. Новый препарат относится к классу сплит-вакцин, содержащих внешние и внутренние вирусные белки, пишет "Российская газета".
Ожидается, что отечественная вакцина производства компании «Микроген» появится на рынке в 2016 году. Ее выпуск станет еще одним шагом к импортозамещению лекарственных средств, которое предусмотрено федеральной программой «Фарма-2020».
«Изобретение позволит нам выпускать максимально эффективную вакцину третьего поколения. Важно и то, что в будущем новую технологию можно использовать для создания пандемических вариантов гриппозных вакцин для защиты от самых опасных вариантов инфекции», - отметил генеральный директор «Микрогена» Петр Каныгин.
На российском рынке представлены несколько зарубежных и одна российская сплит-вакцин для профилактики гриппа. По словам научного сотрудника НИИ гриппа Игоря Никонорова, выход на рынок еще одной создаст условия для здоровой конкуренции.
Более 11 тысяч человек остаются пропавшими без вести со времен различных конфликтов на территории бывшей Югославии в 1990-е годы, сообщают международные организации.
В субботу отмечается День пропавших без вести.
Международная правозащитная организация Amnesty International отмечает, что больше всего пропавших зарегистрировано в Боснии и Герцеговине — 7,8 тысячи, в Хорватии — 2,2 тысячи и в сербском крае Косово — 1,7 тысячи.
"Amnesty International призывает всех бывших командиров и политических лидеров, участвовавших в вооруженных конфликтах, предоставить полную информацию о местах потенциальных захоронений и восстановить протоколы об обмене этими данными", — говорится в сообщении.
Правозащитники констатируют, что причастные к исчезновениям и похищениям людей в большинстве случаев остаются без наказания "даже тогда, когда останки пропавших были найдены и возвращены семьям для захоронения". Международное движение Красный Крест приводит данные о несколько меньшем числе пропавших людей. С начала конфликтов на территории бывшей Югославии в эту организацию поступила информация об около 35 тысячах пропавших без вести лиц, судьба 11 тысяч 175 из них остается неизвестной.
Гражданские войны и этнические конфликты с вмешательством иностранных государств начались на Балканах в 1991 году после распада Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ). Боевые действия в разной степени и в разное время затронули все шесть республик бывшей Югославии. Николай Соколов.
На хорватском острове Раб построят аэропорт
Воздушный вокзал разместится в юго-восточной части острова, вблизи паромной переправы «Мишняк».
Всего было проведено 24 исследования по установлению наилучшего расположения объекта. В настоящий момент приближается к концу разработка проектной документации по строительству аэропорта. Средства на него выделит Евросоюз. Этот проект является составной частью программы по созданию и развитию сети малых аэропортов в Хорватии, сообщает портал Balkanpro.ru.
Строительство аэропорта на одном из крупнейших островов балканской страны реализуется в сотрудничестве со словенским муниципалитетом Бовец, а также с партнерами из Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины.
Этот проект может вдохнуть новую жизнь в рынок недвижимости острова Раб, тем более что земля под застройку в этом месте уже дорожает.
Строительство газопровода "Южный поток" через территорию Крымского полуострова было бы целесообразнее нынешнего маршрута и выгоднее для всех его участников, считает министр по делам Крыма Олег Савельев.
"На самом деле, если бы маршрут "Южного потока" пошел через Крым, это было бы выгодно всем — и России, и Крыму, и "Газпрому", и потребителям в Европе", — сказал Савельев в интервью РИА Новости, пояснив, что этот маршрут, если бы он был выбран, привлекателен тем, что значительно сокращает дорогостоящий участок подводной трубы. "Это привело бы к повышению рентабельности тех инвестиций, которые предполагаются в "Южный поток". Но политические риски, которые в связи с этим возникают, <…> конечно, перевесили экономическую целесообразность", — добавил министр.
Последний вариант маршрута "Южного потока" предусматривает, что, выйдя на берег Европы в Болгарии, газопровод пойдет далее в Сербию, где он разделится: одна ветка пойдет через Венгрию в Австрию, другая — через Венгрию и Словению в Италию. Кроме того, предусмотрено строительство отводов в Хорватию и Республику Сербскую.
В окончательном варианте утвержденного маршрута "Южного потока" предусматривается только строительство газопровода-отвода с территории Краснодарского края в Крым. В ФЦП по развитию Крыма входит проект строительства магистрального газопровода Краснодарский край — Крым протяженностью 135 километров. Ожидается, что в проект до 2018 года будет вложено 9,35 миллиарда рублей средств из внебюджетных источников.
Проект "Южного потока" через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы направлен на диверсификацию маршрутов экспорта российского газа. Его строительство стартовало 7 декабря 2012 года в районе Анапы. Первый газ в Европу по новой трубе планируется поставить в конце 2015 года, довести его до конечного пункта в Австрии — в конце 2016 года, а вывести газопровод на полную мощность — 63 миллиарда кубометров — в 2018 году.
В Хорватии по дешевке продают целый жилой квартал
Инвестор выставил на продажу жилой квартал, расположенный в столичном районе Подсусед. Цены на квартиры, площадью от 60 до 115 квадратных метров, на 20-30% ниже, чем аналогичные предложения в Загребе.
Стоимость выставленной на продажу недвижимости составляет €840-990 за кв. м. Еще год назад эти апартаменты предлагались за €1300-1400 за «квадрат».
Инвестор принял решение избавиться от недвижимости из-за грядущих изменений в налоговой политике, которые ожидаются с 2015 года. В частности, как пишет портал Balkanpro.ru, на инвестора повлияли спекуляции вокруг налога на недвижимость в Хорватии.
В июне 2014 года квадратный метр недвижимости в Загребе подешевел в среднем на 1,4% по сравнению с маем до €1536.
Напомним, что в июне власти балканской страны разрешили россиянам оформлять недвижимость на физическое лицо. Ранее для совершения сделки нашим соотечественникам было необходимо создавать компанию.
Генеральный директорат по вопросам окружающей среды Европейской комиссии (EU Environment Directorate-General) подвел итоги соблюдения новых стандартов ЕС по торговле древесиной (Timber Trade Regulation, EUTR) в 28 странах Евросоюза.
В сообщении директората подчеркивается, что опубликованные данные предназначены для информирования общественности, основаны на результатах опросов государственных органов стран ЕС, но не всегда отражают официальную точку зрения Еврокомиссии.
Подведение итогов проходило по трем основным критериям — работа компетентных органов, наложение штрафных санкций, регулярные проверки соблюдения стандартов EUTR.
Отрицательный результат по всем трем позициям — у Венгрии, которая не выполнила обязательств ни по одному из упомянутых пунктов, в числе «аутсайдеров» также названы Польша и Хорватия.
Испания и Мальта находятся в процессе выполнения обязательств по всем трем позициям, Франция, Греция, Италия и Румыния — по двум, Словения, Латвия и Люксембург — по одной.
Общее число туристических апартаментов в Хорватии выросло на 25%
За последний год на хорватском побережье значительно расширились возможности для комфортного отдыха.
Улучшение инфраструктуры, направленной на удовлетворение потребностей туристов, прошло на всей прибрежной территории страны, пишет BalkanPro.ru со ссылкой на министерство туризма Хорватии. Появление большого количества новых апартаментов оказалось весьма своевременным, так как в частном секторе количество комнат значительно уменьшилось.
Самый большой прирост единиц жилья для отдыхающих отмечен в Шибенско-Книнской, Истрийской и Задарской областях.
В Шибенике количество апартаментов и комнат, в которых могут останавливаться туристы, увеличилось с 5700 до 7100. Рост составил 24,5%. В Истрии этот показатель увеличился на 13,5%, а в Задарском регионе - на 25%.
Неожиданно, наихудший результат продемонстрировал Сплитско-Далматинский район - около 5%. Правда, при более детальном рассмотрении становится понятно, что это связано не с плохой работой за год, а с хорошей - несколько лет подряд. На сегодняшний день около 25% апартаментов и комнат для отдыхающих на хорватском побережье, располагается именно в Сплите и его окрестностях.
Счетная палата обратила внимание на проблему «незаходных» судов
«В случае освобождения от таможенных платежей при доставке в Россию судов, приобретенных или отремонтированных за рубежом, ежегодные экономические выгоды от работы в российских портах могут составить порядка 9,5 млрд. рублей, отметили в СП.
Коллегия Счетной палаты РФ под председательством Татьяны Голиковой рассмотрела результаты контрольного мероприятия «Проверка соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, организации таможенного контроля в целях обеспечения полноты поступления таможенных платежей в отношении водных биоресурсов, продукции из них, судов и оборудования для их добычи и переработки, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации (Таможенного союза) в 2013 г. и истекшем периоде 2014 гг.».
Аудитор Сергей Штогрин заявил, что в рыбохозяйственном комплексе эксплуатируется 2276 единиц рыбопромыслового флота. В то же время в РФ зарегистрированы 121 рыболовное судно, которые были приобретены, прошли модернизацию, переоборудование, ремонт или межрейсовое техническое обслуживание за границей и не заходят в российские порты из-за необходимости уплаты налога на добавленную стоимость и таможенной пошлины.
«По данным Росрыболовства, при ввозе всех «незаходных» судов в российские морские порты ориентировочная сумма подлежащего уплате НДС составит порядка 4,3 млрд. рублей, таможенной пошлины – 1,3 млрд. рублей», – сообщили Fishnews в департаменте информации Счетной палаты.
Указанные суда в настоящее время базируются, обслуживаются, снабжаются в иностранных портах – преимущественно Норвегии, Малайзии, Канады, Хорватии, выплачивая порядка 7 млрд. рублей в год за услуги в доход иностранных государств и компаний.
«В случае освобождения от таможенных платежей «незаходных» судов ежегодные экономические выгоды от их работы в российских портах могут составить порядка 9,5 млрд. рублей, из которых, расчетно, в бюджетную систему может быть уплачено около 3,3 млрд. рублей», – отметил Сергей Штогрин.
О необходимости решения проблемы «незаходного» флота в отрасли говорят уже не первый год. 1 августа тема таможенной «амнистии» для судов, приобретенных, построенных, отремонтированных, переоборудованных и модернизированных за границей, рассматривалась с участием рыбацкого сообщества на совещании в Минпромторге. Выяснилось, что в министерстве пока больше склоняются к варианту не отмены платежей, а рассрочки по ним. В итоге участники совещания договорились тщательнее подготовить аргументы и продолжить обсуждение проблемы на площадке Минпромторга через месяц.
Аренда жилья на европейских курортах поможет сэкономить.
В 22 европейских городах туристы, арендующие квартиры, экономят до 58% средств по сравнению с теми, кто останавливается в гостиницах.
В Дубровнике, Каннах и на Майорке аренда жилья обходится намного дешевле услуг отелей, так что у туристов с ограниченным бюджетом есть возможность наполовину сократить расходы, пишет портал Kyero.com со ссылкой на недавнее исследование, проведенное порталом по аренде недвижимости House Trip.
В среднем, апартаменты с одной спальней в хорватском Дубровнике стоят €72, что на €99 дешевле номера в местном отеле (€171). В Каннах экономия достигает €82, а в городе Пальма-де-Майорка - около €70. Аренда квартиры на курорте обходится в €58, а цена гостиничного номера в среднем держится на уровне €128.
В другой испанской туристической мекке, в Барселоне, съемное жилье поможет сократить расходы сразу на 50%. Вместо среднестатистических €128 за ночь в гостинице, арендатору квартиры придется потратить всего €60.
За столицей Каталонии следует Ницца, где разница в цене между двумя типами размещения составляет €66. А в Париже, городе с самыми высокими ценами на гостиничные услуги в Европе (в среднем €159 за ночь), аренда апартаментов генерирует экономию около €58.
Аренда жилья на испанских курортах сегодня выгодна, как никогда. В окрестностях Барселоны можно найти квартиру, неделя в которой обойдется около €250.
В российском филиале компании Roche произошла смена руководства – новым генеральным директором станет Ненад Павлетич. Он приступит к исполнению должностных обязанностей 15 октября текущего года, сообщается в пресс-релизе производителя, поступившем в редакцию Remedium.ru.
Работая в московском филиале компании, он будет подчиняться Питеру Хугу, главе региона EEMEA. Ненад Павлетич сменит на посту Весну Цизей, которая в настоящий момент исполняет обязанности генерального директора российского филиала Рош, а также является главой коммерческих операций региона EEMEA и руководит субрегионом «Центральная Азия и Балканы».
До перехода в Рош Ненад Павлетич работал в АстраЗенеке на должности генерального директора российского филиала. В круг его обязанностей входило определение долгосрочной стратегии развития компании на территории России. До этого он занимал различные руководящие должности в компании АстраЗенека, в том числе вице-президента региона «Балканы, страны Балтии и СНГ», генерального директора филиала в Румынии и руководителя филиала в Словении.
Ненад получил диплом экономиста в университете Загреба, Хорватия, и степень МВА в Лондонской школе бизнеса.

«Защита прав человека – это процедура, а не поиск вселенской справедливости»
Беседа с Анатолием Ковлером, судьей Европейского суда по правам человека в отставке
Анатолий Иванович Ковлер (р. 1948) – судья Европейского суда по правам человека в Страсбурге с 1998-го по 2012 год, профессор права.
«Привычка коллег черпать информацию в “Википедии”, мягко говоря, удивляла»
«Неприкосновенный запас»: Анатолий Иванович, в качестве судьи вы очень часто на коллегиях выражали особое мнение и даже называли себя «диссидентом» в коллективе Европейского суда по правам человека. Оппозиционность была связана с тем, что вы представляли Россию?
Анатолий Ковлер: Нет, у меня это чисто академический зуд, научная потребность глубоко копать, а не скользить по поверхности, как иногда делают в ЕСПЧ. Особенно – в чувствительных делах. Знаете, к какому источнику суд обратился за историей вопроса, рассматривая дело об обучении цыганских детей в Хорватии? К «Википедии». Привычка коллег черпать информацию в планшете, упрощать материал, мягко говоря, удивляла. Обложившись альтернативными источниками, я писал особое мнение. За свою активность, разумеется, страдал: меня назначали в редакционные комиссии практически по всем постановлениям Большой палаты. А после ухода сказали, что Европейскому суду моей дотошности не хватает.
«НЗ»: На судебную практику по каким-то статьям ваша дотошность повлияла?
А.К.: Такие примеры были. После дела «Канаев против России» Европейский суд начал принимать жалобы от наших военнослужащих и государственных служащих. А до этого была устойчивая отрицательная практика: считалось, что чиновник не может жаловаться на государство, которому служит. В особом мнении по делу Канаева я высказал все, что накипело. Суд выслушал, развернулся на 180 градусов и применил 6-ю статью Европейской конвенции по правам человека («Право на справедливое судебное разбирательство») к государственным служащим. Их дискриминация, конечно, была несправедливой. Ведь Конвенция говорит о том, что она защищает «каждого», кто находится под юрисдикцией государства. Военнослужащие, полицейские – разве не люди? Кроме того, я настоял, чтобы право приоритетных жалоб распространили на пожилых людей. У нас, например, рассматривалось дело «Полупанова против России» по неисполнению судебного решения о выплате этой женщине пенсии. К тому моменту, когда ЕСПЧ, наконец, вынес решение, ей исполнилось 98 лет. Я заметил, что нельзя от всех наших заявителей ожидать такой воли к жизни. Коллеги заулыбались и согласились со мной.
«НЗ»: Российские чиновники часто обращаются в Европейский суд?
А.К.: Достаточно часто. Чаще других обращаются военнослужащие с жалобами на невыдачу квартир, невыплату выходных пособий и денежного довольствия. Много жалоб от военных пенсионеров; обращаются учителя, судьи, мэры. Приходят жалобы из Нижнетагильской колонии, где сидят бывшие сотрудники правоохранительных органов.
«НЗ»: Несколько лет назад, комментируя дело российского судьи Ольги Кудешкиной, вы сказали, что «на судью наложены тяжелые вериги лояльности судебной системе, в которой он служит». Поскольку теперь вы сами свободны от подобных «вериг», скажите, как Страсбург охраняет беспристрастность своих судей, обеспечивает ли он им «социальную защищенность»? Ведь должность европейского судьи не бессрочная, и, значит, придется возвращаться в свою страну…
А.К.: Прежде всего, никто не освобожден от элементарной порядочности и лояльности по отношению к коллегам и суду. Но и права на конструктивную критику у судьи никто не отнимал: для этого есть особое мнение, есть СМИ. Выйдя в отставку, я написал несколько критических статей о постановлениях Европейского суда, вынесенных без меня, включая дело о праве заключенных голосовать. Что касается социальной незащищенности судей, то такая проблема существует. Уже в первые годы работы ЕСПЧ на постоянной основе выяснилось, что почти все судьи «засветились» голосованием против «своих» государств по чувствительным для национальных властей делам. И, когда в 2001 году часть состава суда обновлялась, судьи от Австрии и Молдовы не были включены в список кандидатов, представленный властями. В 2004-м и 2007 годах та же участь постигла еще нескольких судей. Некоторые ушедшие в отставку коллеги вынуждены были либо искать работу за пределами своих государств, либо уйти в оппозицию к правящему режиму. Кроме того, все судьи «первого призыва» выпали из схемы пенсионного обеспечения Совета Европы, где даже уборщицы получают достойную пенсию. Такая ситуация делает положение бывших судей весьма уязвимым и, что печально, снижает интерес состоявшихся юристов к занятию места судьи в Страсбурге, даже если это вершина юридической карьеры. А недавно ЕСПЧ коммуницировал властям Венгрии жалобу[1] своего бывшего судьи Андраша Баки, смещенного с поста председателя Верховного суда под предлогом проводимой правительством реформы судебной системы. Подвела Андраша «вредная привычка» проявлять беспристрастность и принципиальность там, где следовало бы выказывать «гибкость» и «лояльность». В его жалобе есть указание на увольнение «в связи со взглядами и публичной позицией… высказанными по четырем вопросам фундаментальной важности для судебной системы». На кону здесь отстаивание принципа верховенства права и справедливости. Хочется надеяться, что Европейский суд вспомнит и про собственную резолюцию о судейской этике, и про Европейскую хартию о статусе для судей, и про рекомендации Комитета министров о независимости, эффективности и ответственности судей.
«НЗ»: Чем вы занимаетесь после возвращения из Страсбурга в Россию?
А.К.: В данный момент работаю в Конституционном суде, куда меня пригласил лично Валерий Дмитриевич Зорькин. Я советник по международному и европейскому праву, способствую выработке постановлений Конституционного суда по линии ЕСПЧ. Конституционный суд довольно регулярно, почти в каждом постановлении, ссылается на практику Европейского суда. Решений как судья я не принимаю, но с привычкой к особым мнениям часто высказываюсь по тому или иному поводу.
«Россия начинает работать по-европейски»
«НЗ»: Россия впервые за много лет перестала быть лидером по количеству жалоб, подаваемых гражданами в Европейский суд. Наша доля сейчас составляет 14,6%, это меньше, чем у Италии и Украины. Чем обусловлен перелом?
А.К.: Основная заслуга в ликвидации «завала» из российских жалоб, поданных в ЕСПЧ, принадлежит группе российских юристов, которые с 2011 года работают в Страсбурге. Прежде всего сказывается эффект от ратификации Россией 14-го протокола к Европейской конвенции по правам человека, который позволил рассматривать дела по ускоренной процедуре. Напомню, что Государственная Дума долго сопротивлялась его ратификации, ссылаясь на то, что протокол создаст трудности для индивидуальных заявителей. С 2006-го по 2010 год Россия оставалась единственной из 47 стран, не подписавшей протокол. За это время ком нерассмотренных российских жалоб в суде нарастал и к 2010 году достиг 150 тысяч. Урон был нанесен всему Европейскому суду, и Российская Федерация направила в помощь ЕСПЧ двадцать юристов, которые занялись предварительной обработкой поступивших заявлений, разгребая эти «залежи». Предвидя вопрос об объективности юристов, присланных государством, скажу, что их отбирал сам Европейский суд из числа 40–50 кандидатов, прошедших предварительный тест. Работают они самоотверженно: это не команда ликвидаторов, а именно команда юристов. Уже через год после ратификации протокола общий объем жалоб в ЕСПЧ снизился до 128 тысяч, а к декабрю 2013 года – до 99 тысяч. Потом суд пошел по пути объединения жалоб в одно производство, что тоже ускорило их рассмотрение.
«НЗ»: С этого года требования к подаче жалобы в ЕСПЧ ужесточены. Есть мнение, что тем самым создан фильтр на пути широкого доступа к европейскому правосудию. Мотивы, конечно, всем понятны: рассматривая жалобы годами, суд в Страсбурге сам невольно нарушает принцип разумности сроков судебного разбирательства. Но останется ли он доступным?
А.К.: Во-первых, напомню, что суд сам реформ не запускает, это делают государства-участники Европейской конвенции. Суд, скорее, оказывается жертвой этих реформ. Однако никаких препятствий для заявителей из-за изменения формальных требований к жалобе я не вижу. Более жесткими, по сути, стали два пункта: объем жалобы уменьшен до 20 страниц, и предусмотрены более жесткие сроки ее подачи – четыре месяца вместо шести. Это не более чем наведение порядка. Ведь обращения в Европейский суд наши граждане пишут «левой ногой», присылают исповеди весом в 1,5–2 килограмма. Юристы вынуждены все эти мемуары читать, а это тормозит работу над другими жалобами. Нет оснований и для утверждений о том, что новая система благоволит богатым: формуляр жалобы можно аккуратно заполнить самостоятельно, без помощи адвоката. В целом, при всей строгости норм ЕСПЧ, он всегда работал без лишнего формализма, оставляя за собой возможность прибегнуть к «собственному усмотрению» при изучении конкретной жалобы.
«НЗ»: Тем временем в России появляются специализированные адвокатские организации, работающие по линии Страсбурга.
А.К.: Да, и хорошо, что появляются специализированные адвокаты и правозащитники, проводятся тематические семинары для юристов, выходит масса интересной литературы. С жалобами, предназначенными для Европейского суда, пора работать на профессиональной основе, потому что защита прав человека – это на 80% процедура, а не поиск вселенской справедливости. Россия начинает работать по-европейски. То, что у нас называют «ужесточением правил», для европейских адвокатов является нормой. Кому-то четырех месяцев мало? Так он и в шесть не укладывался.
«НЗ»: Согласно годовому отчету ЕСПЧ, в прошлом году из 129 принятых в отношении России постановлений Европейского суда 40 касались нарушений права на справедливое судебное разбирательство. Дела подобной категории – чисто российская специфика?
А.К.: Статья 6 Европейской конвенции по правам человека («Право на справедливое судебное разбирательство») является слабым местом для всех стран. Недавно, кстати, база данных ЕСПЧ стала доступна на русском языке. В ней содержится вся судебная практика, постатейно. Из нее видно, что примерно половина заявителей жалуются на несправедливость гражданского и уголовного правосудия и на нарушения 5-й статьи («Право на свободу и личную неприкосновенность»). Здесь нет никакой российской специфики. По этим статьям наработана большая практика, и не мудрено, что в девяти случаях из десяти суд находит нарушения. В делах против России чаще всего это злоупотребление арестами, плохие условия содержания в СИЗО, осуждение на основании полицейской провокации, несвоевременный вызов сторон в процессе, игнорирование свидетелей защиты. Но не все случаи одинаковы: бывает, государство аргументированно объясняет длительность судебной процедуры сложностью дела. Есть и адвокатская тактика – затягивать процесс. Судьи ЕСПЧ исходят из материалов дела и того, что говорит им профессиональная совесть.
«НЗ»: В прошлом году вы назвали 15-летний юбилей присоединения России к Европейской конвенции «незамеченным явлением». На ваш взгляд, можно говорить о появлении единого с Европой правового пространства? Даже на языковом уровне наш «суд» исторически подразумевал «осуждение», а не «правосудие», как в Европе.
А.К.: Юбилей действительно прошел тихо: он не был отмечен вниманием ни российских официальных лиц, ни даже «либеральных» СМИ. В лучшем случае Европейский суд по правам человека упоминался несколькими днями раньше в связи с известным постановлением по делу «Тимошенко против Украины». Но, с другой стороны, критиковать значительно легче, чем мыслить позитивно. Российско-европейский диалог в области прав человека начат, идет с переменным успехом, а его результаты, пусть пока и скромные, налицо. Наконец-то сошли на «нет» споры об «обязательной» или «консультативной» природе постановлений ЕСПЧ для государств-участников, хотя то тут, то там выбрасываются флаги «правового суверенизма».
Уместно напомнить, что Россия вошла в систему Конвенции не безродной Золушкой. В отличие от ряда «новых демократий», на ходу переписывавших свои конституции под стандарты Совета Европы, Россия предъявила Европе Конституцию 1993 года – довольно впечатляющий каталог прав и свобод гражданина. Все эти годы идет наработка правовой базы для имплементации положений Конвенции: Конституционный, Верховный, Высший арбитражный суды внесли существенный вклад в утверждение принципа прямого применения норм международного права нашими судами. Среди них, например, появившаяся в Уголовно-процессуальном кодексе норма, позволяющая возобновлять производство по уголовному делу при наличии новых обстоятельств, к числу которых отнесены и постановления суда в Страсбурге. Растет совпадение позиций Конституционного суда Российской Федерации и ЕСПЧ. Инцидент – а именно так, на мой взгляд, следует оценивать эту ситуацию – с нашумевшим делом «Маркин против России», когда ЕСПЧ превысил меру критики позиции Конституционного суда по деликатному вопросу права мужчин-военнослужащих на длительный отпуск по уходу за ребенком, нужно рассматривать скорее как исключение из правил[2]. По сути своей это «конфликт толкования» – довольно частое явление в отношениях между судебными инстанциями.
«НЗ»: Но, если верить исследованиям правозащитников, например, фонда «Общественный вердикт», российские суды в повседневной практике не готовы руководствоваться позициями ЕСПЧ как обязательными. Дела-клоны плодятся: есть, например, «пилотное» постановление по делу «Ананьев и другие против России» 2012 года по жалобам на пыточные условия содержания в СИЗО, но есть и свежая коллективная жалоба фигурантов «болотного дела» по той же статье. Страсбургский суд на этом фоне выглядит разовым источником «высшей справедливости», слабо влияющим на положение дел в стране.
А.К.: Здесь надо исходить из принципа «не стреляйте в пианиста – он играет, как может». Министерство юстиции России за рекордные сроки подготовило дорожную карту реформы правосудия, кое-что сделано. Я согласен, что сделано мало. Но в следственных изоляторах хотя бы начали отгораживать отхожие места от обеденного стола – и, слава богу, что начали с этого. Стараются набивать в камеры меньше людей, чтобы на одного сидельца приходилось одно койко-место. Однако не вина Минюста, что этому ведомству ежегодно на 30–40% урезают ассигнования на реформу: соответственно, нет денег на строительство новых изоляторов и их модернизацию. Что касается возможности обжалования в национальных судах условий содержания под стражей и меры пресечения (а кроме дела Ананьева, было постановление ЕСПЧ по делу «Венедиктов против России», в котором суд констатировал отсутствие в России эффективного механизма такого обжалования), то в некоторых регионах суды уже удовлетворяют подобные иски. Хотя скорее в порядке исключения, чем правила. На самом деле и без законодательных правок можно найти зацепки для положительного разрешения подобных дел, была бы воля. Прогрессивные адвокаты добиваются компенсации для своих клиентов. Конечно, хотелось бы, чтобы в законодательстве появились специальные разделы.
«НЗ»: А кто в России занимается «согласованием» курса страсбургского суда с нашей внутренней практикой и ведет мониторинг исполнения постановлений?
А.К.: Поскольку ответчиком перед ЕСПЧ выступает государство, то и мониторинг ведет оно же. Весной 2011 года президент Дмитрий Медведев подписал указ о мониторинге исполнения постановлений Конституционного и Европейского судов, возложив эту задачу на Министерство юстиции. В прошлом году оно опубликовало сенсационный доклад, содержавший перечень исполненных и неисполненных постановлений. Свой мониторинг ведет и Верховный суд – в отношении дел, затрагивающих проблемы правосудия, будь то неисполнение судебных решений (дело «Бурдов против России – 2») или нарушение принципа правовой определенности в результате неоднократных пересмотров дела в надзорном порядке (дело «Рябых против России»). Целый отдел пересматривает дела, попавшие в поле зрения Страсбурга. Верховный суд принял ряд постановлений, разъясняя судам общей юрисдикции правовые позиции Европейского суда. Среди них, например, постановление о нарушении Россией права на свободу и личную неприкосновенность ввиду массового применения заключения под стражу в качестве чуть ли не единственной меры пресечения. Верховный суд настойчиво и детально разъяснил возможности применения залога и домашнего ареста как мер, альтернативных аресту. И даже генеральная прокуратура определила свой жанр доведения позиции ЕСПЧ до сведения прокуроров на местах: это рассылка «инструкций» – например, письма о недопустимости злоупотреблений со стороны полиции.
Европа и не-Европа
«НЗ»: В последнее время Россия всячески выказывает пренебрежение к различным европейским институтам, включая, например, Парламентскую ассамблею Совета Европы и сам Совет Европы. Как вы полагаете, не дойдет ли дело до предложений о том, чтобы выйти из-под юрисдикции Европейского суда, от которого столько головной боли?
А.К.: Парламентская ассамблея Совета Европы – это все же не весь Совет Европы, а лишь парламентская институция, наделенная политическими функциями. И, тем более, это не Европейский суд. Правовое пространство России и Европы, разумеется, должно быть единым: в том и был главный смысл нашего вступления в него более пятнадцати лет назад. Выход из него будет означать сползание на обочину европейской цивилизации. Все-таки европейская система защиты прав человека – неоспоримое достижение человеческого гения, которое копируют на других континентах. Вслед за Европейской конвенцией по правам человека появились Американская конвенция, Африканская хартия прав человека и народов, Арабская хартия прав человека и даже Исламская декларация прав человека. В последний документ, кстати, включено право, которого нет ни в одной другой конвенции, и оно мне очень нравится: право на достойное погребение. Суд в Страсбурге стал прототипом для создания Межамериканского суда по правам человека, Африканского суда. Сейчас создается Арабский суд по правам человека, а на островах Фиджи недавно состоялась учредительная конференция по созданию Суда по правам человека Австралии и Океании. По Европейскому суду уже гуляют стажеры из этих стран. Если бы система Конвенции не была жизненной и эффективной, ее не копировали бы в различных регионах мира.
«НЗ»: Вы верите в то, что в будущем о правах человека будут говорить на едином, общем языке? Запад, как представляется, утратил монополию на эту идею, когда на мировую арену вышли религиозно-традиционалистские и партикулярные системы права регионального уровня. Русская православная церковь, например, в последние годы много говорит о «православном понимании» прав человека.
А.К.: Права человека исчезнут, если потеряют универсальность. Универсальность выражает принципиальное единство всех человеческих существ: все мы – люди. Из этой концепции исходили авторы конституций последнего поколения во многих странах, в том числе и авторы российской Конституции 1993 года. Но, конечно, миссионерское распространение своей, единственно верной, концепции, кем бы она ни навязывалась – Америкой, Европой или Советским Союзом, – ни к чему хорошему не ведет. Более того, навязывание идеи прав человека в узком понимании отторгает от нее миллионы и миллионы людей. Даже, казалось бы, устоявшиеся представления о минимуме прав для каждого из нас требуют постоянного уточнения.
«НЗ»: Какие направления в международном праве сейчас актуальны, если исходить из практики страсбургского суда?
А.К.: Есть классическое направление, куда входят гражданские и политические, а также экономические, социальные и культурные права. Есть бурно развивающаяся категория коллективных прав: среди них право на мир, право народов на самоопределение, права меньшинств, право на благоприятную окружающую среду. И я бы выделил новое поколение прав, становление которых происходит на наших глазах, – это так называемые соматические, или телесные, права, включающие все, что связано с вопросами эвтаназии, альтернативного зачатия, прав эмбриона. Кроме того, развиваются биологическое право, которое включает биоэтику, и права, порожденные новыми технологиями: например, на защиту персональных данных в Интернете или на защиту от всепроникающей слежки и съемки.
«НЗ»: Вероятно, поэтому Европейский суд любит определять Конвенцию как «живой инструмент»?
А.К.: Именно так. Но при этом, с одной стороны, нужно покончить со снобистским отношением некоторых европейцев к правам человека в других регионах, а с другой стороны, стоит помнить, что именно «старушка Европа» была колыбелью международного права. Будучи судьей ЕСПЧ, я неоднократно выступал с особым мнением по этому поводу и часто получал поддержку. Так, две фразы в постановлении ЕСПЧ по известному делу «“Партия справедливости” против Турции» заставили меня в свое время разразиться особым мнением. Вот первая: «Плюрализм правовых систем… не может считаться совместимым с системой Конвенции». Вторая – еще лучше: «Шариат несовместим с основными принципами демократии в том виде, в каком они выражены в Конвенции». Я написал примерно следующее: извините, но почему правовая и судебная система, имеющая тысячелетнюю историю, должна буквально соответствовать Европейской конвенции, которой без году неделя? В другом деле против Турции речь шла о ношении хиджабов в государственных университетах, и судья из Бельгии поддержала меня в том, что суд как юридический орган должен избегать оценок религиозных традиций. Судейская инициативность не должна обострять конфликтов между культурами, тут нужен осторожный и гибкий подход, всеобщий культурный компромисс: есть минимальный стандарт международных прав, jus cogens, и есть региональные религиозные традиции. Поэтому 15-й протокол Европейского суда официально закрепляет за государствами право на «поле усмотрения».
«НЗ»: А разве введение в Конвенцию принципа «усмотрения» диктовалось не тем же снобизмом некоторых стран по отношению к суду в Страсбурге и желанием сузить его полномочия? Идея 15-го протокола, кажется, принадлежит Великобритании?
А.К.: Такого рода разговоры идут не только в Великобритании и России. Они вспыхивают в Швейцарии, недавно в Голландии прошла целая кампания под лозунгом о том, что ЕСПЧ – главный враг европейской демократии. Понимаете, многих раздражают удары в чувствительные места, которые вынужден наносить Европейский суд. Часть национальных элит и истеблишмента спит и видит, как бы удавить его. Нововведения действительно могут стать «шелковым шнурком» для суда, если спекулировать и распоряжаться ими по-хозяйски. У Европейской конвенции вообще тяжелая судьба, сопряженная с постоянной борьбой и противодействием государствам, в том числе самым демократичным. Но, с другой стороны, в мире нет ни одного международного документа, работающего столь эффективно.
«НЗ»: Кроме 15-го протокола, есть и 16-й, мало кем пока подписанный и почти необсуждаемый. Если не ошибаюсь, в нем заложен механизм обращения к ЕСПЧ как органу консультативному. Что это может означать для дальнейшей эволюции суда?
А.К.: Эта идея тоже принадлежит изощренному британскому гению. Предполагается, что высшие суды государств смогут обращаться в Страсбург за заключениями о толковании Конвенции применительно к конкретным делам. Однако такое заключение будет носить рекомендательный характер: «хочу – следую, хочу – нет». Пока протокол ратифицировала только Ирландия. Но процесс, тем не менее, запущен. Конечно, Европейский суд эволюционирует. Продолжится начатое движение в сторону превращения его в конституционный суд Европы, в толкователя Конвенции. Государства именно к этому его подталкивают. Суд возьмет на себя крупные вопросы, а мелочь будет возвращать в страны для разрешения на основе наработанных прецедентов. Перспектива эта отдаленная, но ничего с ней не поделать.
Беседовала Юлия Счастливцева
Москва, апрель 2014 года
[1] Коммуницирование представляет собой этап рассмотрения жалобы Европейским судом по правам человека, предполагающий официальное сообщение о ней государству-ответчику. Наряду с уведомлением о поданной жалобе государству предлагается ответить на вопросы суда. Государство-ответчик реагирует посредством представления меморандума, то есть излагает свою позицию по жалобе. Коммуницирование означает переход к активной стадии производства. – Примеч. ред.
[2] В 2010 году, когда Конституционный суд России возмутился решением ЕСПЧ по делу офицера Константина Маркина, Анатолий Ковлер заявил, что задача Европейского суда «не насолить государству, а выявить изъяны национальной правовой системы и помочь их исправить». – Примеч. ред.
Опубликовано в журнале:
«Неприкосновенный запас» 2014, №3(95)
«Сшиблись два антихриста»
22 июня 1941 года в оценке русской эмиграции
Олег Игоревич Бэйда (р. 1990) – исследователь, специалист по проблемам русской эмиграции и истории Второй мировой войны, автор книги «Французский легион на службе Гитлеру. 1941–1944 гг.» (2013).
Через несколько лет Россия будет отмечать важнейшую дату своей истории – 100-летие октябрьской революции, спровоцировавшей, среди прочих тектонических сдвигов, одну из самых жестоких гражданских войн Новейшего времени. Помирились ли «красные» и «белые» за время отпущенной им жизни? Вряд ли. Однако о примирении двух сторон в последние годы рассуждают широко и с удовольствием. Еще в 2000 году президент Владимир Путин, впервые посещая Францию в должности главы государства, возложил венки на могилы писателя Ивана Бунина и участницы движения Сопротивления Вики Оболенской. Российский лидер тогда заявил: «Мы дети одной матери – России, и для нас настало время объединиться»[1]. Спустя тринадцать лет, когда режиссер Юрий Кара предложил построить в России храм национального примирения, президент энергично поддержал инициативу, добавив: «Я считал, что все помирились, но, если вы считаете, что нет, давайте дальше мириться»[2].
Но зададимся вопросом: а нужно ли нам мириться, если сами мы не пережили то, что было пережито нашими предками? И не проще ли было бы для нас, ныне живущих, воспринимать историю как голый набор фактов, не таящий в себе никакого поучения? Проблема здесь в том, что если избрать путь обезличенного факта, то придется забыть о гражданском патриотизме, которым так дорожат многие государства; ведь история, интерпретируемая подобным образом, предстанет наукой сугубо описательной, – какой она, собственно, и должна быть. Лишенная морально-поучающего компонента, она зачастую оказывается лишь многоголосьем человеческих судеб, а раз так, то и спорить не о чем.
Об отношениях русских эмигрантов с «третьим рейхом» сказано и написано достаточно, хотя и не очень много. В настоящей статье мы остановимся лишь на одном из аспектов этого сюжета: на том, как русская эмиграция восприняла нападение нацистской Германии на Советский Союз. Разумеется, в рамках небольшого текста невозможно рассмотреть всю гамму чувств, с которой рассеянная по разным странам Европы русская эмиграция оценивала 22 июня 1941 года. Ниже будет представлен лишь срез мнений; но, поскольку эти мнения высказывались и отстаивались одновременно, в их динамике просматривается сложная жизнь заграничной России.
«Оборонцы» и «пораженцы»
Почва для разного восприятия того дня была подготовлена еще в предшествующие годы: русские военные долго ждали реванша, эмигранты дробились на партии, различные сегменты зарубежной России по-разному оценивали события мировой политики. В ходе споров 1930-х годов, касающихся будущей войны, эмигрантский мир разделился на «оборонцев» и «пораженцев», а 22 июня лишь подвело черту под этим расколом. Одни считали, что в случае войны надо оборонять территорию старой Российской империи, что «красная» Россия – это все равно Россия, что большевики в грядущем конфликте, защищая себя, невольно будут защищать и ее, а затем получившие оружие красноармейцы сумеют свергнуть режим. Другие полагали, что территория не так важна по сравнению с уроном, который наносит России само существование большевистского государства, и что «снести» это государство можно только с помощью внешней военной интервенции. А поскольку у самой эмиграции сил для начала и ведения войны не было, ей, как предполагалось, следует принять деятельное участие в будущем общеевропейском конфликте. Имелась еще и третья категория, состоявшая из равнодушных или не определившихся с симпатиями наблюдателей; на наш взгляд, она и была самой многочисленной.
Соответственно, для «оборонцев» 22 июня 1941 года стало днем скорби. Так, один из бывших руководителей Русского общевоинского союза (РОВС), вице-адмирал Михаил Кедров, с началом войны перешедший на «оборонческие» позиции, говорил впоследствии:
«Кровавыми слезами мы плакали, когда слышали о первых поражениях, но в глубине души мы продолжали верить, что Советский Союз победит, так как для нас он представлял русский народ»[3].
А начальник штаба Вооруженных сил Юга России, генерал-лейтенант Петр Махров, в своем письме полковнику Петру Колтышеву от 12 мая 1953 года вспоминал:
«День объявления войны немцами России, 22 июня 1941 года, так сильно подействовал на все мое существо, что на другой день, 23-го (22-е было воскресенье), я послал заказное письмо Богомолову [советскому послу во Франции], прося его отправить меня в Россию для зачисления в армию, хотя бы рядовым».
За это письмо Махров позже попал в лагерь Вернэ, откуда был освобожден лишь по ходатайству знавшего его генерала Анри Альбера Нисселя в декабре 1941-го[4]. К слову, Махров, занявший «оборонческие» позиции еще до войны, в 1938 году призывал создать эмигрантский «оборонческий батальон» в составе РККА[5].
«Пораженцы» же, окрыленные надеждой на скорое возвращение на Родину, на долгожданное продолжение борьбы, пусть и с помощью немецких штыков, ликовали. Их позиции могли различаться в деталях – в обосновании, в осознании или предчувствии рисков и в том, как они эти риски для себя оправдывали, – но тем не менее то была прежде всего радикально антисоветская позиция, воплощенная в выведенной генерал-лейтенантом Петром Врангелем формуле: «Хоть с чертом, но против большевиков»[6].
Во всех странах Европы, где имелись русские общины, первое осмысление начавшейся войны проходило под влиянием двух факторов, которые дополняли друг друга. Первым были откровенно наивные надежды, а вторым едва ли не полное отсутствие информации. В этой рамке, соответственно, выстраивались и размышления о том, приемлемой ли будет германская оккупация, позволят ли немцы создать русское национальное государство, каким это государство станет.
«Не против русского народа, а против политической системы»
В балканских странах еще в 1920-е годы образовались крупные эмигрантские общины, и поэтому там 22 июня обсуждалось и воспринималось крайне бурно и напряженно. Орган Общества Галлиполийцев, «Галлиполийский вестник», ежемесячно выходивший в Софии, уже на следующий день после начала войны выпустил свежий номер. Нехватку информации авторы передовицы восполнили выдержками из довоенных речей Гитлера, в которых обличался мировой коммунистический Интернационал. Комментируя их, а также выступление Гитлера по случаю начала войны, «Вестник» подчеркивал, что «вождь III Райха оставался последовательным в своей оценке большевизма». Говоря о начале боевых действий, авторы пытались подкрепить собственные позиции заявлениями официальных лиц Германии.
«Мы уверены, что каждый из русских по эту и ту сторону рубежа с замиранием сердца следит за ходом военных действий, которым суждено из-под развалин СССР воскресить новую Россию уже без юдобольшевиков, с которыми в решительный бой вступает Германия, а за ней и ряд связанных общими целями стран. “Борьба не против русского народа, а против политической системы Советского Союза”, так определяет цели текущей войны комментатор радио-София в своей эмиссии от 23 июня. Если это так […] то мы, белые русские, в этой цели видим полное созвучие с тем, что столь последовательно проводили с начала большевицкой революции и до самых последних дней»[7].
Уверенность в скором «освобождении» высказывалась не только эмигрантскими изданиями, но и отдельными лицами. Так, начальник III отдела РОВС (Болгария), генерал-лейтенант Федор Абрамов, 25 июня получил письмо от проживавшего в одном из болгарских сел некоего Альбояна (по-видимому, также члена РОВС), который писал:
«События переживаемых дней так взбудоражили меня, что я потерял сон и покой. Верю, что приближается день падения большевиков, и, мне кажется, сидеть в такое время сложа руки, в качестве простого наблюдателя, не принимая в событиях никакого участия, – больше, чем преступление. Одинаково со мной думает и тот десяток оставшихся верными Белой идее, который переживает события так же, как я».
Автор, впрочем, понимал, что в начавшейся войне Германия преследует свои цели, и поэтому резюмировал так:
«Хоть происходит далеко не то, чего мы так страстно ожидали, но все же идет борьба за свержение большевистского строя, и потому приходится мириться и как-то надо участвовать в событиях»[8].
Некоторые, кстати, были готовы мириться с этим фактом, но других осознание его удерживало от выступления на стороне Германии. Тот же Абрамов переписывался и с председателем Союза бывших русских железнодорожников и техников в Болгарии (его имя нам неизвестно), который в связи с начавшейся войной делился следующим соображением:
«Думаю, что наш моральный долг и перед русским народом, и перед историей, и перед самим собой – это: если есть хоть малейшая возможность протеста в направлении “будущего расчленения”, его надо предпринять»[9].
В ответном письме от 10 июля Абрамов недвусмысленно обозначил свою – и других непримиримых эмигрантов – позицию:
«Что касается высказанного Вами мнения о необходимости массового протеста со стороны русской эмиграции в “направлении будущего расчленения России”, то “протестовать”, конечно, можно. В таком “протесте” сейчас очень и очень нуждается и товарищ Джугашвили. Но если перед нами стоит вопрос, кого же поддержать в ходе мировой борьбы, хотя бы идейно: Гитлера ли, поставившего целью раздавить мировую коммунистическую заразу в лице правящего аппарата СССР, или товарища Джугашвили, ведущего русский народ к полной коммунизации и старающегося, в час смертельной для него опасности, прикрыться затоптанным им в грязь знаменем Единой Неделимой России, то я, как и большинство фактически сражавшихся с большевиками в течение 1918–1920 годов на полях Дона и Кубани, иду на стороне Гитлера. К этому призываю и всех своих старых соратников. “Протест” же против расчленения России будет уже вторым этапом в борьбе за восстановление Великой России; и вести его должна будет новая национальная Власть возрожденной России»[10].
Корнет Юрий фон Мейер, участник Белого движения в рядах Сводно-гвардейского полка 1-й кавалерийской дивизии, говорил о том, что в Белграде день 22 июня стал «неожиданностью для большинства русских». Как и в случае с Болгарией, единственным источником информации здесь выступала пропаганда. Фон Мейер пишет:
«Многие из русских были обмануты одной фразой в речи Гитлера, произнесенной рано утром этого дня. Он назвал начавшуюся войну крестовым походом против коммунизма с целью освобождения народов. Многие эмигранты серьезно поверили в то, что Германия идет против большевиков без своекорыстных целей, с желанием лишь восстановить имманентную справедливость»[11].
Но на самом деле в речи Гитлера не было упоминаний о «крестовом походе»; скорее, общая тональность его слов позволяла принять желаемое за услышанное. Дефицит информации порождал неуместные надежды.
Член Народно-трудового союза (НТС) Ростислав Полчанинов, живший в то время в Хорватии, вместе с друзьями услышал от их знакомого русского немца Гердта, что началась война. Жена немца была огорчена и плакала, а сам он вовсе не был уверен в том, что поход на Восток закончится скоро. Полчанинов пишет:
«Мы же, наоборот, радовались. Мы стали говорить, что вот сейчас, когда народ получит оружие в руки, он свергнет ненавистное ему советское правительство и что война даст толчок к национальной революции, о чем неоднократно и много говорили братья Солоневичи. Гердт только качал головой и повторял: “Эх, дети, дети”»[12].
Начальник Загребского отдела РОВС, генерального штаба генерал-лейтенант Даниил Драценко, высказался в связи с событиями предельно четко: «Борьбу, а не туманное философствование, ведут народы Европы во главе с Германией и ее Вождем, и нам, русским националистам и патриотам, сейчас по пути только с ними». Позже этот офицер зарегистрировал более 1500 человек, желавших бороться с коммунистами, и начал организовывать военные курсы. Столь бурная активность вызвала недоумение хорватских властей и негативную реакцию немцев. По требованию немецких официальных лиц уже 10 сентября регистрация проживавших в Независимом государстве Хорватия русских эмигрантов, желавших принять участие в войне, была остановлена. Что касается самого Драценко, то он, как и многие русские эмигранты, проживавшие в Хорватии, пополнил ряды Русского охранного корпуса[13].
Еще один член НТС, живший в Белграде, Александр Казанцев писал:
«22 июня поставило нас перед двумя вариантами нашего отношения к событиям – остаться в стороне и наблюдать, кто кого, Сталин Гитлера или наоборот, или броситься в эти события и устремить все свои силы на достижение наших русских целей. Для нас был приемлем только второй вариант»[14].
Николай Февр, бывший кадет Киевского Владимирского корпуса, в эмиграции окончил Крымский кадетский корпус в сербской Белой Церкви. Проживая в Белграде, он с конца лета 1941 года сотрудничал с финансировавшейся нацистскими властями берлинской газетой «Новое слово». 22 июня в его послевоенных мемуарах посвящены следующие строки:
«С этого дня я лишился того относительного душевного покоя, который можно было иметь в городе, недавно пережившем воздушные бомбардировки и оккупированном чужими войсками. Я почувствовал, что вот теперь наступил тот момент, когда можно каким-то путем пробраться на родину и, наконец, самому убедиться в том, что с ней произошло за эти долгие и смутные годы»[15].
Во всех приведенных фрагментах явно просматривается общее настроение: из них видно, что эмигранты очень хотели видеть в происходящем свою правду, желали найти в шторме начавшейся войны подтверждение своих гипотез (некоторые из которых – например, мнение о том, что борьба так или иначе будет продолжена, – вынашивались десятилетиями) и обоснование своих надежд. Германское вторжение воспринималось ими как прорыв, из которого надо извлечь возможность для продолжения борьбы. Эмигрантское сознание по большей части отторгало идею о том, что напавшая на Советский Союз Германия ведет войну лишь ради собственных интересов.
«Трудно было предвидеть, что Гитлер окажется настолько тупоумным и пойдет завоевывать Россию»
В Центральной Европе настроения были более разнообразными. «Морской журнал», издававшийся в Праге, посвятил весь июльский номер теме 22 июня. Здесь были опубликованы речи деятелей эмиграции и в целом выражалась надежда на грядущее «освобождение» России. Редактор ежемесячника, лейтенант Михаил Стахевич, писал:
«Борьба немецкого народа с коммунистическим Интернационалом, начатая 22 июня, продолжается. На русских полях льется кровь немецких офицеров и солдат за освобождение русского народа от ига большевизма, горшего, чем иго татарское. Волей Божией и распоряжением Вождя и Канцлера Адольфа Гитлера нам, русским эмигрантам, 20 лет жившим за рубежом своей Родины мыслью об освобождении России от красной нечисти своими руками, этого счастья пока не дано. Нам пока остается единственный способ участия в борьбе – посильная материальная помощь тем, кто пострадал в этой борьбе, – помощь Немецкому Красному Кресту»[16].
Интересно, что кровь германских солдат, по мысли автора, льется не за германские интересы и не за германское государство и его фюрера – а за русских (!) и их свободу. Здесь мы вновь имеем дело с попыткой найти свою, русскую, нить в завязавшемся военном узле, сопровождавшейся вынесением за скобки той логической посылки, что если одно государство нападает на другое, то делает оно это лишь ради собственных интересов, а не в качестве «дружественного акта» помощи кому бы то ни было.
На западной окраине Европы тоже имелась своя, пусть и маленькая, русская община. После окончания гражданской войны в Испании небольшая группа эмигрантов, воевавших на стороне националистов, получила гражданство и осталась там жить. Антон Яремчук 2-й, ветеран Первой мировой войны и гражданских войн в России и Испании, в годы Второй мировой служил в итальянской армии в качестве переводчика. В своих воспоминаниях он писал:
«Прошло два года с начала войны – нам чуждой и неинтересной. В конце июня 1941 года, в разгар советско-германской дружбы, я как-то зашел к нашему “декану”, полковнику Болтину. Он рассказал, что на советской границе немцы сосредоточили около ста дивизий для вторжения. И действительно, через несколько дней немцы вторглись в СССР. Можно было ожидать, что война примет форму крестового похода против мирового врага – коммунизма. В то время трудно было предвидеть, что Гитлер окажется настолько тупоумным и, согласно своей книге “Майн Кампф”, пойдет завоевывать Россию, чтобы превратить многострадальный русский народ в рабов “высшей расы”!»[17]
Во Франции, однако, два первых года войны вряд ли воспринимались как «чуждые и неинтересные»; эта страна уже успела потерпеть поражение, а в ее армию были мобилизованы и русские эмигранты. Вероятно, именно Франция в интересующей нас перспективе наиболее показательна: при обсуждении роли эмиграции в войне историки предпочитают ссылаться на позицию известнейших «оборонцев», живших именно там. Так, ярко описала «примирительную» позицию и соответствующее восприятие войны княгиня Зинаида Шаховская:
«22 июня Гитлер напал на СССР. В двадцать четыре часа все русские эмигранты по распоряжению оккупантов были арестованы французской полицией. […] Событие, произошедшее 22 июня, имело – и это чувствовали многие – первостепенное значение. […] В войну вступила несчастная страна, ее угнетенный народ. Но хоть я и предчувствовала победу русских, зная, что все многочисленные иноземные вторжения на Русь неизменно заканчивались разгромом агрессора, то были лишь не согласованные с разумом надежды. В течение долгих лет Сталин занимался больше чистками и репрессиями, чем экономикой и промышленностью страны. […] Трудно было ожидать от народа верности тирану, который внушил ему страх, но не так-то просто вырвать из сердца любовь к людям, к земле, с которыми тысячу лет были связаны целые поколения твоих предков. Презирая и ненавидя коммунистический режим, я тем не менее желала победы русским»[18].
Разумеется, современный человек не имеет права судить тех людей, однако здесь мы тоже видим специфическое «вынесение за скобки» неудобной правды: на советско-германском фронте были лишь две стороны, и лишь из них можно было выбирать. Третьим вариантом оказывался отказ от выбора и уход в частную жизнь. Если «пораженцы» закрывали глаза на то, что Германия ведет войну лишь для собственного блага, преследуя лишь свои интересы и руководствуясь нацистской идеологией, то «оборонцы» пытались как-то совместить неприятие коммунизма с желанием выступить на «русской» стороне. При этом, разумеется, они выносили за скобки тот факт, что эта сторона воевала под красным флагом и что всем руководило большевистское, а не «общерусское» правительство.
Похожую позицию «чистого сочувствия к страданиям людей» мы видим и в других источниках. Жена известнейшего «оборонца», генерал-лейтенанта Антона Деникина, Ксения, сидя под арестом во Франции, прислушивалась к тому, что сообщало германское радио. Впечатления она записывала на клочках бумаги, а затем перенесла эти заметки в дневник. В записи от 21 июня читаем:
«По радио говорят только о “слухах” (о нападении Германии на СССР), идущих чаще всего из Швеции. […] Что думать про это нам? Огорчаться, радоваться, надеяться? Душа двоится. Конечно, вывеска мерзкая – СССР, но за вывеской-то наша родина, наша Россия, наша огромная, несуразная, непонятная, но родная и прекрасная Россия!»
Уже через два дня, 23 июня, она пишет:
«Не миновала России чаша сия! Сшиблись два антихриста… А пока что немецкие бомбы рвут на части русских людей, проклятая немецкая механика давит русские тела, и течет русская кровь… Пожалей, Боже, наш народ, пожалей и помоги!»[19]
Часть проживавших во Франции военных эмигрантов подверглась арестам, и это тоже могло повлиять на мнение людей относительно того, чего ждать от немцев и стоит ли идти с ними. Но и во Франции, тем не менее, были свои «пораженцы». Председатель Гвардейского объединения во Франции, генерал-лейтенант Арсений Гулевич, 24 июня направил приветственный адрес главе оккупационной администрации, генерал-лейтенанту Отто фон Штюльпнагелю:
«Как старейший русский генерал во Франции и как председатель Гвардейского объединения, я счастлив засвидетельствовать перед Вами как перед Главнокомандующим Германской армией во Франции, что бывшие офицеры Русской Императорской гвардии и армии приветствуют от всего сердца предпринятую Фюрером войну против большевиков. Мы выражаем пожелание скорейшей победы для свержения иудобольшевизма и уверены, что освобожденная от советской власти Россия немедленно явится могучим фактором в создании Новой Европы на основе возвышенных принципов, провозглашенных Фюрером. Мы готовы приложить все наши силы для участия в этом величайшем мировом событии и просим дать нам возможность исполнить наш долг»[20].
Во Франции, как и в других странах, «пораженцы» были уверены в грядущем благе, которое солдаты вермахта несут на своих штыках, а также в доброй воле немецкого руководства, которое, конечно же, поможет создать или воссоздать «новую Россию».
На наш взгляд, очень метко охарактеризовал происходившее тогда размежевание эмигрант Николай Рощин, 23 июня записавший в своем дневнике:
«Впервые за эти двадцать лет каждый поставлен перед необходимостью в последний раз выбрать – “за” или “против”. За народ, но и непременно вместе с его теперешней властью или по-прежнему против этой власти, но и – и на этот раз особенно остро – непременно против народа… Для каждого из эмигрантов пришли дни, самые страшные и самые суровые, грозные. Каждый предоставлен только самому себе, своему разуму и совести, каждый вновь сам решает свою судьбу – как в годы Гражданской войны»[21].
Сам Рощин выбор впоследствии сделал, став бойцом Сопротивления.
Высказались и первые лица эмиграции. 26 июня появилось обращение проживавшего в Сен-Бриаке главы Российского императорского дома, великого князя Владимира Кирилловича:
«В этот грозный час, когда Германией и почти всеми народами Европы объявлен крестовый поход против коммунизма-большевизма, который поработил и угнетает народ России в течение двадцати четырех лет, я обращаюсь ко всем верным и преданным сынам нашей Родины с призывом: способствовать по мере сил и возможностей свержению большевистской власти и освобождению нашего Отечества от страшного ига коммунизма»[22].
Этот документ носил довольно общий характер, но для тех эмигрантов, что признавали великого князя наследником престола, он выступил своеобразной санкцией, приведшей их в германские воинские формирования.
«Чемодан не собираю и тебе не советую»
В самой Германии новость о начале войны произвела необычайный фурор. Полковник Константин Кромиади, с 1922 года работавший таксистом в Берлине, рассказывал об этом так:
«Был воскресный день, 22 июня 1941 года. Берлин еще не проснулся от ночного сна, и затемненные улицы еле-еле прорезывались предрассветной зарей. Трамваи, омнибусы и метро еще не шли, и мне предстояло добраться до места своей работы пешком. По пути, на одном из перекрестков вынырнувший из темноты встречный велосипедист на лету выкрикнул: “Сегодня ночью между Советским Союзом и Германией началась война!” – и, не остановившись, промчался дальше. Я остался стоять на месте как вкопанный. […] Лично на меня весть о возникшей войне подействовала так сильно, что я растерялся и не знал, что предпринять. Во мне как будто что-то оборвалось, и все, что мне предстояло делать, потеряло свое значение. Как будто не было и минувших двадцати пяти лет эмиграции»[23].
Тогда Кромиади еще не знал, что ему предстоит сыграть ведущую роль в формировании одной из коллаборационистских частей, а позже служить в штабе генерал-лейтенанта Андрея Власова. По его словам, слухи о войне циркулировали в русской среде Берлина давно, но никто не придавал им значения, так как политическая и военная обстановка вроде бы доказывала их несостоятельность.
Русская эмиграция внимательно следила за происходящим на фронте, и всем было ясно, что на карту поставлена судьба России. В ресторанах, на улицах, в домах обсуждали только это, спорили и строили прогнозы. В берлинских кинотеатрах, где показывали еженедельные сводки с фронта, по заплаканным людям можно было определить количество русских в зале. Цели и пути русских и немцев в Германии разошлись, поскольку каждый воспринимал происходящее на фронте по-своему, каждый стоял за интересы «своей» родины. Настроения русского Берлина «распались веером – от крайне непримиримых до советских патриотов включительно; но последних было очень мало»[24].
Официальное мнение немецких властей выразила уже упоминавшаяся газета «Новое слово». Экстренный номер от 23 июня открывался речью Гитлера по случаю начала войны. Над ее текстом большими буквами было написано: «Крестовый поход против большевизма». На второй странице, с подзаголовком «Борьба с Дьяволом», излагал свое мнение редактировавший газету с середины 1930-х годов Владимир Деспотули, русский грек, ветеран Первой мировой и гражданской войн. Рассуждая о том, что коммунистам нельзя прощать минувшие двадцать лет, он писал:
«Наконец, тем ханжам и кликушам, которые станут говорить о том, что объявленный Германией поход является походом против русского народа, походом на нашу родину, мы отвечаем, что для нас это прежде всего поход против кремлевской шайки поработителей нашего народа. Для нас война, ведущаяся ныне Германией, – это крестовый поход против III Интернационала. Если теперь же эта война не окончится победой, наша родина навеки обречена будет на прозябание под властью мирового кагала. Выбора нет. […] Наше сердце может обливаться кровью перед теми испытаниями, которые выпали на долю многострадальных народов нашей родины, но мы твердо должны знать, что победа Германии означает уничтожение коммунистической безбожной власти»[25].
Противоречия и сомнения, терзавшие тем не менее эмиграцию, отразились в письмах главы Объединения русских воинских союзов (ОРВС)[26], генерального штаба генерал-майора Алексея фон Лампе. Так, в письме великой княжне Вере Константиновне от 28 июня он писал:
«Какие события!! Переживаешь их и чувствуешь, что сердце раздирается на части, – радость за освобождение России от коммунизма омрачается тем, что не СССР, а именно Россия делается опять объектом войны и… вероятного расчленения. Дорого придется заплатить русскому народу за более чем сомнительное “счастье” иметь у себя “самое демократическое правительство”. Оно утонет в крови, но от этой крови еще долго будет болеть страна»[27].
Иначе говоря, сомнения относительно грядущей политики Германии оставались, но высказывать их предпочитали в частном порядке.
Вероятно, наиболее восторженно весть о начале войны была воспринята казачеством как обособленной частью эмигрантского сообщества. Живший в Берлине генерал от кавалерии Петр Краснов в день начала войны высказался так:
«Я прошу передать всем казакам, что эта война не против России, но против коммунистов, жидов и их приспешников, торгующих Русской кровью. Да поможет Господь немецкому оружию и Хитлеру! Пусть совершат они то, что сделали для Пруссии русские и Император Александр I в 1813 году»[28].
На следующий день он писал атаману Общеказачьего объединения в Германской империи, Словакии и Венгрии, генерал-лейтенанту Евгению Балабину:
«Свершилось! Германский меч занесен над головой коммунизма, начинается новая эра жизни России, и теперь никак не следует искать и ожидать повторения 1918 года, но скорее мы накануне событий, подобных 1813 году. Только роли переменились. Россия – (не Советы) – является в роли порабощенной Пруссии, а Адольф Гитлер в роли благородного Императора Александра I. Германия готовится отдать старый дом России. Быть может, мы накануне новой вековой дружбы двух великих народов»[29].
Казачьи националисты и сепаратисты, мечтавшие о создании независимого государства Казакия, так же полностью поддержали начавшуюся войну. Глава Казачьего национального центра Василий Глазков, проживавший в Праге, в день начала войны послал телеграмму на имя Гитлера, Геринга, Риббентропа и фон Нейрата, в которой среди прочего писал:
«Мы, казаки, отдаем себя и все наши силы в распоряжение Фюрера для борьбы против нашего общего врага. Мы твердо верим, что победоносная германская армия обеспечит нам восстановление казачьей государственности, которая будет верным сочленом держав Пакта Трех»[30].
Аналогичное по смыслу постановление приняли и казаки Перникской общеказачьей станицы (Болгария) в середине июля 1941 года:
«Мы открыто заявляем, что единственным нашим верным союзником считаем национал-социалистическую Германию, возглавляемую ее Вождем Адольфом Гитлером, и все силы Трехстороннего Пакта»[31].
Краснов, Балабин и Глазков впоследствии приняли деятельное участие в войне на стороне Германии.
Конечно, и в казачьей среде были представлены иные мнения. Живший в Болгарии казак Николай писал офицеру Александру, работавшему на мельнице в селе Продилово:
«Дорогой мой, родной Саша! Кровью обливается мое истерзанное сердце. На тех местах, на тех полях святой Руси, где мы с тобой были, опять бьются русские войска за Россию, которую злые враги хотят уничтожить. Великая Россия всегда была великой в глазах Европы! Не ради красивых глаз украинок бросили немцы свои войска в Россию. Хлеб, железо, топливо – вот что нужно голодным ордам, которые истязают народ нашей матери-Родины. Ходил в Софию к казакам, настроение у них разное. Одни вызываются биться вместе с русскими за Россию, другие говорят, что приготовили обмундирование и сапоги и хотят ехать на Терек, Дон, Кубань. Эмиграция старого поколения страдает и мучается за Россию, сознает предстоящее разделение родины. Чемодан не собираю и тебе не советую, не все так просто, как кажется другим»[32].
«По-видимому, нам не доверяют»
В мае 1945 года парижская газета «Русские новости», обозревая эволюцию политических позиций белой эмиграции в военный период, отмечала:
«[22 июня –] дата, с которой начался глубокий сдвиг для громадного большинства наших читателей. […] Русские во Франции разделились на две непримиримые части. Это не было больше делением на “правых” и “левых” – делением, которое становилось все более и более условным. Деление произошло по другому признаку: сообразно отношению каждого к происходившей борьбе. Лишь меньшинство пошло за Германией. Большинство стало на позицию необходимой защиты Родины и постепенно шло к признанию советского правительства»[33].
Конечно, с точки зрения сегодняшних знаний оценку, согласно которой большинство эмигрантов, живших во Франции, якобы поддержало СССР, стоит признать упрощением – вполне понятным, впрочем, в свете победы Красной армии в войне. Общий вклад «французских» русских в завершившееся противостояние оценить непросто. В нашем распоряжении есть лишь приблизительные и сильно разнящиеся цифры, отражающие участие эмигрантов в борьбе французского Сопротивления; одновременно имеется столь же неполная статистика, касающаяся русских выходцев из Франции, которые сражались в немецкой армии. Так, по данным Леонида Шкаренкова, в подпольных организациях и войсках «Сражающейся Франции» состояли около 3000 русских. Согласно оценке Николая Рощина, активными участниками Сопротивления были не менее 10% русских эмигрантов, то есть около 5–6 тысяч человек. Столько же, по его подсчетам, насчитывалось активных коллаборационистов[34]. Кроме того, известно, что после 22 июня в I (французском) отделе РОВС для отправки на Восточный фронт зарегистрировались 1160 русских офицеров, но какое количество из них на деле добралось до линии фронта и влилось в немецкую армию, сказать трудно[35].
Всего же в годы войны в различных воинских формированиях, действовавших на стороне Германии и союзных с ней стран, служили от 15 до 20 тысяч русских эмигрантов. Согласно другим данным, это число не превышает 12–13 тысяч человек. Разброс мнений очень велик; есть историки, по мнению которых, количество русских изгнанников в армиях антигитлеровской коалиции следует оценивать в диапазоне от 3 до 5 тысяч человек, причем 300–400 эмигрантов приходятся на долю европейского движения Сопротивления[36]. Иначе говоря, безапелляционные оценки в духе «большинство (или меньшинство) европейских эмигрантов поддержали Гитлера» едва ли состоятельны. А вот что не вызывает сомнений, так это сам факт глубочайшего раскола во мнениях, сопутствовавшего войне.
Соответственно, после 22 июня, желая примкнуть к выбранной армии, одни эмигранты пытались проникнуть в Советский Союз, а другие отправлялись в Германию. Например, князь Николай Оболенский, явившись в советское посольство во Франции, попросил советского посла Александра Богомолова отправить его на родину, чтобы там он смог вступить в РККА. С аналогичной просьбой к советским представителям в Лондоне и Алжире обращался и Николай Вырубов, который, по его словам, был согласен «хотя бы рыть окопы», но на русской земле[37]. Другие воевали с Гитлером в армиях своей новой родины: в частности, князь Эммануил Голицын вступил в ряды британских ВВС и в 1942 году провел самый высотный воздушный бой в «битве за Англию». А одним из первых отрядов, высадившихся в Нормандии 6 июня 1944 года, командовал капитан армии США Петр Шувалов.
Разумеется, были и те, кто добровольно шел под немецкие знамена. Мотив чаще всего был идейным, а вот выражение его, осознание себя и своего места в происходящем всегда оставались индивидуальными. Кто-то искренне верил, что делает благое дело, кто-то сомневался, но все равно вступал в гитлеровскую армию, а кто-то отказывался от такого рода попыток, получив отказ: ведь принимать эмигрантов в вермахт формально было запрещено. Так, Ростислав Завадский, представитель молодого поколения офицеров, воспитанных уже на чужбине, записавшийся в Валлонский легион и уезжавший вместе с бельгийскими добровольцами 8 августа 1941 года из Брюсселя, оставил в дневнике такую запись:
«“Vers mes grande aventure”, – прошептал мой сосед и тяжело вздохнул. У него тоже остаются жена, сын, отец, но какие у нас разные мысли и переживания. Конечно, и для меня это большая авантюра, но разница в том, что я русский офицер. Этим сказано все. Не таким способом я думал попасть на родину. Бог расположил, да будет святая Его воля. Но твердо верю, что Он указал мне путь – мой путь. Он же видит, как мне тяжело, ведь все чужое, и я для всех чужой. Господи, помоги же мне выполнить мой долг»[38].
Взгляды людей нередко менялись. Некоторые, увидев войну на Восточном фронте и осознав противоречие между собственными идеалами и теми целями, ради которых вела войну Германия, пытались «выйти из игры», но возможностей для этого почти не было. Другие, напротив, продолжали служить, полагая, что немцы «одумаются», или же считая, что гитлеровская армия есть меньшее из зол. А кто-то – таких, правда, было не слишком много – переходил на другую сторону или присоединялся к партизанам. Штабс-капитан Алексей Полянский писал уже после войны:
«Мог ли я подумать в Петербурге во время войны с Германией, получая приказ о производстве из пажей Пажеского Его Величества корпуса в офицеры Русской Императорской армии, что через 26 лет я получу приказ о производстве в офицеры германского вермахта? Причем, надевая немецкий офицерский мундир, не буду чувствовать себя изменником своей родины, а наоборот, ее защитником и бойцом за освобождение России от красных захватчиков и лишь тактическими соображениями принужденным к этому»[39].
После принятия присяги пути назад, как правило, не было, и поэтому эмигранты продолжали вести «свою», неоконченную гражданскую войну на полях новой войны, которую начала Германия за «расширение жизненного пространства».
Впрочем, разочарование для многих было неизбежным. В этом смысле любопытна переписка главы ОРВС, генерал-майора фон Лампе, который в письме от 24 августа 1941 года, направленном княжне Вере Константиновне, писал:
«Вы спрашиваете, что нам делать? Плохо с этим вопросом. […] Нас не хотят. Почему? Я сам не знаю. […] По-видимому, нам не доверяют… именно не доверяют потому, что власть имущие знают, что они будут делать с Россией, и как сами люди добросовестные учитывают, что при таких делах мы не можем искренне быть с ними!»[40]
Ту же мысль он развивает в письме от 5 октября:
«Думаю, что на фронт нам пока стремиться нельзя… Трудно писать почему, но уж очень все двойственно, и недаром сами немцы не хотят нас пускать на фронт. Быть может, учитывают, как нам будет тяжело присутствовать и участвовать в том, что предстоит России!»[41]
В том же письме фон Лампе отвечал и на предложение княгини организовать помощь раненым и пленным красноармейцам. По его словам, как участник гражданской войны, он не может «красных считать своими»:
«[Если бы немцы] поручили эмиграции просмотреть состав красных пленных и отобрать тех, кто может стать своими… – это верно. Но всех, гуртом, я своими считать не могу… Как это ни печально, но то обстоятельство, что и они, и мы родились в России, не делает нас родными!»[42]
Правда, вскоре его позиция изменилась. Уже 25 ноября фон Лампе написал княжне, что десять дней назад посетил гестапо, где подал заявление от имени Красного Креста, прося указать, как отнестись к желанию многих эмигрантов помочь пленным. Ответа на тот момент еще не было. Есть в том письме и такие строки:
«По отзывам наших офицеров, ездивших с комиссией в лагеря, ужас того положения, в которое попали пленные, НЕ поддается описанию, и минимум, что вымрет от начавшего уже косить тифа, – это 50% всего состава пленных. Кошмар!»[43]
* * *
22 июня 1941 года было суждено стать в высшей степени символической датой, причем и в СССР, и в современной России она осмысляется как одна из ключевых точек именно национальной (в широком смысле) истории: «это наше и только наше, никто больше не поймет». Эта особенность заметна даже на уровне применяемых в науке терминов: в России 22 июня открывает Великую Отечественную войну, в западных же работах – германо-советскую войну (Soviet-German war, Deutsch-Sowjetischer Krieg).
Однако тот день переживался, пусть и по-разному, не только Россией, но и русским зарубежьем. И «оборонцы», и «пораженцы» были поставлены перед тяжелым выбором: кого поддержать и поддерживать ли вообще? Любое решение было очень трудным и по-своему роковым, ибо размежевание сторон было предельным. При этом ни одно из предпочтений не ассоциировалось с той гипотетической «общерусской» стороной, о которой страстно мечтали эмигранты – люди, двадцать лет прожившие на чужбине и потерявшие государство, которое могло бы их представлять и защищать.
[1] Медведев Р.А. Время Путина? Россия на рубеже веков. М.: АСТ, 2002. С. 189.
[2] Цит. по: Путин одобрил идею строительства в России храма национального примирения (www.vz.ru/news/2013/12/5/662987.html).
[3] Цит. по: Голдин В.И. Роковой выбор. Русское военное Зарубежье в годы Второй мировой войны. Архангельск; Мурманск: СОЛТИ, 2005. С. 188, 189.
[4] Махров П.С. В Белой армии генерала Деникина. Записки начальника штаба Главнокомандующего Вооруженными силами юга России. СПб.: Logos, 1994. С. 11.
[5] Назаров М.В. Миссия русской эмиграции. М.: Родник, 1994. С. 276. Т. 1.Данный факт приводится со ссылкой на следующий источник: Галай Н. На собрании оборонцев // Сигнал. 1938. № 27. 15 марта. С. 4. См. также: Секретный доклад генерала Махрова // Грани. 1982. № 124. С. 188, 189.
[6] Цурганов Ю.С. Неудавшийся реванш. Белая эмиграция во Второй мировой войне. М.: Intrada, 2001. С. 38.
[7] Галлиполийский вестник. 1941. № 96. 23 июня. С. 1–3.
[8] Голдин В.И. Указ. соч. С. 178, 179.
[9] Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-9116. Оп. 1. Д. 17. Л. 90.
[10] Там же. Л. 91.
[11] Александров К.М. Белая военная эмиграция в Сербии: к истории создания 12 сентября 1941 года Отдельного русского корпуса // Труды IIмеждународных исторических чтений, посвященных памяти профессора, Генерального штаба генерал-лейтенанта Николая Николаевича Головина. Белград, 10–14 сентября 2011 года. СПб.: Скрипториум, 2012. С. 93.
[12] Полчанинов Р.В. Молодежь русского зарубежья. Воспоминания 1941–1951. М.: Посев, 2009. С. 38, 39.
[13] См.: Дробязко С.И., Романько О.В., Семенов К.К. Иностранные формирования Третьего рейха. М.: АСТ; Астрель, 2009. С. 560, 561.
[14] Казанцев А.С. Третья сила. Россия между нацизмом и коммунизмом. 1941–1945. М.: Посев, 2011. С. 38.
[15] Февр Н. Солнце восходит на западе. Буэнос-Айрес: Новое слово, 1950. С. 15.
[16] Стахевич М. Война немецкого народа с коммунистическим Интернационалом и Русские в протекторате // Морской журнал. 1941. № 145(2). Июль. С. 4.
[17] Яремчук 2-й А.П. Моя последняя – четвертая – война // Мемуары власовцев/ Сост. А.В. Окороков. М.: Вече, 2011. С. 8.
[18] Шаховская З.А. Таков мой век. М.: Русский путь, 2006. С. 441.
[19] Лехович Д. Деникин. Жизнь русского офицера. М.: Евразия +, 2004. С. 731, 732.
[20] Бюллетень Объединения лейб-гвардии Московского полка. 1941. № 87. 23 августа – 8 сентября. С. 1.
[21] Лебеденко Р.В. Политический выбор российской эмиграции во Франции в период Великой Отечественной войны // Научные проблемы гуманитарных исследований. 2010. Вып. 6. С. 42.
[22] Цурганов Ю.С. Белоэмигранты и Вторая мировая война. Попытка реванша. 1939–1945. М.: Центрполиграф, 2010. С. 64.
[23] Кромиади К. За землю, за волю… Сан-Франциско: Глобус, 1980. С. 22.
[24] Там же. С. 24.
[25] Крестовый поход против большевизма // Новое слово. 1941. № 26(355). 23 июня. С. 1, 2; Деспотули В. Борьба с Дьяволом // Там же. С. 2.
[26] II отдел РОВС, располагавшийся в Германии, 22 октября 1938 года под давлением немецких властей был преобразован в формально независимое Объединение русских воинских союзов.
[27] «Сердце раздирается на части». Письма председателя Объединения русских воинских союзов А.А. фон Лампе. Июнь – октябрь 1941 г. // Исторический архив. 2010. № 3. С. 42, 43; Baur J. Die russische Kolonie in München 1900–1945: deutsch-russische Beziehungen im 20. Jahrhundert. Wiesbaden: Harrassowitz, 1998. S. 295.
[28] Крикунов П. Казаки. Между Гитлером и Сталиным. М.: Яуза; Эксмо, 2005. С. 75.
[29] Кривошеева Е.Г. Российская эмиграция накануне и в период Второй мировой войны (1936–1945 гг.). М.: МАДИ (ТУ), 2001. С. 56, 57.
[30] Казачий вестник. 1941. № 1. 22 августа. С. 1.
[31] ГАРФ. Ф. Р-5762. Оп. 1. Д. 2. Л. 9.
[32] Аблова Р.Т. Сотрудничество советского и болгарского народов в борьбе против фашизма (1941–1945 гг.). М.: Высшая школа, 1973. С. 324, 325.
[33] Сотников С.А. Российская военная эмиграция во Франции в 1920–1945 гг. Дисс. на соис. уч. ст. к.и.н. М.: Московский государственный университет сервиса, 2006. С. 167, 168.
[34] «Сопротивляйтесь!» // Между Россией и Сталиным: российская эмиграция и Вторая мировая война / Ответ. ред. С.В. Карпенко. М.: РГГУ, 2004. С. 175.
[35] Ильинский П.Д. Три года под немецкой оккупацией в Белоруссии. (Жизнь Полоцкого округа 1941–1944 годов) // Под немцами. Воспоминания, свидетельства, документы. Историко-документальный сборник / Сост. К.М. Александров. СПб.: Скрипториум, 2011. С. 135.
[36] Белая военная эмиграция и Вооруженные силы Комитета освобождения народов России // Александров К.М. Русские солдаты Вермахта: герои или предатели. Сборник статей и материалов. М.: Яуза; Эксмо, 2005. С. 379, 380; Андреев В.А. Русское зарубежье и вторая мировая война // Материалы по истории Русского освободительного движения: сборник статей, документов, воспоминаний. Вып. 2 / Под общ. ред. А.В. Окорокова. М.: Архив РОА, 1998. С. 139, 149; Дробязко С.И. Под знаменами врага. Антисоветские формирования в составе германских вооруженных сил 1941–1945 гг. М.: Эксмо, 2005. С. 99; Урицкая Р.Л. Они любили свою страну… Судьба русской эмиграции во Франции с 1933 по 1948 г. СПб.: Дмитрий Буланин, 2010. С. 137–158, 202–204; Закат российской эмиграции во Франции в 1940-е годы: история и память / Под ред. Д. Гузевича, М. Якунина. Париж; Новосибирск: Ассоциация «Зарубежная Россия», 2012. С. 21–35.
[37] Любимов Л.Д. На чужбине. М.: Советский писатель, 1963. С. 312; Против общего врага: советские люди во французском движении Сопротивления / Под ред. И.В. Паротькина. М.: Наука, 1972. С. 268.
[38] Завадский Р.В. Своя чужая война. Дневник русского офицера вермахта 1941–1942 гг. / Ред.-сост. О.И. Бэйда. М.: Посев, 2014. С. 75.
[39] Александров К.М. Офицерский корпус армии генерал-лейтенанта А.А. Власова 1944–1945. М.: Посев, 2009. С. 54.
[40] «Сердце раздирается на части»… С. 48.
[41] Там же. С. 50.
[42] Там же. С. 49.
[43] Голдин В.И. Указ. соч. С. 190, 191.
Опубликовано в журнале:
«Неприкосновенный запас» 2014, №3(95)
ОАЭ вводит упрощенную процедуру выдачи многократных виз.
Власти ОАЭ объявили о внедрении новой системы выдачи виз, которая упростит процедуру оплаты и выдачу документов, а так же поможет увеличить приток туристов.
Дирекция иностранных дел при МВД ОАЭ объявила о завершении подготовительного этапа для перехода на новую, более гибкую систему выдачи въездных документов для иностранных граждан, сообщает портал Arabian Business. Новые процедуры вступят в силу в начале августа, а ассортимент виз расширится: появятся новые типы многократных рабочих и туристических виз, а так же учебных, медицинских и виз для участия в конференциях. Более подробную информацию о тарифах и условиях оформления документов можно будет получить на официальном веб-сайте министерства в ближайшее время.
Апологетом упрощения визового режима стал Шейх Саиф бен Заид Аль Нахайян, заместитель премьер-министра и министр внутренних дел ОАЭ. Изменения стали ответом на потребности экономики страны: чтобы развивать и поддерживать различные аспекты экономических, туристических и социальных проектов необходимо эффективно принимать заграничных посетителей, рабочую силу и иностранных специалистов. Новая система также обратит особое внимание на нарушителей визового режима.
В июле только в Дубае число выданных долгосрочных виз возросло на 30% по сравнению с показателями годичной давности. В общей сложности, 570 917 человек получили вид на жительство в течение первого полугодия 2014 года, а за первые шесть месяцев 2013 года их было выдано 436 993. Число туристов в течение года возросло с 20,2 млн до 21,8 млн человек. Параллельно с туристическим сектором молниеносно растет и жилищный: квартиры и виллы эмирата подорожали за год почти на треть.
В марте Министерство иностранных дел ОАЭ объявило, что граждане 13 государств-членов Европейского Союза смогут въехать в страну без виз. Освобождение, которое вступило в силу 22 марта, распространилось и на граждан Польши, Словении, Словакии, Чехии, Литвы, Венгрии, Латвии, Эстонии, Мальты, Кипра, Хорватии, Румынии и Болгарии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что проект "Южный поток" отвечает интересам страны, и он не намерен от него отказываться, передает агентство Рейтер.
Соответствующее заявление Орбана появилось на фоне обсуждения в Европейском союзе новых санкций против России, которые могут затронуть энергетический сектор. Орбан заявил, что хотя он и поддерживает Украину, ему необходимо задумываться об интересах страны и он не откажется от "Южного потока".
"Если газопровод "Южный поток" должен пройти через нашу страну, чтобы поддержать хорошие деловые отношения с Россией, то мы, конечно, за "Южный поток", — заявил он.
Для реализации сухопутной части "Южного потока" Россия подписала межправительственные соглашения с Австрией, Болгарией, Венгрией, Сербией, Словенией и Хорватией. Однако ЕК сочла эти двусторонние договоры нарушающими законодательство ЕС, а именно так называемый третий энергопакет. Власти Болгарии уже заявили о приостановке работ по проекту после предупреждения Еврокомиссии о несоблюдении норм ЕС. В ответ Россия начала разбирательство в ВТО по применению норм этого энергопакета, запрещающих компаниям, добывающим газ, владеть магистральными трубопроводами в ЕС.
Проект "Южного потока" через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы направлен на диверсификацию маршрутов экспорта российского газа. Его строительство стартовало 7 декабря 2012 года в районе Анапы. Алексей Миллер сообщал, что в конце 2015 года по газопроводу "Южный поток" будет поставлен первый природный газ.
С 1 августа Сбербанк начнет выдавать кредиты на покупку недвижимости в Хорватии.
Информация о том, что несколько российских банков собираются выдавать займы на покупку зарубежной недвижимости, появилась еще в июне 2014 года. Сейчас стали известны условия некоторых кредитных программ.
Как сообщили корреспонденту Prian.ru в хорватском агентстве недвижимости «Alma Dom», с 1 августа хорватское представительство Сбербанка начнет выдавать займы на покупку домов и квартир на море сроком до 15 лет.
Минимальная сумма кредита составит €10 000, а максимальная будет ограничена кредитоспособностью заемщика. Процентная ставка по данному банковскому продукту будет 8% годовых.
Главные требования банка – получатель кредита должен быть совершеннолетним гражданином России и иметь постоянное трудоустройство не менее 12 месяцев до подачи заявления.
Оценка кредитоспособности будет проводиться на основании личного заявления, переданного в банк. Срок рассмотрения вопроса – в течение месяца.
Пула лидирует по росту цен на недвижимость в Хорватии.
По результатам июня 2014 года цены на недвижимость в Хорватии в целом снизились. Однако в некоторых городах на побережье они увеличились.
Хорватия недвижимостьКвартиры в Пуле стоили в среднем €1 173 за кв.м, что на 3,6% выше по сравнению с маем 2014 года. В Задаре «квадрат» подорожал до €1 940, что на 2,1% больше, чем месяцем ранее. А в Шибенике цены остались на уровне майских - €1 452 за кв.м, передает портал Balkanpro.ru.
В других городах Хорватии жилье подешевело. В Риеке цены на квартиры снизились на 0,3% - до €1 383 за кв.м. В Загребе «квадрат» жилья потерял в цене 1,4% и стал стоить в среднем €1 436. Квартиры в Сплите подешевели на 3,4% до €2 061 за кв.м.
В июне 2014 года в столичном районе Нов-Загреб средняя стоимость квартир составила €1 245 за кв.м, что на 0,2% больше, чем месяцем ранее. В центре Загреба стоимость квартир уменьшилась на 2,8% - до €1 847 за кв.м. На западе столицы жилье подешевело на 2% - до €1 442 за кв.м. На востоке Загреба средняя стоимость квартир составила €1 449 за кв.м – на 1% меньше, чем месяцем ранее.
Отклики СМИ Хорватии и Венгрии о шагах Газпрома по приобретению бизнеса в нефтегазовых компаниях этих стран
По информации газеты венгерских деловых кругов «Вилаггаздашаг» со ссылкой на хорватскую газету «Вечерний лист», Газпром рассматривает вопрос о приобретении контрольного пакета акций хорватской компании INA. Хорватская газета отмечает, что сведения поступают из кругов, близких к российскому газовому гиганту, где полагают, что в ближайшее время венгерская компания MOL намерена продать около 50% доли в управляемой ею хорватской нефтегазовой компании INA. Такое направление развития бизнеса выглядит вполне продуманным, поскольку MOL необходимы средства для осуществления ряда новых инвестиционных проектов.
Названное хорватское издание при этом напомнило, что «западная дипломатия упорно работает над тем, чтобы Россия не получила новые плацдармы в Хорватии и Венгрии. Поэтому вопрос о выходе MOL из INA будет решаться не в Загребе, а в Будапеште». Последнее слово скажет премьер-министр Венгрии В. Орбан после завершения согласований с чиновниками ЕС. По некоторым сведениям, руководители Газпрома в данном вопросе рассчитывают получить конкретный ответ в конце текущего года, чтобы приступить к расширению своего бизнеса уже в 2015 году. Наряду с приобретаемыми российской компаний у MOL долевого участия в INA (47,26%), хорватское государство может продать ещё 19% (из нынешних 44,84%), таким образом, сохранив за собой 25% плюс 1 акция. Позитивное отношение венгерской стороны к сделке связано с готовностью российской компании инвестировать в проекты по модернизации в Венгрии объектов энергетики. (Неделей ранее представители Венгерского энергетического холдинга МVМ провели в Москве переговоры о покупке природного газа). Хорватская газета отмечает, что хотя Газпром и опубликовал пресс-релиз об итогах состоявшихся 10 июля с.г. в Загребе переговоров российской делегации во главе с Председателем Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллера с президентом Хорватии Иво Йосиповичем и хорватским премьер-министром Зораном Милановичем, компания INA в нём не упоминается. Среди рассмотренных перспектив двустороннего сотрудничества в области нефтяной и газовой промышленности особое внимание стороны уделили проекту «Южный поток» и инвестициям в хорватский участок этого газопровода. В первой половине 2014 года Газпром поставил в страны Юго-Восточной Европы 340 млн. куб. м газа, что на 45% больше, чем за весь 2013 год. В ходе переговоров обсуждались также совместные проекты развития средств транспорта, работающих на природном газе. Достигнута договорённость о том, что компания «Газпром Нефть» подаст заявку на участие в тендере на получение права разработки и добычи углеводородов на морских участках.
Поставки газа по трубопроводу «Южный поток», против строительства которого всё больше возражает Евросоюз, могут начаться в конце 2015 года. Максимальная проектная мощность нового газопровода – 63 млрд. куб. м газа в год – может быть достигнута в 2018 году. Газопровод пройдёт и по территории Венгрии.
В сентябре 2013 года Газпром и компания LNG Croatia подготовили совместный проект о применении в Хорватии природного газа в качестве топлива для средств транспорта. Хорватские СМИ считают, что одним из партнёров на переговорах с А. Миллером был министр экономики Хорватии, который наряду с другими темами не мог не затронуть вопрос о судьбе компании INA.
Газета «Вилаггаздашаг»
Фондовые биржи Болгарии, Хорватии и Македонии будут объединены общей системой заказов и платформой по торговле ценными бумагами. В развитие этой системы Европейский банк восстановления и развития, а также операторы каждой из трех стран инвестируют в общей сложности 780 тыс. евро.
(Источник: Капитал Daily)
Еврокомиссия по-прежнему занимает жесткую позицию по газопроводу "Южный поток", настаивает на приостановке проекта и готова вести разбирательства со странами ЕС, участвующими в проекте, заявил журналистам глава директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори.
Еврокомиссия считает, что проект "Южный поток", направленный на диверсификацию маршрутов экспорта российского газа в Европу, не соответствует нормам третьего энергопакета. В ответ Россия начала разбирательство в ВТО по применению норм этого энергопакета, запрещающих компаниям, добывающим газ, владеть магистральными трубопроводами в ЕС.
"В текущем контексте наша позиция по "Южному потоку" ясна: газопровод не имеет места в том контексте, в котором у нас имеются такие трудности с Россией. Мы предложили приостановить "Южный поток" и пересмотреть анализ этого проекта в свете энергетической безопасности (Евросоюза). Учитывая текущее развитие ситуации на Украине и отношения России с Украиной, эта позиция сейчас не может измениться", — сказал Ристори.
Еврокомиссия настаивает, что проект должен полностью отвечать требованиям законодательства Евросоюза. "У нас нет причин изменять это", — заявил он.
"Как вы знаете, мы уже открыли разбирательство, связанное с "Южным потоком". Мы сделаем то же при необходимости в подобных условиях", — сказал представитель ЕК.
На вопрос, идет ли речь о возможности начала разбирательств в отношении стран ЕС, которые должны получать газ в рамках строящегося газопровода, он ответил: "Это наша позиция". Однако за открытие антимонопольных разбирательств в Еврокомиссии отвечает не энергетический департамент, а департамент по конкуренции.
Россия подписала межправительственные соглашения по строительству "Южного потока" с Австрией, Болгарией, Венгрией, Грецией, Сербией, Словенией и Хорватией. Еврокомиссия считает, что эти соглашения противоречат нормам третьего энергопакета. Власти Болгарии уже заявили о приостановке работ по проекту после предупреждения Еврокомиссии о несоблюдении норм ЕС.
Между тем глава МИД Италии, председательствующей в ЕС, Федерика Могерини на прошлой неделе заявила, что проект "Южный поток" очень важен для всей Европы, и необходимо стремиться к тому, чтобы в ближайшие месяцы найти взаимоприемлемые решения по этой проблеме.
Возле хорватского Шибеника построят город на 2 500 жителей.
В 2015 году в хорватском Шибенике стартует строительство нового города-спутника. Он разместится между поселком Заблаче и крепостью Св. Николы по одному направлению и между Адриатическим морем и озером Мала-Солина по другому направлению.
Стоимость проекта пока не определена, однако известно, что это будет один из крупнейших проектов на рынке недвижимости Хорватии. По предварительным данным, реализация первой очереди потребует от властей несколько сот миллионов евро, передает портал Balkanpro.ru.
Комплекс «Новый Шибеник» будет предназначен для круглогодичного проживания. Он будет включать в себя гостиницу, четырехзвездочный отель, виллы, пристани для яхт, бизнес- и торговые центры, жилые дома, рестораны, кафе, магазины, детские сады, школы, спортивные и детские площадки и многие другие объекты. Ожидается, что в новом городе будет проживать до 2 500 человек.
Строительство такого современного комплекса в Хорватии как нельзя кстати. Уже в феврале 2014-го года поток отдыхающих в страну увеличился почти на 6%. Кроме того, в Хорватии наши соотечественники теперь имеют возможность приобрести недвижимость на физическое лицо, что может увеличить количество покупателей из России.
Ассоциация операторов мобильной связи Таджикистана обратилось с открытым письмом к Министру финансов и председателю Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан, в котором выражается озабоченность операторов сотовой связи в связи с резким ухудшением инвестиционного климата в стране. Как отмечается в распространенном заявлении, сегодня телекоммуникации - одна из самых динамичных и социально-значимых отраслей в экономике республики, которая оказывает влияние на другие сектора и развитие государства в целом, внося ежегодно в бюджет страны в виде налогов около 1 млрд. сомони (более 200 млн. долл. США). Однако, к сожалению, у отрасли появился ряд проблем, связанных с изменением с 1 января 013 года налогового законодательства Таджикистана, которое привело к значительному увеличению налогооблагаемой базы в отношении компаний с участием иностранного капитала. В частности, за короткий период были введены такие налоги, как акциз (3%) с исходящего соединения, акциз (3%) с входящего соединения, НДС (18%) с исходящего соединения, НДС (18%) с входящего соединения. Это привело к тому, что в 2013 году доля налогов по отношению к выручке в отрасли составила 32%, а с учетом актов налоговых проверок - 45%, а кроме налогов есть иные расходы: себестоимость, заработная плата персонала, расходы на содержание сети связи, комиссии за подключение абонентов и прием платежей и другие. «Такое бремя расходов ставит под угрозу инвестиционную привлекательность экономики Таджикистана и выполнение запланированных показателей отрасли связи в стратегии страны», отмечается в письме. Известная консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers, проанализировавшая налоговые платежи в 186 странах мира, в своем отчете PayingTaxes - 2014 отмечает, что «Республика Таджикистан по совокупной налоговой ставке занимает предпоследнее место в странах Центральной Азии и Восточной Европы, а налоговая ставка в 86% является одной из самых высоких в мире. Так, например, в странах Европы самая высокая ставка доходит до 65% (Италия), а самая низкая - 20% (Хорватия). По общему числу налогов в странах, представленных в отчете, Таджикистан входит в число стран со значительным количеством налогов (69 налогов). В Европе самый большой показатель - 39. В целом Таджикистан занимает 178 место из 186 стран мира по налоговому бремени для бизнеса. Учитывая вышеизложенное, Ассоциация операторов мобильной связи обращает внимание официальных лиц Таджикистана на сложившуюся ситуацию по налоговой нагрузке в отрасли и просит ответить: «Разве существующее налоговое бремя не вредит дальнейшему развитию отрасли электрической связи, и в целом, развитию экономики страны и интересам государства и нации?».
С 9 июля 2014 года наравне с национальными болгарскими визами в стране признаются визы Румынии, Хорватии и республики Кипр.
Туристы по визам вышеперечисленных стран смогут находиться на территории Болгарии не более 90 дней в каждый 180-дневный период, пишет Travel.ru.
Если же иностранная виза будет выдана на срок менее 90 дней, то по его истечению в Болгарии она тоже станет недействительна.
Право пребывания в стране также имеют и обладатели вида на жительство, который выдали Кипр, Румыния и Хорватия. Количество дней пребывания в полугодии подсчитывается по аналогии с шенгенскими визами.
Напомним, что популярный у россиян болгарский Солнечный Берег недавно был назван самым дешевым европейским курортом. А благодаря визовому новвовведению отдых на побережье страны стал еще более доступным.
Жилая недвижимость в Евросоюзе понемногу дорожает
Стоимость квадратного метра жилья в Евросоюзе в первом квартале 2014-го увеличилась на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Виновниками среднего прироста цен стали страны Балтии.
По сравнению с четвертым кварталом 2013 года недвижимость в ЕС прибавила 0,2% к своей средней стоимости, передает Евростат.
В годовом исчислении наибольший скачок цен зафиксирован в Эстонии и Латвии. Самыми слабыми рынками остаются Хорватия, Словения и Кипр. Интересно, что по данным статистического ведомства ЕС, недвижимость Испании подешевела всего на 1,6% за год.
Количество туристов в Хорватии выросло на 7%.
Хорватские курорты привлекают все больше иностранных туристов, правда, россияне не торопятся выбирать эту страну для проведения своего отпуска.
За шесть месяцев 2014 года Хорватию посетило 3,4 млн иностранных туристов, что на 7% больше, чем за тот же период прошлого года, пишет BalkanPro.ru со ссылкой на министра туризма Хорватии Дарко Лоренцина. Так же на 4,3% увеличилось время пребывания отдыхающих в стране.
Самые длительные отпуска в Хорватии провели гости из Германии, Австрии, Великобритании, Франции, Швеции, Финляндии, США, Канады, Южной Кореи и Китая.
Самым популярным регионом страны остается Истрия. С января по июнь ее посетили 1,04 млн туристов, что на 5,4% больше, чем годом ранее. Правда, россиян среди отдыхающих здесь не так много. А в начале июня и вовсе зафиксирован резкий спад турпотока из России. Наших отдыхающих на полуострове стало на 39% меньше, количество ночевок снизилось на 34%.
И все это несмотря на то, что Хорватия всячески стремиться привлечь российских отдыхающих и покупателей недвижимости. Например, в начале июня власти страны разрешили россиянам покупать недвижимость на физическое лицо, что значительно упростило процедуру.
По данным Европейского статистического управления уровень цен на товары и услуги в Чехии составляет 71% по сравнению в среднем с ЕС. По уровню цен Чехию опережают Болгария, Польша, Румыния, Литва и Хорватия. На одном уровне Чехия находится со Словакией и Латвией. По сравнению с Данией в Чехии данный уровень в два раза ниже.
Данная статистика определена на основе сравнения цен 2400 товаров и услуг в ЕС в рамках программы по увеличению покупательной силы населения.
Právo, 21.06.2014
При выборе мест проведения отпусков в этом году чехи больше ориентируются на цены. По результатам опроса, проведенного агентством STEM/M ARK, для большинства жителей Чехии самым важным критерием при выборе места проведения отдыха, независимо ? за границей или дома является стоимость тура. При этом на будущие расходы обращает больше внимания та категория жителей, которая планирует отпуск на родине. Не секрет, что большинство чехов желают провести больше отпуск за границей, чем дома.
В этом году 35% жителей страны планируют отпуск провести на родине, 16,5% ? в Чехии и за границей, 22% ? за границей и 26,5 – отпуск не планируют. Чехи предпочитают для отдыха Хорватию, Италию, Словакию, т.е. те страны куда можно доехать автомобилем или автобусом. Затем следуют Испания, Турция, Греция и Болгария.
Что касается расходов, то например, в категории до 10 тыс.крон на человека на отпуск в Чехии планируют потратить 83% жителей. На отдых за границей большинство чехов рассчитывает потратить до 15 тыс.крон.
Právo, 27.06.2014

Без иллюзий, или Словения между сломом социализма и кризисом капитализма
Йоже Менцингер
Спустя двадцать лет Словения бьется в экономических, социальных, политических и моральных судорогах, конца которым не видно. Потому не лишне поразмыслить о событиях, приведших к нынешнему состоянию. Могла ли Словения выбирать пути —лучшие, чем те, что она выбрала в действительности? Мы сбились —и когда? —с дороги, которая привела бы нас к чему-то более близкому тем романтическим ожиданиям двадцатилетней давности? Или же тогда это были лишь иллюзии? Вникнем в экономические проблемы, сопровождавшие Словению, —от слома социализма через депрессию переходного периода, десятилетия спокойного развития и периоды азартных игр к сегодняшнему кризису.
1. Слом социализма
Социализм должен был бы устранить недостатки капиталистической экономики, в первую очередь — капиталистическую эксплуатацию и экономическую неэффективность. Между тем в одних странах — семьдесят, а в других — пятьдесят лет социалистической системы показали, что «исключительно быстрый» экономический прогресс социализма сопровождался дефицитом и очередями в Москве, отсутствием света и холодными радиаторами в Бухаресте, забастовками в Варшаве, «серостью» в Праге. Страны, считавшие себя социалистическими — за исключением большей социальной защищенности и равенства — не могли гордиться достижениями в других областях. Чтобы хоть как-то соответствовать уровню развития капиталистических стран, они пытались проводить экономические реформы, которые в большей или меньшей степени «капитализировали» социализм. Но, когда последствия таких реформ становились социально и в первую очередь политически неприемлемыми, за ними следовали антиреформы. В 1980-е годы стало ясно, что опыты «строительства коммунизма» остались за бортом и что «дорога напрямик» в лучшем случае приведет к неразвитому капитализму. Несмотря на это, слом социалистической системы в Восточной Европе произошел поразительно быстро.
СФРЮ и Словения — как ее часть — разделили судьбу других социалистических стран, хотя с большей легкостью, основательнее и чаще, чем другие, меняли хозяйственную систему. Раз от разу изменения хозяйственной системы было возможно осуществлять при помощи политической монополии Коммунистической партии и — внутри нее — бесспорного лидерства Тито. Инициаторами, или идеологами всех изменений хозяйственных систем — от введения централизованного планирования экономики «советской» конституцией 1946 г., через введение самоуправления в 1950-е годы и рыночного социализма в 1960-е, вплоть до «договорной» экономики в 1970-е — были словенские политики: Борис Кидрич, Борис Крайгер и Эдвард Кардель. Причины реформ чаще всего были, скорее, политическими, чем экономическими; а у социологов никогда не было проблем с поиском «идеологических оснований» для реформ — достаточно было по-новому перечитать Маркса и из этой «богатой сокровищницы» общеупотребительных цитат выбрать наиболее подходящие. И те, вплоть до следующих нововведений, служили бесспорным доказательством верно выбранного на сей раз направления. Так оно и шло вплоть до 1980-х годов, когда легендарная способность изменять хозяйственную систему исчезла вообще. Число комиссий, резолюций и слов, посвященных прежде всего «открытым вопросам и реальным трудностям», затем «экономическому кризису» и наконец «всеобщему экономическому, политическому и моральному кризису», возрастало с неимоверной скоростью. Одновременно — особенно в академических кругах — увеличивалось и количество идей: как же все-таки выйти из кризиса? Вереница запретов сокращалась. Сюда относятся признание рынка труда и капитала как необходимых составляющих рыночной экономики (Horvat 1985, Jerovšek и др., 1985), изменения в самоуправлении (Goldstein 1985), смена концепции общественной собственности на коллективную (Bajt, 1986, 1988) или же реставрация смешанной экономики (Popović, 1984). Вскоре, несмотря на множество идей, стало очевидно, что время реформ истекло. Политики все еще, как шаманы во время засухи, твердили — заклинали о «необходимости дать проявиться экономическим и рыночным закономерностям» — точно так же, как десять лет назад говорили о «необходимости заменить рынок всеобъемлющей согласованностью на договорной основе, при помощи которой рабочие целиком овладели бы общественным воспроизводством». Среди попыток отыскать путь, который вывел бы страну из кризиса, самыми многообещающими были хлопоты внутри так называемой «крайгеровской» комиссии в первой половине 80-х, которая, однако, дальше замены утопичной «договорной» экономики семидесятых возвращением к социалистической рыночной экономике 60-х никуда так и не пришла. Все отчетливее становилось ясно, что изменения хозяйственной системы возможны лишь при отказе от ее основ — общественной собственности и самоуправления (Mencinger, 1988).
Объяснений для неожиданной неспособности продолжать реформы множество. От самого простого, согласно которому причины следует искать в уходе политиков, всегда «знавших», как быть дальше, и именно потому окруженных заурядностями, повторяющими лозунги, — до гораздо более хитросплетенных, согласно которым безветрие возможно объяснить появлением распределительных коалиций (Olson, 1982) — достаточно сильных, чтобы предотвратить изменения, но слишком слабых, чтобы их осуществить. Когда во второй половине 80-х кризис все еще продолжал усугубляться, стали предпринимать более радикальные попытки изменить хозяйственную систему: необходимость реформировать социалистическую экономику сменилась необходимостью преобразовать ее в капиталистическую. В эту сторону были обращены предложения, изложенные в тексте «Основные направления реформы хозяйственной системы», подготовленные в 1988 г. Комиссией Федерального Исполнительного Совета, или так называемой «микуличевской»1 комиссией. Комиссия восприняла идею об «интегральном рынке», состоящем из рынков продукции, труда и капитала, и переложила принятие решений с рабочих на собственников капитала. Последовавшие за этим два системных закона — Закон об иностранных инвестициях и Закон о предприятиях, собственно, и ввели капитализм еще прежде, чем социализм был формально устранен2.
Поиски «новой» хозяйственной системы были вызваны и сопровождались рецессией, начавшейся после второго нефтяного кризиса в 1980 г., когда Югославия больше не могла рассчитывать на кредиты и начался период купонов, четных и нечетных дней, периодической нехватки масла, стирального порошка и т.п. Рецессия стремительно углубляла противоречия между интересами республик, которые прежде прикрывались лозунгами о «братстве и единстве», признанию же противоречий препятствовала политическая монополия Союза коммунистов, которая, однако, быстро превращалась в политическую олигополию республиканских партий.
Неспособность изменить хозяйственную систему, с одной стороны, и еще более рецессия, с другой, породили «югославский синдром» — уверенность, что твои дела плохи, поскольку другие тебя используют. «Сербы использовали словенцев, словенцы — сербов, сербы — хорватов, хорваты — боснийцев…» Уже во второй половине 1980-х гг. в связи с этим стали появляться исследования о распаде Югославии и непосредственно об отделении Словении (Mencinger, 1990). В конце 1989 г. во время рецессии, переходящей в депрессию, высокая инфляция стала переходить в гиперинфляцию. Самой серьезной попыткой остановить гиперинфляцию стала стабилизационная программа Марковича3, выдвинутая в декабре 1989 г.; ее краеугольными камнями были фиксированный курс «нового» динара, рестрикционная денежная политика и контроль над заработком. В июне 1990 г. за ошибками начального этапа программы «шоковой терапии» последовали новые; программа эта провалилась частично еще и потому, что все попытки союзных властей что-либо предпринять успешно блокировались отдельными республиками.
В начале 1990 г. дело дошло и до фундаментальных политических изменений; введение партийной демократии в Словении и Хорватии привело к власти «право»-ориентированные правительства. Это углубило «югославский синдром» и ускорило распад хозяйственной системы. Осенью 1990 г. союзное государство СФРЮ как экономика перестала существовать; оно больше было не способно собирать налоги, контролировать «печатный станок», а также препятствовать введению «таможни» между республиками и появлению различных хозяйственных систем4. Потенциальная экономическая выгода отсоединения Словении стала превышать неизбежные экономические и социальные потери; независимость явилась запасным выходом и одновременно условием для изменения хозяйственной системы. Вместе с тем совершенно неясным и непредсказуемым оставалось лишь то, как это будет происходить.
2. Из социалистической Югославии в капиталистическую Словению
Поразительно быстрый слом социализма в СССР, в Восточной Европе и в СФРЮ потребовал таких же быстрых ответов на вопрос: как можно осуществить возвращение в капитализм без больших социальных потрясений? Правильных ответов не было; переход от социалистической экономики к капиталистической начался без ясного понимания реального экономического положения, без контуров новой хозяйственной системы и без соответствующих экономических и социальных решений проблем, неизбежно возникающих в переходный период.
Их заменили иллюзии: якобы устранение деформированных рыночных и нерыночных институтов, реставрация рынка и частной собственности, а также рыночный механизм laissez-faire автоматически превратят социалистические хозяйства в государственное благосостояние. К новым, неопытным правительствам с их романтическими ожиданиями «гуманитарной помощи» быстренько подскочили международные финансовые институты и консультанты, зачастую узнававшие о странах, которым они давали советы, из туристических брошюр и поездок от аэропорта до гостиницы «Холидей Инн» в их столицах. Кроме того, как и новые местные политики, многие иностранные специалисты были так же идеологически ослеплены и политически ангажированы — основной целью для них было окончательно устранить социализм и существующие институты, а вовсе не постепенно создать соответствующую определенной стране хозяйственную систему и повысить жизненный уровень для всего общества, а не только для «элиты»5. Различные идеологии прежнего «предотвращения капиталистической эксплуатации» сменила идеология «рыночного фундаментализма».
Принято говорить о трех или четырех составляющих переходного периода: приватизации, макроэкономической стабилизации, микроэкономической перестройке и установлении нового правопорядка.
Приватизация должна представлять собой упорядоченный и законный перенос прав собственности от «народа», т.е. государства и прочих государственных институтов, на участников гражданского права, т.е. частных предпринимателей и компании. Это повысило бы экономическую эффективность, гарантировало бы законность при разделе народных богатств и благ, а также служило бы устранению однопартийной системы. В действительности же превращение прежнего регулирования собственности в регулирование, которое соответствовало бы механизмам рыночной экономики и обеспечивало бы достижение поставленных экономических, социальных и политических целей, оказалось самой большой проблемой переходного периода. Оно, к сожалению, стало лишь целью, но не средством обеспечения экономической эффективности, а его стремительность и результаты перераспределения — критерием оценки успешности6. Различные приватизационные модели, вместо того чтобы отражать характерные особенности экономик, в действительности же отразили раздел, осуществляемый политическими силами и зачастую случайно выбранными приватизационными экспертами.
Макроэкономическая стабилизация — другой краеугольный камень переходного периода. Дело в том, что так называемый «monetary overhang» (излишек денег, денежный навес), или избыточный спрос, должен быть нормальной составляющей социалистической экономики; это проявлялось в очередях перед магазинами, в которых покупатели ожидали продукты и какие-то дефицитные товары, а также в низком качестве последних. Поэтому макроэкономического равновесия в бывших социалистических экономиках можно было бы достичь увеличением предложения, т.е. либерализацией торгового обмена, уменьшением спроса посредством рестриктивной денежной и фискальной политики, либерализацией цен, фиксированным курсом, а также заморозкой выплат и государственных расходов. Однако очень скоро стало ясно, что оценка исходного положения экономики из-за ускоренной инфляции или гиперинфляции, уничтоживших покупательную способность и тем самым спрос, была ошибочной; та же политика углубляла депрессию перехода, превращая все большее число отечественных изделий в «продукт исключительно социалистического производства», которые возможно продавать лишь в закрытом социалистическом хозяйстве, и тем самым ускоряя продажу предприятий иностранным межнациональным корпорациям.
Третью составляющую переходного периода — микроэкономическую перестройку — сложно отделить от приватизации и макроэкономической стабилизации. Вместе с тем несомненно то, что значительная часть быстрых структурных изменений являлась скорее навязанной, чем необходимой для данного уровня развития, из-за чего в менее развитых экономиках создавались ненужные или даже вредные для них институты.
В то же время созданию и установлению нового правопорядка, позволявшего «невидимой руке» рынка сменить направление деятельности администрации, не было уделено должное внимание7.
Словения как часть СФРЮ обладала всеми ее хорошими и плохими — в сравнении с другими странами Восточной Европы — качествами, но у нее были и дополнительные преимущества; несомненно, что в начале переходного периода она обладала самыми лучшими стартовыми условиями для успешной его реализации. Эти условия были созданы открытостью страны, наполовину осуществленными экономическими реформами и краеугольными камнями тогдашней хозяйственной системы: общественной собственностью и самоуправлением, делавшими возможными автономию предприятий, нормальную работу рынка продукции и принятием вполне стандартных политико-экономических мер.
К дополнительным словенским преимуществам следует отнести и социально стабильное население, географически рассредоточенную и довольно современную промышленность, частное (хотя и весьма неэффективное) сельское хозяйство, отчасти также частный сектор сферы услуг и укоренившиеся связи с западными хозяйствами. Наряду с этим нельзя не отметить, что словенская экономика так и не была полностью интегрирована в общеюгославскую. «Республиканизация» после 1974 г. с другими югославскими республиками наладила торговый обмен по образцу международного торгового обмена.
В мае 1990 г. мандат получило правительство «Демоса», состоявшее из политиков-любителей с весьма разношерстными взглядами на мир8. Согласно документу «Программный курс» оно должно было бы попытаться: 1) обеспечить необходимое для того, чтобы пережить период трансформации системы; 2) установить новую хозяйственную систему и 3) путем обращения к отдельным частям системы и политики сделать возможной экономическую самостоятельность таким образом, чтобы это не вызвало ломки экономики и не спровоцировало противомер со стороны других республик, федерации и заграницы. Правительство своими мерами (ограничением роста зарплат и уменьшением государственного потребления) реально поддерживало стабилизационную программу Марковича. Но от этой поддержки оно отказалось в середине 1990 г., когда в «Меморандуме об экономической политике до конца 1990 года» потребовало изменений в стабилизационной политике, и хотя союзное правительство этих требований никогда бы не приняло, правительство Словении объявило о выходе отдельных составных частей экономической политики из ведения федерации9. Устранив «черный валютный рынок», оно уже летом ввело параллельную систему «плавающего курса» для населения. После распада фискальной системы в июле (когда Словения прекратила платить в фонд поддержки менее развитых югославских республик и областей) и в сентябре 1990 г. (когда Сербия и Словения не перечислили в союзный бюджет половину собранного налога с продаж), межреспубликанской торговой войны (в октябре Сербия ввела специальные депозиты на все платежи в Словению и Хорватию) и вторжения Сербии в денежную систему в конце декабря 1990 года — Словения отклонила все предложения по усилению присутствия союзного правительства, вновь потребовала изменений в экономической политике и предложила принципы для разделения долгов, обязательств, а также нефинансовых активов между Словенией и остальными республиками СФРЮ. Однако эти требования союзное правительство вновь проигнорировало, поэтому, когда Национальный Банк Югославии прекратил вмешиваться в валютный рынок, Словения ввела собственный «квазивалютный рынок» и систему гибкого денежного курса для предприятий. Вместе с тем вплоть до июня 1991 г. словенское правительство сохраняло возможность создания таможенного союза с остальными частями Югославии, поэтому не вторгалось в систему таможенной охраны, а также регулярных выплат таможенных доходов в союзный бюджет10. Находясь в неопределенности по поводу будущей политической судьбы Словении и Югославии, правительство занималось расчетами расходов и прибылей от различных будущих мер11.
Уменьшение рынка12 и предложения по сырью из оставшейся части Югославии, остановка торговых потоков, налаженных Словенией через Югославию, снижение интереса иностранцев к маленькому словенскому рынку, разделение долгов, валютных резервов и недвижимого имущества, а также подготовка и подписание 2500 различных международных соглашений были отнесены к расходам. Прибыли были скорее потенциальными; посредством отсоединения Словения избежала бы политического беспорядка, увеличила бы возможности успешного изменения хозяйственной системы и введения экономической политики, соответствующей словенской экономике, а также возможности для вступления в ЕС. Осенью 1990 г. потенциальные прибыли перевесили расходы, независимость стала «запасным выходом».
При создании новой хозяйственной системы — еще до провозглашения независимости следует отличать те изменения, которые должны были бы обеспечить нормальную экономическую политику, от изменений, направленных на независимость, тогда еще остававшуюся под вопросом13. К первой группе изменений относится введение системы непосредственных налогов и первого бюджета с заложенным участием в делах федерации. С другой стороны, тайно появлялись законы, регулирующие денежную и фискальную систему будущей независимой страны; к этой группе мер относится также и печатание талонов в октябре 1990 г. Политика прагматичного приспосабливания к экономической ситуации и весьма неопределенным политическим решениям была успешной; в течение года Словения увеличила свою относительную конкурентоспособность на 35%, достигла суверенности в фискальной и курсовой политике, а также подготовила институциональные рамки для нового государства.
Накануне и во время обретения независимости разгорелся спор между приверженцами «шоковой терапии» и сторонниками «поступательности». Первые, поддерживаемые иностранными советниками, верили в то, что провозглашение независимости и переходный период необходимо связать в единый пакет экономических мер, включающий в себя централизованную приватизацию, стабилизационную программу с характерными особенностями «шоковой терапии» и государственную перестройку экономики, особенно банковской системы; но прежде всего они верили в то, что незамедлительно нужно «позабыть» о самоуправляющемся прошлом. Приверженцы же «поступательности», собравшиеся в Совете Банка Словении, видели различие мер по обретению хозяйственной независимости и меры переходного периода; к поступательным мерам относилась децентрализованная приватизация, постепенное создание отсутствующих рыночных институтов, а также гибкая экономическая политика (Mencinger, 1991). Такая политика должна была бы сопровождаться меньшими потерями национального продукта, более низким уровнем безработицы, меньшим расслоением общества, но — более высокой инфляцией.
Поступательность была характерна и для макроэкономической стабилизации, ответственность за которую после провозглашения независимости — в значительной мере реально, а не только формально, — взял на себя Банк Словении. Основанием для нее были незамедлительное введение системы плавающего курса, ползущая привязанность курса и «пренебрежение» инфляцией. Больше всего проблем вызвала абсолютная и относительная малость, а поэтому и исключительная чувствительность финансовой сферы. Уже во время первоначальной консолидации денежной системы (с октября 1991 г. по июнь 1992 г.) Банку Словении удалось определить основные принципы изыскания денег для «новой» экономики и снизить уровень ожидаемой инфляции. Страх перед нехваткой валютных средств оказался необоснованным. Вместо избыточного спроса довольно быстро воцарилось избыточное предложение валюты. Поэтому Банк Словении быстро отменил первоначальные ограничения на валютном рынке и перешел к системе управления плавающим курсом, тем самым препятствуя чрезмерному реальному повышению курса толара. Инфляция же уменьшалась прежде всего благодаря уменьшению инфляционных ожиданий, усилению конкурентоспособности посредством открытия экономики, а также — вплоть до 1999 года — благоприятному развитию «terms of trade»*, которые основывались на длящемся десятилетие снижении цен на нефть (Mencinger, 2000 b). Внутреннее и внешнее равновесие в течение всего периода от провозглашения независимости до 2004 г. оставалось характерной чертой, а также и особенностью словенской — в сравнении с другими переходными ситуациями — экономики, соответственно сохранялась и высокая доля государственных затрат в национальном продукте. Именно последнее, среди прочего, в значительной мере отражало поступательность во взглядах на то, каково социально приемлемое перераспределение национального продукта.
Поступательность, характерная для экономического развития Словения, собственно, никогда не была поставлена под угрозу; при образовании нового государства Словения не являлась членом Международного валютного фонда и у нее не было никаких «stand-by»** кредитов, при помощи которых МВФ принуждает воплощать в жизнь свои рекомендации, а потому могла отклонить тот тип стабилизации, которую рекомендовал «Вашингтонский договор». Можно сказать, Совет Банка Словении из рук экономически весьма необразованного правительства взял в свои руки стабилизационную политику и проводил политику отличную от действующих в то время доктрин МВФ.
Опасность рыночного фундаментализма начиная с 1993 г., когда была пройдена нижняя точка депрессии переходного периода, на целое десятилетие с лишним совсем пропала, ведь тогда последовал период солидного экономического роста, снижения безработицы и инфляции, сопровождавших внутреннее и внешнее равновесие14.
3. Приватизационные трудности
Еще до переходного периода в Словении существовал более или менее нормальный рынок продукции и несколько необычный рынок труда, который был приспособлен под нужды самоуправления. Гораздо больше трудностей было связано с рынком капитала, который должен был бы передавать сбережения от их владельцев инвесторам и обеспечивать их эффективное использование15. Но его невозможно создать без частной собственности, ведь собственность «всех и никого» нельзя покупать и продавать. Бóльшая часть производственного сектора, по крайней мере принципиально, целиком принадлежала «народу»; каким образом его приватизировать? Это и было в Словении самой сложной проблемой переходного периода. Вместе с тем приватизации государственного или общественного имущества никто из тех, кто в начале 1990-х гг. получил или сохранил политическое влияние, не противился. Да и всем тем, кто немного раньше еще «верил» в общественную собственность и самоуправление, приватизация казалась само собой разумеющейся. Однако как ее проводить, чтобы она привела к эффективной экономике и социально справедливому обществу, никто не знал ни тогда — ни сейчас.
В работах о том, что делать, если упростить, наметились два направления: 1) концепция децентрализованной, поступательной и возмездной приватизации и 2) концепция централизованной, быстрой и безвозмездно-распределительной приватизации. В каждой концепции были свои экономические достоинства и недостатки, но последние для проведения в жизнь этих концепций не имели особого значения; речь шла о перераспределении экономической и политической власти. Первый вариант предполагал ее сохранение в руках прежней экономической и политической элиты, а другой — передавал бы ее в руки новой экономической и политической элиты. «Закон о переоформлении общественной собственности» от ноября 1992 г. является своеобразным компромиссом между обеими; из первой концепции в него вошла децентрализованность, из второй — безвозмездное распределение при помощи сертификатов. Важнейшей положительной стороной этого закона была изначальная неопределенность структуры собственности по окончании формальной приватизации, а самой уязвимой — установление в сфере имущества института посредничества вместо устойчивого длительного хозяйствования.
Несмотря на окольные пути, словенская приватизация считалась успешной; в большом количестве предприятий стала возможной форма участия работников в собственности16 — без чего, скорее всего, их обанкротилось бы гораздо больше, а лучшие оказались бы в иностранной собственности, как практически все в Восточной Европе. Вместе с тем уверенность в относительной справедливости и эффективности словенской модели приватизации особенно после 2005 г. сильно пошатнулась; именно в сертификационной приватизации следует искать и корни словенского «казино капитализма». Посредством сертификатов и их обменом на акции в хозяйственных обществах и проектах производства работ мы создали, так сказать, два миллиона «капиталистов» — собственников имущества, которых не заботит судьба «их» хозяйственного общества, но лишь дивиденды и капиталистические прибыли, а следствием является истощение предприятий. Обладатели сертификатов, если им повезло, стали собственниками имущества в «Леке», «Крке», «Петроле» и других успешных хозяйственных обществах, но и здесь их реально интересовали лишь дивиденды и обращение акций в деньги, на которые они могли бы заменить свое имущество производственного назначения на имущество непроизводственного назначения, например автомобили или недвижимость, а не долгосрочная перспектива судьбы хозяйственных обществ, собственниками которых они стали. Большому количеству обладателей сертификатов, как всегда, оставалось лишь «вложение» в ППР, которые были преобразованы в инвестиционные общества; так мы и на другом уровне получили собственников имущества. А потому при помощи приватизации, собственно, по крайней мере в том, что касается ответственности, мы попали «из огня да в полымя». По-новому устроенная частная собственность зачастую оказывалась менее эффективной нежели прежняя общественная; она была действительно коллективной собственностью, являющейся по своей природе, скорее, владением хозяйственным обществом, чем владением его имуществом. Как таковая она была гораздо более связана с предпринимательством, чем с ним связана сегодняшняя частная собственность17.
4. Как мы оказались там, где находимся?
В таблицах 1а и 1b представлены самые важные показатели двадцатилетнего развития экономики Словении; номинальный валовый внутренний продукт, валовый внутренний продукт на душу населения, темпы роста реального ВВП, безработица, выраженная в числе ищущих работу, и инфляция. Доля государственного потребления и доля расходов на образование, здравоохранение, социальный сектор и культуру косвенно указывают на социальную сплоченность, которая обычно измеряется коэффициентом риска бедности или различными коэффициентами распределения доходов, каковыми являются коэффициент неравенства, или коэффициент Джини; обе указывают на то, что доходы в Словении распределяются гораздо более соразмерно, нежели в Европейском Союзе. Затем следуют показатели внутренней стабильности: сбалансированность бюджета и государственный долг. Характерные особенности экономических отношений Словении с остальным миром демонстрируют сальдо счета текущих операций, объем экспорта и импорта, а также коэффициент открытости экономики.
Таблица 1a
Экономическое развитие Словении, 1991–2010

Источник сведений: Статистическое управление Республики Словения и Евростат
Таблица 1b
Экономическое развитие Словении, 1991–2010

Источник сведений: Статистическое управление Республики Словения и Евростат, собственные расчеты,
* — млн долларов США
В конце Таблицы 1b представлены менее употребимые, но для передачи изменений экономического состояния весьма важные финансовые показатели. Нетто финансовое положение (разница между неоплаченными долгами и обязательствами Словении по отношению к другим экономикам, которую составляет разница между размещением капиталов резидентами Словении за рубежом и иностранцами у нас в форме непосредственных вложений, вложений в ценные бумаги и прочими вложениями) демонстрирует зависимость экономики от финансовых колебаний в мире. Отношение между кредитами и ВВП показывает финансовое «погружение» экономики, а отношение между кредитами и депозитами связывает характерные особенности банковского сектора с финансовой зависимостью Словении от происходящего на мировых финансовых рынках.
Рисунок 4.1
Экономическое развитие Словении 1991– 2010
экономический рост ищущие работу (в тысячах)
инфляция (в %) дефицит бюджета (в % ВВП)
дефицит текущего счета
(в % ВВП) открытость экономики
финансовая глубина кредиты / депозиты

Экономическое развитие18 Словении можно разделить на четыре периода: период переходной депрессии (1991–1993), период выздоровления и безветрия (1994–2004), период азартных игр (2005–2008) и вытекающий из него период экономического кризиса (2009–2010).
Депрессия переходного периода
Словения как национальная экономика формально появилась 8 октября 1991 г., когда истек трехмесячный срок, в течение которого, согласно Брионскому договору, она должна была отказаться от мер, предпринятых для того, чтобы отстоять свою независимость. Страна сразу же столкнулась с продолжением кризиса, в течение которого падение активности, обусловленное переходным периодом, смешивалось с практически абсолютным исчезновением югославского рынка. Промышленное производство после 10,5-процентного падения в 1990 г., в 1991 г. сократилось еще на 12,5 %, в 1992 г. — на 13,2 %, а в 1993 г. — еще на 2,7 %. Валовый внутренний продукт в 1991 г. снизился на 9,3 %, в следующем году — еще на 6 %. Это сопровождалось снижением занятости населения на 5,6 % в 1992 г. и на 3,5 % в 1993 г. Количество ищущих работу с 44 тысяч в 1990 г. возросло до 129 тысяч в 1993 г.; удвоилось количество неработающих пенсионеров. И те и другие требовали бóльших социальных выплат и увеличения доли государственного потребления в валовом внутреннем продукте. Инфляция, которая в 1991 г. с 549-процентной в 1990 г. снизилась «лишь» на 118 % и вновь поднялась на 201 % в 1992 г., в 1993-м успокоилась на 32,3 %. Вместе с тем вынужденный переход с югославского на «настоящий» иностранный рынок уже в 1991 и 1992 гг. принес на удивление значительный избыток в товарообмене: потеря югославского рынка ускорила реструктуризацию, вынудила на соответствующую экономическую политику и быстрое формирование нормальных макроэкономических рамок. В середине 1993 г. было достигнуто дно депрессии, а в следующем году — четырехпроцентный экономический рост. Двойной переход — из социалистической в рыночную и из региональной в национальную экономику — сопровождался переходом из индустриальной в сервисную экономику, а также крахом крупных и появлением мелких предприятий19. Реструктуризация была постепенной, рассредоточенной и по большей части без государственной поддержки. В первый период значительную часть реструктуризации составили именно увольнения и отправка на пенсию. Социальные издержки переходного периода, которые хотя и были гораздо ниже, чем в других странах, переживавших переходный период, в первую очередь ударили по тяжело адаптирующимся к новым условиям промышленным рабочим среднего возраста, потерявшим место: прежняя «самоуправляемая» асимметрия рынка труда, так сказать, превратилась в «неоевропейскую» асимметрию, однако вплоть до 1993 г. увеличение «скрытой» безработицы и ранний выход на пенсию смягчали социальные проблемы, однако это усугубляло долгосрочные проблемы пенсионной системы. Социальная стабильность осталась важной особенностью Словении. Она основывалась на рассредоточенности индустрии, которая вместе с особенностями уклада в сельском хозяйстве способствовала появлению важной социальной группы — полукрестьян. Начальные условия, определенные реформами в бывшей Югославии, отклонение рекомендаций международных финансовых институтов, поступательность и прагматичность в экономической политике и в создании экономической системы, а также нерешительность в устранении институтов прежней экономической системы — важные факторы относительно успешного перехода. Утверждения о том, что переход был бы еще более успешным, если бы Словения приняла рекомендации международных финансовых институтов и если бы еще в 1990 г. новая власть отстранила бы людей, придерживавшихся «непрерывности» пути развития, ошибочны. Экономической успешности и малым социальным издержкам переходного периода, несомненно, способствовало и то, что Словения избежала политических потрясений и что прежней политической и экономической элите удалось сохранить или же во время переходного периода вновь обрести экономическое и политическое влияние.
Период выздоровления и безветрия
Экономические достижения периода с 1994 по 2004 год можно считать, по крайней мере, удовлетворительными. Для процессов этого периода был характерен стабильный и в соответствии со степенью развитости также довольно высокий экономический рост, при внутреннем (бюджет) и внешнем (платежный баланс) равновесии достигший уровня около 4 %. Безработица, приобретшая черты безработицы европейских рыночных экономик (Mencinger, 2000), постепенно шла на убыль, так же постепенно уменьшалась и инфляция. Колебания доли государственного сектора в ВВП, вполне соответствующей «европейскому» уровню, и колебания расходов на образование, здравоохранение, социальный сектор и культуру, превосходивших средние «европейские» показатели, происходили скорее из-за колебаний в знаменателе, чем в числителе этой доли. Внутренний дисбаланс, отразившийся в бюджетном дефиците и государственном долге, был не слишком велик. Излишков в части услуг по текущему счету хватало на покрытие дефицита в его коммерческой части; внешнее равновесие наряду с унаследованной структурой экономики обеспечивалось также принятым решением о скользящем курсе, постоянной сбалансированной монетарной и курсовой политикой, а также размышлениями о продажах имущества «во благо малой родины»20. От других бывших социалистических экономик Словения отличалась прежде всего относительно малыми непосредственными вложениями из-за рубежа, ведь она меньше, чем другие экономики, продавала богатства своего производства и сохранила значительную часть финансовой экономики. В отличие от большинства прочих бывших социалистических экономик, она сохранила и высокую степень социальной сплоченности. Это демонстрирует Рисунок 2, на котором показана комбинация критерия экономической успешности и критерия социальной сплоченности для стран — участниц ЕС. Согласно комбинации критериев Словения попадает в «скандинавский квадрат», объединяющий государства, экономически и социально более успешные, чем средние показатели Евросоюза.
Рисунок 2
Экономическая успешность и социальная сплоченность
(по горизонтали уровень занятости населения, по вертикали уровень риска бедности в %)

Примечание: Для измерения экономической успешности все чаще используется уровень занятости: доля работающих среди населения в возрасте от 15 до 64 лет — на горизонтальной оси; а для измерения социальной сплоченности — уровень риска бедности (доля населения, имеющего доходы меньше 60 % медианы) — на вертикальной оси. Словения (2007), по оценке обеих, попадает в так называемый «скандинавский квадрат».
Источник сведений: Евростат
Рисунок 3
Зависимость экономики Словении от ЕС
(годовой прирост ВВП 1998/I–2011/I)

Источник сведений: Евростат
Потоки товаров, услуг и капитала постепенно привязали Словению к Евросоюзу, и таким образом она, потеряв экономические атрибуты государства (деньги, налоги, границы и правила игры) и вступив в ЕС и ЕВС, также формально стала областью ЕС21.
Период азартных игр и кризис
По вступлении в Европейский Союз или, еще более, по вступлении в еврозону Словения сошла с пути прежнего консервативного развития. «Устаревшее» (физиократическое и «во благо малой родины») мышление сменилось «современными» идеями, согласно которым богатство можно приумножать «финансовым погружением», поиском «случая» прибрать к рукам предприятия в бывших югославских республиках и покупкой «высокодоходных» ценных бумаг в различных фондах дома и по всему миру. Экономический рост, усиливавшийся и в 2007 г. (в первую очередь благодаря 15-процентному росту строительства и финансовых услуг), достиг 6,8 %; число ищущих работу с 2004 по 2008 г. быстро снизилось на треть; благодаря быстрому росту ВВП уменьшились государственно-финансовый дефицит, доля государственного сектора и государственный долг. Значение словенского фондового индекса, которое прежде более или менее соответствовало росту нормального ВВП, за три года утроилось. Понятие экономии изменилось, обычные формы сбережений в банках вытеснили инвестиционные спекуляции в «высокодоходных» отечественных или зарубежных инвестиционных или пенсионных фондах. Биржа, призванная аккумулировать сбережения и контролировать управление предприятиями, стала местом для посреднических сделок с имуществом и создания виртуального богатства. Сформировалась среда, в которой укоренилась практика выкупа предприятий собственным руководством22. Все это стало возможным лишь при быстром росте кредитов. А поскольку депозиты в банках росли гораздо медленнее, приблизительно с той же скоростью, что и номинальный ВВП, довольно скоро рост кредитов, необходимых для финансирования производства, расширения путем покупки предприятий, выкупа предприятий руководством и «сбережений» в ценных бумагах, привел лишь к обременению банков долгами за рубежом.
Рисунок 4
Внутреннее и внешнее равновесие, 1994–2010
(А: жирным — дефицит бюджета, тонким — дефицит текущего счета; Б: жирным — государственный долг, тонким — нетто внешний долг; и там и там по вертикали — % ВВП)

Источник: Банк Словении и Министерство финансов
Рисунок 5
Азартные игры (финансовое погружение, создание виртуального богатства и долга)
(Серым обозначен период азартных игр.)

Кредиты и депозиты кредиты/депозиты
Словенский фондовый индекс НЕТТО ДОЛГ
Источник:Банк Словении и Министерство финансов
В результате процессов 2005–2008 гг. Словения «вернется» к странам, развитие которых в переходный период опиралось на иностранные сбережения, поступавшие к ним в различных формах, чаще всего в форме иностранных непосредственных вложений или сумм за проданное имущество. «Финансовое погружение» 2005–2008 гг., как видно, окончательно расправится и с «национальным интересом». Распродажа предприятий, являющаяся следствием неуспешных выкупов их собственным руководством и политической демагогии, вернет ее в ряд других бывших социалистических экономик, судьбы которых в большей или меньшей степени решают собственники мультинациональных корпораций, прежде всего банков и финансовых институтов, находящихся практически целиком во власти
иностранцев23.
Начавшегося в конце 2008 г. кризиса Словения, естественно, избежать не могла, поскольку — и прежде всего — активность производства абсолютно зависит от экономической активности в ЕС, однако она встретила его дисбалансом, который сильно снизил или даже свел на нет возможности того, чтобы при помощи остатков экономической политики, по крайней мере, смягчить его социальное воздействие24 и ускорить выход из него.
Предпринимаемые государством финансовые усилия в период кризиса в Словении вовсе не представляют собою ничего особенного; значительное увеличение бюджетного дефицита и государственного долга в 2009 г. — непременное условие сокращения экономической активности, что немедленно снижает государственную финансовую прибыль от посредственных и непосредственных налогов, в то время как государственные финансовые расходы снижаются не так быстро — а если бы и снижались, кризис оказался бы еще более глубоким. Кризисная ситуация требует даже еще бóльших расходов для поддержки общественной безопасности и, как в текущей кризисной ситуации, для социализации банковских потерь, при помощи которой государства пытались предотвратить крах финансовой системы и частично в этом преуспели. Такое спасение финансовой системы демонстрирует Рисунок 6, на котором изображен пример словенских банков: это — уменьшение задолженности «частного» сектора (банков) за рубежом при увеличении задолженности государства25 за рубежом. Наряду с предпосылкой о том, чтобы только государство принимало на себя обязательства по облигациям, увеличение долга в 2009 г. было в Словении несколько бóльшим, чем в среднем по ЕС27 (бóльшим было и сокращение ВВП), но еще более, чем Словения, государственный долг в период кризиса до конца 2011 г. должны были бы увеличить еще десять членов Евросоюза. Однако из-за малой задолженности до кризиса государственный долг в размере около 45 % ВВП должен был бы оставаться на 20 индексных пунктов ниже, чем в среднем в ЕС27. Гораздо более опасным, чем государственный долг, является общая задолженность Словении (банков, населения, нефинансового сектора и государственных учреждений) за рубежом26 и большая внутренняя задолженность или неликвидность нефинансовой части экономики, которая точно так же появилась в результате финансового погружения или кредитной зависимости нефинансовых обществ в период до кризиса и которая препятствует оживлению экономики.
Рисунок 4.6
Перенос долга за рубежом с «частного» на государственный сектор
(в % ВВП; тонкая линия — задолженность банков; жирная линия — задолженность государства)

Источник: Банк Словении, собственные расчеты
Уровень государственного долга, не являющегося критичным, и появление нетто задолженности и кредитной зависимости в прошлом указывают на сомнительность пути решения проблем при помощи такого рода консолидации государственных финансов и уменьшения государственного долга, с одной стороны, и посредством требований о немедленном введении новых правил капиталистического соответствия банков — с другой. Чересчур быстрое фискальное и монетарное ужесточение сделает невозможным избавиться от кредитной зависимости и неликвидности предприятий, а также уменьшить задолженность банков за рубежом. Парализованный внутренний спрос дополнительно может активизировать лишь государство, но не принуждением к экономии, а поощрением экономической активности. При этом для него оказывается доступен лишь безрадостный выход — займы и бóльший государственный долг; и то и другое с развитием паралича экономики, естественно, будут увеличиваться, а это еще хуже.
***
Дать ответ на вопрос об окончании кризиса и о том, что будет со Словенией в конце второго десятилетия XXI века, невозможно. Вероятно, кризис, или колебание роста около нулевой отметки, — это нормальное состояние, к которому просто следует привыкнуть? При этом не стоит забывать о том, что Словения — это лишь область Евросоюза, ведь от ответственности, присущей государству как экономической единице, — в деньгах, налогах, границах и правилах игры — осталось совсем немного.
Таким образом, размышления о 2020 г. могут быть лишь размышлениями о Европейском Союзе и его судьбе, что возвращает нас к «официальным» стратегиям европейских властей. «ЕВРОПА 2020 — Стратегия разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста» присоединилась к потоку стратегий в прошлом году27. Может ли Европа ожидать от нее большего, чем от лиссабонских стратегий? Если собранной в ней риторики окажется достаточно, о жизни в 2020 г. мы смело можем больше не заботиться. Крах двух стратегий несколько отрезвил брюссельских плановиков: так, например, глобализацию теперь определяют туда, где ей и место, — к трудностям ЕС, вместе с давлением на природные ресурсы и старением населения. Также и важнейшая цель — 75 % занятости — ведет к осознанию того, что проблемой современного мира оказывается создание достаточного количества рабочих мест, а не достижение еще большей производительности и богатств, и что создание новых услуг, учреждений и правил — это лишь способ, как хотя бы немного преодолеть последствия технического прогресса для сферы занятости.
А что, если в 2020 г. Европейского Союза вообще больше не будет, по крайней мере такого, каким мы его знаем сейчас? Еще несколько лет назад об этом было неприлично даже подумать, но два с лишним года кризиса привели к появлению в ЕС «югославского синдрома» и к различного рода исследованиям, подобным тем, что наводнили Югославию накануне ее краха. Ведь вдруг оказалось, что Евросоюз-2011 очень похож на СФРЮ-1983, когда югославские политики еще искали выход для Югославии, а нынче европейские политики ищут выход для Евросоюза. И если им не повезет, Словении останется лишь опыт двадцатилетней давности.
Использованная литература
Bajt, A.(1986): Preduzetništvo u samoupravnoj socijalističkoj privredi, Privredna kretanja 159, 32?46.
Bajt, A. (1988): Samoupravna oblika družbene lastnine, Globus, Zagreb.
Bole, V. (1993): Restrukturiranje gospodarstva, Gospodarska Gibanja, EIPF, Ljubljana, 239, 21-34;
Goldstein,S. (1985): Prijedlog 85, Scientia Yugoslavica, Zagreb.
Horvat, B. (1985): Jugoslovensko društvo u krizi, Globus, Zagreb.
Jerovšek,J.,et al.: (1985) Kriza, blokade i perspektive, Globus, Zagreb.
Kornai, J. (1990): The Road to a Free Economy, WWNorton&Company, New York;
Krugman, P (2010): The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008.
Mencinger, Jože (1988) Ideološki preboj, teoretska zmeda in stvarne prepreke, Gospodarska Gibanja, 6/1988, 39-45;
(1990) Slovensko gospodarstvo med centralizmom in neodvisnostjo, Nova Revija, 108,
(1991) «Makroekonomske dileme Republike Slovenije» Gospodarska gibanja, 5/1991, 25-35;
(2000a): Restructuring by Firing and Retiring”: The Case of Slovenia v Landesmann M.A. in Pichelmann, K.:(2000) Unemployment in Europe, McMillanPress, London, 374-389;
(2000b) Zunanje ravnotežje ter avtomobilski in bencinski trg, Gospodarska gibanja, februar 2000, 25-38;
Olson M (1982): The Rise and Decline of Nations, Yale University Press, New Haven
Popović, S. (1984) Ogled o jugoslovenskom privrednom sistemu, Marksistički centar Beograd.
Stiglitz, J.: (2010): Freefall, Free Markets and the Sinking of the Global Economy, Penguin Books, London;
Источники сведений:
Статистическое управление Республики Словении — Statistični urad Republike Slovenije;
Евростат — EUROSTAT;
Банк Словении — Banka Slovenije;
Министерство финансов — Ministrstvo za finance.
Примечания
1 Микулич, Бранко – югославский политик, государственный деятель, председатель Союзного Исполнительного Вече СФРЮ в 1986–1989 гг., предпринявший ряд жестких мер ради стабилизации экономического положения страны. – Примеч. пер.
2 Введение капитализма обычно связывают с обретением самостоятельности и переходным периодом, а также с принятием в конце 1992 г. «Закона о преобразовании общественной собственности». Вместе с тем более или менее официальными являются и замыслы по приватизации, отраженные в документе «Отказ от безсобственнической концепции для общественной собственности». Таким образом, этот документ не мог стать ничем другим, как отказом от общественной собственности, или ее «вырождением» в коллективную и затем в частную собственность. Право управления и постоянного пользования в соответствии с инвестированным капиталом, вводимые тезисами документа, как раз являются составляющими капитализма. При этом общественная собственность все-таки была бы основной формой собственности, однако без дополнительных ограничений по отношению к другим формам она не могла оставаться доминирующей. «Официальное» введение рынков товаропроизводителей также потребовало бы «официального» признания и последствий, а это не что иное, как «официальный» отказ от провозглашенных основ общественного устройства – общественной собственности и самоуправления, ведь и то и другое идеологически, теоретически и практически несовместимы с рынком товаропроизводителей.
3 Маркович, Анте – югославский политик, государственный деятель, последний председатель Союзного Исполнительного Вече СФРЮ (1989–1991). – Примеч. пер.
4 Распад Югославии и отделение Словении прикрыты политическими и этническими рассуждениями, однако ясно, что все это невозможно отделить от процессов переходного периода. И более того, именно возможности перехода и присоединения к Евросоюзу оказались среди важнейших аргументов к достижению самостоятельности Словении.
5 Экономисты во все более обширной литературе в области «трансформатологии» занимаются так же и классификацией событий перехода по переходным моделям. Чаще всего используется разделение на модель «шоковой терапии» и поступательную модель. Однако можно быстро удостовериться, что такое разделение не дает классификации государств, осуществляющих переход, ведь отдельные составляющие перехода в определенных странах являлись смесью скорее разнообразных системных изменений и экономических политик, чем согласованных решений. Некоторые из них могли бы трактоваться как составляющие поступательного перехода, другие – как составляющие «шоковой терапии». Кроме того, целиком отдельное системное изменение или решение хозяйственной политики, например либерализацию цен, в отдельной экономике (Польша) возможно трактовать как «шоковое», в другой (Венгрия) как составляющую поступательности, в третьей (Словения) оно просто является начальным состоянием. Разделение Станислава Гомулки (2000) на три модели неопределенности не устраняет. Согласно ему к модели «шоковой терапии» относится лишь переход, осуществленный в бывшей Восточной Германии, в поступательную модель попадают наследницы бывшего Советского Союза, а в модель быстрого приспособления – все восточноевропейские экономики. В действительности же важными являлись и различия в исходном положении, и различия созданных политических элит.
6 То, что частная собственность является условием эффективности, само собой разумеется, однако она является лишь необходимым, но недостаточным условием для достижения трех целей, ведь «настоящих» собственников, которые обеспечивали бы эффективное использование средств, невозможно создать декретами и административной передачей собственнических полномочий. Именно поэтому можно было ожидать, что эффект приватизации по отношению к эффективности экономик будет маленьким и, прежде всего, отложенным на будущее. Работает ли другая предпосылка – о том, что приватизация обеспечит законность, – это еще больший вопрос. Законность в экономике – исключительно неопределенный концепт, на что указывают, например, уже весьма разнообразный опыт распределения материальных ценностей даже в наиболее развитых капиталистических хозяйствах. Хотя частная собственность и рыночная экономика являются основой стабильной политической демократии, однако новая или ново-старая политическая и экономическая элита приватизацию поняла в первую очередь как возможность быстрого усиления своей политической легитимности и увеличения своего благосостояния. Таким образом «настоящая» приватизация была лишь той приватизацией, результатом которой стала удовлетворявшее их перераспределение богатств и сфер влияния. Капитализм в Южной Америке и не только вовсе не является эффективной хозяйственной системой, не обеспечивает разумного распределения богатств и благ и еще меньше является основой политической демократии.
7 Впрочем, рыночные институты и рамки закона, формально сходные с теми, что присутствуют в развитых рыночных экономиках, могут быть сформированы довольно быстро, но это не обеспечивает того, что работать они будут так же, как в развитых рыночных экономиках.
8 В правительстве сформировались три группы; наряду с политически сильной «государствообразующей», также политически слабая «экономическая» группа и группа «попутчиков», попавших в правительство благодаря выборной математике. Разделение между «державообразующей» и «экономической» группой явствовало из их отношения к Югославии; для первых (может быть??) отделение было целью, для вторых выход был вынужденным и в меньшей степени определенным переходным периодом. Что касается взглядов на переходный период или на приверженцев «шоковой терапии» и постепенщиков речь скорее шла о разделении между «правыми», желавшими возвращения к тому миру, каков он был до Второй мировой войны, и «левыми», о таком возвращении не помышлявшими.
9 В этом меморандуме словенское правительство требовало: 1) отменить привязку денег к немецкой марке и их девальвацию; 2) уменьшить налоговое бремя за счет расходов на оборону; 3) более эффективно контролировать рост заработной платы и вернуть зарплаты союзной администрации на сопоставимый уровень; 4) скорректировать денежную политику при налогообложении, а также перенести большую часть валютных запасов в коммерческие банки и 5) взять на себя часть претензий предприятий к Ираку. Одновременно оно объявило о собственных мерах по защите словенской экономики.
10 Поводом для выступления Югославской народной армии на пограничные переходы и войны за независимость могло бы стать именно нарушение словенским правительством обещания, что оно будет выплачивать в союзный бюджет собранные на границе таможенные пошлины.
11 Будущее политическое устройство вплоть до июньской войны, или июльского Брионского соглашения, несмотря на результаты декабрьского референдума, в действительности было еще совершенно неопределенным, о чем свидетельствуют исследования об асимметричной федерации и различных формах конфедерации.
12 Самой большой потенциальной и реальной проблемой было именно уменьшение рынка, ведь Словения на югославском рынке, если считать его иностранным рынком, продавала целых 58 % общего «экспорта».
13 Основная часть недостающих макроэкономических предпосылок для эффективной рыночной экономики появилась в 1990 – начале 1991 г., еще до политического провозглашения независимости. В конце 1990 г. Законом о доходах и Законом о налоге на прибыль была введена простая, прозрачная и недискриминационная система прямых налогов. В начале 1991 г. были подготовлены Закон о Банке Словении, Закон о банках и сберегательных кассах, Закон о валютной системе и Закон о реабилитации банков и сберегательных касс, которые вступили в силу одновременно с Декларацией о независимости в июне 1991 г.
* Условия торговли (англ.). – Примеч. ред.
** Резервный (англ.). – Примеч. ред.
14 Во второй раз угроза возникла в ноябре 2005 г., когда тогдашнее правительство приняло «Рамочное постановление об экономических и социальных реформах, направленных на увеличение благосостояния в Словении». Реформами должны были бы стать «процесс изменения основополагающих системных параметров», а также «экономической и общественной парадигмы, действовавшей начиная с обретения независимости». Исходной точкой подъема должна была бы стать налоговая реформа с пресловутой тройной ставкой единого налога, которую бы сопровождали реформа социальной системы, системы здравоохранения и системы образования, уменьшение государственного сектора и приватизация в производственном секторе имущества, которое в результате первой приватизации непосредственно или опосредованно оставалось в собственности государства. Опасности, что реформаторский подвиг 2005 г. состоится, не было. Налоговую реформу с бессмысленной тройной ставкой единого налога еще до ее начала собственным высокомерием развалили ее же авторы, а добили профсоюзы. Стратегический совет и Комиссия по реформам быстро завершили поход за введение «настоящего» капитализма и исправления при социализме «искривленных» ценностей. Партийные объединения в интересах развития – какой-нибудь современный вариант Социалистического союза трудового народа Словении – всегда были всего лишь частью «цирка» рекламных кампаний.
15 Частная собственность рождает необходимость в рынке капитала, где собственники могут продавать и покупать имущество посредством ценных бумаг. Судя по уровню заинтересованности в колебаниях курса акций, события на рынке капитала являются даже преобладающей и наиболее значимой частью экономической деятельности в Словении. Рынок капитала должен был бы выполнять две важные функции: на нем сосредоточивались бы средства для инвестиций и проверялась бы успешность управления. То, что в сборе средств для инвестиций (так же как и в других системах) он не важен, – это известно; более 70 % денежных средств, которые предприятиями направляются на инвестиции, происходит из их собственной амортизации и отложенной прибыли, в оставшейся же части преобладают банковские кредиты. А потому рынку капитала особо нечего делать в плане проверки успешности и смены неуспешных администраций отдельных обществ, хотя у нас он используется как инструмент для замены хороших или плохих администраций на «наши» администрации. Решение проблем при помощи «капиталистических» отношений происходит во много раз жестче, чем решение тех же проблем происходило бы при помощи «самоуправленческих» отношений.
16 В ноябре 1997 г., считающегося временем окончания формальной приватизации, было приватизировано 1127 предприятий, 70 предприятий осталось в государственной собственности, а 82 были ликвидированы. Лишь 32 общества обошлись без участия работников в приватизации, в 455 участие работников в собственности было неосновной, а в 795 – основной формой.
17 Хотя нельзя не заметить эффект глобализации и мирового экономического кризиса в современных процессах, происходящих в словенской экономике, банкротство многих предприятий показывает, что частные собственники и управляющие их имуществом менеджеры могут быть хуже от «несобственников» и «красных» директоров, или что частная собственность может быть гораздо менее эффективна, чем общественная, или коллективная.
18 Экономическая успешность государств обычно оценивается при помощи нескольких постоянных индикаторов: экономический рост, безработица, инфляция, внешнее и внутреннее равновесие и реже критерии социальной сплоченности.
19 Причинами сокращения валового внутреннего продукта стали переходный период и распад Югославии с потерей югославского рынка (который составлял целых 58 % от «иностранного» рынка в общем – настоящего и югославского). Эффект от перехода и эффект от распада невозможно размежевать, поскольку многие виды продукции именно из-за развала государства стали продуктом «исключительно социалистического производства». Таковыми были, например, грузовики «ТАМ», за одну ночь превратившиеся в товар, который был никому не нужен; два их крупных покупателя – Югославская народная армия и Советский Союз – развалились, а третий покупатель – арабские страны после американской «Бури в пустыне» в Ираке оказались в кризисе. Когда 8 октября 1991 г., с введением собственной валюты, Словения стала национальной экономикой, многие из еще в то время государственных предприятий, имевших продукцию, которую можно было продать, быстро переориентировались на рынки развитых стран. Наибольшие заслуги в быстрой переориентации принадлежат тогдашним «красным директорам». Многие из них на предприятиях, которыми они руководили, прожили целую жизнь; даже их организовывали или из маленьких и незначительных превратили в крупные и успешные. Самих себя они еще не воспринимали как «работодателей», а рабочие предприятий еще не стали для них «рабочей силой».
20 Утверждений о том, что и реструктуризация словенской экономики в этот период из-за поступательности была медленной, и развитие было ошибочным, эмпирически невозможно подтвердить. Как раз наоборот: спустя пятнадцать лет экономическая и социальная структура стала еще больше похожа на экономические и социальные структуры малых скандинавских стран – членов ЕС, чем на структуры новых его членов. Это и без «великих» реформ дает довольно большие возможности для развития – бóльшие, чем есть у экономик иных новых членов ЕС, что прекрасно показывает простая диаграмма степени занятости населения (являющейся основной целью Лиссабонской стратегии) на горизонтальной и степени риска бедности – на вертикальной оси. Словения по степени занятости и степени социальной сплоченности попадает в так называемый «скандинавский квадрат» (наряду со скандинавскими государствами в него входят также Австрия и Кипр).
21 Она окончательно потеряла большинство рычагов макроэкономической политики, что определяется прежде всего политикой управления совокупным спросом. Ведь Словения потеряла все атрибуты национальной экономики: право на «печатание» денег, право на формирование экономической системы, право направлять потоки товаров, услуг и капитала через государственные границы, – у нее осталось лишь весьма ограниченное право на «сбор налогов».
22 До «ускоренной приватизации», являвшейся составляющей частью как раз неудачной реформы 2005 г., казалось, что при помощи концентрации собственности частных собственников заменят собственники обществ, т.е. собственники, которые будут заниматься хозяйствованием, а не посредническими сделками. Выкуп предприятий собственным руководством также поначалу обнадеживал: мол, тем самым мы получим настоящих собственников обществ, подобных «боскаролам» и «акраповичам», самостоятельно создавшим предприятия. Возможно, многие даже намеревались стать длительными собственниками, но финансовый кризис застал их врасплох. Посредством залога переоцененных акций они превратились в собственников имущества, и они сами или же банки через заложенные акции начали на все четыре стороны распродавать предприятия, их части, товарные марки и территории.
23 Доля иностранных банков в государствах «старой» Европы равна приблизительно 24 % (если исключить Великобританию и Люксембург, то лишь 19 %). Кроме того, она гораздо ниже, чем доля иностранных обществ в иных экономических сферах. Доля иностранных банков в «новой» Европе превышает 75 % и значительно выше доли иностранных обществ в иных сферах.
24 Нынешний мировой и словенский кризис представляет собой кризис избыточного предложения; корни этого – в длящемся десятилетии создания избыточных производственных мощностей; за избыточным предложением в течение нескольких последних лет тянулся и совокупный спрос вместе с займами, «финансовым погружением» и надуванием разнообразных имущественных «пузырей». Кризису нет дела до специфической величины добавленной стоимости на душу населения или гибкости рынка труда; он ничуть не меньше, по сравнению со Словенией, и в технологически наиболее развитых, открытых экономиках, до недавнего прошлого вызывавших восхищение. Движение макроэкономических составляющих государств ЕС подтверждает, что глубина кризиса в отдельно взятой экономике наряду с его «глобальным финансовым погружением», определяется открытостью; чем больше она открыта, тем больше и сокращение производства, чем гибче у нее рынок труда, тем выше безработица. Лучшая ситуация в больших, более закрытых и самодостаточных экономиках, которые благодаря большой доле государственного сектора в ВВП и большим социальным трансфертам могут создать достаточный внутренний спрос и достаточное количество рабочих мест; меньше всего безработица затронула государства с жестко регулируемым рынком труда. Экономия путем сокращения социальных прав, «лишних» учителей, воспитательниц и государственных чиновников, которые прекратили бы «создавать работу», может лишь углубить кризис, ведь таким образом еще более снижается внутренний спрос, при этом не гарантируется спрос внешний. По крайней мере, в какой-то момент кажется, что для объяснения ситуации и поиска путей выхода из кризиса возможно использовать лишь «экономику депрессии» (P. Krugman, 2009), требующую немедленного освобождения от кредитов и активизации совокупного спроса. Однако освобождение от кредитов возможно лишь с непосредственным (частичная национализация с докапитализацией) или посредственным (благодаря принятию государством на себя долговых обязательств и его депозитам) входом государства в банковскую систему. Активизации совокупного спроса точно так же можно достичь лишь увеличением государственного и/или субсидированием частного потребления. Неизбежным последствием такого освобождения от кредитов без увеличения частных сбережений и создания спроса является увеличение бюджетного дисбаланса и рост государственного долга.
25 Государственный долг в 2009 г. значительно вырос из-за принятия государством на себя обязательств посредством облигаций и государственных депозитов в банках, что позволило последним уменьшить их задолженность за рубежом.
26 Хотя из-за нетто отрицательных инвестиций в размере 35,5 % ВВП Словения входит в число членов ЕС27 с наименьшей задолженностью и является вообще «новым» членом с наименьшей задолженностью (из числа вступивших в ЕС с 2004 по 2007 г.), однако значительна доля банков в отрицательных инвестициях и исключительно высока доля предприятий, обремененных банковскими кредитами, что парализует экономическую активность.
27 Ею Европейская комиссия «надстраивает» две лиссабонские стратегии: «оригинальную» (2000) и «обновленную» (2005). Первая была призвана создать из ЕС до 2010 г. общество знаний и наиболее эффективную мировую экономику, вторая – обеспечить экономический рост и занятость населения. Первая закончилась уклонением от цели, вторая – экономическим кризисом. Обе и не активизировали, и не воспрепятствовали ходу событий, приведших к нему. Совсем наоборот. Хотя Европейская комиссия трактует нынешний кризис так, будто речь идет о непредсказуемом стихийном бедствии, своею одержимостью либеризацией, дерегуляцией и приватизацией она поддержала развитие событий, которое должно было закончиться так, как и закончилось. Комиссия просмотрела то, что рабочие места, которые она теряет из-за увольнений на производстве, невозможно компенсировать рабочими местами в сфере услуг, что деятельность с высокой добавленной стоимостью из-за перемещения в государства с низкой зарплатой превращается в деятельность с низкой добавленной стоимостью и что посредством «общества знаний», большей приспособляемостью рынка труда, финансовыми продуктами и приватизацией государственных услуг невозможно конкурировать с гораздо более недобросовестными, с социальной точки зрения, обществами.
Перевод Ю. Созиной
Опубликовано в журнале:
«Вестник Европы» 2013, №37
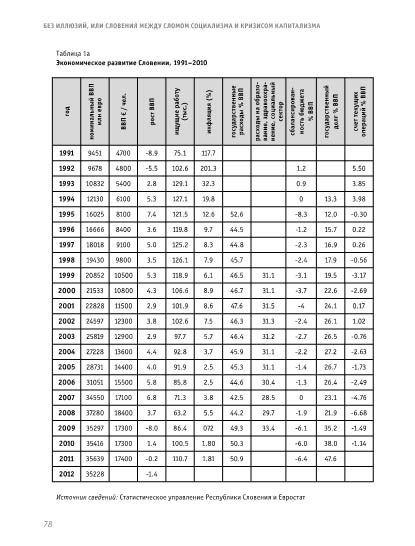
Южная Европа и европейская безопасность
Антон Беблер1
В течение двух последних десятилетий некоторые регионы Южной Европы часто становились наиболее опасными очагами напряженности на нашем континенте. Недавний глобальный финансовый кризис, с его первоначальным эпицентром в США, вызвал особенно глубокие экономические и социальные проблемы в ряде средиземноморских стран — членов ЕС и стал угрозой для евро, весьма заметного и важного символа европейской интеграции. Политические кризисы, социальные потрясения, вооруженное насилие и войны в Северной Африке и на Ближнем Востоке привели к увеличению притока в Европу из Северной Африки беженцев и людей, ищущих работу. К этому добавились многолетняя напряженность и конфликты в средиземноморском регионе Южной Европы. Это, в свою очередь, отрицательно повлияло на социальную стабильность и политический климат в балканских странах. Последовавшая затем политическая напряженность внутри государств — членов ЕС поставила под угрозу и работу Шенгенской системы — также одного из важнейших институтов европейской интеграции.
И без того шаткая экономическая и политическая стабильность в восточной части Южной Европы пострадала особенно сильно, тем самым почти нивелировав и так скромные достижения последнего десятилетия. Согласно статистическим данным о вооруженных конфликтах, существующих в мире, которые были составлены Центром исследования проблем мира (PCR) Университета Упсала, в сравнении с другими континентами Европа, после кризисного пика в начале 1990-х годов, сегодня демонстрирует относительное спокойствие. Однако реальное значение этого результата переоценивать не следует. Точно так же, как и везде, хотя и менее значительно, чем в Азии и Африке, на нашем континенте или на его границах сохраняется серьезный конфликтный потенциал. Это относится и к Юго-Восточной Европе, а также — и даже в большей степени — к соседним странам Средиземноморья, Северному и Южному Кавказу и к Ближнему Востоку. Помимо существования политики силы, нерешенных межгосударственных территориальных и политических споров, внутреннего религиозного экстремизма, конкуренции за энергоносители, воду и другие дефицитные природные ресурсы, внешнего вмешательства и пр., конфликтный потенциал в Европе увеличился и в связи с глобализацией. В том числе с ее эффектом массовой информации, а в долгосрочной перспективе — в связи с неизбежным процессом индивидуального и коллективного освобождения, которое изнутри дестабилизировало установленные авторитарные политические порядки, особенно в многонациональных и многоконфессиональных обществах.
Основы безопасности Юго-Восточной Европы
Между геополитическим развитием Евро-Атлантического региона и региональной безопасностью в Юго-Восточной Европе (ЮВЕ) существует ощутимая взаимосвязь. Сдвиги в соотношении сил среди основных внерегиональных держав повлияли на (дис)баланс между конфликтом и сотрудничеством стран друг с другом, а также внутри региона. Однако некоторые реальные или потенциальные угрозы все еще представляют опасность для ЮВЕ и других регионов Европы. Кроме того, в течение последних двух десятилетий страны ЮВЕ сами являются заметным источником опасности, распространяющейся и на другие части континента. Четко выделяются две особенности региона ЮВЕ: его необычайная разнородность и высокая чувствительность элит к внешним воздействиям и сдвигам в отношениях между крупными державами континента. Страны Юго-Восточной Европы всегда существенно отличались от других европейских регионов, в частности от скандинавских стран. Не случайно Збигнев Бжезински назвал геополитическую линию разлома, простирающуюся от стран ЮВЕ на восток, вплоть до Тихого океана «Евразийскими Балканами»2.
Геополитическая нестабильность в странах ЮВЕ имеет глубокие исторические корни. Страны ЮВЕ частично пересекаются со странами Восточного Средиземноморья, Центральной и Восточной Европы и Черноморского региона. Балканский полуостров всегда представлял собой уникальную в культурном, лингвистическом и религиозном плане смесь народов и этнических меньшинств в Европе3.
Впоследствии Юго-Восточная Европа так и не смогла стать единым регионом с точки зрения культуры, политики и экономики. Данному региону явно не хватает своего центра тяжести.
Балканы уже давно зарекомендовали себя как наиболее нестабильный регион Европейского континента. На протяжении ХIХ и ХХ веков балканские восстания, революции, перевороты, государственные распады, войны, терроризм и другие формы насилия являлись стимулом к более широким социальным потрясениям и войнам между континентальными державами. Последние всплески вооруженного насилия и войн на Балканах произошли в 1991–1995 и в 1998–2003 годах4. Эти всплески в значительной степени были вызваны позитивными изменениями в Евро-Атлантическом регионе, а именно: концом «холодной войны», распадом Советского Союза, Восточной Европы и Социалистической Федеративной Республики Югославии, роспуском Организации Варшавского Договора и последующим переходом к демократической политической системе и рыночной экономике.
Социальная нестабильность, экономические трудности и политические волнения стали почвой для межнациональных конфликтов. Дополнительную остроту данным конфликтам придавали современные СМИ. Политики же безжалостно использовали эти конфликты в своих интересах.
Политическая нестабильность вместе с насилием с 1970-х годов привела к распаду Кипра, Молдавии и Югославии. Процесс «балканизации» удвоил число де-факто существующих государств в Юго-Восточной Европе с восьми до шестнадцати. В результате новых балканских войн было убито до 130 тысяч человек, а от двух до трех миллионов человек стали беженцами или вынужденными переселенцами. Самые трагические последствия наблюдались на территории Боснии и Герцеговины, Хорватии и Косова. Еще одним печальным результатом тех войн стало стрелковое оружие и боеприпасы, которые в неограниченном количестве поступали на общеевропейский черный рынок и контролируются организованными преступными группировками.
Даже по самым грубым подсчетам, здесь было установлено около миллиона противотанковых и противопехотных мин. Несмотря на то что при финансовой поддержке США и ряда стран — членов ЕС деятельность по разминированию ведется весьма успешно, осталось еще более двух тысяч квадратных километров потенциально опасных областей в Боснии и Герцеговине и в Хорватии, на которых, возможно, установлено 400 тысяч мин. В результате бомбардировок НАТО в 1999 году в сельской местности на землях Сербии еще находят огромное количество смертельно опасных остатков кассетных бомб.
Юго-Восточная Европа стала единственным регионом на Европейском континенте, где было размещено несколько миротворческих миссий ООН, но который тем не менее стал зоной военной интервенции НАТО. В 1995 году, после неудачных попыток со стороны ООН, СБСЕ / ОБСЕ и ЕЭС / ЕС6 и только после значительных колебаний западные державы под руководством США решили силой навязать мир в западной части Балканского полуострова. Конец военным действиям на территории Хорватии, Боснии и Герцеговины, Косова и Македонии был положен лишь к 2003 году.
Политическая раздробленность, вооруженные конфликты, а также провал коммунистической политики индустриализации в странах ЮВЕ привели к разрухе и нанесли ущерб экономике и инфраструктуре региона6. В результате этого большинство социалистических государств бывшей Югославии и Восточной Европы до сих пор так и не достигли уровня 1991 года ни в промышленности ни в сельском хозяйстве.
В некоторых частях западной части Балканского полуострова потери в результате военных действий, перемещения человеческих и природных ресурсов, разрушения ранее единой транспортной и энергетической системы, экономического разделения и потери экспортных рынков уничтожили большинство позитивных результатов предшествующего экономического прогресса. Ущерб, распределившийся очень неравномерно, значительно увеличил различия в ВНП на душу населения7 среди стран региона и повысил уровень безработицы. В беднейших государствах Юго-Восточной Европы уровень безработицы стал самым высоким на континенте.
Балканские войны привели к резкому росту торговли оружием, спонсируемой правительствами или при их попустительстве. Эти войны также способствовали тому, что уровень организованной преступности в Западной Европе увеличился в разы. Безработица и нищета в странах региона стимулировали коррупцию, организованную преступность, нелегальную миграцию и многочисленные виды незаконной торговли, особенно наркотиками и стрелковым оружием.
Тектонические геополитические сдвиги в начале 1990-х годов и кризис политики нейтралитета и Движения неприсоединения, провозглашенной Броз Тито привели к радикальной политической и военной перестройке в странах Юго-Восточной Европы. В результате значительного снижения советского/российского влияния практически весь регион в политическом и экономическом плане стал ориентироваться на Запад. Окончание конфликта между НАТО и странами Варшавского Договора и отсутствие крупных минеральных, энергетических и других природных ресурсов привели к катастрофическому снижению геополитического значения региона. Страны Юго-Восточной Европы перестали быть объектом открытой борьбы за политическое и военное господство сверхдержав. Поэтому внерегиональные источники конфликтов на самой территории либо на границах стран ЮВЕ были сведены к минимуму. Западные Балканы больше не являются пороховой бочкой Европы, как это было в 1914 году. Эпоха религиозных и идеологических войн и перекройки государственных границ на Балканах, похоже, закончилась. Но в итоге регион получил долговременную международную дурную славу как источник опасности и больших неприятностей.
Ситуация в области безопасности в настоящее время
«Европейская стратегия безопасности», принятая в 2003 году, в качестве основных глобальных угроз для стран — членов ЕС утвердила следующие: распространение оружия массового поражения, недееспособные государства, терроризм и организованную преступность, информационную безопасность, энергетическую безопасность и изменения климата8. В других документах ЕС также упоминаются реальные или потенциальные проблемы, нерешенные конфликты между странами и внутри соседних государств и обеспечение внешних границ Европейского Союза. Реальная ситуация в странах ЮВЕ и уж тем более общественное восприятие угроз безопасности весьма существенно отличаются от официальных оценок ЕС.
Респонденты, участвовавшие в опросах общественного мнения в большинстве европейских стран, в целом были больше озабочены другими аспектами мировой безопасности, такими как безработица, преступность, коррупция, стихийные бедствия (наводнения, пожары) и т.д.
Однажды навязанное мнимое спокойствие в регионе сохранялось на Западных Балканах посредством международного протектората в Боснии и Герцеговине и в Косово. В БиГ СПС (SFOR) под руководством НАТО были заменены гораздо меньшим контингентом СЕС (EUFOR) в количестве двух тысяч человек (при поддержке небольшого специального подразделения НАТО, имеющего возможность быстрого вмешательства в конфликт). В Косово остаются около шести тысяч солдат НАТО в многонациональных силах СДК (KFOR), в то время как миссия Евросоюза ЕВЛЕКС (EULEX) насчитывает 2300 человек — с учетом международной полиции, прокуроров, сотрудников пенитенциарных учреждений, административных контролеров и т. д. Численность миссии ЕВЛЕКС, вероятно, будет уменьшена в 2013 году.
Демаркационную линию между двумя частями Кипра с 1975 года охраняет миссия ВСООНК, которая сегодня насчитывает около шестисот миротворцев. И после двух десятилетий, прошедших со времен локальной мини-войны, российский миротворческий контингент в Приднестровье насчитывает около 335 военнослужащих.
Хотя гораздо менее интенсивно, чем во времена «холодной войны», но все же возобновилось соперничество между США и Россией за влияние в странах ЮВЕ. Российская сторона в качестве основного инструмента использует экспорт энергоносителей и значительные инвестиции, особенно в энергетический сектор Сербской Республики, Сербской и Боснии и Герцеговине, а также в недвижимость в Черногории. На территории, расположенной вблизи к странам ЮВЕ, по-прежнему присутствуют арсеналы оперативно-тактического ядерного оружия США и России. Многочисленное военное присутствие в Приднестровье, крупные морские и воздушные базы на украинской территории в Крыму, корабли русского флота на Черном море и сменяемая эскадрилья в Восточном Средиземноморье обозначили уменьшающиеся военные амбиции России — по сравнению с уровнем СССР до 1990 года. С другой стороны, военное присутствие США в Юго-Восточной Европе, заметно увеличилось — в основном из-за нестабильности на Ближнем и Среднем Востоке. В дополнение к Шестому флоту американских ВМС в Средиземном море и присутствию ВВС США в Италии, Греции и Турции американцы создали крупную наземную базу Бондстил в Косово и приобрели права на использование военной подготовки и транзитной инфраструктуры в Румынии и Болгарии. В июле 2011 года США заключили соглашение с Румынией о размещении на ее территории элементов противоракетной обороны. Эти мероприятия обозначают будущую роль стран Юго-Восточной Европы в провозглашенном США и НАТО театре военных действий против потенциальной угрозы со стороны Ирана (в то время как Россия негативно расценивает подобное развитие событий и видит в нем непосредственную угрозу для себя).
Одним из важных аспектов безопасности в Юго-Восточной Европе после окончания «холодной войны» явилось то, что были весьма значительно сокращены расходы на оборону, содержание армии, запасы обычных вооружений, производство оружия и экспорт. Эти движения отражены в запасах тяжелых обычных вооружений до и вскоре после осуществления ДОВСЕ, подписанного в 1990 и в 2011 годах (см. таблицу 1).
Таблица 1
|
Танки |
Артиллерия |
Самолеты |
|||||||
|
Румыния |
2960 |
1375 |
345 |
3928 |
1475 |
870 |
505 |
430 |
103 |
|
Болгария |
2209 |
1475 |
301 |
2085 |
1750 |
738 |
335 |
234 |
91 |
|
Греция |
2276 |
1735 |
1590 |
2149 |
1878 |
3156 |
458 |
650 |
303 |
|
Турция |
3234 |
2795 |
4503 |
3210 |
3529 |
7450 |
355 |
750 |
694 |
Источник: The Military Balance 2011; Routledge, London: 2011, pp.93-94, 114-116, 138-140, 151-154.Goldblat, J. Arms Control, A Guide to Negotiations and Agreements. Oslo: International Peace Research Institute: London: Thousand Oaks: New Delhi: Sage Publications, 1994. pp. 176-177.
Из таблицы видно, что бывшие социалистические государства резко сократили свои расходы на оборону по политическим и экономическим причинам. Это относится не только к двум членам ВТО (Румынии и Болгарии), но и к тем странам, которые не входили в ВТО и Договор об ограничении и Вооруженных сил Европы (ДОВСЕ), а именно: Албании и семи бывшим югославским государствам. Нынешний уровень запасов вооружений в семи странах бывшей СФРЮ выглядит следующим образом (см. таблицу 2).
Таблица 2
|
|
Активные |
В резерве |
Боевые танки |
|
Сербия |
28.184 |
50.171 |
212 |
|
Хорватия |
18.600 |
21.000 |
261 |
|
Босния и Герцеговина |
10.577 |
- |
334 |
|
Словения |
7.600 |
1.700 |
45 |
|
Македония |
8.000 |
4.850 |
31 |
|
Черногория |
2.984 |
- |
- |
|
Косово |
2.500 |
800 |
- |
|
Всего |
78.445 |
78.521 |
883 |
Источник: The Military Balance 2012; International Institute for Strategic Studies, London: 2012, pp. 149, 100, 97, 134, 137, 150.
В этой группе государств сокращение произошло после окончания балканских войн в 1995 году. К 1999 году было произведено значительно меньшее количество единиц тяжелых обычных вооружений по сравнению с уровнем существующей тогда СФРЮ1980-х годов. Армии были сокращены примерно наполовину, в то время как запасы тяжелых обычных вооружений сократились, по крайней мере, на две трети. С другой стороны, два члена НАТО (Турция и Греция) не снижают высоких расходов на оборону, что связано с до сих пор неразрешенными спорами по Кипру и воздушному пространству над Эгейским морем. Эта политика, к сожалению, привела Грецию к почти полному банкротству. Из-за разногласий между НАТО и Москвой ДОВСЕ, принятый в Париже в 1990 году, так и не был выполнен в полном объеме.
Другой аспект региональной безопасности относится к существующим ядерным установкам. В регионе находятся только пять действующих атомных электростанций и небольшое количество ядерных реакторов для проведения исследований. Хотя все государства Юго-Восточной Европы придерживаются Договора о нераспространении ядерного оружия, проблемы ядерной безопасности (в том числе захоронение ядерных материалов) все же существуют. Их острота была уменьшена в связи с тем, что под давлением ЕС были остановлены четыре из шести реакторов советской постройки на АЭС Козлодуй в Болгарии.
Подавление вооруженного насилия отнюдь не означает, что на Балканах установилась долгосрочная стабильность. С 2001 года это проявляется во вспышках насилия в Косово, Сербии и Македонии, на примере ослабленного центрального правительства в Боснии и Герцеговине, разрушения пограничных пунктов придорожными баррикадами на границе Сербии и Косова, в вооруженных столкновениях сербов и солдат KFOR, а также на примере актов насилия в Македонии в 2011–2012 гг. В регионе де-факто существуют три государства, правовой статус которых оспаривается: Турецкая Республика Северного Кипра, непризнанная Республика Приднестровье и Республика Косово. В соседнем регионе Закавказья есть еще три зоны межгосударственной напряженности. В 2008 году их существование привело к серьезным вооруженным конфликтам с применением тяжелых обычных вооружений, а в 2012 году — к перестрелке с человеческими жертвами на границе. В эти конфликты были непосредственно вовлечены не только три сепаратистских и на международном уровне практически непризнанных парагосударства — Абхазия, Южная Осетия и Нагорный Карабах, но и Россия, Грузия, Армения и Азербайджан. Все три «замороженных конфликта» остаются важными вопросами в сфере политики и безопасности Европы9.
Косово, вошедшее в список последним, способствовало нагнетанию политической напряженности в отношениях между США и крупными западноевропейскими государствами, с одной стороны, и Россией — с другой. Провозглашение независимости Косова в 2008 году также разделило страны ЕС и НАТО на два лагеря. Несмотря на официальное окончание миссии Международной руководящей группы по наблюдению за независимостью Косова 10 сентября 2012 года, эти подразделения до сих пор остаются на территории Косова в качестве единственной стороны, реализовавшей предложения Ахтисаари по урегулированию статуса Косова. Хотя его существованию ничто не угрожает, Косово по-прежнему остается де-факто под международным протекторатом. Внутренне это очень слабое государство, не имеющее контроля над всей своей территорией и населением.
Нерешенная ситуация трех сепаратистских государств является благотворной почвой для новых потенциальных конфликтов. Кроме того, недавно прозвучали угрозы и обвинения в сепаратистских намерениях против некоторых видных политиков и общественных деятелей в Боснии и Герцеговине и в Сербии. Таким образом, потенциал для резких межнациональных конфликтов (также в Македонии) и для дальнейшего распада на пространстве бывшей Югославии исчерпан еще не полностью. Кроме того, среди шести экс-югославских государств, признанных мировым сообществом, остается ряд наболевших нерешенных вопросов правопреемства, в том числе оспариваемые части межгосударственной границы на суше, на Дунае и в Адриатическом море.
Невоенные угрозы безопасности
Среди других политических вопросов на Балканах следует отметить положение бесправных этнических меньшинств (например, цыган) и по крайней мере, полутора миллионов беженцев. Не столь давно страны Юго-Восточной Европы недавно стали свидетелями массовых беспорядков, демонстраций и вандализма, спровоцированных экономическими проблемами, высоким уровнем безработицы и политическим недовольством в Албании, Сербии, Хорватии и Греции.
В других частях Балкан социальные и политические условия еще хуже. Греция также испытывает приток незаконных мигрантов, в основном из стран Ближнего и Среднего Востока. По крайней мере, треть из 120 — 150 тысяч нелегальных мигрантов в год добирается до стран ЕС через Юго-Восточную Европу, по Средиземному морю. Увеличение потока привело к неприятностям и последующей милитаризации вдоль короткой сухопутной границы ЕС между Грецией и Турцией. С другой стороны, самые новые государства — члены ЕС — Румыния и в меньшей степени Болгария — «экспортировали» часть своих социальных проблем, когда большое количество цыган мигрировало и создало незаконные поселения на территории Италии, Испании и Франции. Суровые контрмеры явились причиной политической нестабильности в организациях ЕС. А огромное число граждан Румынии, ищущих работу в Испании, вновь поставили под вопрос свободу передвижения лиц в пределах Европейского Союза.
Страны Юго-Восточной Европы подверглись ряду других невоенных угроз безопасности. Некоторые угрозы возникли внутри самих стран, а другие пришли или были связаны с подобными явлениями в государствах за пределами региона. Видное место среди невоенных угроз занимают организованная преступность и коррупция. По мнению некоторых аналитиков, у них есть потенциал стать самым опасным элементом региональной безопасности10. Организованная преступность, идущая с Балкан, нередко рука об руку с итальянскими и другими преступными сообществами за пределами региона, активно занимается грабежами банков и почтовых отделений, различными формами контрабанды и незаконной торговлей, в том числе торговлей людьми, человеческими органами, наркотиками, оружием, контрафактными товарами, табачными изделиями и т.д.
Подсчитано, что около трех четвертей героина (в основном из Афганистана) и значительная часть кокаина (из Латинской Америки) поступает в Западную Европу через страны ЮВЕ. Самым крупным покупателем легкого оружия, незаконно вывезенного из стран ЮВЕ, была, по некоторым данным, и непризнанная Республика Приднестровье, находящаяся под фактическим протекторатом России.
* * *
Зона транзита и укрытия
После окончания последней войны на Балканах регион, ранее считавшийся очагом конфликтов и политического терроризма, утратил часть своей дурной славы и стал главным образом зоной транзита или укрытия. Среди реальных или потенциальных невоенных угроз безопасности, которые затрагивают страны ЮВЕ (и другие части Европы), следует упомянуть также природные и экологические катастрофы, изменение климата и энергетическую безопасность. Части региона пострадали от недавнего разрушительного наводнения и лесных пожаров. Русско-украинские споры вокруг транзита газа выявили хрупкость энергетической безопасности в странах ЮВЕ. Перебои в поставках газа в зимний период 2008/2009 года сильнее всего затронули жителей крупных городов Боснии и Герцеговины. И без того высокая зависимость стран ЮВЕ от импорта углеродного топлива, скорее всего, в будущем только увеличится. Несколько конкурирующих проектов трансрегиональных газопроводов, в частности, Набукко, получивший поддержку ЕС, и Южный поток, поддерживаемый Россией, будут пересекать страны ЮВЕ. Если эти масштабные проекты будут реализованы, они сильно повлияют на энергетическую безопасность не только стран Юго-Восточной Европы, но и в Европейского Союза в целом11.
Юго-Восточная Европа и международное сообщество
«Замороженные» политические конфликты на Кипре и в Приднестровье, а также между Сербией и Косово, Македонией и Грецией свидетельствуют о неспособности балканских элит найти практические решения на основе компромисса и взаимных уступок и обеспечить стабильность в регионе. До сих пор ни одна из региональных инициатив по расширению сотрудничества не была осуществлена.
И все-таки усилия по углублению сотрудничества с государствами региона и между ними стали более перспективными12. Эти усилия с 1990 года привели к созданию сети международных организаций. Практически все из них являются организациями, созданными на Западе. В эту сеть входят «Пакт стабильности для Юго-Восточной Европы», ЦЕФТА, Инициатива кооперациив Юго-Восточной Европе, «Партнерство ради мира» НАТО, «Инициатива Юго-Восточной Европы» и др.
* * *
Интеграция как фактор мира
Международный опыт обращения с источниками нестабильности и опасности в странах Юго-Восточной Европы показывает сложность проблем, которые не могут быть быстро решены в одностороннем порядке. Жизнь показала, как опасно недооценивать связи между безопасностью в регионе и безопасностью в других частях Европы.
Необходимо стремиться к тому, чтобы международное сообщество осуществляло действия по улучшению экономической и социальной ситуации в большинстве стран на Балканах, избегая при этом порочного круга внешней зависимости региона. Вероятно, присутствие иностранных военных и полицейских здесь по-прежнему будет необходимо и в будущем. Разрешить многочисленные проблемы можно путем дальнейшего укрепления роли и влияния ЕС и НАТО в странах Юго-Восточной Европы. Стратегическая Концепция НАТО 2011 года ставит целью «содействие евроатлантической интеграции Западных Балкан [в целях] обеспечения прочного мира и стабильности, основанных на демократических ценностях, региональном сотрудничестве и добрососедских отношениях»13.
Несмотря на многочисленные препятствия, ЕС и НАТО активно способствовали многостороннему региональному сотрудничеству, особенно среди бывших югославских государств14. С 2008 года зона влияния соглашений о Стабилизации и ассоциации с ЕС была расширена на весь регион, за исключением Косова. Эти соглашения стали шагами к сближению и в конечном счете — вступлению всех остальных балканских государств в ряды членов ЕС. В 2011 году завершились предварительные переговоры с Хорватией о вступлении в Европейский Союз. После длительного периода ожидания Турция получила статус официального кандидата, но переговоры были приостановлены в основном из-за кипрской проблемы. Сербия и Черногория вошли в ранг кандидатов в 2012 году, кандидатура Македонии (как в ЕС и НАТО) остается в подвешенном состоянии из-за нелепого греческого вето по поводу самого названия — Македония. Албания, Босния и Герцеговина, а также Косово (в рамках Резолюции Совета Безопасности ООН № 1244/99) остаются потенциальными будущими кандидатами. Вступление Хорватии и Албании в НАТО в 2009 году также способствовало стабилизации в регионе. На саммите НАТО в Чикаго в мае 2012 была подтверждена кандидатура Македонии, был высоко оценен прогресс Черногории на пути к членству в НАТО, а также стремление Боснии и Герцеговины вступить в НАТО. На саммите была высказана поддержка Евро-Атлантической интеграции Сербии, диалогу Белграда и Приштины при содействии ЕС, а также дальнейшему укреплению мира и стабильности в Косово. В ближайшие десятилетия процесс расширения ЕС и НАТО действительно дает надежду на улучшение региональной безопасности в странах ЮВЕ.
* * *
Тлеющие конфликты внутри Европы
Однако некое предостережение было бы уместным. Предполагаемого включения всего региона в процесс Евро-Атлантической интеграции будет явно недостаточно. Опыт показывает, что, несмотря на одновременное членство Великобритании и Ирландии в ЕС, обоим этим государствам потребовалось более трех десятилетий, чтобы достичь символического примирения и заключения компромиссного Соглашения Страстной пятницы в Ольстере. А конфликт между Великобританией и Испанией в отношении Гибралтара до сих пор остается нерешенным, несмотря на их членство в ЕС и НАТО. Шестьдесят лет членства двух стран в НАТО не остановило гонку вооружений между Грецией и Турцией и не приблизило решение проблемы Кипра. Вступление Республики Кипр в ЕС также не разрешило данный спорный вопрос, а возможно, сделало его еще более сложным. Сегодня, более чем шестьдесят лет спустя с момента вступления Бельгии в НАТО и Европейский Союз, отношения между двумя основными национальными общинами в этой стране хуже, чем они когда-либо были. И таких примеров можно привести великое множество.
* * *
Исторические данные показывают, что вспышки насилия на Балканах (1860, конец 1870-х — начало 1880-х гг., 1908–1913, 1914–1921, 1937–1945, 1947–1949, середина 1970-х гг., конец 1980-х гг., 1991–1995 и 1999–2003 гг.) регулярно перемежались с периодами относительного мира. Последний раз мир так и не был достигнут внутри региона; он был установлен лишь после военного вмешательства Запада. Проявления национализма, нетерпимости и взаимной ненависти, к сожалению, до сих пор наблюдаются на Балканах. Вот почему для того, чтобы изменить отрицательную картину последних полутора столетий, представители балканских элит должны продемонстрировать гораздо более мудрое и ответственное поведение.
* * *
Уроки балканских конфликтов
Большинство стран региона пережили радикальную трансформацию политических режимов. Вместо авторитарных, в том числе и тоталитарных режимов конца 1980-х годов регион сегодня представляет собою, в различной степени, демократические политические системы. А демократические режимы почти никогда не воюют между собой. Кроме того, значительная демилитаризация в большинстве балканских государств привела к существенному сокращению возможности ведения ими боевых действий. Балканские элиты также многое уяснили из негативного опыта последних двух десятилетий и его последствий.
В отличие от 1990-1991 годов, потенциальные очаги напряженности в регионе Западных Балкан сегодня находятся под контролем международных наблюдателей, состоящих из миротворцев, иностранных войск, гражданского контроля, а два места де-факто являются протекторатами. Кроме того, страны региона получают значительную финансовую помощь и кредиты для своего развития. Существует также сеть вышеупомянутых региональных схем сотрудничества, в том числе по вопросам безопасности и обороны. Все это дает основания для умеренно оптимистичных ожиданий, что однажды Балканы станут зоной демократии, процветания и стабильности, а не регионом, потенциально опасным для всей Европы.
Перевод Е.Г. Энтиной.
Примечания
1 Антон Беблер — профессор, доктор. Факультет социальных наук. Университет Любляны, Словения.
2 Zbigniew Brzezinski. 1997. Chapter 3 ‘Euroasian Balkans’, pp. 7-25, 29-45, 99-108. In The Grand Chessboard, New York: Basic Books.
3 Johnsen, William. 1995. Deciphering the Balkan enigma: Using History to Inform Policy. Carlisle, Pa: Strategic Studies Institute, U. S.: Army War College. Chapters 2 in 3, pp. 9-60.
4 Blank, Stephen J. (ed.).1995, Yugoslavia’s wars: The problem from hell. Carlisle, Pa: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College. Chapters 2, 3, 5, 6.
5 Burg, L. Steven. 1995. Yugoslavia’s wars: The problem from hell. p.p. 47 — 86.
6 Altmann, Franz-Lothar. 2004. “Regional economic problems and prospects”. In The Western Balkans: Moving on. Chaillot Paper no.70. Paris: Institute for Security Studies. p.p.69-84.
7 Batt, Judy. 2004. “Introduction: the stabilization/integration dilemma”. In The Western Balkans: Moving on. Chaillot Paper no.70. Paris: Institute for Security Studies. p.p. 7 — 19.
8 Vasconcelos, Alvaro ed. 2009. The European Security Strate-gy 2003-2008, Building on Common Interests. Paris: EUISS. pp. 38-41, 64-67.
9 Clement, Sophia. 1997. The International Community Response in Conflict Prevention in the Balkans. (Chaillot Paper no. 30. Paris: Institute for Security Studies. p.p. 46-74.
10 Lt. gen. Blagoje Grahovac. 2012. Geopolitics & Organized Crime and Corruption in the Early 21st Century with Reference to the Balkans. In European Perspectives — Journal on European Perspectives of the Western Balkans. Vol. 4, No. 1(6). Loka pri Mengešu: Centre for European Perspective.
11 Altmann, Franz-Lothar. 2011. “Energy procurement security in the European Union”. In International conference Europe’s energy security: challenges and prospects. Ljubljana: Euro-Atlantic Council of Slovenia. pp. 37-41.
12 Delevic, Milica. 2007. Ch.2, 3, “Regional cooperation in the Western Balkans”. Chaillot Paper no.104. Paris: Institute for Security Studies. pp. 31-72.
13 Strategic Concept, NATO, Brussels, 2011, p. 31.
14 Rupnik, Jacques. 2011. “The Balkans as a European question”. In Rupnik, Jacques ed. 2011. The Western Balkans and the EU: The Hour of Europe. Chaillot Papers no. 126. Paris: EUISS. pp. 17-30.
Опубликовано в журнале:
«Вестник Европы» 2013, №37
«Новая эмоциональность» словенской литературы
Алойзия Зупан Сосич
Философский факультет Люблянского Университета, Словения
Современная словенская литература является сочетанием различных течений, направлений, групп, индивидуальностей и поэтик. Как особый период она определяется, начиная с 1945 г., однако наиболее явно оформилась после 1960 г., что связано с широким общественно-культурным контекстом. Этот период стал временем наибольшего развития словенской литературы.
Для систематического объяснения особенностей и нововведений литературы, возникшей в Словении после 1990 г. — литературы, которая расцвела после распада СФРЮ, в первую очередь необходимо обозначить точки соприкосновения со всем литературным периодом, называемым современной словенской литературой. Здесь придется вернуться в 1980-е годы. Важнейшие политические и культурные потрясения того времени обозначаются такими терминами, как постюгославская, посткоммунистическая литература переходного времени. В Югославии возрастало недовольство социалистической системой, усиливался экономический кризис, с каждым годом увеличивалось стремление к независимости некоторых народов Югославии из-за все возрастающих межнациональных несогласий и напряженности.
Стремление к национальной независимости не привело в Словении к таким кровавым результатам, как в других бывших югославских республиках (Хорватии, Боснии и Герцеговине), ибо война за независимость словенского государства продолжалась всего десять дней — с 27 июня до 7 июля 1991 г. Словенская война за независимость была восстанием словенской территориальной обороны против Югославской народной армии, которая агрессивно отозвалась на появление независимого государства. Республика Словения стала независимым государством 26 июня 1991 г. За этим последовали вполне логичные для нового государства события: вступление в НАТО (29 марта 2004 г.) и 1 мая того же года — в Европейский Союз. Не только борьба за независимость, но и смена политической власти, т.е. социальной системы, с социализма на капитализм в Словении не была столь уж насильственной. Разрыв с коммунизмом был мягким, не революционным, так как президентом нового Республики Словения стал бывший лидер коммунистической партии.
«Постюгославскую литературу», включающую словенскую литературу в период после распада СФРЮ, наиболее точно определяют выражения «посткоммунистическая литература», «литература, созданная после обретения независимости», так как одновременно с обретением независимости и возникновением Республики Словения сменился также и политический строй — с коммунизма/социализма на капитализм. Историю нашего новообразованного государства сближает с остальными (славянскими) государствами, в которых в указанный период произошли подобные изменения, термин «переходная литература», включая ее в общие процессы перехода в контексте глобализации и европеизации. Эти процессы роковым образом влияют на развитие некоммерческой литературы, к которой относятся словенские лирика, эпос и драма. Художественная литература сейчас обычно выходит тиражом 500 экземпляров (для сравнения — в СФРЮ обычный тираж художественной литературы составлял 10 тыс. экземпляров); также ухудшилось финансовое положение авторов. Рыночные отношения требуют от издателей печатать хорошо продающиеся книги (например, поваренные книги, книги о путешествиях и различные руководства по личностному росту в стиле нью-эйдж), в то время как некоммерческая литература востребована гораздо меньше.
В социалистической Югославии государство широко финансировало издание оригинальной художественной литературы и ее переводов, стремясь сохранить лояльность по отношению к югославской полинациональной идентичности. В Республике Словения сложилась парадоксальная ситуация: новое государство больше не ощущает такой необходимости беспокоиться об издании книг в смысле укрепления (национальной или европейской) идентичности, оставляя эту сферу частным издателям, в центре внимания которых находятся личные, а не общие интересы. Глобализация искусства и связанная с нею секуляризация художественной литературы в словенской культурной политике характеризуются разочарованием; ее отмечают и другие славянские страны. Марко Юван [Juvan 2002: 411] обосновывает схожие симптомы инославянских литератур следующей гипотезой: современные политические изменения (посткоммунистический переходный период, распад международных государственных и политических образований, обретение национальной независимости), саморегулирование национальных культурно-художественных систем и тенденция адаптироваться к глобальной (западной) культуре оформили схожую литературную жизнь, отмеченную коммерциализацией и секуляризацией литературы, исчезновением ее мифическо-идеологических коллективных ролей.
В период после обретения Словенией независимости словенская литература, с потерей идеологическо-коллективных ролей, лишилась приоритета, которое в прошлом — как это ни парадоксально — смогла сохранить даже в период самых тяжелых политических репрессий. Если в 1980-?е гг.1 литература еще сохраняла национально-утверждающую (а потому и субсидируемую государством) функцию, то в 1990-е гг. она постепенно начала приобретать личностную роль. После образования новой Словении государственная финансовая поддержка сократилась, но, к счастью, не исчезла совсем. Государственные субсидии, хоть и не такие крупные, как раньше, все еще существуют: политики вполне осознают, что без субсидий в такой маленькой стране с двухмиллионным населением «некоммерческая» художественная литература обречена.
Ослабление национально-утверждающей роли литературы является решающим фактором не только при ограничении государственных субсидий, но и при выборе тем и мотивов в литературе. С созданием нового государства было бы логично ожидать, что в литературе будут отражены «большие» проблемы — независимость, государственность, европеизация, — но их вытеснили центральные так называемые «малые» темы личностной проблематики. Самым необычным является то, что эти «большие» темы не появились как центральные даже в романе, наиболее обширной повествовательной форме, которая уже благодаря принадлежности к известному роду литературы подходит для описания социальной проблематики.
А если политические движения и социальные преобразования практически не отразились в современной словенской литературе, то какие же темы в ней вообще преобладают? Уже с конца 80-х гг. это темы «малых историй», выстраивающие не национальную, а личную идентичность, в рамках которой чаще всего проявляется половая идентичность: отчуждение, скука, неудовлетворенность, романтические недоразумения, вторжение общественности в частную жизнь и — как следствие — страх перед потерей индивидуальности, турбокапиталистическая травма, коммуникационные барьеры… Доминирование частной жизни над коллективизмом выдвигает на передний план тему любви, что влияет также на выбор рода и жанра: в жанре романа преобладает любовный роман, бóльшую часть поэзии в последнее время также составляют любовные и эротические стихотворения.
Интересна не только замена общественных тем личными, но и смена литературной иерархии: сегодня роман приобрел лидирующее место по важности и популярности, которое много лет занимала поэзия. Словенская поэзия до самых 90-х гг. ХХ века всегда находилась на вершине литературной иерархии, что определялось развитием словенской литературы. Явлением искусства в европейском масштабе она стала еще в эпоху романтизма благодаря поэту Франце Прешерну (1800–1849). С тех самых пор все важнейшие культурные, литературные и политические изменения прежде всего отражались в поэзии. Словенцы из-за высокого качества своей поэзии ,ее популярности и большого числа поэтов называли себя «народом поэтов». Поэзия в Словении все еще играет важную роль, но внимание СМИ и симпатии читателей в настоящий момент перешли в основном к роману.
Если 1980-е годы в Словении были периодом рассказов, то 1990-е, несомненно, стали временем романа. Количество романов в сравнении с восьмидесятыми годами выросло почти втрое, так же вырос и интерес к ним. Важным фактором увеличения влияния современного словенского романа является «Кресник» [Zupan Sosič 2003: 54] — премия за лучший словенский роман, которую с 1991 г. присуждает газета «Дело» («Труд»). «Кресник» в самом деле способствует популярности словенского романа, ведь общественность знает всех пятерых номинантов, а большинство читателей читают премированные романы. Популярности романа, несомненно, способствовала и общая атмосфера глобализации, которая отдает предпочтение напряженному и динамичному развитию сюжета.
Хотя постюгославская, посткоммунистическая литература, созданная после обретения Словенией независимости, имеет те же черты переходного периода, как и литература большинства стран, недавно вступивших в ЕС, все же в своей литературной специфике она имеет ряд отличий. Из всех направлений важнейшим для современной словенской литературы является модернизм, поскольку именно систематическое вхождение модернизма в словенское литературное пространство означает начало современной словенской литературы; к тому же модернизм является ее постоянным спутником — он не ушел из современной словенской литературы даже в конце века, когда та уже распрощалась и с постмодернизмом. Модернизм — литературное направление, связанное с экзистенциализмом; оно появилось в современной словенской литературе после 1960 г. и присутствует в ней до сих пор. Основная особенность модернизма — когнитивный релятивизм, тесно переплетенный с метафизическим нигилизмом, в котором расщепленная личность субъекта формируется в потоке сознания как процессе. Для словенского, как и для европейского модернизма, существенно субъективное отношение к реальности, поиск нового и оригинального и восполнение трансцендентального дефицита избытком ценности искусства, что на уровне текста проявляется отменой логики повествования и линейности, ослаблением хронологического и причинно-следственного принципов развития событий. Преобразованию однозначности в многозначность, помимо поэтики фрагмента и автореференциальности, также способствует умножение перспективы и рассказчика и отклонение от референтной функции к поэтической и эстетической.
Важнейшими представителями модернизма после 1990 г. являются авторы, которые и прежде создавали модернистскую литературу; из поэтов значимыми фигурами являются, например, Нико Графенауэр, Ифигения Загоричник и Дане Зайц, из прозаиков — Лойзе Ковачич, Флорьян Липуш, Руди Шелиго, Владимир Кавчич, Неделька Пирьевец, Нина Кокель и Владо Жабот, из драматургов — Эмил Филипчич и Петер Божич.
В середине 1970-х гг. модернизм сменился постмодернизмом, но не полностью; модернистские тексты появлялись одновременно с постмодернистскими, постоянно присутствовали также традиционные произведения, которые не представляется возможным отнести к указанным направлениям. Этот переход был специфическим для словенской литературы, так как с самого начала постмодернизм укоренился в поэзии и лишь постепенно проник в прозу и драматургию (в отличие от мировой литературы, где постмодернизм наиболее характерен для прозы). Но здесь постмодернизм не совсем затмил модернизм, сохраняющий в словенской литературе до сегодняшнего дня, даже после ухода постмодернизма. Большинство специалистов (как, например, Huyssen 1986, Hutcheon 1996, Джеймсон 1988) понимают постмодернизм как ответ на модернизм, его герметизм и критику массовой культуры.
В то время как модернизм все еще поддерживает убеждение, что действительность, хоть и без метафизической основы, присутствует в самом сознании и его психическом содержании, постмодернизм усиливает метафизический нигилизм2, предупреждая, что между внутрилитературной и внелитературной действительностью нет никакой разницы.
От постмодернистского текста уклоняются как внутренняя, так и внешняя действительность, и у него остается только автореференция; отношение к действительности также меняется из-за иного понимания литературы. В то время как модернизм ценил в ней оригинальность, новизну, постмодернизм понимает художественный текст как диалог литературы с литературой, ткани различных текстов, в которых мы различаем цитаты, комментарии, аллюзии и пародии на уже сложившиеся литературные пласты. Главной темой литературы в постмодернизме становится сама литература; под действием центральных процессов — метафикции и интертекстуальности — границы между реальностью и вымыслом стираются.
При обсуждении постмодернизма помимо статуса истины / истинности нужно учитывать также введенный Джеймсоном [2001: 13] термин «новая неглубокость», который относится к формированию нового общества, известного как постиндустриальное, информационное общество, общество потребления, где решающим фактором является отказ от традиционного дихотомического разделения на высокую и низкую литературу, а тривиальность является важной особенностью постмодернистской литературы.
На современную словенскую литературу постмодернизм влиял значительно меньше, нежели модернизм. За короткий временной промежуток двадцать лет, который длился примерно с середины 70-х до середины 90-х лет прошлого века, было опубликовано несколько поэтических сборников и очень мало прозаических и драматических текстов (в частности, поэтические сборники Светланы Макарович, Иво Светины, Милана Есиха, Бориса А. Новака и Милана Клеча; прозаические работы Андрея Блатника, Димитрия Рупела и Горана Глувича; драмы Драго Янчара и Душана Йовановича). Заслугой словенского постмодернизма в большей мере, чем появление постмодернистских текстов, является введение новых литературных перспектив и процессов.
Литературные процессы, введенные постмодернизмом, все еще частично присутствуют в словенской литературе, хотя постмодернизм уже к концу девяностых годов прошлого века иссяк. По исчезновении постмодернизма возник вопрос: как же называть литературу, созданную после постмодернизма? Использовать ли широкие социологические термины, например, «литература постмодерна» [Hassan 1987], и общие литературоведческие термины, как, например, «постпостмодернизм» [Эпштейн 1998], или пойти на риск и объединить новые тенденции под именем нового литературного направления? В Словении две эти тенденции объединились, и только дальнейшие исследования смогут подтвердить, какая из них является наиболее целесообразной.
Сосуществование различных явлений в словенском постмодерне успешнее всего можно охватить термином литературный эклектизм, который включает в себя жанровый, родовой, стилистический и формальный синкретизм.
При подробном рассмотрении литературного эклектизма можно прийти к выводу, что его костяк составляют традиционные процессы, а именно: привязка к традиционным родам литературы, жанрам и формам, формальные и стилистические приемы, трансформированные с помощью различных инноваций и изменений. Словенскую литературу можно также определить как «модифицированная традиционная литература»; наиболее устоявшимся является выражение «модифицированный традиционный роман».
После 1990 г. появился термин новая эмоциональность. Он охватывает общие черты текстов с точки зрения формирования личной идентичности и нового типа эмоциональности литературного субъекта в литературе. Субъект не принимает участие в вымышленной реальности ради того, чтобы указывать на определенные ошибки или формировать «большую историю», но судорожно стремится определить свою индивидуальность посредством удобочитаемой «малой истории», связанной с узнаваемыми жанровыми, стилистическими и формальными моделями.
Описание уже не общественной, а интимной проблематики отсылает к устоявшимся жанровым, стилистическим и формальным образцам и модифицирует их с точки зрения новой эмоциональности. Новая эмоциональность — это чувство особого сплина, можно сказать, постмодернистского сплина, опирающееся на традицию. Она отличается от постмодернистской эмоциональности, которая в своей уже почти барочной и научной перенасыщенности указывала на собственные источники вдохновения, на своих «собеседников» в диалоге литературы с литературой. Новая эмоциональность предпочитает направлять иронию и пародию на внелитературные и внутрилитературные стереотипы, при этом не указывая на предмет.
Упразднение механизмов узнавания, отсылок исключает из литературы также впечатление сконструированности и смоделированных эмоциональных состояний, которое являлось наиболее очевидной особенностью постмодернистской эмоциональности.
Именно к отношениям полов, к любовной теме, при опоре на литературную традицию представляется возможным отнести возникновение новой эмоциональности, которая ставит многочисленные вопросы гендерных ролей, (не)гибкой идентичности и интимных затруднений. Таким образом, новая эмоциональность, рождается между новой серьезностью, юмористическо-ироническо-пародийной осознанностью и постмодернистским сплином — состоянием, которое наиболее ясно определяется пассивной скукой и онемением постмодернистского субъекта, завороженного современным гедонизмом.
Все эти особенности наводят нас на мысль о том, что после исчезновения постмодернизма в словенской литературе различные тенденции могли бы оформиться в новое литературное направление. На возможность возникновения нового литературного направления уже указывает социологический факт того, что отказ от какого-либо нового тренда или его упадок (например, постмодернизма) обыкновенно означает неизбежное «рождение» нового тренда.
Гарри Поттер и Хосе Лопез (2006: 3–16) обосновывают эту диалектику необходимостью появления иного литературного направления, доказывая, что постмодернизм более не отвечает запросам сегодняшнего дня. Оба ученых указывают на то, что уже в период постмодернистского повествования появилась оппозиция его сложности, которая называется просто «реалистическое письмо», и предлагают в качестве оппозиции постмодернизму так называемый «критический реализм». Джеймсон (2007: 261–271) также отмечает присутствие реализма уже в постмодернизме, где находит реконструкцию различных историй или расширенное фабулирование, которое он называет «остатками реализма», приспособленными к массовой культуре. Мы разделяем мнение этих ученых, поскольку и в Словении наряду с постмодернистской литературой появлялись произведения традиционной литературы с реалистическими тенденциями. Традиционная литература была качественно и количественно сильнее постмодернистской литературы. Именно из-за этого в отношении словенского романа 1990–2010 гг. используется термин «модифицированный традиционный роман с чертами реализма».
Представители этого жанра — Берта Бойету, Алеш Чар, Мате Доленц, Франьо Франчич, Нейц Газвода, Полона Главан, Зоран Хочевар, Фери Лаиншчек, Миха Маццини, Андрей Морович, Борис Пахор, Андрей Скубиц, Марко Сосич, Марьян Томшич, Сузана Тратник и Яни Вирк. Традиционный роман с чертами реализма написан по образцу реалистического романа, но его модель трансформируют различные (пост)модернистские преобразования.
Традиционность новейшего словенского романа основана на обобщенной истории, мотивированных отношениях между персонажами и узнаваемом хронотопе. Современный словенский роман является повествовательным в узком смысле слова — несмотря на временную лиризацию и эссеизацию, преобладающим процессом является повествование, структурированное в виде последовательности событий, которые на основе хронотопных и причинно-следственных отношений формируют историю. Повествовательность отделяют от традиционности три модификатора: жанровый синкретизм, обновленная роль рассказчика и большое количество диалогов.
Для того чтобы обстоятельно рассуждать о новом реалистическом направлении, необходимо доказать наличие общих характерных признаков у большей части текстов, понимаемых нами как реалистические, и прежде всего — определить реалистическую технику и реалистическое направление. Таким образом, вопрос о реализме — это вопрос о понимании реализма в широком или узком смысле.
Реализм в узком смысле, историческая концепция реализма, ограничивается реализмом как литературным направлением XIX в., которое получило продолжение в XX в. в виде психологического реализма, социального / социалистического реализма и неореализма. Напротив, реализм в широком, «надисторическом» смысле, трактует реализм не как направление, а как способ, метод или технику письма, создающую впечатление записи или отражения реальной жизни. Разумеется, реализм является не непосредственным или простым воспроизведением реальности, а системой конвенций (Baldick 1996: 184), которые создают иллюзию реального мира за пределами текста с принципом вероятности, в то же время из-за признания реальных жизненных проблем отрицая идеализацию и эскапизм. Мы полагаем, что реалистические произведения появляются в каждую литературную эпоху, чего нельзя сказать о модернистских. В последние двадцать лет в Словении реалистическими являются произведения, которые мы выше обозначили как модифицированный традиционный роман с чертами реализма. Их общими чертами являются: преобладание реалистической техники, стремление к описанию убедительной реальности, отсутствие требования к проверяемой миметичности, а также принцип типизации и маркированности речи исходя из социальных, психологических и интеллектуальных особенностей персонажей. Указанные черты имели важное значение уже в некоторых ранних формах реализма, теперь к ним добавились новые особенности: влияние различных СМИ, высокая степень идеализации и гиперболизации, требование к читаемости, связанное с эстетикой тождества, т.е. удовольствием при чтении уже известного, отсутствие проникновения эстетики в социальную сферу, игра с установленными жанровыми, стилистическими или повествовательными формами и принципами тривиальности, отсутствие единой эстетической или философской директивы, обращение от общественного к интимному и от общего к частному… Если дальнейший анализ покажет, что большая часть словенских романов последних двадцати лет в самом деле реалистична, потребуется найти для термина (реализм) подходящую приставку.
В выборе приставки для обозначения нового направления, возникшего после постмодернизма, мы согласны с Эпштейном (1998: 139–142), русским исследователем новейшей литературы, который особо выделяет приставку «транс-». По его представлению, явления и понятия новой эпохи, такие как истина, объективность, субъективность или сентиментальность, преобразуются в понятия с приставкой «транс-»: транс-истина, транс-объективность… Это понятия, которые включают элемент сравнения с чем-либо (с истиной, с объективностью…), знают о своей повторяемости — и хотят быть выраженными именно в форме повторения. Как бы парадоксально это ни казалось, именно через повторение все эти понятия снова приобретают подлинность «Транс-» укрепляет непрерывность будущего и прошлого, выходя за рамки области отчуждения, иронии, пародии, чтобы обозначить свой статус возможного как может-быть-истина, может-быть-объективность.
Таким образом, для обозначения литературного направления современной словенской литературы мы предлагаем термин трансреализм, который должен иметь также общие содержательные или тематические структуры, так как идентифицируется не только с вышеприведенной реалистической техникой. Трансреализм уже самой приставкой указывает на свою тесную связь с предыдущими реалистическими направлениями, на то, что в своей повторяемости и синкретизме он обретает новые измерения, проникнутые обновленным положением литературного субъекта. В различных литературах он обозначается по-разному: в немецкой литературе установилось обозначение «новая субъективность», в русской — «новая искренность», в английской — «наднациональная субъективность», в словенской литературе мы назвали особое духовно-историческое и эмоциональное состояние постмодернистского субъекта «новой эмоциональностью»3. Мы понимаем ее как связь особого духовного сплина с проблемой идентичности в современной словенской прозе.
Субъект, литературный персонаж и/или рассказчик, участвуют в вымышленной реальности не для того, чтобы привлечь внимание к ошибкам общества (что было характерно, например, для реализма, неореализма, социального/социалистического реализма), но отчаянно стремятся обеспечить свою индивидуальность в читаемой истории, связанной с узнаваемыми жанровыми, стилистическими и другими повествовательными моделями. Интимная история является частью постмодернистского сплина, усталости и скуки постмодернистского субъекта, влюбленного в наивный гедонизм, и новых эмоциональных движений при поиске идентичности: (пере)оценка гендерных и национальных стереотипов при конструировании гибкой идентичности, создание юмористической, циничной или пародийной дистанции и отсутствие единой эстетической или философской директивы. Реалистический принцип типизации направлен, прежде всего, на своеобразие речи как миметическое средство характеризации; вследствие этого в современной словенской прозе значительно увеличилась доля диалогов. Таким образом, трансреализм содержит старые и новые особенности: в своей связи с универсальной реалистической техникой он утверждает установленные особенности, в то время как новая эмоциональность обновляет его с помощью современных перспектив и методов, при этом им приобретаются даже некоторые (пост)модернистские черты.
Трансреализм — как возможность общего наименования явлений, наблюдаемых в словенской литературе после 1990 года и объединенных термином «модифицированная традиционная литература» — представляет по сути своей преобладание реалистической техники, связанной с предшествующими направлениями европейского реализма, обновленное новой эмоциональностью, то есть чувством особого сплина, опирающегося на традицию. Она ставит многочисленные вопросы гендерных ролей, (не)гибкой идентичности и интимных затруднений и, таким образом, рождается между новой серьезностью, юмористическо-ироническо-пародийной осознанностью и состоянием пассивной скуки постмодернистского субъекта.
Перевод со словенского Марии Громовой
Литература
Baldick, Chris, 1996: The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. Oxford, New York: Oxford University Press.
Eshelman, Raoul, 2001: Thematischer und performativer Minimalismus bei Eric Gaus und Pelevin, Viktor. In: Mirjam Goller, Georg Witte (red.): Minimalismus zwischen Leere und Exzeß. Wiener Slawisticher Almanach, Dunaj, zv. 51, 234–247.
Epštejn, Mihail, 1998: Postmodernizam. Beograd: Zepter.
Hassan, Ihab, 1987: The Postmodern Turn. Essays in Postmodern Theory and Culture. Ohio State University Press, Ohio.
Hutcheon, Linda, 1996: Poetika postmodernizma. Novi Sad: Svetovi.
Huyssen, Andreas, 1986: After a Great Divide: Modernism, Mass Culture, Postmodernism. Bloomington: Indiana University Press.
Jameson, Fredric, 2007: A Note on Literary Realism in Conclusion. Matthew Beaumont (ed.): Adventures in Realism. Oxford: Blackwell Publishing. 261–271.
---------------------, 2001: Postmodernizem. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo.
-----------------, 1988: Postmodernizam ili kulturna logika kasnog kapitalizma. V: Postmoderna: Nova epoha ili zabluda. Zagreb: Naprijed.
Juvan, Marko, 2002: Iz slovanskih literatur na koncu 20. stoletja — uvodnik. Slavistična revija 4, 411.
Lodge, David, 1988: Načini modernog pisanja. Zagreb: Globus in Stvarnost.
-------------, 2003: Roman na križpotju. Sodobnost 11–12, 1423–1435.
Potter, Garry, López, Jose, 20062: After Postmodernism? López, Jose (ed.): After Postmodernism? London, New York: Continuum, 3–16.
Repe, Božo, 2002: Jutri je nov dan. Slovenci in razpad Jugoslavije. Ljubljana: Modrijan.
Steiner, Georg, 2003: Resnične prisotnosti. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura (Zbirka Labirinti).
Travers, Martin, 1998: An Introduction to Modern European Literature: From Romanticism to Postmodernism. London: Macmillan Press.
Vattimo, Gianni, 1997: Konec moderne. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura (zbirka Labirinti).
Zupan Sosič, Alojzija, 2006: »Gender Identities in the Contemporary Slovene Novel«. http://clcwebjournal.lib.purdue.edu/clcweb06-3/contents06-3..html
------------------------, 2004: Identitet savremenog slovenskog romana. Razlika/Différance. Časopis za kritiku i umjetnost teorije 9, 33–45.
------------------------, 2006: Robovi mreže, robovi jaza: Sodobni slovenski roman. Maribor: Litera.
-----------, 2006: »Sodobna slovenska proza.« Svetovni dnevi slovenske literature. Ur. Zupan Sosič, Alojzija; Nidorfer Šiškovič, Mojca. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2006, 13–17.
-----------------, 2008: The Contemporary Slovene Novel. Slovene Studies 30, no.2, 155–170.
-------------------------, 2003: Zavetje zgodbe: Sodobni slovenski roman ob koncu stoletja. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura (Zbirka Novi pristopi).
Примечания
1 1980-е годы были совершенно иными также и с точки зрения участия писателей в общественной жизни. В Словении именно писатели всегда наиболее остро реагировали на политические изменения или были их глашатаями. Таким образом, процесс обретения независимости связан с Обществом словенских писателей (DSP) и созданием журнала Nova revija (1982), хотя «словенская весна» была вызвана деятельностью и некоторых других подобных учреждений, а также новыми общественными движениями и журналом Mladina. 57-й выпуск журнала Nova revija в 1987 г. удивил «Тезисами словенской национальной программы», в которых авторы с различных позиций рассматривали вопросы организации словенского гражданского общества и политического государства в демократической республике. Обновленный вариант этого выпуска был представлен в 95-м выпуске журнала Nova revija (1990) с заголовком «Независимая Словения», который представил основу демократии с парламентскими выборами и территориальной независимости Словении.
2 Мы согласны с Ваттимо [1997: 23] в том, что метафизический нигилизм в постмодернизме перешел в фазу, которую можно обозначить фразой Ницше «совершенный нигилизм»: это нигилизм, который осознал, что именно нигилизм является его единственной возможностью.
3 Новую эмоциональность мы трактуем в своей книге«Крайсети, крайэго. Современный словенский роман» (2006: 28–45) как общее определение романов последних пятнадцати лет и их движений личной идентичности, которые с точки зрения пост-постмодернистской эстетики могли бы быть также признаками нового направления.
Опубликовано в журнале:
«Вестник Европы» 2013, №37
Русских по-настоящему можно узнать только здесь
Прощальное интервью
Беседа с Адой Филип-Сливник — бывшим послом Республики Словения в России с 2009 по август 2013 г.
Корреспондент: Ваше превосходительство, поделитесь, под занавес Вашей долгой миссии в качестве посла в России, впечатлениями о стране пребывания...
Посол: Это не первая и не вторая моя московская история... Мой муж был журналист, корреспондент газеты «Борьба», его направили в Москву, я приехала с ним, тогда еще совсем молодая. Была осень 1982 года, мрачное время, последний год правления Брежнева. Муж привез меня в квартиру и признался, что еще не все рассказал мне о предстоящей жизни... Сказал, что мне еще придется познакомиться с тараканами. Я не знала, что это такое. Потом я быстро адаптировалась к московской жизни, стояла в очередях, заводила друзей. В общем, это были хорошие годы, хотя и трудные. Нам платили мало денег в валюте, «Березка» была для нас недоступна, так что мы жили как все москвичи того времени. Уровень жизни в Югославии тогда был значительно выше. У вас же во всем был дефицит.
Корр.: Как вы думаете —с расширением Евросоюза будут ли развиваться какие-то новые интегральные проекты в бывшей Югославии —через Брюссель?
П.: Думаю, что нет, вряд ли. Хорватия вступила в ЕС, Сербия стоит на пороге, перед ними сейчас трудная задача — пройти весь этот путь интеграции… Евросоюз осуществляет экономически обусловленные проекты.
Корр.: Но есть же большие инфраструктурные, транспортные проекты, например: реконструкция дорожной сети, скоростные железнодорожные маршруты…
П.: Да, конечно; это есть. Через Словению идет так называемый пятый транспортный коридор, Барселона — Киев, будет, конечно, вестись реконструкция железных дорог; но все это делается не как какие-то особые «постюгославские» проекты. Такой задачи просто никто не ставит. Каждая страна строит свои участки этих магистралей, все в этом заинтересованы.
Корр.: Кстати, что Вы можете сказать о газопроводе «Южный поток», согласования по которому практически завершены. Словения в нем активно участвует. Насколько я понимаю, ЕС к этому относится без особенного энтузиазма, даже несколько напряженно...
П.: Может быть, и напряженно. Но позиция Евросоюза состоит в том, что, с одной стороны, Европа нуждается в газе, в расширении его поставок, и, с другой — в диверсификации этих поставок. В соответствии с третьей корзиной Европейской энергетической Хартии, Евросоюз озабочен тем, чтобы появлялись новые источники, но не желает допускать монополизма никаких партнеров, чтобы была прозрачная и разветвленная структура поставок и транспортировки газа.
Корр.: Кстати, в России к этой «корзине» относятся довольно нервно.
П.: Тут, скорее, взаимное недопонимание, отчего и возникает напряженность. В конце концов, все хотят честных, понятных, стабильных торговых отношений, не обременённых никакими другими обстоятельствами. Мы покупаем газ — и ничего, в данном случае, кроме газа. Никаких других обязательств, это естественное желание Евросоюза. Чтобы были новые маршруты и новые поставщики газа. Европа не хочет быть зависимой; но я думаю, что какой-то компромисс будет достигнут. Уже три члена Евросоюза участвуют в этом проекте «Южный поток» — Болгария, Венгрия, Словения. Еще и Хорватия теперь член ЕС, но через нее газопровод не пойдет; туда планируется ответвление, как и в Австрию. Напрямую труба пойдет через Болгарию, Венгрию, Словению и дальше в Италию.
Корр.: А что Вы думаете о нынешнем кризисе? Как, по-вашему, виден «свет в конце тоннеля»?
П.: Я в принципе оптимистка; в конце концов, кризис когда-нибудь кончится. Но вот когда? Нас критикует Брюссель; нам необходимо провести какие-то трудные реформы, потому что их слишком долго не делали, откладывали на потом... У нас шел активный рост: либо на старых достижениях, либо на кредитах, но без структурных реформ. Теперь пришло их время. У нас еще осталось слишком много социализма. Образование, здравоохранение, все у нас было бесплатно; гарантирован ранний выход на пенсию. В девяностые годы многие ушли на пенсию, потому что для женщин пенсионный возраст у нас был 50 лет. Теперь же пенсионеров стало слишком много. Одна моя подруга уже 15 лет получает пенсию и, конечно, работает: продает косметику, хорошо зарабатывает. И таких вот работающих пенсионеров очень много. А пенсии у нас, по сравнению с русскими, высокие. Сколько ты платил в Пенсионный фонд, столько и получишь. Правда, есть проблема, с теми, кто работал в федеральных организациях (например дипломаты), с ними сложности, трудно собрать документы, получить из Белграда... Гарантии, оставшиеся от социализма, плюс гарантии, приобретенные со вступлением в ЕС, — это ведь должно было когда-то кончиться. От бизнеса, от политиков, от всего народа требуется больше трезвости и реалистичности. Реформы всегда — это политический процесс. Одни интересы, другие, иногда противоположные, их проводят различные партии. Сейчас столкнулось много интересов, и возник такой долгий политический кризис. Общество отчетливо разделилось почти пополам: левые и правые партии. То, что поддерживают одни, невыгодно другим. Левые требуют как можно больше государственной поддержки, правые — как можно меньше. К сожалению, возможно, все это время мы слишком прислушивались к нашим профсоюзам. Их требования часто не соответствовали экономическим возможностям страны. Можно сказать, что профсоюзы, в известном смысле, правили страной. Если делалось что-то не так, как они хотели, они угрожали вывести людей на улицы. И выводили. Помню, еще в девяностые годы на демонстрацию вышли старые революционерки, ветераны коммунистической партии, с требованием поднять пенсии. Была зима, и они митинговали в шубах. Это было смешно: у нас южная страна, шуба — не как в России — необходимый тип одежды, у нас шуба — признак очень состоятельных людей. Было очень смешно; акция произвела противоположный эффект. С тех пор пенсионеры старшего поколения больше не протестовали на улицах.
Корр.: Что вы считаете самой успешной частью своей миссии посла в России?
П.: Трудно сказать. Я думаю, человеческие отношения. Это я поставила бы на первое место. У нас появилось много друзей Словении, и не только в Москве. Завязались отношения с Подмосковьем и даже с футбольными командами. Малаховка, Чехов, Кострома, Калуга... Я во всех этих городах и поселках бывала. Филологов-словенистов объединяли, собирали, бизнесменов постоянно приглашали, они уже привыкли ходить в наше посольство. Все постепенно поняли, что посольство, оказывается, не только бюрократическое учреждение, оно может быть полезно и для контактов с русскими партнерами. Мы звали всех: приезжайте к нам.
Корр.: Это очень хорошая формула: посольство должно быть полезно людям. Сколько я куда ни ездил, в посольства никогда не обращался.
П.: В посольствах никогда не были?! Понятное дело. Я тоже не ходила! Это обычно так и есть. Но мы хотели это изменить. Постепенно наши компании, типографии, турфирмы привыкли проводить здесь свои презентации. Особенно компании, которые здесь имеют своих представителей. И знаете: если посольство приглашает своих русских партнеров, тем тоже бывает интересно прийти, даже на высшем уровне.
Корр.: А бывало так, что из этих встреч в посольстве возникал какой-то интересный проект?
П.: Точно я не могу сказать, это не измеришь и не вставишь в отчет, но я знаю, что многие здесь начали свои знакомства, деловые контакты, и теперь хорошо работают. Это не какие-то грандиозные проекты; но я многих познакомила, даже они сами об этом забыли. То же и в культурной сфере — с издательствами, университетами, архивами, библиотеками. Например, с Библиотекой иностранной литературы, с госпожой Екатериной Гениевой, мы осуществляем грандиозный проект «Библиотека словенской литературы». Уже вышло несколько книг наших прозаиков. А как это начиналось? К нам зашла госпожа Гениева, она собиралась в Рим. Я ее спросила: может быть, вы по дороге заедете к нам в Любляну? Она поехала, познакомилась с множеством наших интеллектуалов. И уже через восемь месяцев в их издательстве «Рудомино» вышла первая книжка — представляете? Началось многолетнее сотрудничество. И книги эти очень тепло были встречены. А теперь издатели и в других странах начали интересоваться нашими писателями. Для того чтобы писатель из малой страны стал европейски известным, его должны перевести хотя бы на один великий европейский язык. Например, на русский. Так что знакомство с госпожой Гениевой было очень удачным.
Корр.: И нас с Фондом Гайдара Екатерина Юрьевна увлекла Словенией, в прошлом году мы дважды посещали вашу страну, которую так любил наш друг Егор Гайдар. Вручали нашу Карамзинскую медаль «Вестника Европы» замечательному человеку Саше Славецу...
П.: Да, его семья уже не первое поколение поддерживает Русскую часовню, поставленную русскими военнопленными в 1915 году на месте гибели их товарищей под лавиной, на перевале Вршич.
Корр.: Мы были там. Это удивительное, с такой трогательной заботой сохраняемое место. И памятник русским солдатам, погибшим здесь. А вокруг горы, леса, снежные вершины, синее небо…
П.: Эта часовня, восстановленная и реставрированная, стала символом словенско-русских братских отношений. Теперь там бывают самые высокие российские гости; русские туристы едут туда поклониться русским могилам, находящимся так далеко от родины. Каждый год в конце июля там собираются первые лица нашего государства — Президент, Премьер, Председатель парламента... И в этом году тоже.
Корр.: И такое большое историческое дело долгие годы поддерживала одна семья бескорыстных словенских людей...
П.: В вашей стране к Словении все относятся очень доброжелательно. В нашей — тепло относятся к России. Это самое главное. В несколько раз вырос поток туристов, деловые отношения становятся широкими, захватывают разные регионы. Я ведь много ездила по России, побывала во многих областях, помогала нашим и вашим бизнесменам. Через человеческие контакты, установившееся между людьми доверие, начинаются и большие дела.
Корр.: Вернемся к Вашей жизни. А Ваша вторая командировка в Москву, —с какими чувствами Вы сюда возвращались?
П.: Это был драматический для России 93-й год, у нас возникло новое словенское государство. Здесь впервые открывалось наше посольство. Мы с одной сотрудницей приехали сюда, занимались организационной работой, потом приехал первый посол... Я здесь тогда проработала полтора года. В девяносто шестом году я занималась открытием посольства в Словакии.
Корр.: Уже как посол?
П.: Нет, опять как организатор. Работала там шесть месяцев, опять вернулась. В 2007 году я стала первым послом Словении в Словакии. Я всю жизнь кручусь между Россией и Словакией. Братислава — красивый город, и близко... Иногда это плохо. Семья недалеко, легко можно махнуть домой на выходные. Но послу так нельзя, всегда надо спрашивать разрешения. Дипломатическая служба требует внутренней дисциплины, это входит в профессию. Хорошо, что родные могли ко мне приезжать. Отец из Каринтии приезжал на машине, там до Братиславы три часа езды. Друзья, сыновья…
Корр.: А как у Вас шли дела с Россией?
П.: Когда я приехала послом в Россию в 2009 году, это было время мирового спада. И торговый оборот падал каждый квартал. В начале 2010 года упал еще на несколько процентов, а потом понемногу начал восстанавливаться. В 2011-м он поднялся, а в 2012-м вырос на 18 процентов. Так что 2012 год был выше, чем 2008-й, который был рекордным. Наш экспорт в Россию был на 840 миллионов евро, а российский экспорт — около 600 млн. Это согласно нашей статистике; по вашей статистике больше, она в долларах, и лучше звучит. Во-вторых, наша статистика работает по старой югославской системе; услуги туда не входят. А ведь у нас много услуг: туризм, рестораны, отели, медицина. Строительство здесь и там; в нашу статистику не входят инвестиции. Я думаю, что если все учесть, мы приближаемся к товарообороту в два миллиарда долларов в год. Это совсем неплохо для страны с населением в два миллиона человек. Экономическое сотрудничество идет хорошо, несмотря на кризис в Европе и в Словении.
Корр.: Вы покидаете Москву, здесь у Вас остается много друзей...
П.: Настоящих друзей не бывает слишком много... Они всегда в твоем сердце. Я со своими сыновьями редко разговариваю по телефону, ну, раз в месяц.
Корр.: А по «Скайпу» не общаетесь?
П.: Нет, нет, нет! По «Скайпу» я не разговариваю. Это такая коварная вещь: а когда приходится встречаться, не о чем разговаривать. Когда не видишься полгода, год, как же приятно общаться, рассказывать, что произошло... Одно исключение: раз в неделю я должна позвонить маме, иначе она будет думать, что со мной не все в порядке. Друзья… Я сохранила связи с теми друзьями, которые были у меня в 93–94 годах. С теми, которые были у меня в 1980-е, не сохранила, потому что они разбежались по всему миру. В те годы у меня был здесь один приятель, он все мечтал: «Как бы я хотел поехать в Германию и прокатиться по их автобанам! Почему меня не выпускают?» Но потом в Германию уехала сестра его жены... Когда я вернулась сюда в девяностых годах, я их искала; у меня остался телефон его мамы, я позвонила ей. Она сказала: как, вы не знаете? Он погиб. В Германии разбился на машине. Он слишком быстро ехал. Но мечту свою реализовал. Контакты с друзьями девяностых остались и будут продолжаться. Так было и в Словакии. Но теперь мне нужно будет налаживать отношения с моими словенскими друзьями. Меня слишком долго не было.
Корр.: Дипломаты часто —довольно одинокие люди, потому что когда они возвращаются домой через много лет, выясняется, что жизнь на родине прошла без них.
П.: Да... Но остаются родные, друзья юности, коллеги — так что я не думаю, что одиночество — обязательная судьба дипломата. Когда выйду на пенсию, придется какое-то занятие, хобби себе искать.
Корр.: У Вас нет хобби?
П.:Нет.
Корр.: Совсем никакого?
П.: Совсем никакого. Придется искать. Может быть, в культурной сфере. В социально-культурной. Политика меня точно не интересует. Помогать кому-то, каким-то группам населения, нуждающимся в помощи. Я так живо могла себе представлять боль других людей. Я была не слишком реалистичным человеком, могла упасть в обморок от каких-то страшных рассказов — так сильно сопереживала чужой боли.
Корр.: Скажите, Ада, какое все-таки у Вас общее ощущение от нынешней России?
П.: Ох!.. В одном интервью меня об этом спрашивали. Я восхищалась Москвой, а корреспондент меня спросил: а вы выезжали из Москвы больше чем на сто километров? Да, выезжала. Я объехала чуть ли не всю Россию. Конечно, Словения — она маленькая, развивается более равномерно, в старые времена тоже так было. У нас политика децентрализации, упор на роль местного самоуправления была во всей Югославии; и внутри республик так было. Так что у нас в маленьких деревнях часто много лучше жить, чем в городе. Инфраструктура, дороги, технология быта. Здесь, в России, все по-другому. Большие контрасты. Наверное, во всех странах так было: столица поднимала уровень, а потом и жители столицы стали требовать, чтобы улучшать дороги до их дач, чтобы и там были автозаправки, магазины и кафе… Я думаю, это будет следующий шаг. И он уже делается, этот шаг; Во многих местах, где я бывала, произошли огромные изменения, я могу сравнивать. Конечно, там, где остались одни старушки, где молодежи нет, трудно ожидать обновления. Но большинство населения, которому лет тридцать, уже и не знает, как было раньше. И та часть населения, которой тридцать–пятьдесят, может себе позволить гораздо больше, чем раньше. Но знаете что: всего ни у кого и нигде в мире нет.
Корр.: А что вы можете сказать об изменении отношения людей к религии —в Словении и здесь, в России?
П.: Здесь разница большая. Вы знаете, наши верующие католики не такие, как в Польше: там религия веками была оппозиционна власти, она объединяла народ. В Словении все иначе. В праздники, на Рождество особенно, церкви и соборы были полны людей, даже вокруг стояли. А теперь нет... Теперь уровень религиозности заметно и быстро снижается.
Корр.: Как я понимаю, у вас и влияние клерикальной католической партии тоже снизилось…
П.: Последние десять лет ее вообще практически больше нет. После нескольких крупных скандалов, связанных с ней, она так и не оправилась. У нас общество в целом не религиозно. Ну, может быть, процентов десять верующих людей... У нас религия считается каким-то сугубо частным делом. Два-три раза в год зайдут в храм. Ну, моя мама раза четыре. Это сейчас скорее воспринимается как традиция, уважение, дань памяти предков. Мои сыновья вообще посещают в храмы в других странах и смотрят на них как на памятники архитектуры. Это — часть культуры, часть образования, которые ты подсознательно впитываешь в себя. Ты живешь по нормам, которые вокруг тебя. Знаешь, что нельзя того, нельзя этого... Это уже универсальные человеческие законы, а не только христианские: не укради, не убий, чти отца своего... Это общечеловеческие мировые законы. Так что религиозность у нас снижается. А в России, мне кажется, растет. Хотя оценивать это явление надо с осторожностью. Его нужно изучать.
Корр.: Я недавно видел фильм в интернете про крестный ход в Кировской области. Тысячи людей идут по полям, лесам, болотам, многие тысячи людей. Это впечатляет. Такую Россию и мы-то не очень знаем...
П.: Знаете, что меня удивляет? Почему люди верят каким-то бабкам, которые им гадают, предсказывают судьбу, заклинают, заговаривают кого-то. Это какие-то архаические, языческие структуры сознания выходят на поверхность. И очень многие верят в это, тратят большие деньги на этих колдунов. И даже на телевидение их приглашают... Какое-то средневековье рядом с современностью. Это удивительно. И часто совмещается в одних и тех же людях. Это мне странно… Я видела Россию разную: во времена Брежнева, Ельцина, Медведева, Путина. Я жила здесь. И когда работала в Любляне, не оставляла вниманием Россию, очень часто бывала здесь с делегациями... И вот что скажу: я думаю, люди сейчас живут лучше, чем жили раньше. Но мы такие существа, что хотим больше и больше. Всегда стремимся к какой-то мечте. Дача, дом на море, вилла на океане. Всегда мечтаем, чтобы твои потомки жили лучше, чем жили мы. Но в этом понимании лучшего некоторые запутываются, хотя в принципе понять их стремление можно... Если бы люди не стремились к лучшему, они бы и сейчас жили на деревьях. И они хотят, чтобы было что-то и для души. У многих всё есть, а душа пустая. Меня настораживает, когда люди хотят наполнить душу любовью к Богу, а наполняют ее агрессией и ненавистью к другому. Люди ищут, чем заполнить душу, ищут Бога, но почему-то через какую-то нетерпимость. Если все будут себя вести так — к чему это приведет, мы видим на примере бушующих страстей на Ближнем Востоке. Есть и гораздо более агрессивные люди.
Я знала одну девушку, австралийку (или новозеландку, не помню). Она фотограф, в девяностые путешествовала через Россию на поезде и как придется. Она остановилась в России не на три дня, как собиралась, а на два месяца. И знаете, что ей нравилось? Человеческие отношения, студенческая среда, все друзья. Она говорила, что в Австралии, в европейских странах слишком много индивидуализма, каждый сам по себе. Но в то время она была очарована межчеловеческими отношениями, они жили в какой-то съемной квартире, четыре или пять человек, я была у них, некоторые спали на полу. Там была и одна словенка, она заболела, я ей помогала от посольства, поэтому и познакомилась с этой командной, с которой она жила в Москве. Но двадцать лет спустя и в России стало больше индивидуализма, чем было в 93-м году. И у нас тоже, конечно.
Корр.: Вы стали лучше понимать русский характер?
П.: Русский символ — русский медведь. В 1993-?94 гг. у меня здесь была учительница русского языка. Она меня как-то спросила: что вы там думаете о медведе, о русском медведе? Как вы его видите на Западе? Я ответила: ну, это животное, мощное, сильное, может быть опасным, агрессивным... Она была в шоке: «Что вы, медведь — самая любимая игрушка каждого русского ребенка! Он ласковый! Во всех русских сказках есть медведь. Он добродушен, возможно, наивен, его все обводят вокруг пальца, подсовывают то вершки, то корешки. Но он никогда не агрессивен». А я об игрушках даже не подумала, подумала о настоящем медведе — их в наших лесах тоже много.
Если же говорить о русских... Никто не может определить, какие они, типичные русские. На Западе считается: они не очень общительные, замкнутые, а вот когда выпьют, становятся раскованными, веселыми… Я думаю, в общении с иностранцами у русских еще подсознательно осталась настороженность, идущая со времен «холодной войны». Сначала они неприступны, а потом, когда их узнаешь, это теплые, добрые люди... Но на Западе так не думают, потому что русских по-настоящему можно узнать только здесь, у них дома. Конечно, они могут ругаться, как итальянцы, но в принципе это очень чувствительные люди, которые мгновенно переходят из одного настроения в другое. Здесь женщины часто плачут. Я такого нигде не видела: кажется, они могут заплакать в любую минуту. У нас такого нет. Вы думаете, я ошибаюсь? В восьмидесятых годах все-таки мы были иностранцы, совсем уж близких друзей у нас не было. Никто не знал, следят ли за ним, или за нами. В девяностые годы всё стало по-другому... А теперь снова возникает дистанция.
Корр.: Времена меняются, меняются и люди. Что вы думаете о молодежи?
П.: Когда мы росли, нам хватало палок, песка, тряпичных кукол, ну велосипеда — это уже как роскошь. А теперь у детей компьютеры, модные смартфоны, но общения между ними все меньше. И они все более одиноки. Или вот сладости. В нашем детстве мама раз в месяц пирог испечет, дедушка пряник принесет… А теперь этими сладостями дети буквально закормлены. За полвека всюду изменения колоссальные произошли. И ребенок теперь в семьях один, от силы — двое детей. А вокруг родители, дедушки, бабушки, дяди и тети. Он вырастает, но к двадцати годам все еще ребенок, неспособный к самостоятельной жизни. Такого прежде никогда не было. Это и у нас так. Они быстро устают, у них всегда не хватает времени. А если сам заводят ребенка: всё, у меня ребенок, учиться некогда. У меня тоже был ребенок, я окончила университет, как у вас говорится, с «красным дипломом». И потом уже было двое сыновей — я училась и работала, делала свою карьеру. Училась даже ночью. Я каждый вечер приходила домой, готовила ужин — горячий, из трех блюд, салат, мясо, десерт... И когда дети ложились спать, я садилась за компьютер и писала то, что нужно было написать. И без бабушек, без дедушек, они у меня остались в Каринтии.
В общем, я так скажу: можно совмещать учебу, работу, карьеру и семью. Но это очень трудно, это точно. И у моих подруг (они тоже послы) у обеих и семьи, и дети, и карьера...
После Первой мировой войны, когда рухнула Австро-Венгерская империя и Словения вошла в возникшее Королевство сербов, хорватов и словенцев (а потом в Югославию), моя бабушка осталось совсем без денег... Австрийские деньги меняли на югославские так, что у них не осталось ничего. А Словения тогда была самая зажиточная из всех трех... Они были благополучные люди и всего лишились. Эта травма у них осталась на всю жизнь. Она была актриса провинциальная, играли спектакли из сельской жизни на площадях. Она поздно вышла замуж. Во время войны были карточки, талоны. Мама говорит, что хлеба была мало, но картошка и овощи были. А дедушка не курил, и свои табачные талоны менял на сахар. Она с теплотой вспоминала воскресенье. Потому что по воскресеньям они устраивали спектакли, они играли для детей. Они были уже в возрасте, почти под пятьдесят, но играли с детьми в старые детские игры. Бабушка потом со мной в них играла. А я со своими детьми — уже нет…
Интервью провел В.Ярошенко.
Июль 2013 г. Москва, посольство Словении
Опубликовано в журнале:
«Вестник Европы» 2013, №37
Понаехали тут, или Чефуры вон!
Cловенские реалии мультикультурного сожительства
Александра Красовец
Словения, вступив в 2004 г. в ряды Евросоюза, тем самым подтвердила свой статус европейского государства с динамично развивающейся экономикой, в очередной раз невольно дистанцируясь от бывших братских республик, которым не так давно довелось пережить один из самых кровавых военных конфликтов. Вопрос идентичности не перестает тревожить Словению. Находясь бóльшей частью своей истории в составе Габсбургской империи, сегодня словенцы задаются вопросом о том, насколько важным для них был семидесятилетний югославский эпизод и как он повлиял на их культурную самоидентификацию. Мнения на этот счет отличаются диаметральной противоположностью и часто становятся поводом для ксенофобных высказываний.
Национальный вопрос в контексте бывших республик СФРЮ представляет собой крайне сложную и комплексную проблему, Словения также не может ее избежать, безусловно, имея свою специфику.
Модель социалистического общества, предложенная Иосипом Броз Тито, сделала Югославию активным членом Движения неприсоединения — международной организации, отстаивающей принцип неучастия в военных блоках. Югославской коммунистической партии на протяжении всей истории ее существования удавалось оказывать сопротивление идеологическому и политическому давлению со стороны КПСС, однако вместе с тем Югославия развивала обширные экономические связи с капиталистической Европой, имея открытые границы. Вызывая симпатии на обоих полюсах европейской политики, Тито сформировал идеальную модель социализма, разыгрывая двойную карту — антикапитализма и антисталининизма. Оборотной стороной столь удачной формулы была искусственность СФРЮ как государственного образования, внутри которого разным нациям и народностям страны было навязано общее сосуществование. Кажущееся равновесие поддерживалось жесткими репрессиями; не решенный во времена Тито национальный вопрос, на который было наложено табу, обострился сразу же после смерти маршала в 1980 году. Высвобождается скрытый до этого дискурс, тема национального фундаментализма и «гражданских войн» 1941–1945 гг. вновь выходит на поверхность. Политика национализации набирает обороты во всех республиках, а трагическим следствием этого становится разразившаяся в 1990?-е?гг. в Боснии и Герцеговине. Словения не участвует в конфликте, приняв на своей территории волну военной миграции. Первую, экономическую, миграционную волну представляет собой поколение, прибывшее на стройку новой словенской индустрии еще во времена существования СФРЮ. Среди федеративных республик Югославии Словения представляла собой наиболее развитую экономически и активно принимала рабочую силу из более отсталых аграрных регионов страны. Так на ее территории оказалось значительное число нацменьшинств, представляющих собой выходцев из Сербии, Хорватии, Боснии, Македонии и Черногории, наделенных в словенском языке пейоративным обозначением «чефур». Это слово получило широкое распространение в начале 1990-х?гг.: так агрессивно настроенные группы словенской молодежи называли мигрантов из южных республик только что распавшейся большой Югославии. Внешние отличия и неизменные атрибуты правоверного «чефура» — спортивное трико, дутая куртка, кроссовки «адидас» и стрижка «полубокс» (не могут не напомнить нам российских гопников). Однако само понятие «чефур» оказалось более универсальным и со временем стало применяться как характеристика всех граждан с фамилиями, оканчивающимися на «-ич». Таким образом, стереотип «чефуров», рисует нам переселенцев из бывших югославских республик: у них, как правило, низкий уровень образования, они выполняют тяжелую, низкооплачиваемую работу (чернорабочие, уборщицы и т.д.), их дети учатся в средних специальных учебных заведениях, и живут они в люблянском районе Фужины — так называемом гетто, построенном специально для всех приезжих «чефуров». Этот стереотип настолько прочно вошел в жизнь словенского общества, став столь мощным социальным и культурным фактором, что, несмотря на всю изначально негативную окраску понятия, с ним отчасти начали идентифицировать себя как сами переселенцы и прежде всего их дети, родившиеся и выросшие в Словении, так и часть словенской молодежи, для которых стиль в одежде и музыка, которую слушают «чефуры», стали неотъемлемой составляющей современной городской молодежной субкультуры.
В 2008 г. в Словении вышел в свет роман молодого автора Горана Войновича* (1980 г. р.) под провокационным названием «Чефуры вон!», тут же став бестселлером как в Словении, так и на территории всей бывшей Югославии. Книгу взяли в руки даже те, кто и вовсе не имеют привычки читать беллетристику.
Роман привлек к себе большое внимание к средствах массовой информации после инцидента со словенской полицией, когда Горану Войновичу был предъявлен иск об оскорблении и клевете. В словенской литературной среде поднялась волна негодования, министр внутренних дел Катарина Кресал встала на защиту писателя и лично извинилась перед ним. Публичный скандал вызвал дополнительный интерес к книге, хотя подобная реклама, по словам автора, была явно излишней. Эпизод, однако, стал поводом для шуток: если книгу читают даже полицейские, она и правда должна быть чем-то особенным. Во время одного из своих выступлений в Лейпциге в компании двух авторов из Черногории и Албании Войнович, отвечая на вопрос: почему будучи единственным автором из ЕС, который также единственный имеет проблемы с полицией? — ответил, что, вероятно, именно потому, что Словения — член ЕС, его книгу читают полицейские. На что черногорский писатель и албанский поэт шутя ответили, что в их странах таких проблем нет, ибо их стражи порядка грамотой вовсе не владеют.
Юмор, ирония и самоирония являются одной из главных составляющих книги, которая на данный момент представляет в словенской литературе самое исчерпывающее раскрытие проблемы мигрантов.
В эпиграфах к своей книге писатель дает начальные пояснения о том, кто же такие эти «чефуры»... Так, мы узнаем, что в названии романа использовано распространенное люблянское граффити, отсюда же бросающаяся в глаза ошибка в пунктуации (название по-словенски «Čefurji raus!» — прямая параллель с положением евреев в фашистской Германии, что уже само по себе придает роману остропровокационный характер). В словенском этимологическом словаре слово «чефуры» с пометой «презрительное» истолковано так: «чефуры» — это иммигранты из южных республик бывшей Югославии; известный словенский исполнитель Роберт Пешут Магнифико в своей песне «Чефур» описывает их поведенческие особенности: «живут они неторопливо, вальяжно, не чураются непристойностей, обожают алкоголь, нежный пол и футбол. Еще одна их страсть — китч и золотые украшения. Они неравнодушны к боевым искусствам и часто сами бывают неоправданно агрессивны. Период их акклиматизации, как правило, длителен».
Главный герой романа — семнадцатилетний подросток по имени Марко Джорджич, сын иммигрантов из Боснии, обитатель многонациональных Фужин — сам называет себя «чефуром» и от первого лица рассказывает о жизни этого спального района, о трудностях и проблемах, с которыми приходится сталкиваться его жителям: низкий уровень жизни, неблагополучные семьи, отсутствие возможности диалога с жителями Любляны, неспособность ассимилироваться в чужеродном пространстве и многое-многое другое. Главы романа напоминают разделы детской энциклопедии и, пародируя логику стереотипа, дают ответы на вопросы: «Почему коммунизм еще не вымер», «Почему чефуры не говорят о сексе», «Почему Радован оказался в Словении», «Почему гастарбайтеры — самая несчастная раса», «Почему чефуры в машине на всю катушку врубают музыку», «Почему чефуры сидят на задних партах», «Почему нет монстров ужаснее, чем молодые чефурки», «Почему Босния не для чефуров»... По сути, книга представляет собой роман воспитания: читатель наблюдает за процессом взросления Марко — героя, перед которым встают вопросы идентичности, стереотипов окружения, проблема выбора... Герой критически воспринимает весь окружающий его мир, соприкосновение двух культур описано им с иронией.
Главный герой, представляя собой второе поколение «чефуров» (его родители приехали в Словению еще во времена существования СФРЮ, получив здесь работу), пытается решить для себя вопросы национальной и культурной принадлежности, что ему сделать еще сложней, несмотря на то что он родился и вырос здесь. Родители таких, как он, молодых людей никогда даже не пытались сблизиться с чуждым ментальным пространством — правда, крайне агрессивным по отношению к ним, — что, конечно же, не способствовало ассимилятивному процессу.
Наследие многонациональной Югославии со всеми ее этническими и религиозными конфликтами неуклонно давит своим грузом на все поколения. Отец Марко, Радован, — серб из Боснии, у которого больше нет своей страны, — не приемлет сербских националистов, четников, но и не видит, чтобы хоть что-то менялось к лучшему: страной управляют все те же радикалы: «Нет у Радована своей страны — вот это его и напрягает. Так у всех боснийских сербов. Боснию они типа вычеркнули из списка и типа подсели на Сербскую Республику, а потом вроде как начали за Сербию болеть, и теперь таращатся на этих своих Шешелей, и сами уже не знают: а может, мусульмане и хорваты и получше будут всех этих идиотов? Вот Радован и смотрит на Сербию, надеется, что она станет нормальной страной, и тогда он скажет, что это его страна. А сейчас ему стыдно так говорить, пока у власти там персонажи вроде Коштуницы. Но Сербия-то никогда не будет нормальной страной. Мы все это точно знаем».
Эти проблемы беспокоят и молодое поколение, которое не может найти подлинной опоры для своей идентичности на родине предков, но и Словения, где они родились и выросли, для них, скорее, враждебная среда. Негативная стереотипизация по отношению к иммигрантам, имеющая место в словенском обществе, ксенофобия и этноцентризм питают уверенность словенцев в том, что именно переселенцы являются причиной роста преступности, что их присутствие — с экономической точки зрения — приносит больше вреда, чем пользы. Одну из причин такого отношения, вероятно, следует искать в комплексах, присущих словенскому обществу, которое, в свою очередь, точно так же является жертвой негативных стереотипов со стороны их соседей — итальянцев и австрийцев. Сами находясь в зависимом положении, подвергаясь критике и насмешкам, они переносят эту же поведенческую модель на зависимых от них людей. Атака, которой подвергается слабейший, на самом деле предназначена сильнейшему, — но ему-то невозможно нанести удар! Так словенское общество формирует и поддерживает стереотип «другого», «чужого», применив его в отношении переселенцев из южных республик бывшей Югославии. Противодействуя такого рода шовинизму, представители национальных меньшинств вырабатывают защитные механизмы, готовя адекватный ответ, что нередко приводит к насилию. Страх перед ассимилятивным окультуриванием и боязнь потерять собственную идентичность в новой среде приводят к радикализации своей собственной культуры, в среде молодежи это выражается в подчеркнуто стереотипной манере одеваться, вести себя в обществе, выбирать музыку. В качестве яркого примера подобной психологической реакции приведем отрывок из романа: «Есть что-то кайфовое, когда вот так врубаешь музыку и едешь медленно на тачке с опущенными стеклами... А самый большой кайф — смотреть, как народ вокруг офигевает. Ясно же: они б с удовольствием накостыляли нам и заслали обратно в Боснию, — а ты нарочно едешь десять километров в час, и Миле Китич орет, чтоб все слышали».
Когда герой демонстративно называет себя «чефуром» — словом с большим знаком минус, уже одним этим он выражает сопричастность с той оппозиционностью, на которую обречены чуждые словенскому миру переселенцы. Одной из схем противодействия становится двунаправленная стереотипизация, когда обозначение «словенец», в свою очередь, тоже приобретает негативные качества.
Марко не перестает противопоставлять Словению и Боснию, да и внутри него самого постоянно происходит столкновение двух различных менталитетов и двух темпераментов. Жители других республик Югославии всегда видели в словенцах людей работящих, хорошо организованных, старательных, но в то же время законопослушных, покорных, слабохарактерных, с чем соглашаются и сами словенцы. Эти черты словенского характера часто связывают с австрийской и немецкой дисциплинированностью и организованностью, которая оказала сильное влияние на словенский народ, в течение нескольких столетий входивший в состав Габсбургской империи, отсюда такие определения, как «австрийские холопы», «конюшенники», «батраки». Со словенским типом характера контрастирует балканский темперамент: балканцы открыты, участливы, внимательны, общительны и эмоциональны. Безразличию, прохладности словенцев противопоставлены главные ценности переселенцев с юга — коллективизм и солидарность. Существует и оппозиция по социальному статусу: словенцы — представители благополучного среднего класса, а иммигранты — маргинальная среда, что, в свою очередь, способствует еще большему расхождению двух поведенческих схем. В романе, однако, позиция героя лишена какой-либо односторонности: Марко ассимилирует обе идентичности, отмечая плюсы и минусы той и другой. В начале романа Босния всегда представлена в положительном свете по отношению к Словении: «И все друг другу помогают, к любому можешь прийти в гости кофе попить без приглашения и всякой прочей мурни. Заходишь, когда хочешь, так — побазарить просто, пообщаться, без понтов и прочей мути. Просто расслабился и вперед. Народ здесь живет не так: дом — работа, работа — дом. <...> Здесь же все только и думают о своей заднице, чтобы у них всего было побольше: и тачка крутая, и хата в несколько этажей — и насрать им на братьев, сестер, дядьёв, тёток. Замкнутые все. Потому и несчастливые». Но когда герой понимает, что ему придется вернуться в Боснию, Словения приобретает в его глазах гораздо больше преимуществ: «Фужины — это круто. Я ни в каком другом месте не хотел бы жить. По сравнению с этой долбанутой Боснией, с этим барахлом, а не страной, Фужины — Голливуд. Самые крутые чуваки — с Фужин. Да и вообще, что тут сравнивать? Здесь просто полнейший облом!» Поиски молодым героем своего «я», вступление на путь взросления, его существование меж двух культур — «чефур» в Словении, словенец в Боснии — ставит перед ним непростые вопросы, на которые ему еще предстоит ответить.
Наиболее существенным элементом, которым обусловлена двойственность самоидентификации второго поколения иммигрантов, является язык, ставший главной особенностью романа. Он же вызвал немало споров в среде словенских пуристов, в то же время заинтересовав читателей и критиков, послужив материалом для появления многочисленных исследований. Именно этот особый язык — «чефурский» или «фужинский», который представляет собой богатую и выразительную смесь словенского, языков бывшей Югославии, а также уличного люблянского сленга, — явился главным мотивом написания книги. Первоначальный вариант «Чефуров» представлял собой сценарий к фильму, переработанный затем автором в литературный текст как раз для того, чтобы запечатлеть это лингвистическое своеобразие. Сам Войнович утверждает, что язык, на котором говорят обитатели многонациональных Фужин, всегда восхищал его; зафиксировать это ускользающее и быстро меняющееся языковое богатство — вот что стало для него ключевой задачей. Несмотря на то что словенскому читателю порой непросто понять некоторые слова, общее впечатление от восприятия книги при этом нисколько не страдает.
В период существования СФРЮ сербско-хорватский язык считался таким же официальным, как и словенский. Вопреки закрепленному в конституции положению о равноправном использовании языков всех федеративных республик, сербско-хорватский как язык численного большинства и центральной власти в Белграде неизменно становился престижным во многих сферах общественной жизни. Словенцы слышали его по радио, на телевидении, на нем выходили основные газеты и научно-популярные издания. Иммигранты из Хорватии, Сербии, Боснии и Черногории, приезжая в Словению, совершенно не чувствовали необходимости учить словенский. Ситуация кардинально изменилась после 1991 года, когда Республика Словения первой провозгласила свою независимость. Словенский как официальный язык нового государства приобрел более высокий статус, между тем как сербско-хорватский начал ассоциироваться с приезжими с юга. Таким образом, первое и второе поколение «чефуров» оказались в разных языковых ситуациях. Поколение родителей Марко, хотя они полжизни прожили в Словении, так и не овладело полностью словенским языком. Отсутствие мотивации связано также с отсутствием коммуникативных ситуаций: чефуры работают на стройплощадке, где в любом случае нет ни одного словенца. Коверканье словенских слов, неправильное произношение — все это предмет насмешек и карикатур, показатель их социальной ущемленности. С изрядной долей юмора герой романа поднимает этот немаловажный языковой вопрос: «Словенцы страшно бесятся, когда кто-то не умеет говорить по-словенски, – не знаю только, чем им поможет, если все Пешичи по-словенски заговорят. Можно подумать, они сразу с ними болтать начнут. По мне, так это полная чушь. Я о том, что Пешичи должны говорить по-словенски типа из уважения к Словении и все такое. Пешичи работают на стройках, всю Словению они построили, но уважают только Мирослава Илича и холодное пиво. Да эти Пешичи могут хоть по-тунгузски говорить... Можно подумать, кто-то обратил бы на это внимание. Больно нужно! Только вот словенцы напрягаются на этот счет, бесятся, — зачем? Комплекс у них такой, а всё потому, что никогда не умели в футбол играть».
Напротив, второе поколение иммигрантов уже владеет как языком своих родителей, так и языком той среды, в которой они живут, их билингвизм, переход с одного языка на другой, а также их смешение, свобода в создании гибридных форм свидетельствуют о двойной идентичности фужинской молодежи. Молодое поколение именно при помощи языка выражает комплексный характер своего «я» и его культурных составляющих, свою оппозицию по отношению к официальному языковому коду, вобрав в свой социолект маргинальный диалект переселенцев первого поколения и живой городской сленг. Сложно также говорить о сербско-хорватском языке как о втором языке, речь скорее идет о боснийском, черногорском, хорватском и сербском языках, о каждом из них в отдельности или о всех сразу, другими словами — о «чефурском» языке, который также не имеет смысла определять с точки зрения национальной принадлежности, так как автор вобрал в свою лексическую мозаику слова из самых разных уголков бывшей Югославии.
Еще одной особенностью социолекта переселенцев, которые заняты тяжелым физическим трудом, является преобладание лексики, обозначающей половую сферу, наименований физиологических функций, а также солидный пласт обсценного вокабуляра. Для носителя литературного языка употребление подобных выражений допустимо лишь в исключительных ситуациях, тогда как в среде молодежной городской субкультуры использование вульгаризмов и бранных выражений является частью повседневного общения и призвано увеличить чувственную экспрессивность. Сленг и сквернословие — способ дистанцироваться от доминирующего социального и как следствие языкового кода, знак провокации, заданное нарушение принятой нормы. Особый упор делается на инновациях, словарь обогащается за счет непрекращающегося процесса смешения высокого и низкого, старого и нового, родных и иностранных слов; константой является пародирование официальной югославской риторики с ее канцеляризмами, плотно вошедшими в разговорную речь. Использование ненормативной лексики — это тоже способ показать: «мы не утонченные», то есть «мы — не вы». Отметим важное отличие от русского того же сербского языка: мат для его носителей не представляет собой табуированную лексику, — то, что русскому читателю покажется чересчур грубым и агрессивным, для жителей Балкан является чем-то устоявшимся и зачастую вовсе не несет в себе негативного заряда. Искрометный юмор главного героя во многом обязан исключительной выразительности, красочности и живости языка, остроумию и комичности используемых им жаргонизмов. Именно этот словенско-сербско-хорватский вариант суржика, носители которого заявляют о себе как о людях непосредственных, ярких и искренних, позволяет им выразить свою многонациональную и мультикультурную идентичность.
Так, значит, как, помимо агрессии, «чефур» может возвратить удар обществу? Насилие в общем зачастую присуще подросткам в их потребности заявить о себе здесь и сейчас, это самый быстрый и, казалось бы, естественный способ обратить на себя внимание и показать, что ты существуешь и что давление порой невыносимо. Так, именно язык становится тем мощным орудием, которое говорит само за себя. Максима для словенцев и травма для иммигрантов, язык, в его оригинальном преображении, становится защитной и в то же время созидательной реакцией так называемых «чефуров». Люблянский спальный район Фужины, плавильный котел народов, населявших когда-то бывшую Югославию, в миниатюре, мультикультурное наследие распавшегося государства становится уникальной средой для рождения исключительного языкового явления.
Отметим также тот важный факт, что ввиду субверсивного характера «пейоративного» понятия «чефур» и самого «чефурского» языка, эти явления — как символ культурной оппозиционности — приобрели в среде как словенских интеллектуалов, так и обычной молодежи положительное значение, став синонимами так называемой «cool-attitude». Заимствования объективно имеют место быть, чему официальный литературный код старается активно противостоять. В этой связи можно провести параллель с «Канак Шпраком» (дословно по-немецки «язык чужака»), употребляемом для обозначения социолекта, на котором говорят второе и третье поколения турецких иммигрантов в Германии. Последний представляет собой смешение умышленно упрощенных грамматических форм немецкого разговорного языка, турецкого и афроамериканского английского. Представители молодого поколения иммигрантов, родившихся и выросших в Германии, носители «Канак Шпрака» вполне осознанно провозглашают свою культурную непохожесть, принимая закрепившиеся в немецком обществе пренебрежительность и негативность оценки в качестве своей культурной идентичности, но тем самым утвердив себя и на социальном поле. «Канак Шпрак» благодаря средствам массовой информации и кино стал доступен и тем, кто не является носителями турецкого языка; немецкие студенты и даже образованные люди используют элементы социолекта с его оригинальными высказываниями и упрощенной грамматикой, показывая тем самым свою причастность к актуальным тенденциям в современном разговорном языке.
Благодаря своему роману Горан Войнович сумел разрушить негативный заряд слова «чефур». Однако сам же автор опасается, что чем «круче» оно будет звучать, тем больше опасность стать «мэйнстримом», а позиция «античефура» снова может показаться кому-то привлекательной.
К сожалению, в этом есть доля правды. В декабре 2011 года в ответ на расистские высказывания правого политического лагеря возникло движение «носящих спортивное трико» (слов. «trenirkarji»), как результат стереотипных выпадов: мол, трико носят одни «чефуры» или так называемые «новые граждане Словении», провоцирующие неоправданный перевес в результатах голосования. Несмотря на немногочисленный характер движения, получившего, однако, большой резонанс в СМИ, в ряды его преимущественно вступили словенские граждане, выступающие за более терпимое общество и желающие обратить внимание на все большее присутствие в Словении языка вражды, который распространяет дискриминационное мнение о выходцах из других республик бывшей Югославии.
Благодаря блестящему юмору книга Горана Войновича читается на одном дыхании. Автор, правда, не скрывает, что за всеми «фишками» и «приколами» его юного героя прячется малоприятная реальность, в которой приходится взрослеть молодому поколению: проблемы с наркотиками, отсутствие достойных жизненных перспектив, столкновения с полицией, узколобый провинциальный менталитет родителей, их неумение наладить контакт со своими детьми, непонимание, жестокость, деструктивный характер патриархальной системы как таковой. Смех и ирония позволяют касаться самых болезненных точек бытия, не становясь на позицию жертвы, и найти созидательные силы в хаотичной энергии молодости.
Одна из главных и больших тем мировой литературы — тема «чужого», «другого» — нашла свое оригинальное и яркое воплощение в романе словенского автора. Будем надеяться, что перевод романа скоро будет доступен и российскому читателю и что судьба «чефуров» не оставит его равнодушным. Контекст происходящего от него, в общем, достаточно далек, но почему бы в очередной раз не задуматься о собственной толерантности и терпимости, способности понять «чужого» и прислушаться к его мнению. Разворачивающиеся события в отдельно взятом районе небольшого европейского государства на самом деле универсальны, поэтому не стоит закрывать на них глаза и делать вид, что ничего похожего рядом с нами не происходит. Как отмечает сам писатель, в каждой стране есть свои «чефуры» и у каждого «чефура» есть своя форма «чефурского» языка. В любом микрорайоне любого города найдется «чефур», сидящий на лавочке возле детской площадки. Однако стереотип оказывается раздавлен и изничтожен, когда речь идет об отдельной личности, о самом интимном и сокровенном ее содержании. Но главное — то несравненное удовольствие, которое получаешь, погружаясь в яркий и живой мир современного города, когда из открытых окон доносится запах балканских голубцов, слышны ритмы народной музыки, а футбольные матчи остро, сочно и темпераментно комментируют обитатели люблянских Фужин.
Словенцы, говоря о Балканах, зачастую дистанцируются от них, предпочитая позиционировать себя как часть «цивильной» Европы. Отрицая «отсталую» балканскую составляющую своего менталитета, они каждый раз с воодушевлением встречают талантливые смешения, рождающиеся при впрыскивании темпераментной южной крови, не решаясь, однако, до конца признаться себе в том, что это тоже они и что это драгоценно.
Примечания
* Горан Войнович окончил Люблянскую Академию театра, радио, кино и телевидения (AGRFT), где изучал режиссуру. Он автор нескольких короткометражных фильмов: «Фужины рулят» (2002), «Сезон 90/91» (2003), «Мой сын – сексуальный маньяк» (2006), «Китайцы прибывают» (2008), – отмеченных наградами на различных международных кинофестивалях. Им написан сценарий, по которому снят фильм Марко Шантича «Счастливого пути, Недимэ» (2006), получивший награду «Сердце Сараево» и номинированный на премию Европейской киноакадемии. В октябре 2010 Войнович дебютировал в качестве режиссера и сценариста полнометражного художественного фильма «Пиран – Пирано». Помимо деятельности в кино и на телевидении, Горан работает как кинокритик, журналист, автор журнальных колонок; некоторые из его текстов составили сборник под названием «Когда Джимми Чу встречает Фиделя Кастро» (2010). В конце 2011 г. вышел в свет второй роман Войновича – «Моя страна Югославия», также принесший автору успех. Текст поднимает серьезную тему рефлексии молодого поколения о распаде Югославии, которое невольно вынуждено разделить вину своих отцов.
«Чефуры вон!» (2008) – дебют Войновича в литературе. В 2009 г. книга была сперва отмечена премией фонда имени Прешерна, а затем названа лучшим романом 2008 года. «Чефуры вон!» получил награду имени Керсника, присуждаемую газетой «Дело». Роман многократно переиздавался, был переведен на хорватский, боснийский, сербский, польский и чешский языки; готовится и англоязычное издание. Горан Войнович в сотрудничестве с признанным боснийско-герцеговинским сценаристом Абдулой Сидраном подготовил сценарий полнометражного фильма «Чефуры вон!», премьера которого должна состояться в 2013 г.
Опубликовано в журнале:
«Вестник Европы» 2013, №37
Российский центр науки и культуры в Любляне
Л.А. Кирилина
Почти три года назад произошло событие, явившееся, на наш взгляд, важной вехой в развитии российско-словенских отношений. Уже с февраля 2010 г. в Словении действует Представительство Россотрудничества. Во время официального визита Председателя Российского правительства В. Путина в Республику Словению 22 марта 2011 г. было подписано российско-словенское Межправительственное соглашение об учреждении и условиях деятельности центров науки и культуры. И, наконец, 21 апреля 2011 г. состоялось торжественное открытие Российского центра науки и культуры (далее — РЦНК) в Любляне. Основные задачи его деятельности, ведущейся в тесном взаимодействии с Посольством Российской Федерации, Послом России в Республике Словения Д.Г. Завгаевым, — развивать всесторонние дружественные отношений между Россией и Словенией, знакомить словенскую общественность с историей, наукой и культурой народов России, всемерно продвигать изучение русского языка в Словении, поддерживать проживающих в ней соотечественников и содействовать сохранению и развитию в стране российского этнокультурного пространства*.
РЦНК располагается в красивом старинном особняке в историческом центре Любляны, неподалеку от Люблянского замка, городской ратуши и кафедрального собора Святого Николая. Внутри помещение оборудовано по самым современным технологиям, а на четвертом этаже можно выйти на площадку, расположенную на крыше, откуда открывается прекрасный вид на Любляну.
В Центре созданы очень широкие функциональные возможности. В нем находятся концертно-выставочный зал, учебно-методический центр русского языка, в котором развернута экспозиция новейшей учебно-методической литературы ведущих российских издательств, библиотека, разнообразные книжные выставки. РЦНК использует инновационные методы, основанные на использовании современных компьютерных технологий, для отображения богатства и разнообразия культурного достояния России. К ним относятся, например, презентации мультимедийного проекта Государственного Русского музея «Русский музей: виртуальный филиал» (виртуальный лекторий Русского музея открылся в РЦНК 11 декабря 2012 г.), электронного читального зала Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина, Центра коллективного доступа к правовой информации Российской Федерации. В базе данных Центра коллективного доступа к правовой информации Российской Федерации «Законодательство России» содержатся документы с 1937 года, причем обновляются они два раза в неделю. В фондах Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина в настоящее время содержится свыше 80 тысяч единиц хранения. Это документы различных типов — книги, газеты, архивные документы, фото-, видео- и аудиоматериалы. В основном это материалы по истории России, теории и практике российской государственности, русского языка как государственного языка Российской Федерации. В электронном читальном зале библиотеки есть возможность просматривать документы на основе электронных коллекций, объединенных по тематическому принципу и приуроченных к юбилейным датам или значимым событиям. Среди них наиболее крупные — проект «Территория России» и «Память о Великой Победе». Здесь имеются технологии трехмерного моделирования, позволяющие создавать виртуальные модели книг, которые могут просматриваться в различных ракурсах и степенях приближения. В электронном читальном зале можно также прослушивать аудиозаписи и просматривать видеоматериалы.
Книжный фонд библиотеки РЦНК на сегодняшний день насчитывает около трех тысяч книг: русская и зарубежная классика, книги по истории и культуре России, общественно-политическая литература, учебники по русскому языку и литературе, детская литература и др. В библиотеке много методической литературы по преподаванию и изучению русского языка как иностранного, и фонд ее постоянно пополняется. Эти книги пользуются большим спросом у преподавателей русского языка в Словении. В разделе культура и искусство имеются альбомы с репродукциями картин русских художников, книги о русском театре, музыке, религии, архитектуре и кино. Справочно-информационный фонд располагает энциклопедиями и справочниками различной тематики. Основная часть изданий на русском языке, есть также книги на словенском языке. Фонд периодических изданий представлен российскими литературно-художественными журналами, получаемыми по подписке. В фонде медиатеки имеются видео- и аудиодиски с обучающими и справочными программами, документальные и художественные фильмы, мультфильмы, музыкальные записи, аудиокниги. Книжный и мультимедийный фонды непрерывно пополняются новыми изданиями.
В методическом кабинете русского языка регулярно проводятся занятия. Курсы русского языка в РЦНК являются одними из лучших в Словении, здесь работают профессиональные преподаватели, имеющие большой опыт работы с иностранными студентами. В Центре проводится ежегодная всесловенская Олимпиада по русскому языку, победители которой получают возможность побывать в России.
Творческий коллектив РЦНК под руководством Р.К. Патеева разработал уникальный, не имеющий аналогов проект «День гимназии в РЦНК», направленный на популяризацию русского языка и российской культуры в Словении. Этот проект пользуется большим успехом. В 2012 г. в нем приняли участие более двухсот человек из семи словенских гимназий и трех основных школ. 19 декабря, в канун Нового года, РЦНК посетили также студенты 4-го курса факультета общественных наук Люблянского университета, выразившие желание принять участие в этом проекте.
В рамках федеральной целевой программы «Русский язык» Центр международного образования Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова при поддержке Россотрудничества 19-23 ноября 2012 г. провёл Методическую школу русистики в четырех городах Словении. В рамках Школы в Любляне, Нова-Горице, Целье и Ново-Месте прошли научно-методические семинары, на которых выступили профессор В.А.Степаненко, писатель, профессор МГУ А.Н.Варламов, доценты ЦМО МГУ М.М.Нахабина и И.В.Курлова. Методическая школа русистики вызвала большой интерес у школьных учителей русского языка, преподавателей вузов, переводчиков и всех, кто интересуется русским языком и российской культурой. Участники Школы — более 150 человек — приехали на семинары не только из разных городов Словении, но и из Хорватии и Италии. Все они получили Сертификаты повышения квалификации**.
Визитной карточкой Центра является балетная школа под руководством Маргариты Исаевой, выпускницы С.-Петербургской академии балета им. Вагановой. Здесь работают три художественные студии: студия рисования для взрослых Юрия Кравцова, изостудия Ларисы Зарембы для детей и взрослых, курсы иконописи. Занятия в студиях проводятся в небольших группах, что позволяет полнее раскрыть индивидуальные возможности каждого ученика. Кроме того, в Центре есть музыкальная школа, открыта театральная студия под руководством опытных педагогов Вани Слапар и Виктор Лубутина; работает музыкальный театр под руководством Ирины Гущиной «Талисман».
Каждый первый вторник месяца в киноклубе РЦНК проходят встречи. Ценители российской культуры и кинематографа имеют возможность в уютной атмосфере посмотреть лучшие российские фильмы и обсудить их. Каждая встреча в киноклубе начинается с краткого рассказа о фильме и времени его создания. Фильмы демонстрируются с субтитрами на английском или словенском языках, что делает их более доступными для зрителей, не владеющих русским языком. В РЦНК прошла демонстрация многих шедевров российского кино. В рамках Дней российского анимационного кино прошел показ лучших российских мультфильмов для детей. Дни российского документального кино в Словении состоялись при поддержке Дома русского зарубежья и киностудии «Русский путь». Показы фильмов построены тематически. Демонстрировались фильмы, посвященные 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года, 1150-летию Российской государственности и др. Центр провел цикл из четырех фильмов — «Кумиры советской и российской поп-культуры». В рамках киноклуба также проводятся встречи с российскими кинематографистами.
РЦНК учредил два международных фестиваля, которые с успехом проводятся в Словении. Первый фестиваль детской песни «Крылатые качели», в котором по приглашению Центра принял участие известный поэт-песенник Ю. Энтин, РЦНК организовал буквально накануне своего открытия — в апреле 2011 г. Хотя этот фестиваль учредили в России, благодаря стараниям коллектива РЦНК впервые он был проведен в Словении, в Фестивальном зале г. Блед.
В 2012 г. Центр обеспечил масштабное участие России в общеевропейском фестивале «Марибор — европейская столица культуры 2012 года». Традиция избирать ежегодно тот или иной европейский город «культурной столицей» существует уже 27 лет, но, к сожалению, до 2012 г. участие России в ежегодном общеевропейском культурном фестивале было более чем скромным. Посольство России и РЦНК в Словении поставило перед собой сложную задачу переломить эту ситуацию — и блестяще ее осуществило. Опираясь на помощь администрации различных российских регионов, их помощь, посольство и РЦНК смогли организовать в рамках фестиваля яркие, высокопрофессиональные выступления в пяти словенских городах известных в России крупных фольклорных, танцевальных, хоровых, джазовых и театральных коллективов из Москвы, С.-Петербурга, Самары, Петрозаводска, Ульяновска, Дубны. Калуги и Тобольска. Значительным и ярким событием фестиваля стал гала-концерт звезд балета Мариинского театра, в который вошли лучшие произведения русской и мировой балетной классики.
В РЦНК прошла первая презентация новых изданий русских переводов произведений словенских писателей, а также и пресс-конференция с участием Генерального директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино (ВГБИЛ) Е.Ю.Гениевой и руководителей Словенского государственного агентства по книгоизданию Славко Прегла и Кати Стeргар. Была заключена договоренность о совместном проекте «Словенский Глагол», координатором которого стал РЦНК в Словении. Уникальность проекта «Словенский Глагол» состоит в том, что, по словам Е.Ю. Гениевой, это один из самых динамичных проектов, в котором когда-либо участвовала ВГБИЛ. Его первое обсуждение состоялось в июле 2011 г., а уже в ноябре того же года первые две книги: «Словенская новелла XX века в переводах Майи Рыжовой» и «Против часовой стрелки. Словенская новелла. Избранное» — из планируемых 16-ти — были напечатаны. Совместно финансируемый проект быстро реализуется благодаря сохранившейся в России хорошей школе перевода со словенского языка на русский и таким его мастерам, как Майя Рыжова. «Словенский Глагол» запущен в 27 регионах России в рамках другого постоянно действующего проекта — «Большое чтение», что непременно сделает его продукцию более доступной российскому читателю. На сегодня ни у какой другой славянской страны нет такого масштабного проекта, как у Словении с Россией.
В Национальной библиотеке Словении при содействии Представительства Россотрудничества прошла выставка «Книги строят мосты». На выставке были представлены книги, вышедшие в издательстве Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им.М.И.Рудомино (ВГБИЛ). В октябре 2012 года в Центре прошла выставка уникальных фотографий начала XX века создателя «Коллекции достопримечательностей Российской империи» С.М. Прокудина-Горского, а также презентация журнала «Вестник Европы». С успехом прошел международный семинар, посвященный 100-летию русского супрематизма, лекции о творчестве Марины Цветаевой, поэтические вечера Рафаэля Клейнера и др.
Усилиями РЦНК у словенцев формируется объективное представление о прошлом и настоящем России, о ее материальном и духовном потенциале, о специфике происходящих в ней процессов.
Примечания
* При написании статьи автор использовал материалы, любезно предоставленные ему директором РЦНК в Словении Р.К. Патеевым и главным специалистом-экспертом РЦНК В.В.Кильпяковой, а также сведения, размещенные на сайте РЦНК: svn.rs.gov.ru/ru/node/267
** http://www.cie.ru/rus_news_110, http://www.gramota.ru/lenta/news/8_2758
Опубликовано в журнале:
«Вестник Европы» 2013, №37
Русский след
(По материалам РЦНК)
Наши соотечественники на разных этапах прошлого столетия внесли весомый вклад в развитие науки и культуры Словении.
В период между двумя мировыми войнами в Люблянском университете работало около двадцати русских преподавателей-эмигрантов. Их знания и опыт во многом способствовали формированию в Люблянском университете областей науки, для развития которых в Словении не было достаточного числа квалифицированных специалистов. Среди самых видных соотечественников, внесших вклад в развитие науки и образования в двадцатые годы XX столетия, было свыше десяти профессоров: юрист и экономист А.Д.Билимович, математик Ф.Ф.Грудинский, филолог А.В.Исаченко, литературовед и русист Н.Ф.Преображенский, химик В.Исаевич, юрист и историк М.Н.Ясинский, профессор медицинского факультета Е.И.Канский, профессора технического факультета Д.В.Фрост, А.Копылов, А.Н.Митинский, В.В.Никитин, Д.Шахназаров и И.Н.фон Майдел, а также профессора юридического факультета А.В.Маклецов и Е.В.Спекторский. Из русских профессоров, эмигрировавших из России, в Люблянском университете после Второй мировой войны остались только Копылов, Маклецов и Преображенский. Следует упомянуть и профессоров русского происхождения, которые покинули Россию в очень молодом возрасте, получили образование в югославских вузах и после Второй мировой войны стали работать в Люблянском университете. К ним относятся профессор микробиологии Александр Коняев, сейсмолог Сергей Бубнов, преподаватель русского языка и литературы Вера Брнчич (в девичестве Шермазанова).
Русские артисты-эмигранты не только восхищали своим искусством, но и учили, создавали свои школы. В Любляне пользовалась большой популярностью актриса М.Н. Наболоцкая, которая играла в постановках мировой классики и русской классической драматургии, а также в пьесах национальных авторов. Блестящий актер и режиссер Б.Н.Путята помог художественному развитию Люблянского драматического театра. В историю словенского театра вошли также имена замечательных хореографов П.Н.Грессорова-Головина, отдавшего оперному театру в Любляне почти двадцать лет (1924–1945), и М.Туляковой, известной постановкой танцев в опереттах.
Среди наших соотечественников, живших в Словении, были и те, кто оставил след в современной истории.
А.Д. Бубнов (1883, Варшава — 2 февраля 1963, Крань) — русский контр-адмирал. Во время русско-японской войны мичманом участвовал в Цусимском сражении в составе эскадры адмирала Рожественского на броненосце «Орёл». В годы Первой мировой войны находился в Ставке Верховного Главнокомандующего, где занимал должность начальника морского управления. 28 июля 1917 года был произведен в контр-адмиралы. Его работы по вопросам морской стратегии и тактики получили высокую оценку специалистов того времени, а воспоминания о годах службы в Царской Ставке стали одним из бестселлеров мемуарной литературы.
После революции А.Д. Бубнов эмигрировал в Югославию. По просьбе короля Александра Карагеоргиевича в 1923 году он основал в Дубровнике военно-морское училище и морскую военную академию, в которой преподавал до 1941 года. Состоял членом Русского научного института в Белграде. До Второй мировой войны проживал в Дубровнике. После оккупации Югославии немцами и увольнения из академии преподавал русский язык в гимназии в словенском городе Крань, где жил и работал после Второй мировой войны.
П.Н.Врангель (15 (27) августа 1878, Новоалександровск, Ковенская губерния, Россия — 25 апреля 1928, Брюссель, Бельгия). Русский военачальник, участник русско-японской и Первой мировой войн, один из главных руководителей (1918−1920) Белого движения в годы Гражданской войны. Главнокомандующий Русской армией в Крыму и Польше (1920). В 1922 году со своим штабом переехал из Константинополя в Королевство сербов, хорватов и словенцев в Сремски-Карловци. Штаб создал строительную компанию «Техника» (1923-1924 гг.) и построил в Словении железную дорогу Ормож — Лютомер.
В Словении жили и наши соотечественники, известные философскими трудами.
Евгений Васильевич Спекторский (1875–1951), бывший ректор Киевского университета, был «самым видным русским эмигрантом между мировыми войнами». С 1930–1945 гг. на юридическом факультете университета в Любляне профессор Спекторский преподавал философию и социологию права. Был председателем Словенского общества философии права и социологии в Любляне. В наследии профессора Спекторского сохранились два дневника, написанные в период первых двух лет пребывания в Любляне (1930–1932 гг.), содержание которых знакомит читателя с переживаниями и взглядами русских преподавателей-интеллектуалов, оказавшихся в эмиграции в Югославии. Известный экономист, профессор Александр Дмитриевич Билимович, бывший министр в правительстве А.И. Деникина, тоже работал в Люблянском университете. Он написал ряд работ, где полемизировал с Марксом и, анализируя особенности советского строя, предрекал ему экономический и политический крах («Экономический строй освобождённой России»). Как считают словенские ученые, он «поднял теоретическое изучение экономики на завидно высокий уровень».
Среди известных русских ученых, меценатов, благотворителей, живших в Словении, известна графиня П.С.Уварова (урождённая княжна Щербатова) (28 марта (9 апреля) 1840, с. Бобрики Харьковской губернии — 30 июня 1924, Добрна, Югославия) — русский историк и археолог. Была избрана почетным членом Императорской Академии наук, профессор Дерптского, Харьковского, Казанского и Московского университетов, а также Петербургского археологического института. Как общественный деятель она требовала принятия закона, запрещающего вывоз древностей из России, беспокоилась о том, что национальное достояние может стать предметом наживы. Важнейшим своим делом Уварова считала составление каталога отечественных древностей. В московском особняке П.С.Уваровой хранилось более трех тысяч древних рукописей, богатейшее собрание картин, греческих и русских монет, памятников античного искусства. Все эти сокровища она передала в дар музеям. Городок Добрна в Словении — последний приют П.С.Уваровой.
Есть «русский след» и в культурной жизни Словении. В 1970 году легендарный Сергей Михайлович Лифарь (Серж Лифарь) в Люблянском театре оперы и балета поставил балетный вечер, в котором были представлены части из трех его балетов: «Ромео и Джульетта» П.Чайковского, «Фавн» Клода Дебюсси, «Сюита в белом» (одноактный балет на музыку из балета «Намуна» Эдуара Лало).
Этот след русской балетной школы простирается и до нашего времени. Художественным руководителем балетной труппы Люблянского
театра оперы и балета работает Ирек Мухамедов. В течение девяти лет он был премьером балетной труппы Государственного академического Большого театра. Его репертуар включал главные мужские партии в балетах «Иван Грозный», «Дон Кихот», «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта», «Жизель», «Раймонда» и «Легенда о любви». С 1990 года до недавнего времени являлся ведущим солистом, затем хореографом Королевского балета Лондона. В балетной и оперной труппах Мариборского театра оперы и балета работают высококлассные солисты — выходцы из России. Есть в Словении и российские музыканты (пианисты, скрипачи, виолончелисты) высокого уровня, играющие в крупных оркестрах и преподающие в музыкальных учебных заведениях. Есть и художники, скульпторы. В прошлом году в городе Ново-Место поставлен памятник местному уроженцу, самому знаменитому словенскому (югославскому) спортсмену, участнику четырех Олимпиад, трехкратному олимпийскому чемпиону по гимнастике, пятикратному чемпиону мира, Леону Штукелю (Leon Štukelj; 12 ноября 1898, Ново-Место, Австро-Венгрия — 8 ноября 1999, Марибор, Словения). В 1998 году 100-летний юбилей выдающегося гимнаста стал главным национальным праздником Словении. Замечательный памятник создан молодым российским скульптором Станиславой Калининой.
По материалам Российского центра науки и культуры в Словении
Опубликовано в журнале:
«Вестник Европы» 2013, №37

За флажки
Россия в авангарде пересмотра мирового порядка
Резюме: Украина лишь открывает серию конфликтов, которыми сопровождается становление полицентричной системы международных отношений. Необходим многосторонний механизм раннего предупреждения и урегулирования кризисов в Европе и северной Евразии.
Малые причины могут порождать большие последствия. Сто лет назад террористический акт, подготовленный небольшой группой сербских националистов, запустил цепную реакцию событий, закончившихся мировой войной и крушением нескольких империй. В наши дни короткая запись в Фейсбуке, содержавшая призыв к единомышленникам собраться на центральной площади украинской столицы, привела к катаклизму, потрясшему Европу и резко ускорившему трансформацию мирового порядка. Украинский кризис в самом разгаре, и он, очевидно, принесет еще немало горьких плодов. Национал-демократическую революцию и начало вооруженного конфликта на востоке Украины трудно характеризовать иначе, как трагедию страны, независимое существование которой неразрывно связано с возникновением и распадом Советского Союза. Общим прошлым обусловлено и активное участие России в этом кризисе. Впрочем, не только прошлым. Будущее, в котором Украина и Россия отчуждены друг от друга, участвуют в различных интеграционных проектах и военно-политических союзах, слишком многим в Москве казалось неприемлемым. Встряска подтолкнула Кремль к действиям, которые можно рассматривать и как отчаянную попытку отстоять важнейшую геополитическую позицию, и как решимость вырваться «за флажки» мирового порядка, где России отводится роль вечного побежденного в холодной войне.
Фактор Путина
Украинский кризис, конечно, имеет объективные причины, к числу которых относятся и сохраняющаяся инерция распада СССР, и мины в межгосударственных отношениях на постсоветском пространстве, заложенные еще в советское время, и реалии постбиполярного мира. Но экстраординарное значение приобрел и личностный фактор. Роль президента России Владимира Путина в решающие моменты кризиса была ключевой. Еще «оранжевая революция» 2004 г. рассматривалась российским лидером как геополитический вызов и модель дестабилизации политического режима, которая при благоприятных обстоятельствах, если им позволить сложиться, может быть перенесена и на отечественную почву. Последующее развитие событий – российско-украинские газовые войны, раскол между лидерами первого Майдана и их политическое фиаско, сближение Москвы и Киева, пагубная для Виктора Януковича попытка балансирования между европейским и евразийским интеграционными проектами и, наконец, второй Майдан – подтверждало, что Украина становится для Путина пространством одного из решающих в его политической судьбе противоборств. Ни для кого из других внешних акторов Украина никогда подобного значения не имела. Именно поэтому мало кто ожидал от российского президента столь решительного перехода от вязкой позиционной борьбы к игре на повышение ставок. При этом, однако, путинскую политику на Украине имеет смысл рассматривать именно как активную контригру, как готовность путем концентрации имеющихся в распоряжении ресурсов и неожиданных ходов переломить неблагоприятные изменения в соотношении сил.
Вместе с тем следует с большой долей осторожности отнестись к суждениям о предопределенности действий российского президента, о том, что они обусловлены внутренней логикой консолидации авторитарного режима или необходимостью соответствовать великодержавному запросу значительной части российского общества, «зомбированного» агрессивной антизападной пропагандой. Более детальный анализ политических шагов Владимира Путина в период его третьего президентского срока выявляет намного более нюансированную картину, свидетельствующую не только о намерениях более жестко отстаивать геополитические интересы, как их понимают в Кремле, но и о стремлении создать почву для восстановления конструктивного диалога с Западом. Во всяком случае, об этом говорят и освобождение Михаила Ходорковского, и – в особенности – усилия, направленные на создание положительного имиджа России как страны-хозяйки XXII зимних Олимпийских игр. Вполне вероятно, что совпадение по времени сочинской Олимпиады, столь значимой для Путина, и смены власти в Киеве воспринималось особенно болезненно, поскольку, с одной стороны, триумф организаторов спортивного праздника оказался явно перекрыт победой Евромайдана, а с другой – именно в этот момент у российского руководства были связаны руки. После феерической церемонии закрытия игр Кремлю как будто уже ничего не оставалось кроме признания нового порядка на Украине. Насколько можно судить, именно к этому настойчиво подталкивали российское руководство лидеры Соединенных Штатов и Евросоюза, при этом не обещавшие никакого содействия в учете российских интересов украинской стороной. В эти же дни переформатированное большинство Верховной рады и переходное правительство в Киеве работали в режиме «взбесившегося принтера», печатая одно за другим решения, очень быстро поставившие под вопрос саму украинскую государственность. Такими решениями, безусловно, стали попытка отмены языкового закона Колесниченко–Кивалова и расформирование подразделений спецназа МВД «Беркут». За ними мог последовать пересмотр внеблокового статуса Украины и харьковских соглашений.
Выбор Путиным курса на воссоединение Крыма и России, безусловно, спровоцирован переворотом в Киеве и ожиданиями его тяжелейших геополитических последствий. Но было бы поверхностно характеризовать это решение как спонтанное. Напротив, все предыдущие годы лидерства Путина можно рассматривать как подготовку к переходу крымского Рубикона. По крайней мере, временной интервал между двумя наиболее известными внешнеполитическими заявлениями Путина – выступлением на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 10 февраля 2007 г. и почти что исповедальной Крымской речью 18 марта 2014 г. – был периодом окончательного разочарования в возможности достижения равноправного партнерства в отношениях с США и ЕС. По мере роста этого ощущения крепла убежденность в неотвратимости кризиса в отношениях с Западом, причем наиболее вероятным ареалом обострения считалась именно Украина. Правда, основные ожидания начала открытой конфронтации фокусировались на 2015 г., когда на Украине должны были состояться очередные президентские выборы. Очевидно, что именно к этому событию как моменту решающей схватки готовились не только Кремль, но и Запад, прежняя украинская власть и ее противники. Пост киевского журналиста Мустафы Найема, который через социальные сети призвал сторонников европейского выбора Украины выйти на Майдан Незалежности, перечеркнул эти расчеты.
Неконтролируемое развитие событий на Украине казалось потоком, направление которого уже никому изменить не под силу. Путин на это решился, противопоставив воле Евромайдана волю поборников русского ирредентизма. Тем самым он совершил необратимый шаг в отношениях не только с Украиной и Соединенными Штатами, но и в отношениях между властью и обществом внутри России.
До самого последнего времени голос представителей российского общества в дискуссиях относительно российско-украинских отношений звучал не слишком громко. Заявления о готовности к максимально возможному сближению России и Украины пользовались широкой поддержкой, но взаимодействие двух стран явно не входило в число проблем, наиболее значимых для общества. На экспертном уровне украинская проблематика в преддверии кризиса обсуждалась более активно, но связи между экспертами и структурами, участвующими в выработке политического курса, скорее ослабевали. Централизация процесса принятия политических решений в случае Украины была доведена до предела; насколько можно судить, наиболее ответственные решения принимались единолично президентом России. Стоит отметить, что в оперативном отношении успех действий по воссоединению Крыма с Россией в немалой степени был обусловлен именной такой гиперцентрализацией и прямым контролем со стороны главы государства.
Установление российского суверенитета над Крымским полуостровом предсказуемо получило широкую общественную поддержку, подняв до небывалых высот президентский рейтинг. То, что до начала марта было только делом Владимира Путина, в считанные недели стало общим делом и общей ответственностью власти и общества. Подъем ирредентизма обеспечил полную перезагрузку легитимности третьего срока Путина; страница новейшей российской истории, связанная с политическими протестами на Болотной площади и проспекте Сахарова, оказалась перевернутой. Власть получила карт-бланш на переход к мобилизационной модели развития, хотя нет достаточной уверенности, что российское общество, столкнувшись с тяготами миссии «русского мира», останется столь же сплоченным, как в момент крымской эйфории. Вместе с тем сформировался мощный общественный запрос на продолжение всесторонней поддержки миллионов русских и русскоязычных людей за пределами российских границ, о которой заявил президент Путин в Крымской речи. Необходимость соответствовать этому запросу становится фактором, если и не детерминирующим российскую внешнюю политику, то, во всяком случае, очерчивающим пределы компромиссов в отношении Украины. Из самого запроса на солидарность с «русским миром» могут вырасти новые силы и фигуры, способные в будущем изменить российский политический ландшафт.
В то же время для части политических и экономических элит России возвращение Крыма стало подобием «белого слона». Им ничего не оставалось, как присоединиться к дискурсу «Крым наш», тщательно скрывая при этом растерянность и опасения за собственное будущее. После мартовских торжеств по случаю присоединения Крыма и Севастополя и по мере введения Западом новых санкций скрытое давление этих элит значительно возросло и, по всей видимости, повлияло на готовность Кремля оказывать прямую поддержку ополченцам Донбасса.
Важнейшая роль Владимира Путина в украинских событиях и связанной с ними деструкции мирового порядка явно обострила и личностную конкуренцию в клубе глобальных лидеров. В случае Барака Обамы это кажется особенно интригующим, поскольку американский президент не слишком склонен к чрезмерной персонификации в государственных делах и мировой политике. «Заслуга» в данном случае во многом принадлежит консервативным оппонентам хозяина Белого дома в самой Америке, твердящим о «сильном Путине» и «слабом Обаме». Еще более существенно понимание западными партнерами специфики процесса принятия политических решений в России. Путинская вертикаль власти, которую в последние годы российский лидер готовил и к противостоянию с Западом (т.н. национализация элит), функционировала весьма эффективно на крымском этапе украинского кризиса. Но российский персоналистский режим отличается структурной уязвимостью, компенсируемой жестким контролем со стороны лидера. Ослабление позиций лидера создает угрозу системе власти в целом. В этом контексте западные санкции, призванные нанести удар по ближайшему окружению Владимира Путина, не кажутся такими уж символическими.
Нет сомнений, что в обозримом будущем именно за Путиным останется последнее слово в формировании украинской политики. Но теперь он будет вынужден учитывать не только давление Запада и разноречивые сигналы российских элит, но и набирающие силу ирредентистские настроения.
Марс и Венера на хуторе близ Диканьки
Известная метафора Роберта Кагана, уподобившего воинственные Соединенные Штаты Марсу, а изнеженную Европу – Венере, вполне применима и к украинскому кризису. Европейский союз с его политикой «Восточного партнерства» внес в раздувание кризиса едва ли не основной вклад, впервые вступив на ранее неизвестную ему стезю геополитического соперничества. При этом в отношении постсоветского пространства собственно европейская стратегия как синтез интересов ведущих стран ЕС, по сути, не была сформулирована. Вместо этого евробюрократия пошла по шаблонному пути, предпочтя передоверить выработку политического курса группе государств, заявивших о своем особом опыте и знании соответствующего региона. Такое делегирование было оправданным, когда в разработке европейской политики соседства в отношении южного и восточного Средиземноморья ведущая роль отводилась Франции с ее колониальным опытом и разветвленными связями со странами региона, за которыми не стоял никакой другой мощный геополитический игрок. Напротив, политика «Восточного партнерства», замысленная ее основными проводниками как вытеснение влияния России в западной части постсоветского пространства, с неизбежностью втянула Евросоюз в конкурентную геополитическую борьбу. В результате альтернативный вариант, предполагающий долгосрочную экономическую интеграцию ЕС, России и постсоветских государств Балто-Черноморья, отход от логики игры с нулевой суммой и переориентацию на стратегии взаимного выигрыша, всерьез не рассматривался даже на экспертном уровне.
Повышение ставок в геополитическом противостоянии неоднократно вызывало растерянность в структурах Европейского союза, ответственных за выработку общей внешней политики. И в момент отказа Виктора Януковича от подписания соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС, и в революционных обстоятельствах, когда достигнутый 21 февраля при посредничестве министров иностранных дел Германии, Франции и Польши политический компромисс не продержался даже суток, и в ситуации, когда США настойчиво требуют введения против России секторальных санкций, эффективность единой европейской внешней политики снижается до уровня, близкого к параличу. В этих обстоятельствах на помощь растерянной Венере спешит самоуверенный Марс.
С начала второго Майдана основным оппонентом России становятся Соединенные Штаты, увидевшие в украинском кризисе не только угрозу европейской стабильности, но и шанс вдохнуть новую жизнь в постепенно увядающее глобальное лидерство. Вплоть до присоединения Крыма к России США в основном решали региональные задачи, с лихвой восполняя слабость европейской дипломатии (ее образная оценка заместителем госсекретаря и женой Роберта Кагана Викторией Нуланд имела большой резонанс). Установление российского контроля над Крымом моментально перевело кризис в глобальный контекст, поскольку это действие Москвы свидетельствовало о переходе от эрозии постбиполярного мирового порядка к его осознанной ревизии.
Российский суверенитет над Крымом имеет исключительное значение как прецедент, свидетельствующий об отказе следовать международному порядку, в котором нормоустанавливающей инстанцией являются Соединенные Штаты. Несмотря на то, что масштабы крымского вызова незначительны и не создают реальной угрозы американским позициям в мире, сама возможность несанкционированного территориального изменения служит индикатором способности Вашингтона поддерживать порядок, в котором за ним остается последнее слово.
С этой точки зрения активные действия США, направленные на мобилизацию союзников для сдерживания путинской России, достаточно предсказуемы. Причем наибольшее значение в данном случае будет иметь не само сдерживание, а именно мобилизация, придающая новый смысл деятельности руководимых Соединенными Штатами военно-политических союзов. В этих условиях ЕС приходится признавать необходимость дальнейшего американского военного присутствия на территории европейских государств, более того, соглашаться с созданием существенной военной инфраструктуры на территории стран, ранее входивших в Организацию Варшавского договора. Во время украинского кризиса деление на «старую» и «новую» Европу, предложенное в свое время Дональдом Рамсфельдом, достигло логического завершения: при активной поддержке Соединенных Штатов позиция «новой» Европы по вопросам военной и энергетической безопасности усиливается настолько, что ей, по крайней мере на словах, приходится следовать и грандам «старой» Европы. По отношению к России «новая» Европа становится санитарным кордоном, который в ближайшее время может быть укреплен за счет Украины (по крайней мере ее западных и центральных регионов) и Молдавии (за вычетом Приднестровья и, вероятно, Гагаузии). Впрочем, конфигурация «новой» Европы теперь заметно отличается от той, которая существовала десять лет назад. Активно участвовать в организации санитарного кордона готовы Польша, страны Балтии и Румыния; в силу разных причин намного меньший энтузиазм демонстрируют Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия. Тем не менее в тандеме с «новой» Европой Вашингтон в состоянии уверенно контролировать политику безопасности всего Евросоюза, равно как и усилия по возобновлению диалога между ЕС и Россией.
Судя по всему, администрация Барака Обамы постарается использовать напряженность вокруг Украины и для решения более масштабной задачи – скорейшего достижения соглашения с Европейским союзом об учреждении Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства. Появление этого крупнейшего экономического блока будет означать создание новой опоры пошатнувшегося американоцентричного мирового порядка. Одновременно США активизируют усилия по созданию аналогичной группировки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, призванной составить конкуренцию «китайскому дракону».
Как можно видеть, региональные и глобальные стратагемы, реализуемые в контексте украинского кризиса, отстоят довольно далеко от того, чтобы обеспечить достойное будущее жителям различных регионов Украины. Этой стране «не повезло» стать ареной, на которой разыгрывается первая из битв за будущее мироустройство. И вне зависимости от исхода схватки украинцы оказываются в числе проигравших.
Безальтернативный поворот на Восток
Решившись стать в авангарде пересмотра мирового порядка, Россия принимает на себя основные контрудары со стороны Соединенных Штатов и их союзников. Этот пересмотр потенциально выгоден большому количеству глобальных и региональных игроков, которые с неподдельным интересом наблюдают за ходом противостояния России и Запада. При этом крупнейшим бенефициаром становится КНР. Китай, приближающийся к грани открытого соперничества с США за мировое лидерство, получает благодаря украинскому кризису передышку (возможно, на несколько лет), избегая прямой конфронтации и сохраняя возможность сместить Америку с пьедестала первой экономики мира. Но этим выигрыш Пекина далеко не ограничивается.
Новый раунд российско-китайского сближения прогнозировался многими экспертами начиная с того момента, как Владимир Путин принял решение вернуться в Кремль в качестве президента на третий срок. Немало аналитиков предупреждали, что слишком усердные попытки «поймать китайский ветер» в российские паруса очень серьезно осложнят взаимодействие с Соединенными Штатами, а также создадут трудности в отношениях с Евросоюзом. Сильный крен в сторону Китая существенно ограничивает для России возможности маневрирования между основными глобальными игроками. Однако крымский выбор Владимира Путина в любом случае сделал невозможным сохранение прежней модели партнерского взаимодействия как с США, так и с Евросоюзом. Соответственно, неизбежны и новые шаги навстречу Китаю.
В самый острый период украинского кризиса Москва, несомненно, рассчитывала на то, что Китай окажется для нее надежным тылом. Эти ожидания оправдались. Воздерживаясь от выражений солидарности с действиями России, Пекин тем не менее предотвратил ее международную изоляцию и во многом нивелировал воздействие западных санкций. Подписание газового контракта на 400 млрд долларов показало, что китайские лидеры рассматривают отношения с Россией в долгосрочной стратегической перспективе. Пекин добился весьма благоприятных условий поставок газа, но явно не стал «дожимать» Москву в тяжелый для нее момент и дал ей в руки козырь, позволяющий вести энергодиалог с Евросоюзом с твердых позиций. В результате российско-китайское взаимодействие переходит в фазу, когда действия сторон, оставаясь де-юре отношениями соседей и стратегических партнеров, де-факто начинают ориентироваться на логику союзничества. Но это взаимодействие уже сейчас не является полностью равноправным и скорее всего не будет таковым и впредь.
Западные санкции, уже наложенные на Россию, и в особенности те, которые пока озвучиваются лишь в качестве угроз, создают благоприятные условия для кумулятивного роста китайских инвестиций в российскую экономику. Судя по всему, Москве придется снять большинство ограничений на доступ китайских инвесторов к российским активам, которые вводились из соображений безопасности или сохранения равноправия в двусторонних экономических отношениях. Если это произойдет, иначе будут выглядеть и перспективы Евразийского экономического союза, создаваемого с 1 января 2015 года. Данный интеграционный проект, естественным лидером которого является Россия, вполне может быть совмещен с продвигаемой председателем КНР Си Цзиньпином инициативой «Нового шелкового пути». Такая синергия позволит реализовать амбициозные инфраструктурные программы, обеспечивающие радикальное упрощение доступа китайских товаропроизводителей к рынку не только Евразийского союза, но также и к европейскому. В более отдаленной перспективе возможно и формирование на пространстве Северной Евразии секторальных объединений, фундаментом которых станет китайская экономическая мощь. Подобное развитие событий будет впечатляющей антитезой прекраснодушным идеям о едином экономическим пространстве «от Лиссабона до Владивостока», предметное обсуждение которых так и не было начато до момента перерастания украинского кризиса в острое геополитическое противостояние.
В новой парадигме сотрудничества России также предстоит доказывать, что она служит для КНР надежным тылом и тем самым исключает возможность полного окружения Поднебесной кольцом государств, ориентированных на Вашингтон. По всей видимости, России придется изменить акценты даже в своем отношении к нарастающей напряженности в Южно-Китайском море: если еще в прошлом году Москва с осторожностью демонстрировала симпатию к Ханою, то теперь ей, скорее всего, понадобится показать полную беспристрастность либо понимание аргументов китайской стороны. Аналогичным образом становится крайне сложно сохранить прежний баланс отношений в треугольнике Москва–Токио–Пекин, даже несмотря на демонстративную неохоту, с которой правительство Синдзо Абэ присоединилось к инициированной Бараком Обамой волне антироссийских санкций.
На глобальном уровне новое качество российско-китайского взаимодействия вероятнее всего обернется началом системных, хотя и достаточно осторожных усилий двух держав, направленных на размывание глобального доминирования институтов и практик Вашингтонского консенсуса. Постепенное ослабление позиций доллара в торговых расчетах между странами ШОС и БРИКС, развитие и взаимное признание национальных платежных систем участников этих объединений, учреждение странами БРИКС собственного Банка развития, создание Россией и Китаем международного рейтингового агентства в противовес «большой тройке» Moody's, Fitch и Standard & Poor's могут стать первыми предвестниками переструктурирования глобальной экономики. Вполне вероятно, что именно России придется на первых порах принять на себя наибольшие издержки этого перехода. Однако едва ли стоит питать в связи с этим особые иллюзии: альтернатива Вашингтонскому консенсусу возможна, но это будет Пекинский консенсус. Впрочем, для России и других стран, которые решатся выступить агентами такого рода изменений, в долгосрочной перспективе благом окажется уже сама ситуация соревновательности центров экономической мощи, международных финансовых институтов и макроэкономических моделей.
Довольно неожиданным, но не менее значимым по последствиям эффектом посткрымского поворота России к Китаю может стать «национализация» интернета. Помимо близости позиций двух стран в отношении роли ICANN и управления интернетом решимость российской власти создать собственный аналог проекта «Великий золотой щит» (Great Firewall) способна привести к своеобразному реваншу вестфальского порядка во всемирной паутине. Знаменитый принцип cuius regio eius religio в середине второго десятилетия XXI века можно будет переформулировать примерно так: «чей сервер, того и сеть».
Украинский кризис сделал поворот России к Китаю неотвратимым. Но является ли этот поворот необратимым? Возможно, не столь уж далек от истины Чарльз Краутхаммер, заявивший о повторении Путиным в Шанхае знаменитого маневра Никсона–Киссинджера, и о том, что теперь аналогичная геополитическая комбинация направлена уже против США. По мнению Краутхаммера, расширенное российско-китайское партнерство «знаменует первое появление глобальной коалиции против американской гегемонии начиная с падения Берлинской стены». Очевидно, эта коалиция будет существовать до тех пор, пока не выполнит хотя бы части своих задач. По всей видимости, только осознание неизбежности утраты доминирующих позиций сможет заставить одну из будущих американских администраций предпринять усилия по восстановлению отношений с Москвой, предполагающие ту или иную форму признания российских интересов как на Украине, так и на всем постсоветском пространстве. Проблема в том, что это может произойти достаточно поздно, когда Россия окажется в слишком большой зависимости от китайской экономической мощи. К тому же, как показал опыт перезагрузки, лидерам Соединенных Штатов очень трудно выдвигать действительно привлекательные для Москвы предложения, даже если этого настоятельно требуют американские интересы. Тем не менее решимость находиться в авангарде пересмотра мирового порядка, опираясь на почти союзнические отношения с Китаем, не должна означать заведомого отказа России от готовности к поиску новой модели баланса сил как на глобальном уровне, так, в частности, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Украинские перспективы: Финляндия? Босния? Приднестровье?
Хотя общие контуры урегулирования, позволявшего найти выход из геополитического противостояния или по крайней мере снизить его остроту до приемлемого для большинства вовлеченных в него сторон уровня, были очевидны едва ли не на следующий день после бегства Януковича, до сих пор ни один из ведущих игроков украинской драмы не решился артикулировать готовность пойти на такой компромисс. Суть компромисса описывается хорошо знакомым термином финляндизация. Именно о финляндизации как об оптимальном выходе из кризиса писали Збигнев Бжезинский в первые дни после переворота в Киеве, а Генри Киссинджер – накануне присоединения Крыма к России. Финляндизация в их трактовке означала установление уважительных отношений добрососедства, неприсоединение Украины к военным альянсам и, напротив, интенсивное развитие экономического сотрудничества как с ЕС, так и с Россией. От России же требовалось признание свершившихся перемен, отказ от претензий на какие-либо части украинской территории и от попыток дестабилизировать новую власть в Киеве. В качестве дополнительного бонуса для Москвы также предлагалось полномасштабное развитие сотрудничества с Евросоюзом.
В принципе финляндизация Украины – это примерно то, что могло бы произойти, если бы европейские лидеры не настаивали на безоговорочном подписании Украиной соглашения об ассоциации и свободной торговле в Вильнюсе, а прислушались к призывам Москвы найти в формате трехсторонних переговоров взаимоприемлемое решение. В этом случае Россия не чувствовала бы себя изолированной в результате привязки соседней страны к альтернативному интеграционному проекту, а сама Украина, сполна используя преимущества эксклюзивных отношений с Россией, чуть с меньшей скоростью продолжала бы дрейф в сторону Евросоюза. Так или иначе, но финляндизация означает постепенный вывод Украины за пределы «русского мира».
Сразу же после победы Евромайдана финляндизация оказалась значительно менее привлекательной опцией как для пришедших к власти противников режима Януковича, так и для Кремля. Для первых нетерпимой и противоречащей революционному мандату была сама возможность даже частичного признания неких особых интересов Москвы на Украине. Что касается Кремля, то для него финляндизация означала бы вынужденное признание очередного fait accompli, причем смириться предстояло не только с необходимостью вести дела с новым недружественным правительством, но и с насильственной сменой законной, хотя и предельно коррумпированной власти.
Российский вариант политического урегулирования на Украине, наряду с сохранением внеблокового статуса, предполагал федерализацию и конституционные гарантии использования русского языка. Объективно федерализация никак не противоречит либерально-демократическому вектору развития Украины (т.е. идеалам, изначально декларированным Евромайданом), более того, способствует его закреплению на уровне взаимодействия между центральной властью и регионами. Однако при этом федерализация становится преградой для диктата этнонационализма, побуждая к закреплению на конституционном уровне прав и баланса интересов различных территориальных общин, этнических и языковых групп. А это уже напрямую противоречит радикально-националистическим установкам, ставшим доминантой программы Евромайдана накануне свержения режима Януковича.
Преобразование Украины в федеративное государство, в котором регионы будут влиять на решение вопросов о присоединении к тем или иным экономическим объединениям или военно-политическим блокам, могло бы стать дополнительной, конституционно закрепленной гарантией сохранения ее внеблокового статуса. Столь радикальное перераспределение полномочий между Киевом и украинскими регионами в принципе совместимо со сценарием финляндизации, но при этом означает возможность реализации интересов внешних игроков не только через контакты с центральными властями, но также посредством влияния на региональные политические и экономические элиты.
Присоединение Крыма к России и решительное непризнание международной правомочности этого акта со стороны Киева и Запада перевело Украину в то же положение, в котором после 2008 г. находится Грузия, – страны, имеющей неурегулированный территориальный спор с соседним государством. Членство в НАТО переходит в разряд гипотетических возможностей. В этом смысле конституционные гарантии внеблокового статуса превращаются в своеобразное архитектурное излишество, некую надстройку над суровой реальностью государства, в котором революционный переворот создал вакуум легитимной власти и условия для утраты территориальной целостности. Но одновременно такая формально внеблоковая держава, если она сумеет сохраниться в качестве унитарного государства, будет консолидироваться на основе радикального неприятия всего, что связано с Москвой. Если первые 23 года своего независимого существования эта страна весьма неуверенно развивалась под брендом «Украина – не Россия», то теперь бренд меняется на «Украина – анти-Россия». Если же антироссийская направленность становится нациеформирующей идеей, то, скорее всего, даже федерализация не сможет здесь ничего изменить. В лучшем случае – ослабить или затормозить.
Предопределенность длительного российско-украинского антагонизма и реальная угроза сецессии ряда регионов юго-востока Украины заставляют обращаться в поисках новой формулы компромисса уже не к примеру Финляндии эпохи холодной войны, а к опыту Боснии и Герцеговины после подписания Дейтонского соглашения 1995 года. По сути дела, как и в случае с Боснией, речь могла бы идти о конфедерализации, позволяющей погасить конфликт за счет максимального ограничения полномочий центральной власти и обеспечения широкой самостоятельности частей такого государства, в том числе и в вопросах отношений с соседними странами. Правда, по условиям Дейтонского соглашения, субъекты (этнитеты) Боснии и Герцеговины не имеют права на сецессию, хотя связаны между собой менее тесно, чем один из них с Сербией, а другой – с Хорватией. Преимущество дейтонской модели для Москвы могло бы видеться в том, что, обеспечивая особый статус и легализуя пророссийскую ориентацию Донбасса (возможно, и других регионов украинского юго-востока), она радикально ограничит дееспособность боснизированной Украины в качестве международного игрока. Практически все усилия украинского государства, стабилизированного по дейтонским лекалам, будут уходить на поддержание внутреннего равновесия между регионами. В то же время не исключено, что применение дейтонской формулы к Украине не только принесет ей относительную внутреннюю стабильность, но в среднесрочной перспективе создаст более благоприятные возможности для экономического роста, чем однонаправленная ориентация на Европейский союз.
Не стоит, однако, забывать, что Дейтонский мир был заключен сторонами боснийского конфликта под мощнейшим давлением Соединенных Штатов, которые вместе с союзниками по НАТО использовали и такой аргумент, как бомбардировки (операция «Обдуманная сила»). На момент написания статьи Россия подобных аргументов не применяла; очевидно также, что без готовности США и ЕС склонить Киев к принятию дейтонской модели урегулирования Москва не сможет в одиночку добиться этого результата. Слабой киевской власти (а она такой остается и после избрания президентом Украины Петра Порошенко) гораздо проще продолжать малоэффективную военную операцию против ополченцев Донбасса, чем признавать их представителей полноценными участниками переговорного процесса. Если же переговоры будут идти в отсутствие одной из сторон конфликта, а компромиссы базироваться на неафишируемых договоренностях великих держав, при первом же удобном случае достигнутое согласие может подвергнуться ревизии. Между тем устойчивость Дейтонского соглашения не в последнюю очередь обеспечивается детальной проработкой всех его условий, почти не оставлявших простора для интерпретации (единственным серьезным исключением довольно долго оставалась неопределенность статуса стратегически значимого округа Брчко).
Сегодня Дейтон представляется наиболее оптимальным решением. Однако побудить Киев и Запад принять это решение при нынешнем соотношении сил едва ли получится. Как минимум позиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик должны быть не менее крепкими, чем позиции боснийских сербов перед началом дейтонских переговоров. К сожалению, дейтонский вариант едва ли можно реализовать без предварительного осуществления другого сценария – приднестровского. А это уже вопрос цены, которую Москва способна и готова заплатить за «приднестровизацию» Донбасса, включая и цену новых санкций. Однако настоящий драматизм очередного выбора, который предстоит сделать президенту Путину, состоит в том, что и отказ от приднестровского варианта имеет немалую политическую, экономическую и символическую цену.
* * *
Эта статья передана в редакцию «России в глобальной политике» в момент кратковременного спада напряженности, связанного со вступлением в должность нового президента Украины и переговорами ключевых участников конфликта, состоявшимися во время юбилейных торжеств в Нормандии. Сам факт интенсификации международных контактов и, в частности, встреча Владимира Путина и Петра Порошенко говорят о том, что бремя кризиса становится для всех сторон слишком тяжелым. Избрание президентом Украины олигарха Порошенко спустя три месяца после революции, имевшей не только националистическую, но и антиолигархическую направленность, свидетельствует об усталости большинства избирателей и от революции, и от раздирающего страну противостояния. Однако это не значит, что Порошенко получил мандат на такое урегулирование конфликта, которое было бы приемлемым для России и ополченцев Донбасса. Власть Порошенко не консолидирована, он не имеет устойчивой опоры в нынешнем составе Верховной рады и не обладает конституционными полномочиями для назначения большинства членов правительства. Поэтому основные усилия будут брошены бывшим шоколадным королем на укрепление собственных позиций на политической арене Украины путем проведения досрочных парламентских выборов. Между тем до военной победы над силами ДНР и ЛНР еще очень далеко. Однако любой серьезный компромисс между новым президентом Украины и сепаратистскими движениями Донбасса открывает путь к третьему Майдану, то есть к новому витку дестабилизации. Динамика кризиса далеко не исчерпана, и вслед за временной разрядкой последуют новые обострения.
Украинский кризис уже сильно повлиял на российскую внутреннюю политику. Обновленная (крымская) легитимность третьего президентского срока Владимира Путина может быть использована для осуществления мобилизационного сценария. К последнему будут прежде всего подталкивать уже введенные западные санкции, а также находящиеся в стадии обсуждения меры наказания Москвы. Возрождение американского курса на отбрасывание России, скорее всего, заставит Кремль не только изменить методы экономического управления, но и ускорит процесс обновления элит, приведет к дальнейшему сокращению автономии гражданского общества. Вариант модернизации в партнерстве с Западом утратил актуальность на многие годы; остается вариант мобилизации в партнерстве с Китаем.
Восстановление сотрудничества России с Западом, прежде всего со странами Евросоюза, связано с возможностью хотя бы частичной стабилизации обстановки на Украине. Но характер отношений в любом случае претерпит значительные изменения. Политика ЕС в отношении России, основывавшаяся на ожиданиях, что эта страна рано или поздно повторит путь демократического транзита, пройденный другими государствами Центральной и Восточной Европы, зашла в тупик. Новая политика должна строиться на ином восприятии, близком к тому, как в Европе воспринимают Китай. Подобная смена ракурса будет способствовать прагматизации и инструментализации отношений Россия–Евросоюз. Дискуссии о ценностях и цивилизационной близости на какое-то время имеет смысл заморозить. Приоритетным могло бы стать создание действенного многостороннего механизма раннего предупреждения и урегулирования кризисов в Европе и северной Евразии. Такой механизм окажется особенно востребованным в условиях дальнейшей ревизии постбиполярного мирового порядка. Украинский кризис лишь открывает целую серию конфликтов, которыми будет сопровождаться становление полицентричной системы международных отношений.
Д.В. Ефременко – доктор политических наук, зав. отделом социологии и социальной психологии Института научной информации по общественным наукам РАН.
05 июня2014 г. Сербские СМИ отмечают, что пока Европа продолжает компанию против строительства «Южного потока», в «Газпроме» убеждены, что работы по проекту будут продолжаться и победит деловая логика. Такого же мнения придерживается и Сербия, единственная страна на трассе газопровода, которая не является членом ЕС. Оптимизм прибавляет и тот факт, что потребности Европы в газе в ближайшие годы возрастут на 30%, что дает основания полагать, что Брюссель и Москва договорятся по этому вопросу. Будущее проекта зависит от готовности Болгарии выдержать политическое давление Брюсселя. 04 июня Еврокомиссия сообщила, что Правительство Болгарии должно в течение месяца затормозить строительство газопровода. По мнению Еврокомиссии, Болгария нарушает правила ЕС и за это должна понести наказание. В Брюсселе подчеркивают, что ЕС поддерживает позицию Украины, которая против строительства «Южного потока», т.к. этот газопровод не будет проходить по территории Украины, что тем самым облегчит России возможность перекрыть газ Украине не ставя под угрозу потребителей в ЕС. Министр энергетики Сербии А. Антич в интервью газете «Новости» заявил, что «Южный поток» является исключительно важным энергетическим проектом, который обеспечит Сербии стабильность снабжения газом. Он отметил, что Сербия воспринимает данный проект как европейский, а интонации из Брюсселя и требования Еврокомиссии слышны уже продолжительное время. Сербия внимательно следит за развитием ситуации. Сербия не является определяющим фактором того, будут ли работы по проекту продолжены или нет. Сербия надеется что будут, однако следует подождать ответов на эти вопросы.
В Минэнерго Сербии подчеркивают, что строительство сербского участка «Южного потока» является лишь частью вопроса, который решается между ЕС и Россией. В случае, если будет необходимо дополнить подписанные документы, Сербия поступит в соответствии с достигнутыми договоренностями и в соответствии с действиями других стран-участников проекта. Что касается последствий, которые Сербия может ощутить со стороны ЕС, если не откажется от остановки проекта, то эти последствия будут больше связанны с процессом евроинтеграций Сербии, а не с судебными спорами, как это может быть в случае с Болгарией.
В Минэнерго Сербии отмечают, что в настоящее время ведется работа над проектной документацией и решаются вопросы имущественного характера на трассе «Южного потока», а также ведется работа по определению альтернативных газопроводов и связыванию с газопроводами Болгарии, Румынии, Македонии и Хорватии.
17 и 18 июня 2014 года в Будапеште прошёл Форум по вопросам энергетической безопасности стран Центральной и Южной Европы, в работе которого также приняли участие представители США, Украины и Европейской службы иностранных дел. В ходе встречи эксперты в области энергетической безопасности обсудили её актуальное состояние и проблемы в Европе. По информации Министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии рассматривался вопрос трёхсторонних переговоров по газу (Россия-Украина-Евросоюз), а также меры укрепления энергобезопасности стран Центральной и Южной Европы. Специальный представитель Госдепартамента США Карлос Паскуаль сделал по итогам будапештского форума заявление. Он сообщил, что участники обсудили пути повышения роли т.н. интерконнекторов, связывающих газовые системы стран региона, в частности, венгеро-словацкого и венгеро-румынского. Американский дипломат отметил, что Хорватия может стать важным игроком на региональном рынке газоснабжения, если на острове Крк будет построен терминал хранения сжиженного газа (LNG).
Венгерское телеграфное агентство «МТИ», газета «Непсава» от 19 июня 2014 г.
Ровно год назад Хорватия стала 28-м членом Евросоюза, отметив это событие праздничными концертами на площадях крупнейших городов.
Вступлением в ЕС была выполнена национальная стратегия балканского государства с населением 4,2 миллиона человек, которое менее 20 лет назад вышло из войны. Однако сейчас, как и годом ранее, многие аналитики и граждане по-прежнему скептически относятся членству в ЕС, тогда как власти опять видят больше позитивных результатов от евроинтеграции.
ОПТИМИЗМ ВЛАСТЕЙ
Вступление в ЕС не решило финансовых проблем Хорватии, не сократило безработицу и государственный долг, тем не менее, говоря о достижениях, власти вспоминают об отдельных экономических успехах. Согласно официальным данным, Загреб из фондов Евросоюза получает больше средств, чем выплачивает. По итогам 5,5 месяца текущего года Хорватия находится "в плюсе" на 100 миллионов евро.
"Мы хорошо использовали фонды и будем использовать их еще лучше, здесь мы в числе лучших государств, несмотря на то что иногда появляются статьи, взволновывающие людей", — заявил премьер-министр страны Зоран Миланович.
Очень успешным первый год членства в Евросоюзе называет министр иностранных дел страны Весна Пусич, которая говорит о преимуществах, выразившихся в долгосрочном плане в том, что Хорватия прочно вошла на энергетическую карту Европы. Кроме того, по ее словам, подешевели услуги мобильной телефонии внутри ЕС и упрощена процедура пересечения границ. К 1 июлю 2015 года страна намерена выполнить все условия для вступления в зону Шенгенского соглашения.
Вместе с тем глава МИД не отрицает проблем с государственными финансами. Комментируя в интервью национальному агентству Hina недавно опубликованную статью влиятельной американской газеты Financial Times о состоянии экономики Хорватии, которая, как утверждается, приняла от Греции печальный титул самой нефункциональной страны ЕС, Пусич призналась, что "с удовольствием бы сказала, что это неправда, но в некоторой степени это так".
C оговорками заявил об успешности первого года в ЕС и президент страны Иво Йосипович, сказавший накануне, что картина сложилась "не розовая, но и не черная".
ПЛОХАЯ СТАТИСТИКА
Экспресс-опрос, который провела на своем сайте популярная загребская газета Vecernji list после заявления президента, показал, что "черным" эффект от членства Хорватии в Евросоюзе считают более 90% высказавшихся. Статистика также дает больше "черных", если пользоваться терминологией президента, показателей.
Хорватия увязла в продолжающейся пять лет рецессии, а ее экономика остается одной из слабейших в европейском блоке. Безработица в стране балансирует на уровне 16-17% (хуже в ЕС только Греция и Испания), среди молодежи — около 50%.
Падение экономики в первом квартале этого года составило 0,4% ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда страна еще не являлась членом Евросоюза.
"Самой большой пользой от вступления в ЕС на данный момент стали достижения в процессе присоединения, ускорившие решение проблем переходного периода, модернизизацию законодательства, оказавшие влияние на экономические механизмы и усилившие элементы правового государства", — оценил для журналистов достижения профессор факультета политических наук Загребского университета Бранко Царатан.
Декан этого же факультета Ненад Закошек заявил о своем разочаровании поведением политических элит, считая, что они вместо объединения погрязли в конфликтах, а правительство должным образом не подготовилось к проектам для европейских фондов.
"Политики хуже всех использовали членство, в отличие от граждан, работодателей и неправительственных организаций", — сказал эксперт.
Специалисты заявляют об отсутствии видимых положительных эффектов от членства в ЕС и на национальную экономику.
"В краткосрочном периоде отсутствует прямое позитивное влияние, например, рост экспорта и усиление притока иностранных инвестиций из-за медленного восстановления экономики ЕС, а также специфических структурных слабостей Хорватии", — заявил главный экономист Сплитского банка Здеслав Шантич.
Загреб подал заявку на вступление в Евросоюз в 2003 году, через восемь лет после окончания вооруженного конфликта, которым сопровождался распад Югославии. Официальные переговоры с Брюсселем о членстве в ЕС начались в 2005 году и продолжались шесть лет. Общенациональный референдум с вопросом о вступлении в ЕС Хорватия провела 22 января 2012 года. Плебисцит проходил при низкой явке — 43,5% (1,96 миллиона человек), в пользу присоединения к Евросоюзу высказались 66,27% граждан (около 1,3 миллиона человек).
В Хорватии дорожает земля под застройку.
Рост цен на землю наблюдался на островах Крк, Раб, Пан и Хвар, в городах Пула и Макарска.
В апреле 2014 года участки на острове Крк стоили в среднем за €147 за кв.м, на острове Раб - €165 за кв.м, на острове Паг - €120 за кв.м. Средняя цена земли в Пуле составила €94 за кв.м, а на курорте Водице, который находится в Центральной Далмации в 12 км от Шибеника, - €93 за кв.м, сообщает портал Balkanpro.ru.
В апреле 2014 года снизились цены на участки в городе Омиш, который расположен между городами Сплит и Макарска. По сравнению с прошлым годом стоимость земли снизилась на 9,4% до €174 за кв.м. Уменьшились цены на землю и на острове Брач. За участки на нем просили €157 за кв.м – на 6,5% меньше, чем годом ранее.
В апреле 2014 года наибольший спрос на приобретение участков под застройку был зафиксирован в Загребе, а также в Задарском, Сплитско-Далматинском и Шибенско-Книнском регионах.
А вот цены на хорватскую недвижимость продолжают снижаться.
Пекин выводит Азию и Ближний Восток из-под финансового диктата Соединенных Штатов.
Китай наращивает капитал для создания альтернативы Всемирному банку. Власти КНР предлагают партнерам создать кредитную организацию с активами в 100 миллиардов долларов. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на свои источники.
По мнению Пекина, Всемирный банк чрезмерно подвержен влиянию США и их партнёров. Сообщается, что интерес к созданию нового банка под рабочим названием Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) проявляют 22 государства, в том числе и с Ближнего Востока.
- Китай видит, что добиться чего-либо в рамках Всемирного банка и МВФ трудно, поэтому он хочет создать собственный Всемирный банк, чтобы самому его контролировать. К такой структуре есть интерес во всей Азии, но и без него Китай не откажется от своих планов, — говорит один из собеседников делового издания.
Планируется, что AIIB начнет работать уже в 2014 году, а первым проектом новой организации должен стать аналог Великого шёлкового пути – древний торговый маршрут, который связывал Китай с Европой.
Глава Азиатского банка развития Такехико Накао не так давно выступил с осторожной поддержкой идеи создания AIIB, предупредив, что структура должна соблюдать трудовое законодательство, а также нормы по охране окружающей среды.
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин считает, что если китайцы захотят, то они действительно смогут сорганизовать новый банк в этом году.
- Понятно, что проработать определенные проекты он вряд ли успеют, но собраться, наполнить уставной капитал, снять штаб-квартиру и начать рассматривать проекты – запросто.
Азия – перенаселенный континент и довольно развитый в экономическом плане. Там есть страны, которые зарабатывают довольно неплохие деньги, но при этом не имеют современной инфраструктуры. Таким образом, в Азии существует чудовищный дефицит капиталов на инфраструктурные проекты, потому что у большинства правительств на это нет денег. В то же время есть Китай, который зарабатывает столько денег, что просто не знает, куда их девать. И он в таком случае решает сразу две проблемы одновременно: проблему избыточных золотовалютных резервов и проблему расширения политического влияния. Понятно, что если вам профинансировали объекты инфраструктуры, то вы возьмете и китайских подрядчиков, и китайских рабочих, и при этом будете оставаться благодарными.
И понятно, что создание инфраструктуры способно решить огромное количество проблем, вплоть до снижения внутриполитической напряженности в ряде стран и регионов. Здесь можно вспомнить, как Петр I покончил с мятежами военного сословия. Он просто создал сеть дорог, что позволило в распутицу проехать к любому населенному пункту, и подвезти служивым хлеб. Тем самым почва для военных бунтов была уничтожена, потому что люди перестали голодать.
Теперь что касается альтернативы Международному Всемирному Финансовому банку. Всемирный банк и Азиатский банк развития по идее должны решать вопросы по созданию материальных предпосылок для развития стран, но они с этим не справляются. Потому что в этих структурах доминируют американцы, а те, во-первых, пользуются этим в политических целях (поэтому вряд ли будут помогать союзникам Китая), а во-вторых, у них просто нет денег. То есть новая структура не может стать альтернативой Международному Всемирному Финансовому банку или Азиатскому банку развития, потому что последние не справляются со своими задачами.
Китай предпринимал довольно много усилий для того, чтобы расширить свою квоту в МВФ, во Всемирном банке, да и других инвестиционных банках, чтобы осуществлять и создавать инфраструктуру в рамках существующих международных организаций. Но США заняли жесткую позицию, мол, мы готовы брать китайские деньги, но не готовы делиться влиянием. И Пекин понял, что сотрудничество с Вашингтоном в этом направлении невозможно.
Если бы РФ обладала правительством, которое бы работало на интересы России, то мы могли бы войти в уставной капитал этого банка. Понятно, что китайцы не допустили нас к паритетному сотрудничеству, но вторым номером мы все могли быть. Но поскольку наше правительство абсолютно либеральное и, строго говоря, проводит проамериканскую политику в социально-экономическом отношении, то рассчитывать нам особо не на что.
И в данном случае мы будем объектом освоения. Понятно, что Россия сейчас существует в Средней Азии в основном в форме воспоминаний, несмотря на то, что Киргизия вступает в Таможенный союз и т.д., но если этот банк начнет действовать в Средней Азии, то Россия окончательно потеряет там влияние, и, соответственно, снизится наше влияние в Казахстане. Думаю, если осенью нынешнюю либеральную компанию выгонят из правительства, то мы будем иметь возможность войти в этот банк и превратить его из потенциальной проблемы в потенциальную возможность. Деньги у нас, чтобы там Силуанов не говорил, есть.
Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов замечает, что появление AIIB - это, безусловно, новое явление, в котором Россия, так и иначе, будет участвовать.
- Цель Азиатского банка инфраструктурных инвестиций - сотрудничество с государствами, которые не хотят следовать указаниям МВФ, Всемирного банка, тех международных институтов, которые контролируются западными корпорациями.
Но такая идея, как создание аналога Великого шелкового пути, - это, прямо скажем, не тот проект, куда мы должны вкладывать средства, а, тем более, в одном блоке с Китаем, поскольку у нас есть определенные противоречия в промышленном развитии. Тут либо Китай развивается как промышленная держава, либо Россия. К тому же для нас гораздо выгоднее инвестировать деньги в собственную инфраструктуру.
Но с точки зрения интересов российских сырьевых корпораций, реализация аналога Великого шёлкового пути – перспективное и интересное предложение, и поддержка банка для них тоже может быть интересна. Поэтому, думаю, Россия будет активно участвовать в этом проекте, стараясь внутри него нарастить собственное влияние.
Для Китая же имеет большое значение наладить поставку китайских товаров в некоторые страны Ближнего Востока и связать многие рынки. В частности, ему надо крепче привязать к себе определенные районы Пакистана (куда Китай активно делает инвестиции), соединиться в экономическом плане с Ираном, потому что с той блокадой, которую ему организовали Штаты и Евросоюз, поставлять оттуда в Китай углеводороды крайне затруднительно.
Этот первый проект AIIB действительно можно называть повторением Великого шелкового пути, только - для промышленных товаров. Но и в те времена он делился на два блока – южный и северный, и вот последний торговый канал проходил по территории современной России. Но, конечно, самым активным был южный блок.
Но, повторюсь, для РФ наиболее интересным представляется развитие транспортных сообщений по своей территории. И было бы правильным, если Россия обратила внимание на северный участок Великого шелкового пути и поставила под сомнение правильность того, что банк начнет реализовывать инфраструктурные проекты с транспортного освоения самого выгодного для Китая направления. Вкладывать же деньги в проект, чтобы только насолить американцам, - довольно сомнительный вариант. Поэтому я холодно отношусь к этой инициативе Китая и считаю, что для России она не столь важна.
Политолог, аналитик «Лаборатории Крыштановской» Михаил Коростиков замечает: все государства, которые планировали вести какую-либо самостоятельную политику, всегда искали обходные пути для получения кредита на лучших условиях, чем рыночные.
- Во времена финансового кризиса в конце 90-х годов Япония предлагала создать Азиатский валютный фонд вместе со странами АСЕАН, но так как Япония практически не является суверенным государством, проект был заморожен, потому что США сказали: «Нет». В 2007 году Япония снова ставила на повестку этот вопрос, но США были непреклонны.
Что касается банков развития, в которых участвует Китай, то здесь, прежде всего, стоит упомянуть банк БРИКС, который может быть запущен уже в июле этого года.
В общем, идея создания практического собственного валютного банка не является новой для региона. Ведь МВФ кредиты просто так не дает, со Всемирным банком - дело обстоит легче, но он совсем уж с тяжелыми случаями работает. А вот МВФ сотрудничает с вполне нормальными странами, которые оказались, скажем так, в тяжелой жизненной ситуации. Но вместе с кредитами МВФ навязывает целый набор изменений во внутренней политике, который для развивающихся рынков просто смертелен. Существуют как положительные, так и отрицательные примеры применения политики фонда, но отрицательных примеров все же больше.
Некоторые специалисты считают, что именно кредиты МВФ и сопряженные с ним условия привели к развалу Югославии, потому что страна вынуждена была прекратить политику выравнивая доходов в регионах, что резко отделило Хорватию, Сербию, Черногорию друг от друга и, в конце концов, привело к гражданской войне и развалу Югославии.
Китайцы хотят создать банк практически за собственные деньги. Их экономика вполне это позволяет, их международные резервы составляют почти четыре триллиона долларов. Соответственно, для них банк с капиталом 100 млрд. долларов – не проблема.
Китай не скрывает, что создает банк для того, чтобы избежать диктата МВФ и Всемирного банка, а им это необходимо, потому что Азию ждут большие перемены в будущем. И наученные горьким опытом страны региона повернутся скорее к Пекину, чем к МВФ, ведь первый не будет ставить условий по реформации внутренней политики.
Таким образом, AIIB – еще и политический проект, который может вызвать недовольство в странах АСЕАН и в Японии. Но Китай ничем не связан и полностью свободен в своих действиях, и его политика может действительно изменить баланс сил в регионе в пользу Юго-Восточной Азии, а не Штатов.
Я не удивлюсь, если в банк и в его проекты вложится и Россия. Нам на самом деле выгодно вкладываться в проекты за пределами РФ, потому что мы получаем там долю. Конечно, пока не совсем понятно, что подразумевается под проектом восстановления Великого шелкового пути, пока ясно, что Китай хотел бы построить дорогу на Багдад, которая будет идти по достаточно важному региону. Соответственно, если такие магистрали будут построены Китаем, то они сильно усилят его присутствие там.
Но, честно говоря, я с опаской отношусь к идее создания такого пути, потому что он по своим характеристикам сильно напоминает печально известный Данцигский коридор между Польшей и Германией. Когда такая дорога, за которой стоит определенная держава, проходит через регион, то его страны во многом будут вынуждены считаться с политикой Китая. Потому что тот в любой момент может найти тысячу предлогов для того, чтобы ввести войска в любое государство для защиты этого коридора.
Но России, конечно, стоит вкладываться в такие проекты, потому что это расширяет наши экономические возможности. К тому же нам надо каким-то образом взаимодействовать с Китаем и не только из-за диверсификации экономики. Дело в том, что китайцы - люди довольно циничные: если ты с ними не ведешь реальных дел (не прокладываешь газопровод, не строишь дороги), то тебя для них как бы не существует.
СОВЕТ ЕС ОДОБРИЛ ВВЕДЕНИЕ ЕВРО В ЛИТВЕ С БУДУЩЕГО ГОДА
Брюссель признал Вильнюс готовым к присоединению к зоне единой европейской валюты
Совет ЕС на заседании в Брюсселе одобрил введение в Литве евро с 1 января 2015 года, признав тем самым эту прибалтийскую республику готовой к вступлению в зону хождения единой европейской валюты.
Литва, таким образом, откажется от национальной валюты - литовского лита - как с 1 января 2014 года сделала Латвия, отказавшись в пользу евро от своей национальной валюты латвийского лата, и станет 19-м по счету членом еврозоны, передает Reuters.
"Евро не только принесет выгоду литовскому бизнесу и жителям страны, введение евро поможет обеспечить здоровую и ответственную финансовую политику, не допустит победы финансового популизма", - отметила в связи с происходящим президент Литвы Даля Грибаускайте. Сами литовцы смотрят на идею перехода на евро с пессимизмом.
Курс пересчета литов на евро установит Европейский Центробанк, и произойдет это примерно к концу июля текущего года. Тогда же ожидается принятие официально оформленного решения о присоединении Литвы к еврозоне.
Сейчас курс лита к евро зафиксирован на отметке в 3,4528 лита за 1 евро. Минфин Литвы прогнозирует, что ЕЦБ для пересчета примет такой же курс, так как данное соотношение зафиксировано уже достаточно давно. Тем не менее, Евроцентробанк имеет право изменить курс пересчета в любую сторону, но не более, чем на 15% от ныне зафиксированного.
Валюта евро была введена в безналичное обращение с 1 января 1999 года, и в наличное - с 1 января 2002 года. Сейчас евро использует 18 стран ЕС: Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция и Эстония. Еще 6 гособразований используют евро, не входя в ЕС, по договоренности. Это Ватикан, Монако, Сан-Марино, Сен-Пьер и Микелон, Майотта и Андорра. Также евро используется без договоренности в Косово и в Черногории.
Список стран ЕС, не использующих в качестве своей денежной единицы евро, с вхождением в зону евро Литвы сократится до всего лишь 9 стран: Болгария (болгарский лев), Великобритания (фунт стерлингов), Венгрия (форинт), Дания (датская крона), Польша (польский злотый), Румыния (румынский лей), Хорватия (хорватская куна), Чехия (чешская крона), Швеция (шведская крона). Свою валюту используют также не входящие в ЕС Швейцария (швейцарский франк) и Норвегия (норвежская крона).
В Хорватии открылся первый аквапарк.
Вблизи хорватского города Бртонигла состоялось торжественное открытие первого в стране аквапарка, получившего название Istralandia.
Посетителей аквапарк начал принимать с 21 июня 2014 года. В строительство объекта предприниматель Бранко Ковачич инвестировал €10 млн. Общая площадь аквапарка насчитывает 5 тыс. кв.м, из которых 2 500 кв.м занимает бассейн с волнами, передает портал Balkanpro.ru.
На территории аквапарка разместятся магазины, кафе, коктейль-бар. Планируется, что в течение сезона аквапарк посетят от 100 до 150 тыс. туристов.
В т.н. «докладе о конвергенции» Европейского Центрального банка, в котором оценивается готовность к переходу на общую европейскую валюты 8 государств ЕС – Литвы, Польши, Венгрии, Чехии, Болгарии, Хорватии, Румынии и Швеции, было отмечено, что из этих 8 стран только Литва соответствует всем необходимым критериям конвергенции. Эти критерии следующие: - страна должна иметь уровень инфляции, не превышающий более чем на 1,5% средний показатель для трех стран ЕС с наиболее низкими темпами инфляции; - дефицит бюджета не должен превышать 3% ВВП, а государственный долг должен быть не выше 60% ВВП; - процентная ставка не должна превышать уровень, средний для трех стран ЕС с наиболее низкими темпами инфляции, более чем на 2 процентных пункта; - четвертый критерий - соблюдение установленных пределов курсовых колебаний в рамках Европейской валютной системы в течение минимум 2 лет.
Из указанных четырех критериев конвергенции Польша не выполняет два - колебание курса национальной валюты и предельный уровень дефицита бюджета. Хотя в текущем году правительству удалось сформировать бездефицитный бюджет, это было достигнуто благодаря одноразовому эффекту, полученному в результате переводу средств из частных пенсионных фондов в государственный. Однако уже осенью этого года в ЕС вступает в силу новая методология, в соответствии с которой польский бюджет будет иметь отрицательное сальдо ниже допустимых трех процентов. Что касается польского госдолга, то он остается на уровне немногим ниже 60%.
На основании представленного ЕЦБ доклада Еврокомиссия рекомендовала принять Литву в зону евро. Окончательное решение будет принято министрами финансов стран ЕС в июле, после чего Литва сможет начать подготовку к замене лита на евро с 1 января 2015 года.
Rzeczpospolita, 06.06.2014
Первая мировая: как Европа загнала себя в ловушку
Дмитрий Яковлевич Травин родился в 1961 году в Ленинграде. В 1983 году окончил экономический факультет ЛГУ. Научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге.
Сто лет назад, 28 июня 1914 года, в Сараево выстрелом боснийского террориста, которого поддерживала тайная организация «Черная рука», связанная с сербской разведкой, был убит австрийский эрцгерцог Франц Фердинанд. Это обусловило начало Первой мировой войны, которая разразилась в августе и шла затем целых четыре года. На войне погибло 8,5 миллионов человек. 21 миллион было ранено. Ясно, что такую цену воюющие державы заплатили не за жизнь одного эрцгерцога. У войны были иные причины. Какие?
Почему возникают войны?
Самый простой способ объяснить возникновение любой войны состоит в том, чтобы объявить свою страну защитником великих ценностей, а противника — злобным агрессором. Подобный подход характерен для националистов. С ним практически невозможно полемизировать на начальном этапе войны, когда у обеих сражающихся сторон есть еще много нерастраченной энергии.
Однако если вооруженное противостояние затягивается, число жертв растет, и усталость начинает доминировать над энтузиазмом, эффективным становится подход, который демонстрируют левые силы. Они говорят, что причина войны — в жадности капиталистов, устроивших ее ради получения прибылей от продажи оружия и ради захвата колоний, которые можно эксплуатировать. В общем, войну империалистическую левые силы стремятся превратить в войну классовую.
Первая мировая война начиналась с массового националистического психоза, когда даже социалисты различных стран «бряцали оружием» и обеспечивали в парламентах поддержку своим «эксплуататорским» правительствам. А завершалась война серией революций, в ходе которых народ свергал «эксплуататоров», чьи знамена еще недавно вели его в бой.
Для того чтобы нам сегодня разобраться в истинных причинах войны, вряд ли стоит прибегать к использованию подходов, фабриковавшихся в прошлом не для анализа, а лишь для мобилизации масс. На самом деле такая страшная бойня, какой оказалась Первая мировая, в наименьшей степени зависит от злобы и корысти отдельных людей, классов, народов. Она — порождение объективных обстоятельств. Война так долго вызревала, что в августе 1914 года ее уже трудно было миновать. У каждого из государств, схлестнувшихся в схватке, имелись чрезвычайно убедительные причины для столкновения с соседом.
Первая мировая похожа на матрешку, раскрывая которую обнаруживаешь все новые фигурки меньшего размера. Англия с Францией не могли не вступить в войну, потому что в нее вступила Германия. Та в свою очередь не могла не откликнуться на действия России. Наша страна прореагировала на агрессию Австро-Венгрии против маленькой Сербии. Но Австро-Венгрия начала войну не по прихоти, а потому, что Сербия, несмотря на формальную слабость, представляла для нее серьезную угрозу. Наконец, надо отметить, что и у сербов имелись серьезные основания для того, чтобы ввязаться в конфликт.
Попробуем последовательно раскрутить всю эту историю, начав из глубины, то есть с Сербии — со страны, которая имела меньше всего военных ресурсов, однако дала повод для конфликта великих держав.
Сербия между мечом и оралом
За свое освобождение от турецкого ига сербы сражались на протяжении десятилетий так, как ни один другой народ на Балканах. В 1833 году они получили автономию, в 1878 году — независимость. Однако независимая Сербия оказалась в тяжелейшем положении, которое напоминает не столько судьбу благополучных европейских стран, сколько судьбу нынешних развивающихся государств, не имеющих при этом серьезной экономической базы для развития.
Зажатая между двумя грозными империями — Османской державой и Австро-Венгрией, каждая из которых держала в подчинении множество славян, — Сербия должна была быть постоянно готова к обороне. Военные расходы составляли в ее бюджете порядка 40 %. Ни о какой серьезной промышленности или торговле в этой ситуации даже мечтать не приходилось. Маленькая, но гордая страна представляла собой вооруженный крестьянский мир, постоянно разрывающийся между пахотой и военным делом.
Более того, Сербия от своих соседей была отделена не только государственными, но и религиозными границами. Одна из соседних великих держав исповедовала ислам, другая придерживалась католичества. Сербы же сохраняли православие, унаследованное от погибшей в XV веке Византии. Естественно, маленькая страна не могла, в отличие от огромной России, претендовать на формирование Третьего Рима (силенок для этого было маловато). Однако Сербия ощущала себя хранителем истинной веры, которая должна была помочь человечеству воспрянуть духовно после тысячелетий неправедной жизни.
Святой Николай Сербский вместо теории «Третьего Рима» наделил свой народ концепцией «Небесной Сербии», которой предстоит спасти все человечество. Трудиться над спасением будет весь православный мир, вооруженный сербской программой и российскими ресурсами (идеи — наши, бензин — ваш).
Храня истинную веру и ощущая свое великое предназначение, Сербия (в отличие от Словении и Хорватии, интегрированных в состав Австро-Венгрии), естественно, плохо воспринимала идущие из буржуазной Европы экономические импульсы. Ведь разве может что-либо хорошее идти от проклятых еретиков-папистов?
В общем, сербы, постоянно разрывавшиеся между мечом и оралом, вооруженные идеей «Небесной Сербии» и ощущавшие призвание к мессианству, к подвигу во имя всего человечества или хотя бы во имя славянства, были по духу воинами, а не бюргерами. При всей условности такого рода сравнений я все же рискнул бы сопоставить менталитет сербов столетней давности с нынешним менталитетом чеченцев. Понятно, что можно найти десятки отличий, но важно выделить и одно сходство. В условиях постоянного противостояния формируются поколение за поколением, умеющие хорошо воевать и вынашивающие великие идеи, но не стремящиеся к тому, чтобы развивать бизнес, строить заводы и города, планировать на десятилетия вперед мирную жизнь.
Россия сегодня хорошо понимает, что если не сформировать в Чечне рабочие места, которые станут привлекательными для детей вчерашних воинов, Северный Кавказ останется надолго источником напряженности. Отсюда — попытки осуществлять там инвестиции (увы, не слишком удачные). Австро-Венгрия столетней давности, в отличие от нынешней России, не могла даже пытаться осуществлять инвестиции в Сербии, поскольку это было иное государство. Да к тому же подобная политика в ту эпоху вообще не практиковалась.
Вена относилась к Белграду настороженно. Тем более что в результате двух балканских войн, прошедших в 1912–1913 годах, Сербия усилилась за счет Турции.
Белград же видел на территории соседней империи огромное пространство для своей деятельности, поскольку там проживали братья-славяне, чуждые этнически как немцам, так и венграм, но кровью и языком тесно связанные с сербами. Кому же, как не Сербии, обладающей независимостью и имеющей богатый боевой опыт, стать центром притяжения для всего южнославянского населения?
В общем, у маленькой Сербии имелись серьезные основания для того, чтобы впиться в разбухшее тело соседней империи, не имеющей этнического и, следовательно, идейного единства. Неудивительно, что Австро-Венгрия испытывала постоянное беспокойство от наличия такого соседа.
Судя по всему, непосредственно летом 1914 года сербское государство еще было к большой войне не готово. Но как сдержать народ, для которого схватка с врагом за сто лет восстаний и войн стала образом жизни? Дело неумолимо шло к катастрофе, причем власти фактически не контролировали ситуацию. «Черная рука» помогла боснийцу Гавриле Принципу убить эрцгерцога, а затем Сербия, воодушевленная своим мессианством, уже не могла отступить, когда Вена выставила Белграду жесткий ультиматум.
Но почему Австро-Венгрия не могла спустить эскалацию конфликта на тормозах? Ведь народы империи, в отличие от сербов, совсем не рвались в бой.
Ужас династии Габсбургов
Беда Австро-Венгрии состояла в том, что она не могла не огрызаться, поскольку понимала: одним укусом дело никак не обойдется. Или, точнее, серьезный укус вызовет заражение всего ослабленного имперского тела, и это приведет в конечном счете к болезни, а затем к смерти.
Нас часто вводит в заблуждение традиционное наименование империи. Кажется, будто бы она в основном состояла из австрийцев и венгров. Но это не так. Более половины проживавших на ее территории народов относилось к числу славян. Это были чехи, поляки, хорваты, словаки, словенцы, босняки и даже русины (те, кого мы привычнее именуем западными украинцами и белорусами). Австро-Венгрией империя называлась не по имени доминирующих народов, а по имени двух корон, которые она объединяла. Империя представляла собой дуалистическую монархию. Австрия и Венгрия во многом были самостоятельными государствами с собственными правительствами. Но кайзер из династии Габсбургов (к моменту начала войны им был Франц Иосиф) сидел одновременно на австрийском и венгерском престолах.
То есть австрийцы и венгры были не многочисленными, а привилегированными народами. Они имели свою собственную государственность, тогда как славяне оказались просто распределены между двумя частями дуалистической монархии. Чехами, поляками, словенцами управляли из Вены, а хорватами, словаками и русинами — из Будапешта.
Славянам подобная ситуация совершенно не нравилась. Одни народы в большей, другие в меньшей степени стремились к самостоятельности. Хотя бы к такой, которую обрели венгры в рамках империи. Но ни Вена, ни даже Будапешт этого не хотели. Получался конфликт сравнительно небольшого привилегированного меньшинства со славянским большинством, не понимавшим, почему оно не имеет права на формирование собственных государств.
Вот почему Австро-Венгрия так опасалась сербской политической и тем более военной активности. Маленькая Сербия была сильна не столько собственными вооруженными силами, сколько симпатиями со стороны южных славян — подданных императора Франца Иосифа.
Габсбурги уже имели неприятный исторический прецедент, когда маленький Пьемонт выступил инициатором объединения Италии, в результате чего Австрия потеряла земли, населенные итальянцами. Францу Иосифу совершенно не хотелось, чтобы Сербия сделала по отношению к южным славянам то же самое, что Пьемонт сделал по отношению к итальянцам. Причем он понимал, что если потеря немногочисленных итальянских подданных означала лишь сокращение размеров державы, то потеря многочисленных славянских неизбежно обернется гибелью империи. В общем, к моменту убийства эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараеве на повестке дня фактически стоял вопрос самого существования Австро-Венгрии. И к этому никак нельзя было отнестись с прохладцей.
Пробуждение славянства
Тут, правда, возникает другой важный вопрос. Если империя со своим славянским населением худо-бедно существовала на протяжении многих столетий, да еще и расширяла границы, стремясь захватить новые земли, то почему именно к 1914 году возникли серьезные опасения в отношении будущего?
Дело в том, что у любой державы подобного рода есть свой жизненный цикл. Здоровье молодой империи, возникшей в Средние века или в начале Нового времени, намного лучше здоровья пожилой империи, раздираемой внутренними противоречиями в начале ХХ столетия. Связано это с появлением в XIX веке такого сложного явления, как национализм.
В империи Габсбургов времен расцвета, как и в любой иной империи того времени, люди ощущали себя подданными монарха, а не представителями той или иной нации. Для них могли иметь серьезное значение религиозные конфликты, классовые противоречия, столкновения между семейными кланами. Однако стремление подданных к формированию национального государства династию Габсбургов долгое время не беспокоило.
Но в эпоху, когда немцы или итальянцы стали ощущать себя народом и стремиться к объединению, славяне решили, что они — ничуть не хуже. Они тоже имеют право на свое национальное государство. Только им требовалось для формирования такого государства не объединяться, а отделяться.
Понятно, что формирование нации — это долгий процесс. Сначала образованные интеллектуалы создавали для своих народов национальную культуру. Формировали литературный язык, на котором простые люди могли бы читать и писать. Затем все чаще стали говорить об автономии в составе империи — хотя бы по венгерскому образцу. Наконец, к началу ХХ века стал актуальным вопрос о независимости. Поляки мечтали о возрождении государства, которое было у них в недавнем прошлом. Хорваты и словенцы ориентировались на соседние независимые славянские страны — Сербию и Болгарию. Чехи все чаще подумывали, не предложить ли корону святого Вацлава какому-нибудь русскому великому князю, хотя опасались при этом, что русские порядки для свободолюбивой Праги будут хуже зависимости от Габсбургов.
Конечно, сами по себе славянские народы были слишком слабы для того, чтобы поднять восстание против империи. И до поры до времени Габсбурги чувствовали себя сравнительно спокойно, несмотря на укрепление славянского национализма. Однако со времен русско-турецкой войны 1878 года ситуация кардинальным образом переменилась. Турция резко ослабла и перестала быть угрозой для славян. Балканские войны 1912–1913 годов показали даже, что славяне вместе с греками могут самостоятельно (без поддержки со стороны) наносить туркам поражение. Зато усилившаяся при Александре II Россия стала все больше интересоваться славянскими делами. Она освободила «братушек» от басурманского ига и готова была усиливать дальше свой патернализм. В частности, в отношении Сербии.
Таким образом, в ответ на убийство эрцгерцога Франца Фердинанда Австро-Венгрия не могла ограничиться полумерами. Война против Сербии фактически была войной за сохранение империи, в которой славянство бурлило, ориентируясь не только (и даже не столько) на Сербию, сколько на могущественную Россию, способную освободить их от власти Вены и Будапешта так же, как раньше она освободила других славян от власти Стамбула.
Но что же нужно было России на Балканах? Почему она так стремилась заниматься землями, весьма далекими от ее границ? Могла ли наша страна проявить миролюбие и не ввязываться в Первую мировую, обернувшуюся падением царского престола, революцией, Гражданской войной и такими бедствиями, какие, наверное, в тот момент не испытала ни одна другая страна Европы?
Свои и чужие
Для ответа на эти вопросы нам надо слегка уйти в прошлое — к временам Великих реформ Александра II, положивших начало российской модернизации. Раньше их было принято ругать — мол, ободрал царь крестьян, как липку, в пользу помещиков. Теперь, напротив, принято хвалить, поскольку именно эти реформы легли в основу рыночного развития страны. Но на самом деле любые серьезные преобразования в экономике — это палка о двух концах. С одной стороны, появляются новые возможности. С другой — людям, привыкшим жить по-старому, очень трудно адаптироваться к меняющемуся образу жизни.
Если бы удалось придумать такие реформы, при которых люди могут ничего в своей жизни не менять, но при этом пользоваться благами быстро растущей экономики, то модернизация всех только радовала бы. Однако даже в самых благополучных странах мира подобных чудес не бывает.
В пореформенной России разоряющиеся крестьяне быстро двинулись из деревни в город. С одной стороны, их труд на заводах и фабриках заложил основы российской индустриализации, что можно расценить как большое достижение. С другой стороны, были и серьезные проблемы, поскольку жить этим людям в городе оказалось очень тяжело из-за низких заработков, долгого рабочего дня, плохого жилья, болезней, антисанитарии… Наверное, все эти люди стали бы в скором времени легкой добычей агитаторов, убеждавших их подняться на классовую борьбу, если бы в противостояние с коммунистической идеологией не включилась идеология националистическая.
Вчерашние крестьяне, вырванные из привычно деревенской общины и растерявшиеся от городских тягот, отчаянно нуждались в том, чтобы примкнуть к какому-то сообществу. Проще говоря, поделить мир на своих и чужих. В деревне ясно было, кто свой, кто чужой. А в городе?
Один вариант такого деления предлагали марксисты: свои — это все пролетарии, чужие — капиталисты, помещики, попы и даже сам царь. Однако идее классовой борьбы противостояла идея, согласно которой мы все — русские, православные. Самодержавный царь — наш символ, наш лидер, наш гарант. Дворянство — наша славная армия. Священство — духовная опора. И даже буржуи — тоже наши, поскольку дают сирым и убогим заработать на кусок хлеба. В общем, все мы — одна большая семья. Нечто вроде сельской общины (в которой вчера еще жил пролетарий), только расширенной до масштабов всей страны.
А как же враги? А как же чужие? Ведь трудно по-настоящему сплотиться людям, если они не видят, против кого им следует дружить. Как, скажем, рабочему возлюбить своего эксплуататора, если нет образа врага, который намного страшнее капиталиста? Без такого врага пролетарии становятся легкой добычей социалистов-агитаторов, поскольку житейские трудности ежедневно дают повод для того, чтобы ненавидеть хозяина.
Для малых народов врагом становятся живущие по соседству представители народов имперских. Малым народам кажется, что все беды — от империи, и если ее разрушить, то жизнь вскоре наладится. А где же найти врага большим народам?
От Великих реформ к Великой войне
Для пореформенной России огромное значение имела идея панславизма. Наша страна, как самая большая и сильная славянская держава, брала на себя защиту малых славянских народов, страдавших под игом Османской и Австро-Венгерской империй. Соответственно, появлялись и враги — две империи, которые необходимо было разрушить ради освобождения «братушек».
Сама по себе идея освобождения славян не была новой. Мысль о том, чтобы захватить Константинополь, а «по дороге» помочь страдавшим от турок народам, в российских элитах лелеяли с XVII века, если не раньше. Но вплоть до эпохи Великих реформ борьба с Османской империей была делом элит, а не народа. При матушке Екатерине, например, у турок оттяпали огромные земли, но никакого народного энтузиазма это не вызвало. Таврида нужна была князю Потемкину, ставшему Потемкиным-Таврическим, но не простому мужичку, пахавшему землю в своей деревне и ничего толком не знавшему о басурманах.
Совсем иначе обстояло дело во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Она впервые вызвала поистине широкий народный энтузиазм в крупных русских городах. Сам Достоевский активно агитировал за войну в своем «Дневнике писателя». И не случайно. Ведь мысль об освобождении славян от турецкого гнета прекрасно вписывалась в его взгляды, согласно которым нельзя допускать даже слезинку на глазах одного несчастного ребенка. Война на страницах «Дневника писателя» превращалась из кровавого дела в дело благородное, и эта идея была близка тысячам российских горожан-разночинцев.
Борьба с Австро-Венгрией в 1914 году была, согласно логике панславизма, продолжением борьбы с Османской державой за свободу братьев по крови, страдающих от деспотии. В первые месяцы этой войны действия царя сопровождались волной народного энтузиазма. Причем теперь уже не только разночинного. Экономический подъем и урбанизация за пару предвоенных десятилетий существенно расширили ряды рабочего класса, и благодаря этому мысль о борьбе со страшными врагами за славянское братство проникла в самые низы общества. Если неграмотный крестьянин, живущий в российской глубинке, по-прежнему оставался далек от геополитических проблем, то пролетарий, живущий в городе и помаленьку осваивавший грамоту, мог уже влиться в огромную массу людей, приветствовавших борьбу за великую идею.
В общем, Первая мировая война поначалу вызвала в России искренний моральный подъем, сплачивавший народ и, соответственно, укреплявший державу, порядком разбалансированную в предшествующий период развития марксистской пропагандой и революцией 1905 года. Панславизм и маленькая победоносная война были лучшим способом притушить на время классовые конфликты и перенести тяжесть растущей ненависти «униженных и оскорбленных» пролетариев с внутреннего врага на внешнего.
В принципе сильная власть, понимающая опасности мировой войны, могла бы, конечно, удержаться от участия в балканском конфликте. Но российская власть в тот момент была слабой. Ее подкосили поражение в войне с Японией, революция 1905 года, распутинщина, непопулярность самодержавия и личная непопулярность Николая II. Соблазн укрепить свои позиции на волне искреннего народного энтузиазма был необычайно велик. Тем более что дело спасения маленькой, но гордой Сербии представлялось весьма благородным. А прогнившая Австро-Венгрия отнюдь не представлялась столь уже серьезным противником.
Ход Первой мировой и впрямь показал, что разбить австрийцев мы можем. Однако, к несчастью для нашей страны, на стороне Австро-Венгрии выступила Германия, обладавшая значительно лучше подготовленной армией. Для Германии эта война окончилась столь же плачевно, как для России. Так что же заставило «рассудительных» немцев вляпаться в ту же историю, в какую вляпались «эмоциональные» русские? Как ни странно, мотивы двух наших народов были чрезвычайно похожими.
Германские мотивы
На первый взгляд вопрос о том, почему в Первую мировую войну ввязалась Германия, выглядит наиболее простым. Есть ряд традиционных, но при этом вполне верных ответов.
Во-первых, Берлин должен был выполнить свои союзнические обязательства в отношении Вены, причем не просто в силу порядочности, а исходя из собственных чрезвычайно важных интересов. Если бы Россия разгромила Австро-Венгрию и славянский национализм привел бы к распаду этой империи на части, то Германия лишилась бы единственного серьезного союзника в Европе, а значит, в случае будущей войны оказалась бы одна против стран Антанты.
Во-вторых, Германия имела веские основания считать, что является наиболее сильной в военном отношении державой, а потому может рассчитывать на успех блицкрига, то есть на победу в кратчайшие сроки без мобилизации значительных ресурсов. Опыт франко-прусской войны 1870 года показал, что Францию германская военная машина может разгромить довольно быстро. Англия вообще не имела крупной сухопутной армии, а те войска, что у нее были, находились за Ла-Маншем или в различных отдаленных колониях и доминионах. Что же касается России, то большие пространства и бюрократическая волокита, характерные для нашей страны, затрудняли быструю мобилизацию. Немцы надеялись при помощи блицкрига разобраться с проблемами на Западном фронте еще до тех пор, пока созреет реальная угроза на Восточном.
В-третьих, быстро развивающаяся Германия в экономическом отношении к лету 1914 года уже могла считаться наиболее сильной страной мира. Она обогнала Англию. Причем германская экономика, в отличие от английской, уже много лет целенаправленно милитаризировалась, то есть применительно к военным задачам обладала значительно большим КПД. Немецкая элита предлагала своему народу пушки вместо масла, и это делало Германию особенно опасной в годы войны.
Впрочем, здесь кроется главная загадка. Почему немецкий народ, которого «обделяли маслом», активно поддерживал кайзеровский милитаризм? Почему в Германии Первая мировая война вызвала мощный патриотический подъем? Ведь на Германию никто не нападал, и перед немцами не стоял вопрос о защите своей родины от агрессора.
По сути дела, именно страстное стремление немцев к войне сделало ее мировой. Без вмешательства Германии Россия с Австро-Венгрией худо-бедно разобрались бы с балканскими проблемами, и число жертв было бы несоизмеримо меньшим. Не произошло бы революции в Германии, да, возможно, и в России. Гитлер не стал бы германским фюрером, поскольку кайзер остался бы на своем посту. Не сформировалась бы проблема немецкого реваншизма. В общем, не было бы той базы для Второй мировой войны, которую дала Первая мировая.
Впрочем, все эти допущения не так уж и важны, поскольку немцы явно хотели воевать. И связано это было с тем, что немецкий взгляд на мир существенно отличался от английского, французского или бельгийского.
Культура против цивилизации
Для нас сегодня западноевропейские народы все на одно лицо. В том смысле, что все они нам видятся поклонниками рынка и демократии. Мы часто говорим, что-то вроде: «У нас дела обстоят так-то, а на Западе — так-то», считая при этом, будто Запад имеет единые взгляды по ключевым политическим вопросам. Такого рода подходы к пониманию Запада и сейчас не слишком верны, а сто лет назад они вообще нисколько не соответствовали действительности.
В частности, немцы жестко противопоставляли себя Западу, то есть прежде всего французам, англичанам, бельгийцам, американцам. Немцы полагали, будто западная цивилизация развивается плохо. Она представляет собой мир чистогана, эксплуатации и бездуховности. Она задыхается от противоречий, возникающих между трудом и капиталом. В ней нет таких выдающихся достижений культуры, какими отличается Германия. Да и управляются западные страны неправильно. Германская патерналистская система значительно лучше, чем сложившаяся на Западе демократия. В демократических странах люди разобщены, тогда как нужно, чтобы власть заботилась о народе, поддерживала слабых, собирала народ в единый большой кулак.
Немцы жестко противопоставляли западную цивилизацию германской Культуре. Если для нас Цивилизация и Культура — близкие по смыслу слова, то немцы столетней давности вкладывали в них прямо противоположный смысл. Они были сторонниками Культуры и противниками Цивилизации. Причем германские интеллектуалы постоянно подчеркивали это различие. Словом, простые немцы, желавшие сплотиться вокруг своего кайзера, и духовные вожди нации, стремившиеся возвеличить германскую Культуру, были заодно.
В общем, можно сказать, что народ искал свой особый путь развития примерно так же, как ищут его по сей день в нашей стране. Немцы хотели создать светлый и правильный мир, в котором не будет тех проблем, что характерны для капиталистических демократий Запада. Именно в Германии под руководством «железного канцлера» Отто фон Бисмарка возникли первые системы социального страхования рабочих. И хотя в целом уровень жизни немецких пролетариев был явно ниже уровня жизни английских трудящихся, социальное страхование создавало иллюзию, будто бы кайзер и капиталисты заботятся о простом народе.
Выше шла уже речь о том, как модернизация общества создавала серьезные проблемы в России и способствовала тому, что миллионы людей в промышленных городах начинали искать объединяющую их национальную идею. Примерно то же самое происходило в Германии. Поиски национальной идеи в этой стране на несколько десятилетий опережали российские изыскания, причем наши мыслители многое заимствовали у немцев даже в такой необычной сфере, как придумывание национальных отличий.
Германская экономика вынуждена была, как и российская, наверстывать отставание от западных соседей. Конечно, немцы наверстывали быстрее и к 1914 году уже вышли в лидеры, однако трудности догоняющей модернизации у всех стран бывают примерно одинаковыми.
Бисмарк, в частности, очень опасался сильной германской социал-демократии. На родине Карла Маркса марксизм имел даже больший потенциал, чем в России. И поэтому германские правящие круги сделали все возможное для того, чтобы сгладить конфликт рабочих с капиталистами и развивать у народа ощущение, будто все немцы, как одна большая семья, противостоят иным народам, а немецкая «правильная Культура» противостоит «неправильной Цивилизации».
Им было за что сражаться
В общем, немцам, воспитанным в националистическом духе, было за что сражаться на фронтах Первой мировой.
Национализм 1914 года не был еще национализмом реваншистским, как перед началом Второй мировой войны. Он не предполагал еще такой массовой ненависти к евреям. Он не предполагал формирования лагерей смерти. И все же это был национализм, сплачивающий общество, указывающий ему четкую цель и указывающий врага, которого следует победить для достижения этой цели.
Без понимания того, как формировался германский национализм перед Первой мировой войной, мы никогда не поймем того германского фанатизма, который сплотил народ вокруг фюрера через пару десятилетий. И кстати (заметим это попутно), без понимания мессианского стремления нашего народа к освобождению славян перед Первой мировой войной мы никогда не поймем того мессианского стремления к мировой пролетарской революции и к освобождению всего мира от гнета капитала, которое сплачивало советских людей до тех пор, пока утопичность коммунистической идеи не стала для всех очевидной.
Итак, подведем некоторые итоги. Мы понимаем теперь, почему Сербия в 1914 году провоцировала Австро-Венгрию, почему та вынуждена была объявить войну, почему Россия вступилась за братьев-славян и почему Германия вступилась за своих союзников. Но мировая война не стала бы таковой, если бы на германский вызов не ответили Франция и Англия. Что же двигало этими благополучными странами, которые, казалось бы, давно уже пережили стремление воевать?
Ни французы, ни англичане особо не хотели проливать кровь на фронтах Первой мировой. И все же они не уклонились. Почему?
Международный баланс сил
Франция не могла бы уклониться от участия в Первой мировой войне, поскольку Германия напала на нее, предприняв циничный обходной маневр с фланга и оккупировав по пути Бельгию, которая, наверное, предпочла бы вообще не участвовать в кровавых европейских разборках. В общем, формально не только Бельгия, но и Франция была жертвой. Тем не менее надо отметить, что у нее был свой мотив для противостояния Германии. Потеряв во время франко-прусской войны Эльзас и Лотарингию, Париж, естественно, вынашивал реваншистские планы, намереваясь вернуть утраченное.
Британские мотивы для участия в войне были более сложными. Формально англичанам ничего не грозило, поскольку они жили на острове, а британский флот обладал в 1914 году столь значительной мощью, что мог предотвратить высадку любого десанта. Однако идея отсидеться за Ла-Маншем не сильно прельщала политиков из Лондона. Британия в качестве «мастерской мира» на протяжении всего предшествующего столетия стремилась серьезно влиять на европейские дела, дабы те не создавали преград к ведению бизнеса. Лондон хорошо помнил, как в самом начале XIX века Наполеон установил континентальную блокаду Англии, стремясь обрезать все товаропотоки и поставить эту страну на колени без прямого столкновения французских кораблей с победоносным британским флотом. Допускать каких-либо новых континентальных блокад (скажем, в германском исполнении) Лондон, естественно, не желал.
Более того, со времен наполеоновских войн бизнес стал поистине глобальным. Состояние дел в колониях было не менее важным, чем в Европе. А колонии, в отличие от британского острова, оказывались сравнительно уязвимыми для противника с сильной сухопутной армией. Например, в Индию немцы при желании могли попасть не только с моря, но и с суши. Особенно при наличии союза с Османской империей, контролировавшей тогда весь Ближний Восток.
Таким образом, важнейшей задачей англичан на протяжении всего XIX века и в начале ХХ столетия было поддержание международного баланса сил. Как только одна из держав становилась более мощной, чем другие, Лондон предпринимал дипломатические и военные усилия для того, чтобы приостановить страну, способную в перспективе поставить под свой контроль всю Европу. В наполеоновскую эпоху европейцы совместными усилиями притормаживали Францию. Во времена Крымской войны жертвой оказалась Россия. И наконец к 1914 году англичанам пришлось заняться Германией.
В общем, при серьезном рассмотрении вопроса выясняется, что для Британии тоже не было выбора: воевать или не воевать в Первой мировой. Любое разрушение международного баланса грозило в перспективе развалом всей той системы процветания, которую англичане выстраивали, по меньшей мере, с середины XVIII века. Возможная утрата статуса «мастерской мира» для Британии была в известной мере сопоставима с возможной утратой славянских земель для Австро-Венгрии. Парадоксально, но факт: англичане отчаянно защищались, хотя на них формально никто не нападал.
Схватка за нефть
Другой важный момент: борьба Британии и Германии за новые возможности, предоставляемые колониальными территориями.
В привычной нам марксистской системе политэкономического анализа принято говорить, что империалистические державы боролись между собой за новые прибыли. В общем, являлись корыстными и бессовестными агрессорами. Но можно подойти к исследованию данного вопроса и с иной стороны.
Первые десятилетия ХХ века были временем, когда начался массовый переход с угля на нефть в качестве основного топлива. Политики оказались вынуждены принять во внимание этот факт, поскольку он существенным образом влиял на обороноспособность. Прежде всего, с угля на нефть переводили военно-морской флот. Однако уже к началу Первой мировой было ясно, что существование армии невозможно без автомобилей и, соответственно, без бензина. Перспективы танков и авиации еще просматривались не очень явно, однако прозорливые политики должны были задумываться также о том, что вскоре эти виды вооруженных сил тоже потребуют топлива, причем, естественно, не угля.
Борьба за нефть становилась в Первую мировую одним из важнейших вопросов. Тот, кто оставался без нефти, фактически в обозримой перспективе оставался без боеспособной армии. Но кто же из ключевых политических игроков имел в это время свою собственную нефть?
Бесспорно, Соединенные Штаты и Россия. Эти страны лидировали по добыче. Кроме того, под боком у американцев была Мексика с ее уже разведанными запасами. Кое-что имела Австро-Венгрия, хотя возможности этой империи были несопоставимы с возможностями России и Америки. Но ни Британия, ни Германия на собственной территории запасов нефти не имели, и это качественным образом отличало их положение в начале ХХ века от того положения, которое они имели в XIX столетии, когда богатые месторождения угля делали англичан и немцев лидерами индустриализации и милитаризации.
Немцам и англичанам уже в ту эпоху предстояло сойтись в схватке за нефть, которая была не столько даже схваткой за прибыли (как говорят марксисты), сколько схваткой за выживание. Уже разведанная и потенциально доступная для них нефть имелась в Месопотамии (Ираке) и в Персии (Иране). Зайти в эти регионы можно было с двух сторон: с моря и с суши. Первый вариант был наиболее перспективным для англичан, второй — для немцев и их союзников турок. По этой причине ни англичане, ни немцы не могли бы спокойно осваивать месторождения нефти без превентивного устранения своего главного конкурента. Если бы Первой мировой не случилось, Германия и Британия все равно рано или поздно схлестнулись бы между собой в Азии.
Урок Первой мировой
Таким образом, получается, что ни Англия, ни Франция, ни Германия, ни Россия, ни Австро-Венгрия, ни даже Сербия не могли уклониться от войны. По большому счету от нее не могла уклониться и Османская империя, уже де-факто вовлеченная в глобальный конфликт двумя балканскими войнами.
В общем, можно сказать, что Первая мировая была не столько следствием принятия целенаправленных решений конфликтующими политиками различных стран и даже не столько результатом столкновения финансовых групп в борьбе за прибыли, сколько закономерным итогом длительного исторического развития Европы. Задолго до 1914 года в жизни различных народов происходили события, которые объективно вели к будущей схватке, хотя в тот момент, когда они происходили, даже самый прозорливый аналитик не смог бы с уверенностью предсказать неизбежность войны.
Думается, что это очень важный вывод и в то же время главный урок, который мы можем сто лет спустя извлечь из истории Первой мировой. Остановить войну в последний момент очень сложно. Практически невозможно, поскольку политики не свободны в своих решениях. Они зависят от того исторического пути, по которому их страна подошла к началу войны. Они зависят от желаний, проявляемых их народами (как было в Сербии, России и Германии). Они зависят от особенностей национальной экономики (как было в Англии). Они зависят от итогов прошлых войн и реваншистских настроений (как было во Франции перед Первой мировой и в Германии перед Второй). Они зависят от веками складывавшегося политического устройства собственного государства (как было в Австро-Венгрии и в Османской державе).
Сегодня многим кажется, будто мы живем в цивилизованном мире и очень далеки от новой мировой войны. Но если взглянуть на ряд важных процессов, происходящих в недрах великих держав XXI века, может выясниться, что земля у нас под ногами уже потихоньку сотрясается.
Что нас ждет впереди?
Германия и Россия были не последними модернизирующимися странами в мире. Сегодня по пути подобных преобразований активно движется Восток. И нет никаких оснований полагать, что модернизация Индии, Ирана или Китая должна проходить проще, чем у Германии или России прошлых веков.
В каждой из модернизирующихся стран люди переселяются из деревни в город. В каждой из этих стран горожане первого-второго поколений оказываются захвачены разного рода агитацией. В каждом из государств с быстро развивающейся промышленностью люди испытывают трудности и желают взять на вооружение какую-либо великую идею для того, чтобы проще было сплотиться.
О том, что в исламских государствах взяли на вооружение религиозный фундаментализм, как некогда у нас использовали национализм или социализм, не говорит сегодня только ленивый. Некоторые комментаторы даже называют борьбу с международным терроризмом Третьей мировой войной, в которой, по сути дела, христианский мир противостоит исламскому.
Впрочем, на самом деле расколотый внутренними конфликтами исламский мир вряд ли является по-настоящему серьезным соперником Запада, даже несмотря на множество уже совершившихся трагедий, связанных с терактами. Гораздо важнее то, что на Востоке постепенно созревает огромная по численности населения, невероятно мощная экономически и до зубов вооруженная держава — Китай.
Сегодня Китай выглядит страной чрезвычайно миролюбивой. И дай Бог, чтобы он таким оставался и дальше. Тем не менее следует принять во внимание, что в авторитарном Китае все острые внутренние конфликты пока загнаны внутрь. Всякий протест подавляется. Никто не имеет права всерьез оспаривать у коммунистических боссов права на управление страной и определение долгосрочной стратегии развития.
Однако не секрет, что коммунистическая идеология в Китае мертва. Эта страна давно уже превратилась в капиталистическую, и все характерные для буржуазного общества конфликты там углубляются. Пройдет какое-то время, и Китаю понадобится иная идеология. Руководители страны должны будут каким-то образом сдерживать нарастающие внутренние противоречия и, скорее всего, перенаправлять агрессивность горожан первого-второго поколений куда-то вовне. А если старый авторитарный режим падет в результате какой-нибудь революции, то новая власть для того, чтобы обрести поддержку толпы, должна будет тем более указать народу врага.
В общем, скорее всего, рано или поздно китайский национализм или какая-то иная форма агрессивной внешней политики себя проявят. У Китая есть спорные острова с Японией и Вьетнамом. А уж в отношениях с Россией спорны не только острова, но огромные дальневосточные территории. Но самое главное: Китай XXI века вскоре станет оспаривать у Соединенных Штатов право на мировое лидерство, поскольку по размеру ВВП он Америку догонит, а по численности населения он давно уже доминирует. Добавим к этому традиционное китайское представление о том, что все люди, кроме подданных императора Поднебесной, являются варварами, — и вот вам почва для чрезвычайно серьезного конфликта.
Речь не идет, конечно, о том, что новая мировая война должна будет разразиться в традиционных формах. Обладание ядерным оружием делает такую войну маловероятной, поскольку гипотетическое прямое столкновение Китая с Америкой кончится за несколько минут гибелью всего человечества. Однако сегодня мир активно осваивает современные формы глобального противостояния, и в этом смысле человечество ждет, скорее всего, печальное будущее.
Можно ожидать серию локальных войн, подпитываемых из Пекина и Вашингтона материальными и финансовыми ресурсами. Можно ожидать, что Китай, стремящийся преодолеть нынешний однополярный мир, будет стремиться поставить под свой контроль как можно больше стран и регионов мира. Можно ожидать формирования какой-то новой идеологии, с помощью которой Пекин постарается объединять Третий мир в борьбе против Первого.
Подчеркиваю, это все будет определяться не волей и желанием отдельных политических лидеров, а ходом объективных процессов, близких по духу тем, которые сто лет назад обусловили начало Первой мировой войны. И мы в России должны понимать, что в этом глобальном противостоянии нашей стране придется так или иначе определяться: вставать ли на сторону очередной державы, стремящейся к переделу сложившегося мира (в том числе нашего Дальнего Востока), или же вместе со «старым миром» стремиться сохранить статус-кво.
Опубликовано в журнале:
«Нева» 2014, №6
Украина намерена достичь договоренностей с Хорватией и Венгрией относительно создания Адриатического газового коридора, который предполагает поставки углеводородов с LNG-терминала в Адриатическом море на острове Крк (Хорватия).
Данный вопрос обсуждался во время встречи главы министра энергетики и угольной промышленности Украины Ю. Продана и главы "Нафтогаза" А. Коболева с министром внешней торговли и иностранных дел Венгрии Т. Наврачичем и министром национального развития Венгрии М. Шестаком.
Стороны согласились, что будет целесообразно увеличить объемы поставок газа в Украину через Венгрию. Для этого планируется в кратчайшие сроки подписать трехстороннюю декларацию по проекту строительства Адриатического газового коридора.
В октябре 2013г. Украина и ЕС определили новый маршрут поставки газа в Украину из Хорватии через Венгрию
Новая трубопроводная система предназначена для взаимосвязи и реверсивных поставок, она будет работать для интеграции Украины в европейский внутренний рынок.
Как говорил тогдашний министр энергетики Э.Ставицкий, газ на LNG-терминал в Хорватии может поставляться из Мозамбика и США..
Ранее планировалось, что меморандум о создании коридора будет подписан предыдущим правительством Украины в ноябре 2013г. Но, затем Украина в очередной резко изменила вектор политической и энергетической направленности, и поэтому документ так и не был подписан.
Хорватский LNG-терминал планируется построить на острове Крк в Адриатическом море. Мощность объекта составит 10-15 млрд куб. м в газа в год, а его запуск в эксплуатацию возможен не ранее 2017г.
Названы страны с самыми значительными колебаниями цен на недвижимость.
В четвертом квартале 2013 года самое серьезное снижение было зафиксировано в Индии, где жилье потеряло в цене 9,1%.
Очередной индекс IMF Global Housing Watch report показал, что, несмотря на общемировую тенденцию к восстановлению рынка недвижимости, в некоторых странах продолжается падение цен, пишет Cyprus Property News.
Исследование основано на данных Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международного валютного фонда (МВФ), а также Global Property Guide, и Haver Analytics. Самое значительное падение в последнем квартале минувшего года было зафиксировано в Индии - на 9,1%. За ней идет Греция - "минус" 7%. В Италии цены упали на 6,5%, на Кипре на - 6,5% и в Хорватии - на 6,3%.
На противоположном конце «линейки» обосновались пять стран, жилье в которых за аналогичный промежуток времени подорожало. Здесь пальму первенства захватили Филиппины - 10,6%. Совсем немного от них отстает Гонконг с 10,3%. Третье место делят Новая Зеландия и Китай, здесь жилье подорожало на 9,1%. Группу лидеров замыкает Колумбия с 8,1% роста.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


























