Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
БРАХИМИ ПРИЗВАЛ СОВБЕЗ ООН СРОЧНО ЗАНЯТЬСЯ СПАСЕНИЕМ СИРИИ
Спецпредставитель ООН и ЛАГ заявил, что государство разваливается на глазах всего мира
Спецпредставитель ООН и Лиги арабских государств Лахдар Брахими предупредил Совет безопасности ООН, что президент Сирии Башар Асад, возможно, пока еще в состоянии удержаться у власти, однако страна "разваливается у всех на глазах", сообщили Reuters присутствовавшие на выступлении дипломаты.
Брахими обратился к Совбезу с требованием выйти из тупика, в который загнали себя его члены, и предпринять решительные действия для прекращения гражданской войны в Сирии. Неизвестно, однако, заставят ли призывы Брахими Россию изменить позицию по сирийскому вопросу и согласиться на применение силы для прекращения кровопролития, отмечает агентство..
Спецпредставитель ООН и ЛАГ подчеркнул, что попытки положить конец конфликту, длящемуся уже 22 месяца и унесшему более 60 тысяч жизней, за последние два месяца нисколько не помогли продвинуться к цели. По его словам, закончить противостояние должен помочь Совбез. "Страна разваливается у всех на глазах. Только международное сообщество может помочь решить эту проблему, и в первую очередь речь идет о Совете безопасности ООН", - процитировали агентству слова Брахими дипломаты, присутствовавшие на закрытой встрече. "Я сказал совету, что мне надоело постоянно повторять одно и то же. Сирия постепенно уничтожается, и это необходимо остановить", - сказал Брахими журналистам после встречи.
Спецпредставитель полагает, что основой для плана действий Совбеза ООН могли бы стать принципы передачи власти в Сирии, которые были одобрены большинством стран мира в Женеве летом прошлого года. "В женевском коммюнике необходимо уточнить значение полной передачи исполнительной власти временному правительству, однако совершенно ясно, что Асад в этом процессе не должен играть никакой роли", - цитирует еще один дипломат слова Брахими. По его словам, президенту, вероятно, в течение какого-то времени еще удастся оставаться у власти, однако "легитимность правящего режима серьезно, возможно, даже непоправимо, подпорчена". "Я призываю Совбез ООН к активным действиям", - сказал Брахими.
Россия настаивает на том, что выдворение Асада из страны в качестве условия начала мирных переговоров между правительством и повстанцами приведет к тому, что такие переговоры просто никогда не начнутся. Оппозиция, которую поддерживают США и большинство стран Европы, ясно дала понять, что в будущем Башар Асад не сможет принимать никакого участия в управлении страной.
Совбез ООН не может прийти к компромиссу с 2011 года, когда Россия и Китай отказались одобрить введение санкций в отношении правительства Башара Асада. Государства три раза накладывали вето на резолюции, осуждающие попытки правящего режима подавить восстание.
FIAT СНОВА ОБЕЩАЕТ ВЫПУСТИТЬ КРОССОВЕР ALFA ROMEO
Итальянский концерн FIAT определился со сроками запуска в серийное производства кроссовера под брендом Alfa Romeo. Предполагается, что машина появится в 2015 году
Кроссоверу под брендом Alfa Romeo все-таки быть. Итальянский концерн FIAT назначил новую дату запуска в производство серийной версии этого автомобиля - 2015 год. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника.
Машина будет построена на агрегатах Dodge Dart, но ее разработкой и доводкой займутся на заводе Мирафиори, недалеко от главного офиса FIAT в Турине.
Что из себя будет представлять новинка - пока даже предположить сложно. Скорее всего, на ближайших мировых автосалонах FIAT представит концепт-кар нового кроссовера Alfa Romeo. Ожидается, что клиентам на выбор предложат как передне-, так и полноприводную трансмиссию, а также несколько двигателей: бензиновые - четырехцилиндровый мощностью около 200 л.с. и 275-сильный V6, а также двухлитровый турбодизель отдачей 140 л.с.
Напомним, что впервые о кроссовере Alfa Romeo заговорили в 2003 году. Тогда на автосалоне в Женеве компания представила концеп-кар будущего внедорожника под именем Kamal (на фото). Однако дальше концепта дело не пошло. И связано это было с проблемами как в целом в концерне FIAT, так и в частности, в компании Alfa Romeo.
Потом был кризис - не до запуска новых моделей. Но в 2011 году к идее создания кроссовера вновь вернулись. Причем в FIAT с этой моделью хотели вернуться на рынок США. Тогда производство серийной версии кроссовера планировалось начать в 2013 году. Судя по всему этим планам уже не суждено сбыться.
Через тернии к звездам
FIAT возлагает большие надежды именно на бренд Alfa Romeo. К 2016 году итальянский автогиант планирует увеличить продажи компании до 300 тысяч в год. А модельная линейка пополниться, помимо кроссовера, спорткара 4С, универсалом Giulia и родстером, постоянным совместно с компанией Mazda.
Последний будет представлять собой новое поколение Mazda MX-5, но с оригинальным дизайном Alfa Romeo.
Но легко Alfa Romeo не будет. Конкуренция, в частности, в сегменте SUV очень высока. Премиальные производители имеют в своей гамме по несколько моделей, причем как стандартных кроссоверов, так и аля спортивных, с кузовами похожими на купе.
Прямыми же конкурентами кроссовера Alfa Romeo могут стать Audi Q5, Mercedes-Benz GLK и BMW X3.
Два винных региона Франции не прошли национальный отбор и не смогут претендовать на получение статуса Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2014-м, пишет VINUM
Из-за большого количества европейских заявок ЮНЕСКО ограничила возможности каждой страны: один раз в год претендентом может стать только один культурный и один природный объект. На заседании Международной комиссии по Всемирному наследию, намеченном на июль 2014-го, Франция решила представить в качестве претендентов доисторическую пещеру Шове в долине реки Ардеш и вулканы Оверни.
Кроме них в списке кандидатов были только Шампань и Бургундия — но винные регионы не прошли национальный отбор, несмотря на то, что голоса за бургундские клима отдали 50 тысяч человек. "Если кандидата продвигают только эксперты, политики и виноделы, кто-то может подумать, что это повестка дня привилегированной элиты. Таким образом, общественная поддержка абсолютно необходима", — сказал Бернар Пиво, председатель общественного комитета по выдвижению, в интервью The Drinks Business.
Чтобы завоевать симпатии ЮНЕСКО, организаторы кампании заявляли в качестве сильных сторон клима "замечательную культурную ценность", "скоординированную и эффективную стратегию управления", "сильное локальное вовлечение", "уверенную политическую поддержку" и "ключевой вклад в местную экономику". Теперь они намерены использовать 2013-й год для дальнейшего продвижения Бургундии с тем, чтобы всё-таки оказаться в статусе предендента в 2015-м. Впервые регион начал бороться за включение в список ЮНЕСКО в 2007-м.
В список всемирного наследия уже входят такие винодельческие регионы, как Вахау в Австрии, Сент-Эмильон во Франции, Токай в Венгрии, Верхний Дору в Португалии и террасированные виноградники Лаво в Швейцарии.
В ГОРЫ ЗА ИНВЕСТОРАМИ
ИРИНА ГРАНИК
Российская делегация провела в Давосе трехдневную разъяснительную работу с мировым бизнесом
В этом году в Давосе сложились особо благоприятные условия для презентации российских инвестиционных возможностей. В связи с председательством России в G20 форум открывала сессия, где российская делегация во главе с Дмитрием Медведевым могла воспользоваться глобальным форматом: в зале одновременно находилось несколько сотен глав крупнейших компаний мира.
Ежегодный мировой экономический форум в горном Давосе для России - одна из главных площадок по общению с зарубежными инвесторами. В этом году на швейцарском курорте для презентации российских инвестиционных возможностей условия были благоприятными. В связи с председательством России в G20 форум открывала сессия, где российская делегация во главе с Дмитрием Медведевым могла воспользоваться глобальным форматом: в зале одновременно находилось несколько сотен глав крупнейших компаний мира. Лейтмотивом трехдневной разъяснительной работы стало высказывание главы Сбербанка Германа Грефа: "Мы лучше, чем о нас думают".
Сценарий для сценария
России на нынешнем 43-м Давосском форуме было уделено гораздо больше внимания, чем на предыдущих форумах, включая проходивший в 2011 году, который тоже открывал Дмитрий Медведев, будучи президентом. На нынешнем форуме под названием Устойчивый динамизм России была посвящена уже вся первая сессия, которая так и называлась: Сценарии для РФ.
Сессия была выстроена как бы в провокационной форме. В самом начале были представлены три не очень оптимистических сценария развития. Профессор экономики Йельского университета Олег Цывинский описал сценарий региональной разбалансировки: при падении цен на нефть одни регионы смогут провести требуемые реформы, стать инвестиционно привлекательными, другие же погрузятся в стагнацию, если не впадут в кому. Экс-министр финансов Алексей Кудрин представил сценарий хрупкая стабильность: при падении спроса и цен на нефть бюджет способен поддерживать лишь социальные программы, а федеральная власть не проводит необходимых институциональных реформ, повышает налоговую нагрузку на бизнес. В результате опять стагнация. Третий сценарий под примерным названием последствия самоуспокоенности описал ректор РЭШ Сергей Гуриев: цены на нефть остаются высокими, реформ нет, потому что денег и так достаточно, средний класс богатеет, но вместе с тем начинает все более активно требовать реформ. Дальше - политическая нестабильность. Рассказав о сценариях, эксперты как будто специально не стали озвучивать меры по предотвращению рисков, хотя подготовленный к форуму доклад, который презентовали эксперты, именно этому и был посвящен.
Откуда есть пошел Давос
Форум в Давосе, созданный в 1971 году в статусе международной неправительственной некоммерческой организации профессором Клаусом Швабом, позиционирует себя как площадка для обсуждения всех важных мировых и национальных экономических проблем ведущими политиками, бизнесменами и общественными деятелями.Ради возможности участвовать в этом форуме бизнесмены платят немалые деньги. В этом году входной билет на форм стоил около 70 тыс. долл., за участие же в непубличных встречах в узком кругу надо было заплатить около 150 тыс. долларов.
Реально мы лучше, чем о нас думают
Создавалось впечатление, что сценарии в таком виде специально озвучены для того, чтобы дать возможность российскому премьеру их опровергнуть и продемонстрировать привлекательность России для инвесторов. Премьеру в этом помогли глава Сбербанка Герман Греф и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Греф, предваряя выступление Медведева, заявил, что в реальности российское правительство реализует четвертый сценарий, который снимет риски представленных трех и вдохновит россиян и бизнес.
Глава Сбербанка также заявил, что в России состояние дел намного лучше, чем показывают различные рейтинги. И заключил: Нам нужно улучшать наш имидж, потому что реально мы лучше, чем о нас думают (этот тезис в дальнейших дискуссиях неоднократно использовали члены российской делегации). По его словам, в России есть все предпосылки для роста и великолепные возможности на огромном рынке со всеми ресурсами для того, чтобы зарабатывать очень высокие прибыли. К достоинствам глава Сбербанка причислил и низкий уровень конкуренции, что, по его мнению, облегчает вход на рынок. А Кирилл Дмитриев к этому добавил, что немногие страны могли показать всего за несколько лет рост ежемесячной зарплаты в четыре раза, капитальных вложений в 26 раз, рынков капитала в 20 раз, а иностранного капитала в 14 раз. Так что нам нужен четвертый сценарий, нацеленный на производительность и инфраструктурные реформы, - пояснил он.
Имидж портят коррупция и бюрократия
Проведенный тут же сеанс обратной связи с участниками форума показал, чего инвесторам не хватает для уверенного вложения денег в российскую экономику. Вопрос был поставлен прямо: каковы должны быть приоритеты российских реформ. Инвесторы оказались единодушны - 77,9% высказались за решение проблем управления. По поводу конкуренции большинство согласилось с Германом Грефом - рекомендация ее развивать набрала всего 9,7% голосов. На третьем месте оказалась рекомендация заняться региональным развитием - она набрала 7,2% голосов. В таком случае сейчас будет выступать тот оратор, который нам и нужен, - прокомментировал результаты голосования модератор сессии замдиректора МВФ Джон Липски и пригласил на сцену российского премьера.
Медведев, который сам, как выяснилось, голосовал за развитие конкуренции, постарался объяснить, что российская власть уже повышает свою эффективность, внедряет технологии открытого взаимодействия с обществом, что повышает возможность реализации более оптимистичного четвертого сценария развития российской экономики и улучшения условий для бизнеса.
Премьеру предоставилась и дополнительная возможность показать инвесторам, что они плохо знают российскую реальность. Один из участников спросил, почему россияне сами не инвестируют в свою экономику. Премьер в ответ заявил, что российские инвесторы только за прошлый год вложили в свою экономику 400 млрд долларов.
Заметим, что вопросов о таких проблемах, как коррупция и бюрократия, Дмитрий Медведев избежал. Однако они поднимались в ходе других дискуссий. Так, в пятницу, 25 января, уже без участия Медведева, на деловом завтраке Сбербанка об этом говорили сами российские участники. Так, глава Роснано Анатолий Чубайс заявил, что главные проблемы инвестклимата лежат за пределами экономики. По его словам, и к профессиональному уровню управляющей команды претензий нет, но отношение инвесторов портит коррупция, бесконечно слабая защита частной собственности и зависимая судебная система. Проведенный Сбербанком опрос также показал, что главной проблемой в России инвесторы считаю коррупцию, слишком большой объем госсектора, высокую степень монополизации, неуважение прав собственности.
Без страха и упреков
Впрочем, уже работающих в России крупных инвесторов все эти проблемы не смущают. Осенью в преддверии Давоса члены Консультативного совета по иностранным инвестициям при правительстве (КСИИ) презентовали премьеру подготовленный Ernstamp;Young доклад. В нем фигурировали данные о том, что количество позитивно оценивающих инвестклимат существенно выросло за последние годы. Хотя на первое место в числе негативных факторов они поставили все те же проблемы - коррупцию, бюрократию с волокитой и защиту прав собственности.
По итогам встречи Дмитрия Медведева в ходе форума с Международным советом предпринимателей (куда входят сто директоров крупнейших компаний, многие из которых работают в России) управляющий партнер Ernstamp;Young по России Александр Ивлев пояснил МН: Если говорить о компаниях, которые уже делают в Россию прямые инвестиции, то они настроены позитивно. Они считают, что Россия по сравнению с другими рынками в любом случае имеет хорошие перспективы. По его словам, члены КСИИ отмечают, что государство выстроило хороший диалог с иностранными компаниями и что большинство их рекомендаций по совершенствованию регулирования принимаются. Но, по мнению инвесторов, многие вопросы, от которых зависит успех бизнеса в России, еще требуют решения. Так что перспективы по-прежнему зависят от того, как Россия дальше будет продолжать реформы, - говорит Александр Ивлев.
They are happy
Что касается потенциальных инвесторов, то роль штаба, отвечающего за работу с ними, на этот раз была отведена созданному в июне 2011 года Фонду прямых инвестиций, который отвечает за привлечение средств в инфраструктурные проекты.
РФПИ презентовал в Давосе программу Инвестируй в Россию, использовав графический слоган Россия = рост. И иллюстрировал это утверждение данными и о том, что 70% уже вложившихся в Россию инвесторов are happy about their decision, 72% позитивно оценивают политику российских властей по улучшению инвестклимата, 82% подтверждают привлекательность России для инвестиций, а количество удовлетворенных увеличилось на 56% в 2007 году до 71% в 2012-м.
Вообще, по мнению опрошенных МН участников форума, в этом году в Давосе царил больший оптимизм, чем в предыдущие два года. От форума создается ощущение, что кризис почти миновал, что Европа выстояла, что, несмотря на миллион проблем, идут позитивные процессы. На прошлогоднем форуме царил пессимизм в связи с опасениями по поводу развала Европы и зоны евро и Европы. Сейчас такого ощущения нет, - пояснил МН один из участников форума. Действительно, на деловом завтраке Сбербанка большинство участников (67,9%) согласилось с утверждением, что глобального кризиса сейчас нет, есть лишь проблемы в национальных экономиках. А на сессии, посвященной проблемам еврозоны, даже глава ЕЦБ Марио Драги высказал умеренный оптимизм: Я бы определил 2012 год как год перезапуска евро, именно этим он и запомнится. Национальные правительства смогли упорядочить налогово-бюджетную сферу и начали структурные реформы. И плоды этих действий мы уже начинаем пожинать. Чтобы понять, каких результатов удалось добиться, вспомните, что происходило год назад.
Если господин Драги прав, то России тем более важно не упустить возможности, которые могут открыться с переходом инвесторов от апокалиптических к умеренно-позитивным ожиданиям.
Россия в Давосе
Впервые Россия (еще в бытность СССР) вышла на форум в Давосе в 1986 году. Тогда глава советского правительства Николай Рыжков по телемосту зачитал участникам форума обращение советских властей. Первый раз российская делегация приехала в Давос в 1992 году. Ее возглавлял вице-премьер Александр Шохин. Участникам форума зачитали обращение президента Бориса Ельцина. В 1993 году на пике интереса к российским реформам в Давосе была проведена российская сессия под названием Давос для России. Тогда же российскую делегацию возглавил премьер-министр Виктор Черномырдин. Он же возглавлял делегацию и в 1994, 1997, 1998 годах. В 1999 году российскую делегацию возглавлял премьер Евгений Примаков, в 2002-м - премьер Михаил Касьянов. Главами делегаций были и вице-премьеры - Анатолий Чубайс, Алексей Кудрин, Герман Греф. В 2007 году первый раз в Давос приехал первый вице-премьер Дмитрий Медведев. В 2009-м делегацию возглавил премьер Владимир Путин, форум открывался его докладом. В 2011 году форум открывал доклад президента Дмитрия Медведева.
Авиакомпания Etihad Airways заявила о планах начать выполнение ежедневных рейсов между Абу-Даби и Амстердамом (Нидерланды) в мае этого года, сообщает сайт журнала Arabian Business.
Согласно сообщению, новые рейсы с кодом EY77 и EY78 стартуют в среду 15 мая. В то же время, голландский национальный перевозчик KLM будет выполнять те же рейсы под кодом KL.
Ежедневные рейсы дополнят нынешние полеты авиакомпании KLM между Амстердамом и Абу-Даби. Рейсы станут ежедневными уже с лета этого года и будут выполняться под кодом Etihad Airways, EY.
Президент и исполнительный директор Etihad Airways Джеймс Хоган подтвердил, что Амстердам станет частью глобальной сети Etihad Airways с 15 мая.
Голландская столица станет 17-ым европейским городом на карте авиакомпании Etihad. Крупными городами, обслуживаемыми компанией в Европе, также являются Брюссель, Дублин, Франкфурт, Женева, Лондон и Париж.
Джеймс Хоган добавил, что рейсы между Амстердамом и Абу-Даби дважды в день будут удобными пассажирам, путешествующим из Нидерландов в Абу-Даби, и далее по таким направлениям, как Шри-Ланка, Пакистан и Австралии.
"Это свидетельствует о растущей важности Абу-Даби, как всемирного авиаузла", - подчеркнул он.
Кроме того, он отметил, что высокий спрос на рейсы компании Etihad ожидается также от представителей голландской общины в Объединенных Арабских Эмиратах, которая состоит из более 5 тыс. человек и представителей 300 компаний.
Каждому — по Давосу
Главная экономическая тусовка мира показала: лидеры не знают, как возродить экономику
«Многие политики просто перегорели, потому что им пришлось столкнуться с огромным количеством проблем. Наша цель — вернуть их в строй», — так выразился президент Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб в первый день работы. Политики и бизнесмены много говорили не столько о возрождении экономики, сколько о возрождении доверия к политике и бизнесу. И с грустью констатировали, что доверия мало.
Вообще, оптимизмом мероприятие не блистало. Открывавший форум премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил, выслушал… три сценария развития России — и все три раскритиковал за пессимизм (один предусматривал падение цен на нефть до 60 долларов за баррель; другой — сильную «региональную дифференциацию» страны; третий пророчил, что дорогой баррель позволит взрасти и окрепнуть российскому среднему классу, и тот потребует политических перемен).
Украину представлял Виктор Янукович. Главная новость от президента — НАК «Нафтогаз України» будет разделен на несколько акционерных обществ. Но конкретики не прозвучало — ни по срокам, ни даже по количеству будущих осколков. Хотя проект не нов.
А еще Янукович на встрече со Швабом заявил, что в Украине планируется проведение регионального саммита Всемирного экономического форума по Европе и Центральной Азии. Непонятно, на чём основано заявление: Киев в последнее время оказался в политической изоляции.
Все остальные околоукраинские новости также не радовали. Панель, посвященная ускорению инфраструктурного развития в условиях жесткой экономии бюджетных средств, где планировалось выступление Януковича, была отменена. И даже в украинском ланче, организованном фондом Виктора Пинчука, глава украинского государства участвовать не стал — сослался на обстоятельства, требующие его присутствия в Киеве.
Майдан на ядерном чемодане
Развернувшиеся в Пакистане уличные протесты — это не Арабская весна, а, скорее, часть политической игры с целью поссорить гражданскую власть с армией
Вся история страны, начиная с основания независимого Пакистана в 1947 году, — серия политических и военных кризисов. А еще — калейдоскоп сменявших друг друга военных правителей и демократически избранных президентов. Поэтому длившиеся с 14 по 18 января марши протестующих под руководством проповедника Тахира уль-Кадри на Исламабад и уличные митинги на проспекте Джинна в столице Пакистана население страны воспринимает как очередную серию затяжного триллера.
Богословы, суды и коррупционеры
Массовая нищета в стране, постоянные коррупционные скандалы среди политической элиты, существующие по сей день родоплеменные отношения и высокая религиозность общества (96% населения Пакистана составляют мусульмане) — среда, ставшая фундаментом для таких деятелей, как организатор нынешних уличных протестов, бывший юрист в сфере конституционного права, а ныне автор богословских книг и исламский проповедник умеренного толка Тахир уль-Кадри. Он пытался участвовать в политике с 1989 года, когда основал собственную партию «Народное движение Пакистана», в 1990 году проигравшую единственные выборы в парламент, в которых она принимала участие. В 1999-м Кадри активно поддержал военный переворот Первеза Мушаррафа, но после разногласий с диктатором в 2006 году эмигрировал в Канаду, где жил последние восемь лет. Несмотря на долгое отсутствие, проповедник старался присутствовать в информационном поле страны: в 2010-м издал религиозную фетву с жесткой критикой талибов, а на следующий год выступил на Мировом экономическом форуме. Он также постоянно использует для своего имиджевого продвижения среди мусульман Пакистана кабельные телеканалы, Twitter и Facebook.
Вернувшись в страну 23 декабря 2012 года, Кадри с необычной для эмигранта скоростью смог мобилизовать около 30 тыс. человек для «Долгого марша» на Исламабад. При этом, анонсируя начавшиеся 14 января марш на столицу и митинг протеста, он сознательно делал отсылку к событиям Арабской весны, называя свою акцию «египетским Тахриром в Пакистане».
Однако различия между арабскими революциями и пакистанскими протестами стали очевидны с первых же дней. Во-первых, Кадри грозил привести в Исламабад миллион протестующих, но в итоге на центральный проспект Джинна в столице вышли 40–50 тыс. человек, несколько дней размахивавшие транспарантами и скандировавшие антиправительственные лозунги. Во-вторых, очевиден крен проповедника в сторону военных.
Кадри утверждает, что борется против пакистанских «жуликов и воров» во власти. В качестве первоначальных требований он выдвинул роспуск парламента, отставку президента Асифа Али Зардари и создание временного правительства на то время, пока не будет сформирован новый парламент. «Завтра несправедливости наступит конец, и коррупционеры больше не будут руководить правительством!» — так выглядел традиционный рефрен проповедника, выступавшего перед сторонниками из-за пуленепробиваемого прозрачного щита. Еще один его стандартный лозунг — подчеркивание важной роли армии как защитницы границ страны и безопасности пакистанцев. В унисон с требованиями революционного проповедника прозвучала позиция живущего в Лондоне бывшего диктатора Мушаррафа, полностью поддержавшего Кадри. Более того, генерал прямо заявил, что военные должны перейти к решительным действиям, поскольку гражданская администрация утратила право управлять страной.
Обвинения улицы в коррумпированности пакистанской элиты неожиданно получили юридическое оформление. Верховный суд Пакистана 15 января вынес решение об аресте премьера страны Раджа Первеза Ашрафа и еще пятнадцати политиков. Ашрафа, представляющего социал-демократическую Пакистанскую народную партию (ее сопредседатель Асиф Али Зардари с 2008 года является президентом страны), обвиняют в получении взяток за передачу частным компаниям выгодных государственных контрактов на посту министра водных ресурсов и энергетики, который он занимал в 2008–2011 годах. Однако 17 января руководитель Национального контрольного бюро Фасих Бокхари отказался арестовывать премьера, ссылаясь на недостаток улик против него, вследствие чего суд постановил отложить рассмотрение дела до конца января. Следователь Камран Фейсал, расследовавший дело против премьера, был найден мертвым в своей комнате правительственного общежития (первоначальная версия — самоубийство).
Правительственная делегация во главе с министром информации Заманом Каира провела с Тахиром Кадри переговоры, после которых проповедник сообщил сторонникам о завершении протестов. Со своей стороны, администрация согласилась начать консультации с политическими партиями и движениями о создании переходного правительства, а также пообещала, что запланированные на март парламентские выборы будут честными и прозрачными. Однако в ответ на требование Кадри распустить Центральную избирательную комиссию правительство пообещало лишь обсудить с ним ее состав.
Военная демократия
Можно прогнозировать, что организованные Кадри массовые протесты станут первым звеном в цепи попыток дестабилизировать ситуацию в стране в год выборов законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти.
История страны — это серия военных конфликтов, в первую очередь из-за спорной с Индией территории штата Кашмир. Постоянная необходимость поддерживать высокий уровень боеготовности привела к гонке вооружений и высокому авторитету военных. А вовлечение армии в политический процесс обернулось рядом военных диктатур.
Еще один фактор политической жизни Пакистана — клановый характер его общества. Так, устойчивость диктатуры Первеза Мушаррафа строилась не только по военному, но и по родоплеменному признаку, опираясь на поддержку армейских частей и этнические группы пенджабцев и урдуязычных пенджабцев, к которым относится и сам генерал.
Другим фактором политической жизни страны многие годы является Верховный суд, за которым конституция Пакистана закрепляет ряд полномочий, напрямую влияющих на политические решения. Поэтому он традиционно вмешивается в политические назначения и конфликты. Именно Верховный суд во главе с нынешним председателем Ифтихаром Мухаммадом Чоудхри во время правления Мушаррафа единственный сдерживал диктатуру и не признал его легитимность как президента страны по итогам выборов 2001 года. А в июне 2012-го он отправил в отставку премьера Юсуфа Резу Гилани (Пакистанская народная партия) за неуважение к Верховному суду после отказа главы правительства выполнить решение суда и послать запрос властям Швейцарии о банковских активах президента Зардари. Высокий авторитет Верховного суда базируется, в числе прочего, на моральном и религиозном фундаменте — Пакистан официально является исламским государством, право которого во многом строится на нормах шариата.
Одновременно с решением об аресте премьера и массовыми уличными протестами произошли перестановки в армии страны. Генерал-лейтенант Рашад Махмуд был назначен начальником генерального штаба со штаб-квартирой в Равалпинди. Таким образом, он занял вторую по значимости должность в пакистанской армии после поста начальника штаба сухопутных сил. В свое время этот пост помог Зия-уль-Хаку и Мушаррафу организовать военные перевороты. Новых командующих получили гарнизоны в Лахоре и Бахавалпуре (второй и двенадцатый города страны по количеству населения).
Проповедник с двойным дном
На деле за лозунгами Тахира Кадри о демократии и борьбе против коррупции скрываются совсем недемократические требования.
Дело в том, что 2013 год должен стать для Пакистана периодом смены руководства всех трех ветвей власти. Выборы в нижнюю палату парламента — Национальное собрание — назначены на март 2013-го. Затем в сентябре закончится пятилетний мандат президента Зардари. А в декабре исполнится 65 лет популярному в стране председателю Верховного суда, после чего он, согласно конституции, должен покинуть пост.
И если наложить требования Кадри, использующего протестующих как средство давления на нынешнюю администрацию, на календарь выборов в Пакистане, становится очевидным намерение начать процесс дестабилизации ситуации в стране. Так, выполнение требований проповедника о досрочных выборах в парламент и досрочной отставке президента Зардари и правительства приведет к тому, что единственными легитимными органами власти в стране останутся созданное под контролем военных Временное правительство и Верховный суд.
В довершение, как на заказ, на фоне коррупционных обвинений и уличных протестов резко возросло напряжение на границе с Индией. Глава Северного командования сухопутных войск Индии генерал-лейтенант Парнаик обвинил пакистанских военных в систематическом нарушении режима прекращения огня на границе. По его словам, обстреливая индийские блокпосты, пакистанские военные отвлекают их внимание для того, чтобы на территорию Индии беспрепятственно могли проникнуть боевики.
Анализируя весь этот сложный политический расклад, надо учитывать, что в последние два-три года Пакистан начал пересмотр внешнеполитического курса, дав понять, что чрезмерная зависимость от США его больше не устраивает. Новым вектором стала активизация отношений с Россией, обеспокоившая не только США, но и Индию, имеющую свою историю и интересы в российско-индийских отношениях. Поворотным моментом стал визит президента Зардари в Россию в мае 2011-го. В течение 2012 года страны заключили три меморандума о взаимопонимании, включая соглашения о помощи Москвы в размере 300–500 млн долларов в модернизации и расширении металлургического комбината в Карачи и строительстве новой электростанции в Джаншоро мощностью 500 мегаватт.
Впрочем, как бы ни развивалась «пакистанская весна», в условиях хаоса побеждает всегда самая организованная сила. А ею в Пакистане является армия. Главный козырь военных — ядерный арсенал, первые испытания которого состоялись в 1998 году (по последним данным, в стране уже есть свыше сотни боеголовок). Создав запас боезарядов и ракет доставки, Исламабад сконцентрировался на формировании запасов оружейного урана и плутония, из которых оперативно можно собрать боеголовки. В свое время Первез Мушарраф активно промотировал свой режим перед США и ООН в качестве заслона от движения «Талибан» и экстремистов, которые могут получить доступ к ядерному оружию. Поэтому если Пакистан начнет сползать в хаос, мировое сообщество, в первую очередь США и страны Евросоюза, снова поддержит военных.
КОММЕНТАРИЙ
Александр Данковский
Ядерное недержание
Ядерное оружие — возможно, самое мифологизированное средство уничтожения в истории человечества. Ибо применялось (к счастью) всего дважды в истории, но оказало колоссальное влияние на всю мировую политику после 1945 года.
Тогда родился термин «политика ядерного сдерживания». Суть которой такая: «Если я знаю, что у противника есть атомная бомба, и он готов ею по мне долбануть, то я, пожалуй, нападать на него не буду».
На самом деле всё было не так просто. Пока в мире существовала всего одна ядерная держава — США, она могла сдерживать всех (и диктовать им свою волю), а ее — никто. То есть она могла «долбануть». Потом Бомбой обзавелся Советский Союз, возник пресловутый биполярный мир. Остальным державам, чтобы чувствовать себя хоть чуть-чуть защищенными, приходилось идти в друзья либо к Москве, либо к Вашингтону.
Сегодня, если посмотреть на карту Евразии с обозначенными на ней странами, обладающими ядерным оружием, безъядерных территорий почти и не видно. Россия, Китай, Индия, Пакистан, Великобритания, Франция, Израиль, КНДР, да еще государства, на территории которых стоят чужие боеголовки, — Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды… Какое уж тут сдерживание? Кроме того, чем больше в системе элементов, тем сложнее предсказывать ее поведение. Когда ядерный клуб насчитывал аж двух членов, всё было понятно. А сегодня у того же Пакистана имеется Бомба, у его соседей Китая и Индии тоже, при этом все трое имеют друг к другу территориальные претензии. Но Исламабад традиционно скалит атомные зубы в сторону Дели, а в сторону Пекина — нет. А как будет завтра — неведомо.
Сторонники теории ядерного сдерживания говорят: при наличии столь мощного оружия любая страна десять раз подумает о его применении. Но этот подход срабатывает, если потенциальные оппоненты рациональны. Увы, история ХХ века свидетельствует, что на самый верх властной пирамиды подчас забираются мерзавцы и фанатики. Достаточно появиться одной «обезьяне с гранатой» — и всей теории ядерного сдерживания конец. Этим аргументом активно пользуется Вашингтон, посылая свои «ограниченные контингенты» в разные точки на земном шаре.
Есть кое-какая надежда на технологии. Мол, сделать атомную бомбу совсем непросто, на это способны только очень развитые страны, а у них, как правило, ума побольше, чем у агрессивных дикарей. Более того, нужны толковые физики, а это люди более чем умные. Вон Альберт Эйнштейн, ужаснувшись после первых ядерных испытаний, в конце жизни активно выступал против разработки новых видов оружия. И отец советской водородной бомбы Андрей Сахаров тоже стал миротворцем и борцом с тоталитаризмом. Но, во-первых, и один и другой сперва поучаствовали, а уж потом выступили против. Во-вторых, не все физики такие совестливые. И в-третьих, создание Бомбы — это всё же технология полувековой давности. Смогла же даже нищая Северная Корея наковырять оружейного плутония из своих атомных реакторов.
Радует другое. В отличие от обычных патронов и снарядов, ядерная боеголовка не может храниться долго. Плутониевая (вероятно, самый распространенный вид) — лет пятнадцать, и то при надлежащем уходе. Как минимум, от нее нужно постоянно отводить тепло: ведь в активном веществе идут спонтанные реакции деления. Термоядерная — и того меньше (период полураспада используемого там трития — чуть больше 12 лет, в то время как у плутония-239 — 24 тыс. лет). Поэтому изготовленная путем напряжения всей национальной экономики (как в Северной Корее) или просто краденая Бомба через некоторое время обязательно «протухнет». Поддерживать в работоспособном состоянии свой ядерный арсенал — невероятно дорогое удовольствие. Разведки об этом давно знают, так что проводимые время от времени ядерные испытания, надо полагать, не столько служат исследовательским целям, сколько доводят до сведения окружающих мысль «мы еще сильны».
Правда, в наше время существует масса других видов страшного оружия. Скажем, заряд объемного взрыва (в просторечии — вакуумная бомба, хотя этот термин военные очень не любят) по мощности может быть сравним с ядерным.
Автор: Сергей Слободчук
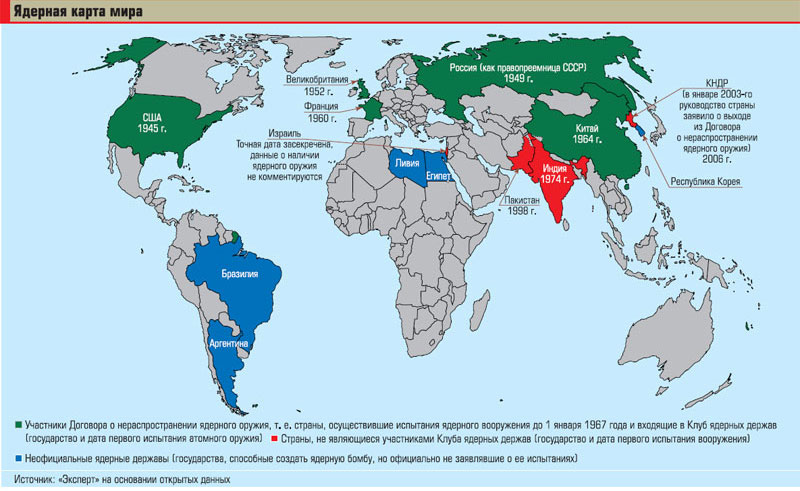

ИНФЛЯЦИЯ В РФ В 2012 ГОДУ В 3 РАЗА ПРЕВЫСИЛА СРЕДНЮЮ ПО ЕС
Потребительские цены в России в 2012 году, по данным Росстата, увеличились на 6,6%
Рост потребительских цен в России в 2012 году почти в три раза превысил среднеевропейскую инфляцию - 6,6% против 2,3%, сообщает Росстат. В декабре 2012 года потребительские цены в Европе выросли на 0,3%, а в России они увеличились на 0,5%.
В декабре наиболее заметное увеличение потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалось в Белоруссии (на 1,4%), Германии (на 0,9%), Бразилии (на 0,8%), а за период с начала года - в Белоруссии (на 21,8%), Турции (на 6,1%) и Казахстане (на 6%). В США, Канаде и некоторых странах ЕС, отмечает Росстат, цены на товары и услуги в декабре снизились на 0,1-0,6%. По итогам 2012 года из 38 наблюдаемых стран цены снизились только в Швейцарии (-0,3%), на Украине (-0,2%) и в Японии (-0,1%).
Потребительские цены на продукты без учета напитков в ЕС в 2012 году выросли на 3,6% в среднем по странам Евросоюза. В России продуктовая инфляция составила 6,7%. В декабре цены на продукты в РФ выросли на 0,9%, а в Европе - в среднем на 0,6%. Как в России, так и в ЕС заметно подорожали овощи: на 3,2% и 3,7% соответственно. Наряду с ценами на овощи наиболее заметно выросли цены на фрукты и мясо: в Словении овощи подорожали на 23%, а фрукты - на 17,5%, в Румынии - на 20,8% и 14,7% соответственно. Цены на мясо наиболее заметно росли в Венгрии (на 10,1%) и Финляндии (на 9,4%). В России с начала 2012 года сильно увеличились цены на овощи - на 13,4%, хлебобулочные изделия и крупы - на 8,3%, на фрукты - на 7,7%.
Лучше вы к нам
Зачем России Всемирный экономический форум, а форуму — Россия
Прошедший на минувшей неделе 43-й по счету Давосский экономический форум оставил у его участников двоякое впечатление. С одной стороны, тусовка у подножия Швейцарских Альп по-прежнему элитарна: куда ни глянь, долларовые миллиардеры да политики мирового уровня. С другой стороны, на российских ветеранов давосского движения то и дело накатывала ностальгия. Мол, был же форум в наше время... Нет, конечно же, Россия из мировой повестки дня не исчезла. Ее экономическое благополучие интересует и искренне заботит Запад. Однако, желая расположить к российскому рынку инвесторов, члены российской делегации рисовали столь разительно отличающиеся сценарии развития страны, что их слушателям осталось лишь качать головами: умом Россию не понять. Лучше подождать, пока эти русские сами между собой договорятся.
Аршином общим не измерить
«Простите, не могли бы вы показать свои документы», — улыбчивый швейцарский секьюрити просил российских журналистов предъявить бейджики, вероятно, приняв их за антиглобалистов. Повторяющиеся через каждые двадцать метров уличные проверки напоминали о том, что в городе действует беспрецедентный уровень безопасности. Шутка ли, на охрану мировой элиты было брошено 5000 бравых солдат. Пасторальная атмосфера курорта с его неспешно фланирующими лыжниками никого из участников форума не вводила в заблуждение: Давос — дело серьезное. У России же с этим форумом отношения особенные. В былые времена в швейцарской деревушке решалось ни много ни мало будущее нашей страны.
Взять хотя бы Давос-1996, на котором появился тогдашний главный претендент на президентский пост, лидер коммунистов Зюганов. Его приезд произвел эффект разорвавшейся бомбы. Обнаружив намерение Геннадия Андреевича презентовать себя мировой экономической элите, российские олигархи тут же забыли склоки и сплотились в «семибанкирщину», которая костьми легла, дабы сохранить в Кремле Бориса Ельцина. А тринадцать лет назад одна из иностранных журналисток все в том же Давосе задала, наверное, самый главный вопрос мировой политики последних лет: Who is Mr. Putin? Некоторые — в том же Давосе — ответ ищут по сей день...
Новый всплеск интереса к России тоже вполне понятен: на фоне европейских невзгод наша страна... нет, не остров стабильности, конечно, но вполне комфортный объект для инвестиций. К тому же в Швейцарию прибыла самая масштабная российская делегация за всю давосскую историю. И уровень презентабельный: с премьер-министром во главе. Дмитрий Медведев на форуме не новичок: в 2011 году открывал сессию, будучи президентом страны.
Словом, все предвещало мощное и наступательное инвестиционное роуд-шоу.
Да, в Давос приехали политические звезды первой величины — Дэвид Кэмерон, Ангела Меркель, Марио Монти. Но как заметил один мой собеседник: «Все у них предсказуемо — и вялотекущий выход из кризиса, и плавное вхождение в новый». Американцы так и вовсе понизили планку своего участия до замгоссекретаря по вопросам экономики, энергетики и сельского хозяйства...
Россияне начали энергично. Хотя основной посыл участникам форума от российской стороны оказался таким же, что и двадцать лет назад: иностранных инвесторов вновь призывали отбросить страхи и сомнения и открыть для себя «нашу Рашу».
К примеру, во время пленарной сессии «Сценарии развития Российской Федерации» генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев убеждал присутствующих, что наша страна — отличное место не только для приложения капиталов, но и для их многократного умножения. Цифры, которые он привел в качестве аргумента, действительно впечатляют. Так, за 13 последних лет активы банковской системы выросли в 26 раз (с 59 миллиардов до 1,529 триллиона долларов), капитализация фондового рынка подскочила в 20 раз (с 40 до 775 миллиардов), а среднемесячная зарплата увеличилась в 14 раз. Если бы такое случилось в любой другой стране, к примеру в Китае, восторгам аудитории не было бы предела. Но Россия, видимо, особый случай.
Перед выступлением Дмитрия Медведева на сессии, посвященной сценариям развития нашей страны, среди слушателей был проведен блицопрос на тему: на чем российскому правительству стоило бы заострить внимание в ближайшие годы? Так вот почти 80 процентов опрошенных призвали к более активным политическим изменениям, к коим отнесли борьбу с коррупцией и институциональные реформы.
«Среди участников просто нет сомнений, что именно должно стать приоритетом для России», — отписал в «Твиттере» после опроса владелец норвежского многопрофильного конгломерата Ferd Йохан Андресен. Масла в огонь подлил основатель фонда Hermitage Билл Браудер, заявивший, что, если цены на нефть пойдут вниз, Россия вылетит из игры: «Страна стала непригодной для инвестиций». Пессимизм инвестора понятен: именем аудитора фонда Сергея Магнитского назван принятый Конгрессом США антироссийский закон. А тут еще к участникам форума обратился Павел Ходорковский, сын самого известного российского заключенного...
Вот на таком информационном фоне российскому премьеру и приходилось пиарить нашу страну перед иностранными инвесторами.
Соруководитель Sberbank CIB Рубен Варданян четко сформулировал главную проблему: «Многие западные компании утверждают, что в России работать намного выгоднее, чем в том же Китае. В то же время ключевой посыл делегатов был даже не в том, что у нас много коррупции, а в том, что непонятны правила игры».
Так что, выходит, два десятилетия вояжей в Давос прошли даром? Взаимопонимания все так же не хватает. Причем не только с иностранцами, но и между собой.
У ней особенная стать
Сессия, посвященная сценариям развития России, оказалась едва ли не ключевым событием прошедшего форума. Драматургия российского роуд-шоу (автор неизвестен, но, по словам Дмитрия Медведева, сам он был в курсе) развивалась следующим образом.
Накануне премьерского выступления Алексей Кудрин, ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев и профессор экономики Йельского университета Олег Цывинский представили на суд публики три сценария развития страны: «неважный», «плохой» и «хуже некуда».
Первым выступил американец, который предположил, что роль институциональных реформаторов рано или поздно перейдет к регионам, поскольку центральная власть будет пребывать в прострации и окажется неспособна к решительным действиям. Сценарий, описанный Гуриевым, может реализоваться, если цена на нефть долгое время будет стабильно высокой. Это увеличит доходы россиян. Тут бы и возрадоваться, но нет: вместе с доходами вырастет и недовольство качеством государственных услуг. Драйвером институциональных реформ в этом случае может послужить раскол в элите. Наконец, Алексей Кудрин предсказал России «шаткую стабильность» после того, как цена на нефть устремится к 60 долларам за баррель. Цены будут снижаться постепенно, но если через год-полтора обострится долговой кризис в Европе, то падение ускорится. Опасаясь социального взрыва, государство пустит все силы на поддержание статус-кво с помощью ресурсов госкомпаний. Ухудшения же стоит ждать уже в этом году.
Короче, инвесторам не оставили выбора: упадут нефтяные цены — крах, вырастут — революция. Все ждали прогноза от Дмитрия Медведева, и он взял слово.
«Ни один из сценариев не кажется мне абсолютно реалистичным, и даже не потому, что это сценарии, при которых власть ничего не делает. Они не кажутся мне полностью реалистичными и по другим причинам. Но использованные подходы и их результаты, безусловно, полезны, хотя всякие подходы условны», — парировал премьер.
Оптимистический сценарий развития российской экономики премьер-министр развил на завтраке с инвесторами, организованном ВТБ Капитал. По его мнению, трехпроцентный рост ВВП в ближайшие годы — вещь реальная.
Что должен подумать зарубежный инвестор, когда один участник роуд-шоу обещает молочные реки и кисельные берега, а другой твердит, что все пропало? Понимай после этого загадочную русскую душу...
В Россию надо просто верить
Впрочем, и у нашей делегации есть свои претензии к Давосу. Нет, с трассами, шале и лыжами все по-прежнему sehr gut и tres bien, но вот пиетета перед всем этим благолепием явно поубавилось. Форум постепенно перестает быть главным экономическим событием в мире, утрачивая свою уникальность и эксклюзивность. Каждый год мировой политический и экономический истеблишмент, приезжая в Давос, словно проживает День сурка, обсуждая одни и те же проблемы и предлагая одни и те же решения. Но как только последний самолет с делегатами покидает аэропорт Цюриха, о результатах встреч все торжественно забывают. До следующего года.
«Я посещаю форум с конца 1990-х и видел разные Давосы. Круг тем на самом деле повторяется из года в год, и это одна из проблем ВЭФа. Выхлопа нет: делегаты съехались, поговорили, но все остается на уровне разговоров», — поделился своими впечатлениями Рубен Варданян.
Кризис идентичности — вот что напрашивается в качестве ответа на вопрос: «Что не так с Давосом?» Еще двадцать лет назад у детища Клауса Шваба просто не было конкурентов, а теперь представители власти и бизнеса пересекаются на множестве конференций мирового уровня. Саммиты «восьмерок» и «двадцаток», встречи лидеров государств АТЭС, наконец, Петербургский международный экономический форум.
Забавно, но факт: разговаривать и убеждать инвесторов у наших властей лучше получается дома — в Питере и Сочи. Да и встречи выходят результативнее: подписываются контракты на миллиарды долларов. От Давоса таких результатов никто не ждал — игра-то идет на чужом поле.
Есть и еще одна проблема. В России и на Западе даже глобальные риски выглядят по-разному. Например, по мнению экономистов форума, основные глобальные вызовы, с которыми может столкнуться мировая экономика, — это серьезное расслоение доходов, хронические фискальные дисбалансы, растущие выбросы парниковых газов, кризисы с водоснабжением, неуправляемое старение населения. В то же время Дмитрий Медведев считает, что основные проблемы развития российской экономики имеют внутренний характер: «Основные риски — не внешние. Наши внутренние ограничители сегодня выходят на передний план. А главная угроза — это слишком малый, незначительный прогресс в решении этих задач».
Примерно в том же ключе «Итогам» высказался и председатель ВЭБа Владимир Дмитриев: «У нас присутствуют внутристрановые риски, которые носят глобальный характер. Например, риск недостаточного воздействия на зарубежное общественное мнение с точки зрения повышения имиджа и инвестиционной привлекательности России. Поэтому и иностранные инвесторы не смогут вкладывать свои деньги в российские проекты, а мы будем испытывать недостаток инвестиций, что отразится на скорости и глубине проведения реформ».
То есть, конечно, принцип работает железно: рванет в мире — отзовется и у нас. Но эта мысль — из ряда очевидных. А вот пойти по стопам американцев и сократить российскую делегацию в Давосе до пары-тройки «официалов» — вот это было бы действительно полезно.
В конце концов, дорогие зарубежные инвесторы, если хотите с нами общаться предметно и содержательно, милости просим в Питер или Сочи. Там будут те же лица, только более приветливые и понятные. Потому что дома у них масса иных мест для выяснения отношений.
Давос — Москва
Константин Полтев
С начала 2013 года Владимир Карпук приступил к выполнению обязанностей директора украинского филиала международного транспортно-логистического холдинга AsstrA. Сергей Омельянюк, ранее занимавший указанную позицию, получил назначение на должность главного операционного директора управления морских и железнодорожных перевозок холдинга.
Владимир Карпук начал свою карьеру в AsstrA в 2006 году с позиции сотрудника отдела перевозок негабаритных и тяжеловесных грузов по территории СНГ, позднее возглавил данный отдел. Реализовал большое количество разнообразных проектов, в т.ч. по доставкам в/из Украины.
Закончил Белорусскую государственную политехническую академию по специальности экономист.
Является автором многочисленных публикаций в СМИ по вопросам осуществления перевозок негабаритных грузов, а также спикером профильных конференций.
Основными задачами нового директора станут поддержание динамичного развития киевского филиала, которого удалось достичь в последние годы, усиление бренда AsstrA на локальном рынке, развитие взаимодействия с ключевыми клиентами.
Дмитрий Лагун, Президент Совета директоров холдинга AsstrA прокомментировал назначение следующим образом: "Владимир Карпук, с одной стороны обладает богатым практическим опытом реализации логистических проектов, с другой, располагает серьезными управленческими компетенциями. Поэтому мы уверены в успешном старте Владимира на новой должности, в выполнении поставленных задач, в сохранении позитивной тенденции последних лет, когда наш украинский филиал растет быстрее, чем растет рынок".
Владимир Карпук, в свою очередь, отметил: "На прежней должности мне не раз приходилось взаимодействовать со специалистами киевского офиса, поэтому я знаком с высоким профессионализмом и потенциалом местной команды. Я уверен, что вместе мы сможем не просто сохранить, но и преумножить традицию, согласно которой киевский офис является одним из наиболее успешных в структуре холдинга AsstrA".AsstrA (Цюрих, Швейцария, 1993) - международный холдинг, работающий на рынке логистических услуг. Три структурных подразделения AsstrA специализируются на отдельных услугах: AsstrA Forwarding - транспортно-экспедиторские, таможенные услуги, страхование грузов; AsstrA Transport - перевозки грузов собственным автомобильным транспортом; AsstrA Logistics - системы управления цепочками поставок (SCM), контрактная логистика, консультации в логистике.
800 сотрудников компании AsstrA работают в странах СНГ, Западной Европы и Азии.
Согласно последним статистическим данным Таможенной администрации Ирана, в течение 9 месяцев текущего 1391 года (20.03.12-19.01.13 г.) к числу крупнейших торговым партнеров Ирана в Европе относились Швейцария, Германия, Россия, Голландия и Италия, сообщает агентство ИСНА.
Объем товарооборота с перечисленными странами без учета нефти за указанный период составил: со Швейцарией – 2,4 млрд. долларов, с Германией – 2,2 млрд. долларов, с Россией – 1,7 млрд. долларов, с Голландией – 1,5 млрд. долларов и с Италией – 941 млн. долларов.
К числу крупнейших экспортных рынков в Европе для иранских товаров относятся Россия, Германия, Италия, Испания и Голландия. При этом основными европейскими экспортерами различной продукции на иранский рынок являются Швейцария, Германия, Голландия, Россия и Италия.
На долю Европы в общем объеме иранского экспорта в указанный период приходилось менее 5% и в общем объеме импорта из зарубежных стран – 28%.
ГРУЗИНСКОЕ ВИНО, МИНЕРАЛКА И МАНДАРИНЫ ВЕРНУТСЯ В РОССИЮ
Переговоры грузинской делегации и Роспотребнадзора о возвращении на российский рынок вина и минеральной воды состоятся 4 февраля. Накануне в Давосе премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили призвал "забыть плохое" и восстановить дружеские отношения
В Москву собирается делегация грузинских предпринимателей. Они проведут переговоры с Роспотребнадзором относительно возвращения в Россию грузинских вин и "Боржоми".
Визовую поддержку переговорщикам решил оказать главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, сообщили в МИДе.
По информации дипломатического ведомства, секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси дано указание выдать им визы.
"Состав грузинской делегации уточнен и расширен. Делегация вполне компетентна, судя по должностям людей, которые приедут. Трое в делегации - чиновники. Как мы понимаем, у них есть мандат на то, чтобы отвечать на вопросы, которые нас интересуют", - сообщил Онищенко информагентству.
Делегацию возглавит глава Национального агентства вина Грузии Леван Давиташвили. В ее состав войдут также руководители Ассоциации виноделов, объединяющей более 90% винных компаний, фитосанитарной службы и службы безопасности продовольствия, Агентства экспорта-импорта фруктов и овощей.
Почему запретили пить "Боржоми"
Роспотребнадзор запретил ввоз грузинских вин и минеральной воды "Боржоми" весной 2006 года. Официальной причиной запрета стало низкое качество продукции. Прежнее правительство Грузии называло решение Москвы сугубо политическим.
Геннадий Онищенко заявил о готовности его ведомства начать примирительные переговоры в августе 2011 года. Он сообщал, что восемь компаний вскоре могут получить разрешение на продажу продукции в России.
В декабре прошлого года вопрос о возвращении на российский рынок грузинских вин и минеральной воды был решен в политическом плане, сообщал тогда первый заместитель министра иностранных дел России Андрей Денисов.
А накануне премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили на Всемирном экономическом форуме в Давосе встретился с премьером Дмитрием Медведевым. "Не будем вспоминать о плохом. Будем только планировать, как выходить из тупика, как превратить наши отношения в настоящую дружбу", - заявил Иванишвили.
Переговоры Роспотребнадзора с грузинской делегацией могут начаться 4 февраля.
"Будем обсуждать вопрос о режиме допуска [грузинского вина и минеральной воды], - сказал Оищенко. - Столько лет грузинской продукции не было на нашем рынке. Нас будет интересовать, как мы будем бороться с фальсификатом. Здесь вопрос в цивилизованной и эффективной дистрибуции".
Министр сельского хозяйства Грузии Давид Кирвалидзе уточнил в эфире радио "Имеди", что на переговорах планируется рассмотреть вопросы, связанные с возобновлением поставок на рынок РФ не только вина и минеральной воды, но и других продуктов - цитрусовых и другой сельхозпродукции.
Грузинские вина, особенно знаменитые "Киндзмараули" и "Кахетинское" наверняка россиян заинтересуют, по крайней мере, вначале. Но если они будут некачественными, то большой доли на рынке не получат.
Рассуждает руководитель Российской ассоциации сомелье, владелец винотеки "Ле Сомелье" Артур Саркисян: "Если говорить о правильной политике грузинского руководства по виноделию, то в их интересах не допустить на наш рынок некачественный продукт. Потому что как только рынок откроется, люди пойдут и купят бутылочку, и если поймут, что ничего не изменилось, большая часть российских покупателей будет потеряна. Но если качество изменится, я думаю, покупатель вернется. Вообще сейчас уровень виноделия в Грузии значительно вырос".
Давид Кирвалидзе ранее призвал бизнесменов приложить все усилия, чтобы вернуться на российский рынок, так как он "очень интересный". Напомним, что за последние шесть лет производство вин в Грузии сократилось в три раза.
До введения моратория на поставки "Боржоми" на российском рынке минеральной воды занимала долю в 14%. Если минеральная вода из Грузии все-таки вернется на российский рынок, первое время ее доля будет составлять 2-3%, прогнозируют эксперты.

Копенгаген занял пятое место в списке самых перспективных городов в плане развития высоких технологий после Цюриха, Стокгольма, Сингапура и Дублина (по данным экономического журнала «Fortune»). Отмечается, что в датской столице атмосфера очень благоприятна для развития высоких технологий и открытия инженерных и научно-исследовательских организаций, а «стартапы» воспринимаются с энтузиазмом.
Действенные шаги по расширению внутреннего рынка сушеных фруктов и изюма могут обеспечить 3-кратное увеличение потребления этой продукции местного производства на внутреннем рынке. Об этом сообщил учредитель- директор Центра содействия бизнесу BSC Самвел Геворкян, 14 января на организованном "Сельскохозяйственным альянсом" круглом столе представляя "Исследование цепи стоимости армянских сушеных фруктов и овощей".
По его оценке, в 2011 году отечественная и импортная продукция, общий объем которой составил чуть более 2 тыс тонн, поровну разделили армянский рынок. На текущий момент в Армении действует порядка более 5,5 тыс. производителей сушеных фруктов и изюма. Из них 21 крупное предприятие с годовым производством более 5 тонн, выпускающих 2/3 от общего объема производства. В отрасли действуют также 100 средних производителей (до 5 тонн год). При этом общий объем экспорта этих производств в 2011 году составил всего 42 тонны, продукция отгружалась в основном в Иран, Украину, Россию, в малом количестве - Швейцарию и Францию.
Профессор экономики из Фрибурга Райнер Айхенбергер предложил ограничить приток иммигрантов с помощью увеличения налогов для тех, кто только что прибыл.
По мнению Айхенбергера, постоянный рост числа жителей Швейцарии приводит к таким проблемам, как рост цен на аренду жилья, нехватка жилых площадей и негативное влияние на окружающую среду. Об этом сообщает Наша Газета.
По словам экономиста, любые попытки ограничить иммиграцию искусственным путем носят дискриминационный характер, и не будут являться успешными. Лучшее решение – это ограничить приток иммигрантов с помощью увеличения налогов для этих категорий граждан. Кантоны Центральной Швейцарии и Берн уже прибегали к такой практике, напомнил он. Правда, дело было в 1850-м году.
Напомним, что за последние четыре года в Швейцарию мигрировало около 330 тыс. человек, благодаря которым существенно возрос спрос на дома и квартиры.
Недвижимость Нормандских островов становится все популярнее среди нерезидентов. Однако жилье здесь, как правило, гораздо дороже, нежели на британском материке. Эксперты утверждают, что разница в цене на аналогичные объекты недвижимости может достигать порядка 40%.
Столь высокая стоимость жилья обусловлена высоким спросом со стороны состоятельных иностранцев вкупе с ограниченным предложением.
Как пишет The New York Times, самыми востребованными островами с точки зрения покупки недвижимости являются Гернси и Джерси.
С конца 2000-х годов недвижимости в Гернси подешевела приблизительно на 15%. Кроме того, снизились и объемы продаж на внешнем рынке из-за финансового кризиса в Европе и внутренней политики острова, – считают брокеры.
Что касается цен на недвижимость, то разница между ними значительна. Так, стоимость дома на одну семью здесь варьируется от $1.3 млн до $16 млн. Скромный коттедж, площадью 250 кв.м., расположенный на окраине St. Peter Port, с тремя спальнями, небольшим двором и парковкой, обойдется покупателю от $1.3 млн до $1,6 млн.
А вот большой, хорошо оборудованный особняк с 2-3 акрами земли, в сельской местности оценивается в $4 – $5,5 млн. Кроме того, на рынке есть так называемые «статусные дома», стоимость которых может составлять и $8 млн.
Основными покупателями недвижимости Нормандских островов являются резиденты материковой части Британии. За ними следуют граждане стран, входящих в Евросоюз, таких как Швейцария, Франция и Германия. Кроме того, эксперты констатируют, что недавно на рынке появились представители Дубая, Австралии и Таиланда.
Поскольку власти Гернси и Джерси регулируют свои внутренние рынки, приобрести недвижимость иностранцам легче в первом.
«В Джерси вы должны пройти собеседование, разглашая свои доходы, которые станут гарантией минимальной годовой уплаты налогов», - отмечают эксперты.
Для проживания в Гернси, покупатель-нерезидент должен получить британскую резиденцию, пройдя через британские иммиграционные власти. Процедура получения считается довольно простой.
Специалисты рынка жилья советуют иностранцам использовать местных адвокатов при заключении сделок. Юридические расходы и государственные налоги составляют около 3,75% от суммы сделки. Налог на имущество равен примерно $780 в год.
РОМАН ВЛАДИМИРА СОРОКИНА ВОШЕЛ В ШОРТ-ЛИСТ БУКЕРА
"День опричника" переведен на английский язык, что позволило Сорокину попасть в число номинантов Международной Букеровской премии
Россиянин Владимир Сорокин вошел в число номинантов Международной Букеровской премии. В списке - 10 авторов из девяти стран.
Помимо Сорокина, в этом году за премию в 60 тысяч фунтов стерлингов будут бороться Лидия Дэвис из США, Интизар Хусейн из Пакистана, Ян Лянкэ из Китая, Мари Ндьяй из Франции, Йосип Новакович из Канады, Мэрилин Робинсон из США, Петер Штамм из Швейцарии, У.Р.Анантхамуртхи из Индии и Аарон Аппельфельд из Израиля.
Сорокин номинирован за роман "День опричника" 2006 года. В конце 2011 года книга вышла на английском языке, что автоматически сделало Сорокина потенциальным кандидатом на участие в престижном конкурсе среди лучших произведений, написанных на английском языке. В прошлом году премия не присуждалась. В 2011 году жюри удостоило награды американского писателя Филипа Рота.
Обозреватели Guardian напоминают, что к Сорокину и Лянкэ повышенный интерес, так как на родине писателей их творчество подвергались цензуре.
Лауреат Международной Букеровской премии будет назван в Лондоне 22 мая. Также ожидается, что будет вручен дополнительный приз (в размере 15 тысяч фунтов) - за лучший перевод на английский язык
РОССИЙСКИЕ ЧИНОВНИКИ МОГЛИ ОТМЫВАТЬ МИЛЛИОНЫ В ЭСТОНИИ
Вслед за Литвой и Швейцарией счета так называемых "неприкасаемых" из "списка Магнитского" могут заблокировать в Эстонии. Делом занимается местная прокуратура
Эстония изучает счета россиян по запросу Hermitage Capital. Через местные банки, подозревает прокуратура, отмыли часть из 230 млн долларов, о хищении которых сообщил юрист Сергей Магнитский, скончавшийся в российском СИЗО.
Сами счета пока не заблокированы. Эстония стала четвертой страной, которая занялась расследованием фактов возможного отмывания денег российскими чиновниками. Ранее, по запросу Hermitage Capital, банковские счета так называемых "неприкасаемых" были заморожены в Швейцарии и Литве.
Однако в литовских банках, по сообщениям правоохранителей, на момент блокировки счетов осталось всего около 10-15 тысяч долларов. Дело об отмывании денег также было заведено на Кипре.
В Эстонии, как сообщил государственный прокурор страны, подозрительные операции были совершены в 2008 году. Тогда через счета 10 иностранных компаний прошли около 10 млн долларов.
Источником информации для эстонской прокуратуры стал Hermitage Capital, предполагают СМИ. Ранее фонд подавал запросы на проверку банковских операций в Австрии, Финляндии, на Кипре и трех странах Балтии.
Главное, выяснить имена владельцев счетов, заявил Business FM глава юридической фирмы Firestone Duncan Джеймсон Файерстоун: "Банки, которые находятся в балтийских странах, всегда были очень популярны для отмывания русских денег. Я не знаю, сколько денег они заморозили, деньги - это как вода. Деньги я, конечно, хочу, чтобы заморозили, но я хочу, чтобы чиновник потерял деньги, которые он похищал. Самое важное, что эти государства начинают искать конкретных лиц, которые владеют этими счетами и этими компании. Гораздо важнее найти, кто получил эти деньги, важнее, чем морозить эти деньги".
По данным ряда европейских изданий, прокуратура Латвии также ведет работу по запросу Hermitage Capital. Но официальных комментариев на этот счет не поступало.
Возраст уникальных ореховых лесов Кыргызстана составляет 47 млн лет. Об этом сообщил академик Национальной академии наук (НАН) КР Биймырза Токторалиев в среду.
"Ранее установить точный возраст орехоплодовых лесов Кыргызстана путем считывания генетической информации не представлялось возможным, но, начиная с 2009 года были начаты исследования совместно с учеными Калифорнийской академии наук. Определение возраста исследуемых ореховых лесов проводилось путем генетического анализа на уровне ДНК, был проделан колоссальный труд, по итогам которого было установлено, что этим лесам 47 млн лет. Поэтому леса Арсланбоба и других национальных парков и лесхозов, являющих собой комплексный ботанический памятник природы, носят название "реликтовых", - сообщил Б. Токторалиев.
По его словам, обладание новыми знаниями о возрасте ореховых лесов Кыргызстана, позволит не только улучшить генетическое состояние лесов, более качественно проводить лесовосстановительные работы, но и улучшить экспортный потенциал страны.
"Сохранившиеся на территории Кыргызстана девственные леса - это уникальное явление природы. И возможно другие страны заинтересуются перспективой интродукции саженцев, прошедших долгий путь эволюции, а также более устойчивых к вредителям и болезням, у себя в стране", - подчеркнул Б. Токторалиев.
"Просто смешно, что раньше отдельные ученые из Швейцарии и Кыргызстана взялись утверждать, что орехоплодовым лесам, произрастающим на территории нашей республики, лишь около 2 тыс. лет, более того, они распространили эту ложную информацию по всему миру. Теперь же мы собираемся опровергнуть эти данные и летом текущего года опубликовать научную статью о результатах исследований", - заключил Б. Токторалиев.
Согласно материалам национальной инвентаризации лесов КР, площадь, покрытая лесом, составляет 5,61% от общей территории Кыргызстана. Орехоплодовые леса занимают более 126 тыс. га, в том числе ореховые плантации на площади 77,5 тыс. га (орех грецкий - 41 тыс. га, фисташки - 34,1 тыс. га, миндаль - 2,1 тыс. га).
В рамках проведенного в Эстонии расследования по делу о предполагаемом хищении бюджетных средств, о котором заявил юрист британского фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, выяснилось, что через местные банки могли отмыть около 10 миллионов долларов, однако прокуратура решила не возбуждать уголовное дело, сообщила в четверг газете Eesti Paevaleht прокурор Пирет Паукштис. Магнитский скончался в изоляторе "Матросская Тишина" в 2009 году.
"В связи с так называемым случаем Магнитского бюро данных об отмывании денег организовало проверку, чтобы установить, действительно ли через эстонские банки прошли якобы преступные денежные средства. Результаты расследования показали, что данные деньги действительно частично прошли, в том числе и через открытые в Эстонии счета", - сказала Паукштис.
Прокурор уточнила, что расследование начали в прошлом году после получения информации о подозрительных сделках. "Подозрительные переводы были совершены в 2008 году. Через эстонские банки перевели почти 10 миллионов долларов США, для перевода денег использовали десять различных коммерческих объединений", - рассказала Паукштис. По итогам проверки прокуратура не стала возбуждать уголовное дело.
"Учитывая то обстоятельство, что из Эстонии деньги были переведены в другие государства, владельцами счетов были зарубежные коммерческие учреждения, которые представляли зарубежные граждане, а переводы осуществлялись посредством интернет-банка, основания для возбуждения уголовного дела в Эстонии нет", - объяснила Паукштис.
Расследование основывается на утверждениях Магнитского о том, что российские госслужащие выводили из российского бюджета десятки миллиардов рублей, общая сумма оценивается примерно в 230 миллионов долларов. В прошлом году официальное расследование в связи с отмыванием этих денег начали Швейцария, Латвия и Кипр. На этой неделе к ним присоединилась Литва. Николай Адашкевич.
Президент Украины Виктор Янукович провел встречу с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером в Давосе, сообщает в четверг пресс-служба главы государства.
После встречи Киссинджер назвал ее плодотворной и прошедшей в теплой атмосфере.
"Мы обсудили отношения между Украиной и США и Украиной и ЕС", - сказал экс-госсекретарь США.
Янукович в среду прибыл с рабочим визитом в Швейцарию. В Давосе украинский президент принимает участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ). Также запланирован ряд двусторонних встреч президента, в частности, с основателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом и главой Европарламента Мартином Шульцем.
Швейцарская компания TDF Ecotech AG начнет строительство первой малой ГЭС за 154 миллиона рублей в районе Бурятии в 2013 году, сообщил РИА Новости представитель правительства республики.
В Баргузинском районе на севере Байкала ощущается дефицит электроэнергии. Мощность гидроэлектростанции на реке Ульзыха по проекту составляет два мегаватта, она соответствует существующему спросу на рынке.
"Швейцарская компания-инвестор ТДФ Экотех АГ в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Бурятии планирует начать строительство малой ГЭС "Баргузин-1" во второй половине 2013 года. Для этого инвестор взял в аренду на 49 лет участки земли. Стоимость проекта - 154 миллиона рублей", - отметил собеседник.
Срок строительства ГЭС - два года, срок окупаемости проекта - шесть лет с момента ввода в эксплуатацию.
По мнению представителя министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии, малые ГЭС, как и другие альтернативные источники энергии - оптимальное решение для отдаленных районов Бурятии, где нагрузки набольшие, а проведение линий электропередач требует больших затрат. Предполагается, что со временем аналогичные ГЭС появятся и в других отдаленных районах республики, сообщил представитель правительства региона.
"Полностью изучен гидропотенциал республики. У нас есть проработки с этой компаний (TDF Ecotech AG) в части строительства других малых ГЭС: рассматривается Окинский район, Тункинский район", - отметил собеседник.
Швейцарская компания TDF Ecotech AG ведет деятельность в области разработки и планирования технологий для окружающей среды, переработки отходов и использования альтернативной "зеленой" энергии.
Претензии участников Давосского экономического форума к качеству государственного управления в России и недостаточным, по их мнению, темпам преобразований оторваны от реальной политики: российские власти стараются проводить сбалансированные, а не максимально быстрые реформы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Все говорят о том, что, скажем, преобразования могут идти быстрее, говорят о том, что реформы нужно проводить, может быть, более жестко. Но, понимаете, это взгляд аналитиков, а есть еще практическая политика, есть еще реальная политика, она связана с интересами огромного количества людей, всей нашей страны", - сказал Медведев в интервью телеканалу НТВ.
По его словам, при проведении реформ нужно прежде всего думать о том, чтобы не разрушить гражданский мир, не создать неоправданные экономические проблемы.
"И уже во вторую очередь думать о том, чтобы эти реформы прошли максимально быстро. Поэтому я считаю, что мы держимся сбалансированного курса, мы никуда с этого пути не сворачиваем. Но мы принимаем ровно такие решения, которые способна переварить наша экономика и которые способны принять наши люди", - отметил глава правительства.
Медведев считает, что РФ необходимо не только заниматься улучшением государственного управления, но и развивать конкуренцию.
"Будет конкуренция - будет лучше государственное управление, будет конкуренция - будет гораздо меньше фактор коррупции", - сказал премьер.
По его мнению, представленные в Давосе негативные сценарии экономического развития полезны для правительства.
"По всей вероятности, им никогда не суждено сбыться, потому что они экстремальные, что называется. Но они дают нам хорошую пищу для размышлений, чего мы не должны делать, как мы не должны поступать, и в этом смысле, мне кажется, это абсолютно честная, открытая позиция", - заявил Медведев.
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил в среду, что экономические реформы в России остановились в результате кризиса, а не из-за плохого государственного управления.
В четвертом квартале 2012 года чистая прибыль швейцарской фармацевтической компании Novartis AG увеличилась на 72%, или в 1,7 раза, - до $2,082 млрд, или 84 цента в расчете на акцию, по сравнению с $1,21 млрд, или 49 центов на акцию, за аналогичный период 2011 года, сообщается в пресс-релизе компании. Аналитики в среднем прогнозировали $2,38 млрд, сообщает MarketWatch.
Выручка Novartis в четвертом квартале практически не изменилась и составила $14,828 млрд против $14,781 млрд годом ранее. Показатель превзошел ожидания рынка.
Стагнация выручки обусловлена усилением конкуренции со стороны дженериков, в связи с чем компания вынуждена снижать цены на свои препараты.
По итогам 2012 года Novartis сократила выручку на 3% в текущих ценах - до $56,673 млрд, однако без учета изменения курсов обмена валют показатель не изменился.
Компания планирует, что в 2013 году выручка без учета валютных курсов останется на уровне прошлого года, а в 2014-2015 году ее рост возобновится.
ДАВОССКИЕ ТЕЗИСЫ МЕДВЕДЕВА
Дмитрий Медведев выступил с программной речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В частности, он рассказал о масштабных планах по приватизации и заявил, что не намерен конкурировать с президентом Владимиром Путиным
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сегодня выступил с программной речью в на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, гражданское общество заметно прогрессирует, и назад пути нет.
Заявления, сделанные российским премьером в Давосе - один из самых популярных запросов в поисковой системе Google сегодня.
Дмитрий Медведев обещал продолжать приватизацию и продать значительный пакет акций "Роснефти". Всего от приватизации пакетов акций госкомпаний с учетом компаний, находящихся под косвенным контролем государства, российский бюджет должен получить около 10 млрд долларов.
"Приватизированы пакеты акций крупнейших государственных компаний. Бюджет получил доходы в сумме более 7 млрд долларов", - сообщил премьер. Глава правительства также не исключил и дальнейшей реформы "Газпрома".
Перед своим официальным выступлением, Медведев дал интервью Bloomberg, в котором заявил, что не может конкурировать с Владимиром Путиным на президентских выборах. Затронул он и тему смерти Сергея Магнитского, заявив, что он был просто юристом, а не борцом за правду. Хотя его смерть - трагическое событие, добавил премьер.
Давосские тезисы Медведева Business FM обсудило с директором фонда Национальной энергетической безопасности Константином Симоновым:
О президентских амбициях
- Дмитрий Медведев понимает, что он свою политическую судьбу вверил Путину. И в этом плане перегнуть палку он не может. Тем более что до президентских выборов еще 6 лет. Поэтому все вполне логично. С одной стороны он делает резкие заявления, с другой стороны говорит, что он с Путиным.
Сейчас опять идет очередной виток слухов об отставке правительства Медведева. Я сомневаюсь, что это произойдет в ближайшие месяцы. Но на Медведева это давит. Медведев - премьер и Медведев - экс-премьер, это две огромные разницы. А Дмитрия Анатольевича Путин из политики может вычеркнуть одним решением. Его отставка будет означать фактически конец и его публичной карьеры. В этом плане ни о каких президентских амбициях мечтать не приходится. Более того, это классическая история: даже если ты хочешь быть президентом, то ты об этом молчи. Если ты публично будешь об этом каждый день говорить, то у действующего президента к тебе будет все больше вопросов.
О деле Магнитского
- По делу Магнитского позиция Медведева и Путина солидарна, что тоже вписывается в эту картину.
О планах по приватизации
- Наша экономическая политика - это склейка из разных экономических школ. Причем, хаотичная склейка. Лихорадочно в понедельник принимается либеральное решение, а во вторник панически принимается государственническое решение. Здесь я лично не вижу персональной угрозы для Медведева.
Что касается вопроса про приватизацию "Роснефти", то это вопрос важный. Мы понимаем, что сейчас идет активная борьба между основными кланами за собственность, а именно за то, кто окажется основным бенефициаром грядущей приватизации. А то, что нас ждет большая приватизация, у меня лично никаких сомнений не было еще несколько лет назад. Владимир Путин публично об этом сказал в своем послании. Медведев понимает, что пока он премьер и пока его команда занимает ключевые посты в правительстве - Дворкович, Шувалов - пока его человек возглавляет Росимущество, ему гораздо выгоднее приватизировать все сейчас, пока все административные рычаги находятся у него в руках.
В то же время глава "Роснефти" Сечин предлагает другую философию. Он не отказывается от приватизации "Роснефти", но при этом говорит, что надо подождать, чтобы была возможность повысить капитализацию. Обратите внимание, что вчера Игорь Иванович встречался с Путиным и там опять говорил, что намерен повышать капитализацию. Идея такая - сначала повысим капитализацию, а в кавычках читаем, что отправим Медведева в отставку, а потом уже задумаемся о том, как нам продавать "Роснефть". Поэтому заявление Медведева логично. Его сторонники в правительстве являются главными драйверами быстрой продажи госсобственности, пока они сидят на ключевых постах.
Их оппоненты наоборот заинтересованы в том, чтобы чуть-чуть подождать и продавать собственность, когда уже правительство будет отправлено в отставку.
NOVARTIS В IV КВАРТАЛЕ УВЕЛИЧИЛ ПРИБЫЛЬ НА 72% ДО $2,1 МЛРД
За весь 2012 год швейцарская фармацевтическая компания получила прибыль в размере 9,618 млрд долларов
Чистая прибыль Novartis в октябре-декабре 2012 года выросла на 72% до 2,082 млрд долларов (84 цента в расчете на акцию), сообщает швейцарская фармацевтическая компания. В IV квартале 2011 года аналогичный показатель составил 1,21 млрд долларов, или 84 цента на акцию.
Продажи компании за последний квартал прошлого года достигли 14,828 млрд долларов по сравнению с 14,781 млрд долларов годом ранее.
По итогам всего 2012 года прибыль Novartis выросла на 4% до 9,618 млрд долларов, а выручка уменьшилась на 3% до 56,673 млрд долларов. Сокращение выручки в компании связывают с укреплением доллара относительно большинства валют.
В целом показатели за 2012 год совпали с прогнозом руководства Novartis, которое еще в июле прошлого года сообщало, что они будут близки к значениям 2011 года.
Швейцарская фармкомпания Новартис (Novartis AG) объявила в пятницу о том, что Комитет по лекарственным средствам для применения у людей (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) Европейского агентства по лекарственным препаратам (European Medicines Agency, ЕМА) рекомендовал к одобрению препарат Иларис (Ilaris) для лечения пациентов с острым подагрическим артритом, страдающих от частых приступов артрита и симптомов, не поддающихся лечению обычными препаратами.
Глава подразделения Новартис Фармасьютикалз (Novartis Pharmaceuticals) Дэвид Эпстейн (David Epstein) отметил, что если Иларис будет одобрен, он сможет помочь пациентам, которые страдают от частых и сильных болей, вызванных острым подагрическим артритом, а также тем, кому не помогают существующие лекарственные средства. Также он добавил, что компания ожидает решения Европейской Комиссии в ближайшие месяцы.
Подагрический артрит или, как его еще называют, подагра является заболеванием, которое характеризуется периодически повторяющимися приступами острого воспалительного артрита. Рекомендации Комитета по лекарственным средствам для применения у людей обычно принимаются к вниманию Европейской Комиссией, которая принимает окончательное решение в течение трех месяцев от рекомендации.
ВВС Швейцарии во вторник на шесть дней частично закрыли воздушное пространство в радиусе 46 километров над Давосом, где в среду открывается очередной Всемирный экономический форум, говорится на интернет-сайте швейцарских ВВС.
Запрет на полеты воздушных судов, которые заранее не получили разрешение ВВС, действовал в понедельник с 7.00 до 17.00, а с утра вторника он действует по воскресенье 27 января в 17.00 по местному времени. Под запрет попадают также некоторые районы Австрии, Италии и Лихтенштейна.
"Для содействия гражданским властям, авиационная транспортировка и наблюдательные полеты будут выполняться швейцарскими воздушными силами. Они также обеспечат наблюдение за воздушным пространством при помощи имеющихся средств, таких как наземные радары (система FLORAKO, мобильные радары и обмен информацией с Австрией) и средств воздушной поддержки (самолеты F/A-18, PC-7 и вертолеты)", - говорится в сообщении.
Ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе, который проводится с 1971 года, - одна из крупнейших в мире площадок для дискуссий на экономические темы. Встречи в Давосе проводятся с целью обсуждения в неформальной обстановке важнейших политических и экономических проблем. Российскую делегацию возглавит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, возглавляющий российскую делегацию на международном экономическом форуме в Давосе, прибыл в Швейцарию.
Его самолет приземлился в аэропорту Цюриха. Оттуда глава правительства намерен отправиться в Давос, где 23-24 января будет участвовать в пленарных заседаниях форума.
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в преддверии визита главы российского правительства в Швейцарию рассказал журналистам, что президент РФ Владимир Путин и Медведев обсуждали этот предстоящий визит. Он сообщил, что "в нынешнем январе получилось, что председателю правительства удобнее поехать в Давос, чем президенту России, исходя из тех графиков, которые были намечены".
Ежегодный экономический форум, на который обычно приглашаются ведущие представители политических и бизнес-кругов, видные мыслители и журналисты, пройдет в швейцарском Давосе с 23 по 27 января 2013 года.
Премьерская программа
За два дня работы на полях форума российский премьер, помимо участия в основной сессии форума - "Сценарии развития РФ" и панельной дискуссии "Группы двадцати", намерен провести ряд двусторонних встреч, в частности с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном и президентом Швейцарской Конфедерации Ули Маурером, а также с премьером Нидерландов Марком Рютте и с главой Всемирного экономического форума в Давосе Клаусом Швабом. Дворкович отметил, что "возможны другие встречи, их время согласовывается".
По его словам, на пленарной сессии Медведев выступит с развернутой речью, посвященной его видению сценариев развития России, роли РФ в мировой экономике, расскажет о приоритетах России в большой "двадцатке", а также обозначит ключевые приоритеты российского правительства. Вице-премьер отметил, что к обсуждению на панельной сессии перспектив развития России готовились на протяжении нескольких месяцев с участием российских и зарубежных экспертов.
В рамках форума в Давосе Медведев примет участие в рабочем завтраке с иностранными инвесторами, организованном компанией "ВТБ-Капитал" и посвященном замедлению роста мировой экономики. Он также встретится с международным советом предпринимателей и международным медиасоветом. Эти встречи пройдут в закрытом формате. Дворкович сообщил, что российский премьер изложит в неформальной обстановке российские подходы по отдельным вопросам, интересующих зарубежных партнеров.
По итогам первого дня конференции в честь гостей будет организован прием, в котором Медведев примет участие. Он сможет неформально пообщаться со своими коллегами и лидерами иностранных государств, добавил вице-премьер.
Деньги к нам
Основной задачей участия российской делегации в Давосском форуме является возможность показать, что Россия - открытая страна для инвесторов, заявил Дворкович. По его словам, основной причиной оттока капитала из страны являются те риски инвестирования, которые бизнесмены видят в России. Этому вопросу премьер также уделит внимание на форуме.
"Мы на этот вызов постараемся отвечать через реализацию программ и планов, прежде всего в рамках национальной предпринимательской инициативы и следуя тем "дорожным картам", которые выработаны вместе с бизнесом", - сообщил вице-премьер.
Премьер представит на форуме ряд крупных инвестиционных проектов, в том числе создание "Российских сетей". Указ о компании "Российские сети" был подписан в конце прошлого года, теперь "Холдинг МРСК" будет переименован в ОАО "Российские сети" и в его уставный капитал будет внесен находящийся в федеральной собственности пакет в 79,55% акций ОАО "ФСК ЕЭС".
По словам Дворковича, Россия готова предложить партнерам инфраструктурные проекты, в том числе по развитию Дальнего Востока, юга России, Московского транспортного узла, по развитию городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, проекты в энергетическом секторе, которые необходимы для полноценной реализации энергостратегии, где инвестиции составляют сотни миллиардов рублей, а также в авиастроении, судостроении, АПК.
На форуме российский премьер подтвердит намерения правительства о безусловном выполнении плана приватизации, заявил вице-премьер.
Форум
Медведев уже в третий раз будет представлять Россию на форуме. При этом каждый раз он посещал Давос в разном качестве - в 2007 году в качестве первого вице-премьера, а в 2011 году он открывал форум будучи на посту президента РФ. Это был первый случай выступления главы российского государства в Давосе.
В этом году российское участие в Давосском форуме - самое масштабное за всю историю, рассказал Дворкович. Он сообщил, что одной из причин того, что Россия является главным гостем нынешнего давосского форума стало российское председательство в "двадцатке".
В состав российской делегации, помимо самого Дворковича и главы правительства Медведева, вошли министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, сотрудники аппарата правительства, а также ряд губернаторов. Среди участников делегации - замминистра экономического развития Сергей Беляков, замминистра финансов Сергей Сторчак. Также в состав делегации входят представители российских бизнес-ассоциаций, крупных экспертных институтов, руководители ряда крупных компаний - как государственных, так и частных.
Ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе, который проводится с 1971 года, - одна из крупнейших в мире площадок для дискуссий на экономические темы.
По традиции здесь собираются руководители крупнейших компаний мира - от нефтяных и финансовых до медийных. В рамках давосских встреч проводятся десятки пленарных заседаний, семинаров и круглых столов, а также встречи государственных деятелей в двустороннем и многостороннем форматах.
Встречи в Давосе проводятся с целью обсуждения в неформальной обстановке важнейших политических и экономических проблем. Давос знаменит не только тем, что собирает на несколько дней наиболее влиятельных людей мира - глав государств и правительств, лидеров мирового бизнеса, видных ученых и экономистов, политологов. Он привлекателен еще и тем, что дает возможность в неофициальной обстановке встретиться политическим оппонентам. Дискуссии в Давосе уже традиционно во многом определяют проблематику экономического года.

Социальная напряженность будет нести риски для экономического развития России, вне зависимости от того, насколько благоприятно сложатся внешнеэкономические факторы, говорится в докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ), "Сценарии для Российской Федерации", в котором называются ключевые факторы неопределенности для долгосрочного экономического развития России до 2030 года.
Выводы, представленные в докладе, будут обсуждаться в среду, 23 января, на ежегодной сессии ВЭФ в Давосе.
Богатые и недовольне
По мнению авторов доклада, социальная напряженность в ближайшие годы будет оказывать существенное влияние на экономику. "Развитие новых медиа-технологий дает людям инструменты, чтобы привлекать к ответственности элиты. Эта глобальная тенденция не обошла стороной и Россию, где также увеличивается спрос на подотчетность и прозрачность элит. То, как элиты будут реагировать на эти потребности, будет играть решающую роль для будущего", - говорится в документе.
При этом в докладе отмечается, что до настоящего времени России удалось добиться лишь незначительного прогресса в борьбе с коррупцией, невзирая на существенный рост благосостояния в пересчете на душу населения.
Кроме того, авторы отмечают отсутствие улучшений в сфере государственных услуг, несмотря на повышение соответствующих бюджетных ассигнований.
В документе приводится три основных сценария развития экономической ситуации в мире и возможные способы реализации этих сценариев для России.
Низы хотят, а верхи не могут
В первом сценарии рассматривается вариант, когда инициаторами политических и экономических перемен являются неожиданные источники. Реформа институтов в основном проводится на уровне субъектов РФ на фоне застойных процессов в центральных институтах власти страны.
В условиях глобальной нехватки ресурсов ряду регионов удается обеспечить быстрый рост за счет инвестиций в сельское хозяйство и производство смежных продуктов в цепочке добавленной стоимости, а также благодаря более тесным инфраструктурным и торговым связям с восточными соседями России. При этом авторы доклада отмечают, что в некоторых регионах РФ условия для ведения бизнеса уже более конкурентоспособны, чем в крупнейших городах страны.
При этом в качестве серьезных рисков для России названы перетоки капитала и изменения в мировом энергетическом ландшафте. В частности, речь идет о прогнозируемом увеличении поставок нефти со стороны других стран, в том числе из Ирака.
Подорвать позиции России на глобальном энергетическом рынке также может развитие нетрадиционных источников природного газа, в том числе развитие технологий добычи сланцевого газа.
Еще один вызов - это изменение спроса. Авторы доклада указывают на то, что, согласно прогнозам экономистов, основной объем спроса на ископаемые ресурсы будет перемещаться в страны, не входящие в ОЭСР.
Цены на нефть растут
Главную неопределенность для российских властей, по мнению экспертов Форума, представляет будущий уровень цен на энергоресурсы. С одной стороны находятся эксперты, которые говорят, что запасы ресурсов подходят к концу и время дешевой нефти ушло навсегда.
"В соответствии с этим мнением, цены на нефть будут оставаться высокими и неустойчивыми, а мир не имеет другого выбора, кроме как двигаться к новым источникам энергии", - говорится в докладе.
В сценарии, который предполагает сохранение высоких цен на нефть и газ говорится о том, что такое развитие событий может привести Россию к "удовлетворенному бездействию в отношении институциональных реформ". Согласно этому сценарию, значительная часть российского общества получает более высокие доходы, однако социальное недовольство также растет: в связи с неэффективными действиями государственных служб и постоянно растущим бюрократическим аппаратом.
"Несмотря на то, что рост личного благосостояния может заглушить требования населения в краткосрочной перспективе, в конечном итоге эти требования неизбежно всплывут на поверхность", - говорится в документе.
Цены на нефть падают
Авторы доклада отмечают, что среди экономистов последнее время часто звучит противоположная точка зрения о том, что мир вступает в эру новых высот в поставках нефти и газа. "Радикальное улучшение технологий добычи может открыть новые ресурсы в новых регионах. В этом случае можно ожидать существенного снижения стоимости нефти и газа во всем мире", - говорится в документе.
В третьем сценарии, который строится исходя из возможного снижения мировых цен на нефть до уровня ниже 60 долларов за баррель, правительство вынуждено укреплять механизмы контроля над экономикой, используя государственные предприятия в качестве вектора бюджетных расходов на социальные нужды.
На фоне данных тенденций в России сохраняется, по крайней мере, иллюзия экономической стабильности, при этом проведение болезненных реформ переносится на будущее. "Если реформы российской экономики кажутся трудными в период роста, провести их в условиях кризиса будет практически невозможно", - отмечают эксперты Всемирного экономического форума.
ВСЕ ЗНАЮТ, WHO IS MR MEDVEDEV
23-27 января деловая и политическая элита мира собирается в швейцарском Давосе на ежегодный Всемирный экономический форум. Заявленная тема традиционной встречи в 2013 году - "Устойчивый динамизм"
Ежегодные встречи в Давосе, проводящиеся с 1971 года, многие критики считают вечеринками для богатых и влиятельных, дорогостоящими пустыми разговорами. Учредитель форума Клаус Шваб предлагает использовать другую формулировку и рассматривать ВЭФ как "площадку для диалога" и согласования позиций. Шваб уверен, что давосский форум играет важную положительную роль и что бизнес и власти должны работать вместе с гражданским обществом. ВЭФ ставит своей задачей "формирование глобальной, региональной и отраслевой повестки дня".
Перед открытием очередного съезда деловой и политической элиты в Давосе учредитель ВЭФ Клаус Шваб в интервью телеканалу CNBC говорил о новых обстоятельствах сегодняшнего дня - внезапных сбоях и затяжных проблемах мировой экономики, особенно в крупнейших странах-участницах в свете проводимого ими курса жесткой консолидации. Важнейшими, на его взгляд, являются проблемы бедности и неравенства доходов, которые угрожают стабильности "глобального общества".
По его мнению, необходимо стимулировать рост, и в этот рост должно быть включено как можно больше звеньев экономики и общества. И это задача не только Центробанков и политических лидеров, но и бизнеса - необходимо найти возможности посредством инноваций сформировать необходимый спрос, несмотря на авторитарные подходы во многих странах.
Накануне очередного форума многие участники рассуждают о растущей роли социальной ответственности корпораций, приводя в пример, в частности, реакцию на налоговый скандал Starbucks в Великобритании.
Диспозиция и риски
"Евро уцелел. Можно надеяться, что Вашингтон будет как-то справляться с финансовыми вопросами. Китай идет к мягкой посадке, рынки и показатели прибыли в корпоративном секторе постепенно восстанавливаются. Спустя почти пять лет после начала банковского кризиса мировая экономика, судя по всему, возвращается в свое русло, не так ли?" - резюмируют обозреватели CNN.
Возможно, у участников ВЭФ будет желание поздравить друг друга после очередного трудного года. Но многие, как показывает ежегодный опрос, оценивают перспективы на ближайшие 12 месяцев более пессимистично, чем перед прошлым форумом. Вялый экономический подъем, рост социальной напряженности и нестабильность на развивающихся рынках омрачают панораму, открывающуюся перед давосцами.
"Миру угрожает еще больше опасностей, так как финансовый кризис все еще не закончился, в связи с чем отвлекается внимание от изменений климата в тот момент, когда в мире наблюдается все большее количество случаев аномальных погодных явлений", - говорится в ежегодном отчете "Глобальные риски в 2013 году" Всемирного экономического форума.
Второй год подряд эксперты и лидеры, опрошенные накануне открытия ВЭФ, главными рисками для мировой экономики называют неравенство в доходах и хронические финансовые дисбалансы, в частности, разрушительные, неустойчивые, размеры госдолга.
Мировой ВВП в этом году вырастет всего на 2,4%
Пройдет не один год, прежде чем крупнейшие экономики смогут нормализовать объем долга. И в этом году не приходится рассчитывать на хороший экономический подъем, который способствовал бы решению проблемы и смягчил бы негативные последствия. Всемирный банк не прогнозирует улучшения динамики роста мирового ВВП в наступившем 2013 году: рост ожидается всего в 2,4% после 2,3% в 2012 году.
При любых сценариях переговоров в Вашингтоне в феврале можно не сомневаться, что будет достигнут компромисс, и предельный объем заимствований будет повышен, пишет CNN. Налоговая нагрузка для большинства американцев вырастет.
Экономика ЕС: пациента перевели из палаты интенсивной терапии
ЕС, который играл главную роль в долговом кризисе 2012 года, сейчас активно реализует программы экономии, которые, однако, наносят ущерб экономике и занятости. По состоянию на ноябрь 2012 года, безработных в ЕС начитывалось 26 млн человек, почти 19 млн из них в странах еврозоны. В Испании среди молодежи в возрасте до 25 лет не может устроиться на работу каждый второй.
В одном из недавних выступлений еврокомиссар по вопросам экономики Олли Рен предостерег, что успокаиваться еще рано: даже если пациента перевели из палаты интенсивной терапии, о полном выздоровлении речи не идет, потребуется еще какое-то время. И любая самонадеянность была бы непростительной.
Эксперты признают, что огромную роль в укреплении доверия сыграли запуск стабилизационного фонда и обязательство ЕЦБ выкупать краткосрочные обязательства проблемных стран-участниц еврозоны.
Как бы то ни было, импульс реформ может ослабеть: непопулярные меры экономии вызывают массовое сопротивление, что особенно неблагоприятно в год выборов в Германии и Италии, тем более что ситуация на рынке изменилась. "В 2013 году основные риски связаны не столько с перспективой финансового кризиса, сколько с потерей темпа в формировании институциональной базы нового переформатированного союза", - отмечается в ежегодном обзоре Eurasia Group.
"Два шторма - экологический и экономический - могут объединиться"
Одной из важных тем в Давосе станет экология. "После того как в 2012 году мир потрясли такие экстремальные природные явления, как ураган Сэнди и наводнения в Китае, респонденты поставили рост выбросов парниковых газов на третье место по вероятности среди глобальных рисков. Кроме того, респонденты считают, что неудачная адаптация к изменениям климата - это экологический риск, который будет оказывать наибольшее влияние на нашу жизнь в течение следующих десяти лет", - говорится в материалах
отчета о рисках.
Значительные социально-экономические риски не позволяют полноценно бороться с последствиями изменений климата, резюмируют эксперты, объясняя нежелание международного сообщества заниматься такими долгосрочными угрозами, несмотря на недавние экстремальные стихийные бедствия.
"Два шторма - экологический и экономический - могут объединиться", - предостерегает Джон Дрзик, генеральный директор Oliver Wyman Group.
Хотя в настоящее время происходят структурные изменения в экономике и в сфере охраны окружающей среды, в исследовании ВЭФ основное внимание уделяется новым подходам, которые позволяют реализовать стратегические инвестиции, чтобы предотвратить наихудшие сценарии для обеих систем.
Владимир Путин в Давос не поедет
Представлять Россию на Всемирном экономическом форуме в Давосе будет не президент Владимир Путин, а премьер-министр Дмитрий Медведев, так как по графику главе правительства оказалось удобнее туда поехать,
сообщил на пресс-конференции вице-премьер Аркадий Дворкович.
В ходе поездки Дмитрий Медведев проведет несколько двусторонних встреч, в частности, с президентом Швейцарской Конфедерации Ули Маурером и премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова еще 16 января сообщила, что в Давосе Медведев примет участие в основной сессии форума "Сценарии развития РФ" и панельной дискуссии G20.
На ВЭФ ожидается и бывший министр финансов Алексей Кудрин - в качестве эксперта и приглашенного гостя. По словам Дворковича, экс-глава Минфина является квалифицированным специалистом и экспертом, принимавшим участие в разработке различных сценариев развития России, которые будут представлены в рамках форума. Кроме того, в этом году Давос намерен посетить глава Сбербанка Герман Греф.
GUARDIAN ВИНИТ ВАТИКАН В ПОКУПКЕ АКТИВОВ НА ДЕНЬГИ МУССОЛИНИ
Церковь якобы получила эти деньги от диктатора за признание фашистского режима
Ватикан использовал офшорные налоговые гавани для покупки активов в разных странах мира, в том числе недвижимости в Великобритании, Франции и Швейцарии общей стоимостью в 500 млн фунтов стерлингов, утверждает The Guardian.
Издание утверждает, что престижные ювелирные магазины на Нью-Бонд Стрит в Лондоне, а также расположенный неподалеку от них инвестиционный банк Altium Capital являются частью секретной империи коммерческой недвижимости, которой владеет Ватикан. Согласно данным журналистов, международный портфель активов Римской католической церкви создавался в течение нескольких лет при помощи сети офшорных компаний. Для покупки недвижимости и других активов использовались деньги, отданные церкви диктатором Бенито Муссолини в обмен на признание папой Римским фашистского режима в Италии в 1929 году.
В пересчете на современные деньги сумма, переданная Муссолини Католической церкви, составляет 500 млн фунтов стерлингов. В 2006 году, как утверждает газета, Ватикан потратил 15 млн фунтов стерлингов из этих средств для покупки дома "№" 30 на Сейнт-Джеймс Сквер в Лондоне. Согласно данным издания, Церкви принадлежит и другая недвижимость, в частности, жилые дома во Франции и Швейцарии. Газета сообщает, что для покупки недвижимости и других активов использовались исключительно сложные и запутанные схемы, делающие практически невозможным обнаружение истинного владельца. Изданию удалось разобраться в этой структуре только благодаря старым архивам, содержащим информацию о сделках.
Газета приводит цитату из труда "Деньги и расцвет современного папизма" историка из Кэмбриджа Джона Полланда о важности денег Муссолини для Ватикана: "Теперь папизм находится в безопасности. Римская церковь никогда уже не будет бедной". В настоящее время, как говорится в статье, инвестиции денег Муссолини в Великобританию, а также европейские холдинги и подразделение по торговле валютой контролирует папский чиновник в Риме Паоло Меннини. Согласно данным газеты, в Ватикане Меннини возглавляет специальное подразделение, которое занимается так называемой "вотчиной Святого Престола". Согласно прошлогодним данным Совета Европы, изучавшего финансовые данные Ватикана, стоимость активов этого подразделения составляет 680 млн евро.
Издание пишет, что во время войны сохранение в тайне фашистского происхождения денег Ватикана можно было бы понять, однако интересуется, зачем Римская католическая церковь продолжила держать эту информацию в секрете даже после реформирования своей финансовой системы в 1999 году. Официального комментария по этому вопросу от Ватикана газете получить не удалось.
Махинации ценой репутации
Швейцарский банк Wegelin & Co., работавший с 1741 года, объявил о своем закрытии
Финансовое учреждение признало, что в течение почти десяти лет помогало состоятельным американским клиентам уклоняться от уплаты налогов на общую сумму 1,2 млрд долларов.
В начале 2012 года США выдвинули обвинения, связанные с пособничеством уклонению от налогообложения, в адрес трех членов руководства Wegelin & Co. Однако уже в феврале обвинение было переформулировано и стало распространяться на сам швейцарский банк, который первоначально свою вину отрицал.
Управляющий партнер банка Отто Брудерер заявил в суде: «Wegelin понимал, что такое поведение было неправильным… Примерно с 2002 по 2010 год банк помогал некоторым американским налогоплательщикам уклоняться от налоговых обязательств в Соединенных Штатах, подавая ложные налоговые декларации в службу внутренних доходов министерства финансов США».
В качестве компенсации и штрафов банк согласился выплатить властям США 57,8 млн долларов. Но американские власти требуют также раскрыть имена клиентов, и пока неизвестно, насколько руководство банка выполнило это требование.
Сейчас Вашингтон подозревает еще десяток швейцарских банков в пособничестве уклонению от налогов.
Автор: Светлана Крюкова
Как отметил президент бизнес-направления «Специализированные препараты и онкология» американской фармацевтической компании Pfizer Джено Джермано, руководство компании не исключает объединения четырех бизнес-подразделений в два (инновационные и дженериковые препараты). По мнению аналитиков, этот шаг может стать сигналом разделения компании в будущем.
В Pfizer входят бизнес-направления «Онкология», «Препараты первой помощи», «Специализированные препараты» и «Дженерики».
Исполнительный директор Pfizer Йен Рид возглавил компанию в 2010 г. С тех пор компания сократила расходы на R&D, продала несколько непрофильных подразделений, в т.ч. по производству детского питания, доставшегося швейцарской Nestle за 11,9 млрд долл. США в ноябре 2012 г. Кроме того, Pfizer находится в процессе выделения в самостоятельную компанию Zoetis своего ветеринарного бизнеса. IPO запланировано на январь или февраль 2013 г.
Аналитик Goldman Sachs Group Джами Рубин полагает, что объем продаж подразделения инновационных препаратов в 2013 г. составит около 36 млрд долл. США, дженерикового – 17 млрд долл. Она также добавила, что «инкубационный период» в Pfizer может составить 2–3 года. Потенциальное же разделение компании может произойти в 2015 г.
Деколлективизация
Как вернуть землю народу
Игорь Макурин
Почему утекает капитал и уезжают умные и предприимчивые?
Отток капитала из России в 2011 году вырос за год в 2,5 раза и достиг 84,2 млрд долларов (больше “утекло” только в кризисном 2008 году — 133,9 млрд), за первые пять месяцев 2012 года — 43,5 млрд долларов, хотя Минэкономразвития прогнозировало рост в целом за год на уровне 20 млрд.1 Кроме того, наша страна переживает и сильнейшую с 1917 года волну эмиграции: с начала 2000-х годов уехало более 1,25 млн граждан, особенно резко поток усилился в последние три года. Уезжают не только ученые, но и предприниматели, программисты, финансисты. Опросы экспертов показывают, что Россия страдает от “утечки мозгов” больше, чем другие страны, при этом сама занимает лишь 28-е место по привлекательности для образованных иностранцев2.
Уезжающие объясняют свое решение общим ухудшением политической и экономической ситуации в России, невозможностью легально вести бизнес, а рисковать своей свободой и сотрудничать с коррумпированными чиновниками они не хотят. Ученые недовольны низкой зарплатой, плохими условиями для работы, устаревшим оборудованием. Инвесторов также не устраивает политический и бизнес-климат. Отток капитала больно бьет по простым людям, так как мало строится новых предприятий, не создаются новые высокооплачиваемые рабочие места.
По уровню развития человеческого капитала Россия находится среди стран “третьего мира”. В крупных городах это не так заметно, но деревни и малые города бедностью и слабостью социальной инфраструктуры напоминают захолустье отсталых стран Латинской Америки. Российская провинция была бедна и при царях, и при генсеках, бедна она и при президентах. Но там ведь живет половина населения страны!
Особенно наглядно наша отсталость видна в сравнении с Финляндией. Эта бывшая провинция Российской империи навсегда обогнала нас по уровню жизни, при том что в ней нет месторождений нефти и газа, нет огромных доходов от продажи сырья. Минимальная зарплата даже неквалифицированного финского рабочего составляет 2 тыс. евро в месяц (более 80 тыс. рублей). При этом финнам не нужно доплачивать ни за визит к врачу, ни за детский сад — все расходы покрываются из бюджета, из уже уплаченных налогов.
В чем же причина нашей отсталости? Исследования доказывают, что главным препятствием для развития страны, ее экономического роста являются архаичные социальные институты — правила, установки и обычаи, по которым живет общество. Можно занимать огромную территорию и получать миллиарды долларов от продажи нефти, но если у граждан нет стимулов приумножать собственность, продуктивно работать, проявлять предприимчивость и осваивать новое, нет гарантий сохранить нажитое, то будущее страны мрачно. И никакие государственные субсидии тут не помогут.
Мировой опыт показывает тесную зависимость экономического развития и свободы доступа граждан к ресурсам, частной собственностью на землю. Развивающиеся страны, где эта собственность децентрализована, а закон и правоприменительная практика гарантируют права собственника (Южная Корея, Тайвань, а теперь и Китай), демонстрируют высокие темпы экономического роста. Напротив, в странах с высокой концентрацией земли у государства или узкого круга правящей элиты темпы развития низкие. И неважно — владеет землей прокоммунистическое правительство или латифундисты, результат тот же: земля не переходят к тем, кто способен эффективно использовать ее, следовательно, не повышается и уровень жизни.
Имущественные права, легально закрепленные за гражданином или юридическим лицом, оказывают такое влияние на экономический рост, потому что они:
?создают стимулы эффективного хозяйствования благодаря личной ответственности за результаты деятельности, позволяют передать свою собственность по наследству;
?открывают доступ к кредитам через институт залога и способствуют развитию страхования;
?позволяют защитить свою собственность с помощью полиции, суда и других государственных органов, снижают коррупцию и издержки при ведении легального бизнеса;
способствуют перераспределению активов, в том числе земли, от неэффективных собственников к эффективным.
Частная собственность на землю повышает инвестиционную привлекательность расположенных на ней объектов, дает возможность заключать легальные долгосрочные договоры аренды земли, тем самым привлекая эффективных пользователей к ее обработке и использованию, способствует развитию частного предпринимательства, росту занятости, помогает бороться с бедностью.
Сегодня в России разрешена купля-продажа земли. Правда, предварительно надо провести геодезическую съемку, отразить участок в земельном кадастре, оформить свидетельство о праве собственности и преодолеть многочисленные бюрократические барьеры, которые нередко делают эту задачу трудновыполнимой. Отсутствие удобного, прозрачного и доступного механизма оформления прав собственности питает коррупцию, привилегии имеют лишь близкие к администрации люди, процветает “серый” рынок. В результате лишь незначительная часть земли, находящаяся в пользовании граждан, оформлена надлежащим образом.
После распада колхозов и совхозов десятая часть (почти 40 млн га) сельскохозяйственных земель оказалась заброшенной. Добавим к этому земли, зарезервированные для государственных нужд. То есть пустуют огромные территории, при том что за землей — очереди на многие годы вперед.
Законодатели установили, что земельный участок, не используемый по назначению в течение трех лет, может быть изъят по суду. Для того чтобы претендовать на покупку такой земли, гражданин или организация должны доказать, что она простаивает. Вот только добыть сведения о ненадлежащем использовании земли крайне трудно, ведь они стали основой коррупционных схем. Местные власти не ведут мониторинг использования земли. Публичного и открытого для всех кадастра земли как не было, так и нет.
Земельный кодекс обязывает органы местного самоуправления проводить аукционы по продаже свободных земельных участков — но только тех, которые уже сформированы, отражены в кадастре и выделены в натуре. А средств на эти цели местные власти специально не закладывают в бюджет, чтобы не лишиться административной ренты.
Из всех земель сельскохозяйственного назначения на 1 января 2011 года 270,7 млн га (67,7?%) находятся в государственной или муниципальной собственности, 119,5 млн га (29,9?%) — в пользовании граждан, 9,8 млн га (2,4?%) — в собственности сельхозпредприятий. Доля государственной и муниципальной собственности за год сократилась на лишь 2,7 млн га, или менее чем на 1?%3.
В такой системе отношений права собственности условны. Если предпринимателю покровительствует министр, губернатор или глава местной администрации, то он станет собственником земли и недвижимости. Если он перестанет давать откаты или лишится “крыши”, то легко может оказаться банкротом. Показательна история “частной” собственности Е. Батуриной — жены бывшего мэра Москвы. Стоило мужу вступить в конфликт с президентом, как активы семьи резко “похудели”. Несомненно, эти активы были сколочены за счет административной ренты, но здесь важно другое — условность прав собственности. Такой по сути феодальный строй, где собственник недвижимости вынужден платить за покровительство чиновнику-дворянину, соответствовал последней стадии разложения феодализма. Смуты и революции той поры приводят к печальным выводам??…
Различие во взглядах на модернизацию
Российская правящая элита в своем стремлении создать “энергетическую сверхдержаву” с маниакальным упорством пытается протянуть газовую трубу во все стороны света. Но элита расходится с остальным обществом в целях и смыслах модернизации страны. Общество понимает модернизацию как совершенствование социальных институтов для того чтобы повышать уровень жизни, обеспечить верховенство права, обуздать коррупцию, развивать высокотехнологичные производства, сойти с “нефтяной иглы”. Для власть имущих же модернизация имеет, скорее, технический облик, она нужна для консолидации самой элиты, сохранения статус-кво и противостояния внешнему миру. Такое понимание модернизации могло возникнуть только у типично советских людей с нереализованными амбициями, свидетелей крушения советской державности, которые продолжают доминировать в правящем классе России.
Социологические опросы показали, что подавляющее большинство россиян считает, что в стране царит произвол властей, более половины из них убеждены, что найти защиту от этого произвола практически невозможно. На суд как на защитника рассчитывают лишь 9?%, на “братков” и взятки — 11?%. Почти три четверти опрошенных считают, что нельзя быть уверенным, что в деловых отношениях тебя не “кинут” и не “облапошат”. При этом подавляющее большинство людей хотят жить в стране, где доверие не столь дефицитно. Неудивительно, что свыше 75?% россиян не считают Россию “нормальной страной”4.
В докладе Института социологии РАН “Готово ли российское общество к модернизации?”, подготовленном в июне 2010 года в сотрудничестве с представительством Фонда имени Эберта в России, отмечается, что 73?% россиян считают ситуацию в стране кризисной, 11?% — катастрофической. Важнейшим органам государства — полиции и суду — доверяют 18?%, не доверяют — 55?%5. При этом за индивидуальную свободу высказались 33?%, а за общество социального равенства, фактически за уравниловку в потреблении — 67?%. За индивидуализм проголосовало 64?% предпринимателей и студентов. За социальное равенство выступают 75?% пенсионеров и неработающих, 68?% государственных служащих. Для этих категорий государство — своего рода социализм для рядовых слуг: не такой уж щедрый, зато с гарантиями. Поразительно, но за уравниловку высказались и 62?% руководителей первого ранга. В какой исторический период правящий класс думал так же, как его податное население?
Надо различать слова и дела респондентов. Именно официально декларируемое “социальное равенство” помогает правящей бюрократии без конкурентной борьбы реализовывать свои материальные и социальные привилегии, получать и перераспределять между собой ренту от общественного богатства. На словах они выбирают “социальное равенство”, но живут в иной системе координат, чем остальное население. Эти люди и есть самый немодернизированный слой, предпочитающий для обеспечения своего доминантного положения архаичное феодальное социальное устройство.
На примере владения землей, отданной под промышленные предприятия, видно как расходятся интересы общества и правящей бюрократии. В первые годы своего президентства В. Путин неоднократно заявлял, что земля под приватизированными предприятиями не должна выкупаться, ибо ее следует рассматривать как часть приватизированного имущества. Против этого тогда резко выступил мэр Москвы Ю. Лужков. Происходило это как раз на фоне разворота “дела ЮКОСа”. Влившись в общий хор: мол, “ЮКОС грабит государство”, московская бюрократия проявила свою азиатскую сущность и византийскую хитрость, вставив свое: земля, дескать, должна оставаться за государством или муниципалитетом.
В авторитарных государствах политика всегда важнее экономической целесообразности, но здесь Лужков оказался “круче” президента. Бояре из свиты стали “играть короля”, и президент принял их правила. Было предложено выкупать землю по безумным ценам. Для того чтобы отбить охоту к выкупу даже по завышенным ценам, ставки налога за приватизированную землю установили выше ставок арендной платы. Последовавшие нормативные акты узаконили эти архаичные феодальные нормы. Бюрократия застолбила свою привилегию распоряжаться землей, а президент ее утвердил. И по сей день 90?% земель, занятых предприятиями, принадлежит государству. Это обесценивает стоимость российских компаний, затрудняет их сотрудничество с иностранными фирмами, тормозит развитие отечественной промышленности и рынка земли.
Как показал социологический опрос, амбициозную связку инновационной экономики с наращиванием силы и мощи государства, ставшую фетишем российской элиты, включили в число самых важных идей модернизации менее четверти респондентов (это лишь 4–5 места в общем рейтинге приоритетов)6. Главным тормозом модернизации респонденты назвали коррумпированный государственный аппарат. А вот отношение к предпринимателям в последние годы заметно улучшилось. Теперь россияне воспринимают их не как антагонистическую силу, а как часть “трудового народа”, и они вместе со всем народом противостоят коррумпированной бюрократии.
Лишь 3?% россиян живут за счет предпринимательского дохода, 4?% — за счет эксплуатации собственности и рентного дохода. В то же время 22?% граждан владеют имуществом, права собственности на которое не оформлены должным образом. Поэтому оно не является капиталом, не позволяет генерировать дополнительные ценности.
До сих пор не оформили свои права на землю и около 80?% производителей сельхозпродукции. Многие не могут или не считают нужным тратить свои средства на землеустройство. В результате, остро нуждаясь в средствах на развитие производства, они не могут получить кредиты под залог участков.
На 1 января 2010 года площадь земель сельхозорганизаций, ликвидированных в результате банкротства, составила 15,6 млн га, увеличившись за 2 года на 4,4 млн га7. Правовой статус этих земель не определен, по сути, они бесхозные. Но и многие другие сельхозугодия не защищены в правовом отношении, не исключен и административный произвол. Так, хотя по Земельному кодексу земельные участки должны находиться в собственности (в том числе долевой) или взяты в аренду, продолжают практиковаться договоры доверительного управления, срочного или бессрочного безвозмездного пользования.
Неурегулированные права собственности не только сдерживают экономическое развитие страны, но и оборачиваются такими серьезными конфликтами, как эпопея со сносом домов в садовом товариществе “Речник”, выделение земли под точечную застройку в городах и многое другое. Если правящий класс по-прежнему будет думать только о том, как “всё отнять и поделить” для себя, рано или поздно традиционное безмолвие сменится бунтом. Чиновникам-бизнесменам пора осознать, что гарантировать сохранность их собственности не может никто, кроме миллионов легальных частных собственников из широких слоев населения. Так что проводить институциональные и политические реформы — в интересах правящего класса.
Массовое оформление прав на землю и на недвижимость позволит миллионам людей приобрести опыт владения и использования частной собственности, который сам по себе имеет цену — рынок расценивает его как человеческий капитал. Такую государственную политику назовем деколлективизацией в противовес варварской кровавой коллективизации, которой большевики изнасиловали Россию в прошлом веке. Деколлективизация — это массовая регистрация за государственный счет прав на землю и недвижимость, которые по внешним признакам являются собственностью, но не обладают юридическим статусом.
Изменить менталитет
Мировой опыт показывает, что изменить тренд развития страны удается, если к власти приходят люди, обладающие политической волей для утверждения верховенства права, укоренения в обществе современных неформальных правил поведения, установок и привычек. Но реформы оказываются успешными только тогда, когда опираются на менталитет населения. Причем надо понимать, насколько крепки его “бастионы”. Всепроникающая коррупция, поклонение грубой силе, пренебрежение законом, избирательное его применение — это не только практика власти, это, к сожалению, и “культура” нашего народа. Если предприниматели считают нормой решать свои проблемы с помощью откатов, а гражданин, нарушивший правила дорожного движения, предпочитает откупиться от инспектора взяткой, то прямые выборы губернаторов или регистрация новых партий мало что дадут. Если просто заменить чиновников, но остальное оставить прежним, то жизнь не улучшится. Для того чтобы изменить традиционный менталитет россиян, мало принять правильные законы, ввести штрафы и другие санкции, нужны экономические стимулы, полностью меняющие сознание. Их и порождает легальная частная собственность.
Годы советской власти не прошли бесследно, поэтому лишь более трети россиян поддерживают частную собственность на землю. Многие ошибочно полагают, что оформление прав на землю нужно только богатым для подтверждения их статуса. Настоящая земельная реформа — это прежде всего борьба с бедностью. Ведь у бедняка из провинции, в отличие от представителя среднего класса из города, кроме земли в активах ничего нет. Наделение бедняка землей дает реальный шанс повысить его социальный статус, меняет его сознание.
В наше время носители современного культурного и экономического сознания распылены по всем социальным слоям, но их катастрофически мало. Проведите свое маленькое исследование, и вы убедитесь, что в любой группе людей, которые по своим убеждениям являются представителями гражданского общества, обязательно найдется несколько человек, которые живут в неприватизированных квартирах. Мало кто из обладателей дачных участков оформил свидетельства о собственности на землю. Далеко не все имеют опыт общения с банками, различают кредитовые и дебетовые карточки. Про ипотеку слышали, но уверены, что она “недоступна нормальному человеку”, а про купчие, закладные и векселя даже и говорить с ними не стоит. Если нет массовой частной собственности, то неоткуда взяться и социальному опыту. Этим граждане России невыгодно отличаются от европейских и даже восточноевропейских граждан.
В ходе деколлективизации опыт обладания легальной частной собственностью смогут обрести не только профессионалы — предприниматели или чиновники, для которых собственность — естественный объект интересов, но и рядовые граждане. Появится множество одинаково трактуемых юридических, социальных и экономических связей, независимо от социального, регионального или религиозного статуса гражданина. Это один из многочисленных кирпичиков здания российской гражданской нации. Немцы, французы, англичане стали такими нациями только в XIX веке, когда закрепилась массовая легальная частная собственность, постепенно конвертируемая в политические формы демократии.
Обладание частной собственностью постепенно сформирует привычку к ответственному поведению ради ее сохранения, к рациональному мышлению, самоконтролю и дисциплине, ответственности за то, что происходит в селе, городе или стране. Люди перестанут считать себя “маленькими”. Это шаг к гражданскому обществу.
В современном обществе, как никогда, велика роль средств массовой информации, особенно телевидения. Они во многом формируют установки нашего поведения. Поэтому успех деколлективизации напрямую зависит от ее пропаганды, разъяснения преимуществ обладания легальной частной собственностью и проистекающих из этого прав и обязанностей. Президент Б.Н. Ельцин был неправ, когда возражал против создания специального агентства, которое пропагандировало бы рыночные отношения, частную собственность и принципы демократии. Если не удастся нейтрализовать сохраняющуюся у россиян феодально-коммунистическую мифологию, то наша дорога к модернизации будет долгой и трудной.
Деколлективизация позволит подступиться к решению и другого вечного русского вопроса: свобода или воля? Ф. Бродель отмечает, что “в Средние века гораздо чаще говорилось о свободах, чем о свободе. Употребляемое во множественном числе, это слово не отличалось по смыслу от слова “привилегия”. Свободы рассматривались как совокупность франшиз8, привилегий, защищавших интересы тех или иных общин, которые пользовались этими привилегиями, чтобы набраться сил и выступить против других групп”9. Протоколы английского парламента первых ста лет его работы — это скучнейшие дебаты о налогах, сборах, правах на монополию, пошлинах и наделах, кому все это должно достаться — королю, олицетворявшему государство, или другим сословиям. В парламенте Нидерландов в первой трети XVII века уже обсуждали биржевые фьючерсы и ставки по ним, говорили о размерах земельных налогов и о том, кто имеет право на льготы. В “Хартии вольностей” и “Магдебургском праве” нет ни слова о правах человека и общечеловеческих ценностях (в те времена жгли ведьм на кострах), а только о правах собственности. Эти права сначала изменили социальные институты (в том числе религиозные), затем политические и как следствие — менталитет европейцев. Свобода стала пониматься в рамках ограничений, накладываемых правами других людей.
Полезный опыт земельных реформ
Для нас важен опыт преодоления пережитков феодальных отношений в ходе проведения земельных реформ после Второй мировой войны в Японии, Южной Корее и Тайване. Эти страны разительно отличаются от стран европейской цивилизации. Казалось бы, использовать там европейский опыт было невозможно — иные традиции, обычаи, установки. Но есть универсальные практики, игнорирующие культурные и религиозные различия.
Земельными реформами в этих восточных странах руководил специалист из Министерства сельского хозяйства США, русский эмигрант В. Ладыженский. Ему предстояло смикшировать недовольство крестьян-арендаторов их бедственным положением, поднять их уровень жизни и социальный статус, создать конкурентный рынок, дабы тем самым заблокировать коммунистические эксперименты в этих странах. Ладыженский писал: “Хотя бы из соображений просвещенного эгоизма США, соперничая с коммунистами в Азии, не могут дружелюбно относиться к аграрному феодализму, ибо мы против коммунистического тоталитаризма. Необходимо оказать прямую поддержку аграрной демократии. Мы должны в любой форме использовать наше влияние и престиж для поддержки аграрных реформ, как уже начатых, так и ожидаемых в будущем. Этим мы выбьем политическую опору из-под ног коммунистов”10.
В Японии земля принадлежала в основном латифундистам и государству, крестьяне же были бесправными арендаторами, по сути, сельскими пролетариями. Социалистические идеи проникали в их среду с пугающей быстротой. Задача состояла в резком увеличении числа собственников земли.
Реформа началась с принятия в октябре 1946 года закона, по которому землевладельцам, лично не обрабатывавшим землю, оставляли по 1 га, а тем, кто обрабатывает, — по 3 га. Остальные угодья были принудительно выкуплены по фиксированным ставкам и переданы местным земельным комиссиям, которые перепродали участки в рассрочку бывшим арендаторам и всем желавшим вести хозяйство на земле. Принудительной приватизации подлежало 77?% арендованной земли. Для пресечения земельных спекуляций крестьянам в течение нескольких лет перепродавать землю было запрещено. Остальная земля, в том числе в городах, где до этого также существовали феодальные ограничения по землепользованию, была свободна для продажи.
К 1949 году крестьяне-собственники составляли уже 90?% пользователей земли. В 1950 году объем сельскохозяйственного производства увеличился в 1,5 раза, возросли и доходы. Японская деревня из источника социальных конфликтов превратилась в фактор политической стабильности.
Подъем сельского хозяйства и возросший спрос на удобрения и сельхозтехнику стимулировали развитие промышленности. В 1960–1970-х годах появилось много высокооплачиваемых рабочих мест. Жизнь в городах манила молодых, и крестьяне стали продавать землю. Промышленность получила миллионы трудолюбивых работников, проникнутых традиционной крестьянской моралью; крестьянские хозяйства тем временем специализировались и укрупнялись.
Земельные реформы в Южной Корее и на Тайване, проведенные Ладыженским по тем же принципам, способствовали корейскому и тайваньскому “экономическому чуду” 1980-х годов. Конечно, не только земельная реформа вывела эти страны в число развитых, но она подстегнула отход правящего класса от феодальных отношений, становление конкурентного рынка и правового государства. Жизнь всего двух поколений в таких условиях привела сельское патриархальное население к социальному прогрессу — в либеральном понимании этого слова, к невиданному для Азии развитию человеческого капитала.
Напротив, в Северной Корее, где земельная реформа проводилась также за счет латифундистов, но частная собственность и рыночный обмен были отменены, от голода погибло более 1 млн человек. Известны печальные результаты и других марксистских земельных реформ в Азии, Африке и Латинской Америке — мерзость запустения, сверхэксплуатация и гражданская война.
В континентальном Китае нет классической частной собственности на землю, но узаконена долгосрочная аренда (сроком на 50–70 лет) с правом пролонгации и уступки прав, отчуждения, завещания, использования земли в качестве банковского залога. Фактически это соответствует отношениям частной собственности, отсюда и закономерный результат — высочайшие темпы экономического роста.
Интересны результаты земельных реформ, которые ученые из США проводили по программе “отбрасывания коммунизма” в Сальвадоре, Чили, Иране, Египте, Перу. В отличие от реформ Ладыженского, в этих странах земельная собственность перераспределялась в интересах крупных латифундистов, новообразованных кооперативов, государства и крупного частного бизнеса, в первую очередь американского. Сильное давление на реформаторов оказывали политики и лоббисты бизнеса. Не ставилась цель расширить круг собственников и доступ к земельной собственности всех социальных групп. Естественно, эти реформы провалились, так и не обеспечив странам устойчивое развитие.
Восточноевропейские страны после распада социалистического лагеря пошли в фарватере развитых западноевропейских стран и частнособственнических практик. Их прогресс сегодня несомненен. А бывшие советские республики, за исключением стран Балтии, провели земельные реформы, где при свободе рыночного обмена частная собственность по-прежнему условна. И все они остаются на низких ступенях экономического, социального и общественного развития.
Деколлективизация: вопросы политические, экономические, правовые
Деколлективизацию земельной собственности необходимо интегрировать в общую стратегию модернизации российского общества. Сколько можно взывать к властям: “Модернизация политической системы первична по отношению к экономической модернизации”? А в ответ слышать: “Не доросли. Сначала решим экономические проблемы, а затем займемся политическими реформами”?…
Деколлективизация — это оплата государством затрат на землеустройство и оформление права собственности на земельные участки, находящиеся в пользовании у граждан; выкуп частными и юридическими лицами земельных участков; отчуждение и приватизация части государственных и муниципальных земель в интересах социального и иного массового (в том числе малоэтажного) строительства; свободный доступ к кредитным рынкам через залог земель и право безусловного перехода заложенных земель в пользу залогодержателей; прозрачное, основанное на единых правилах использование рынков аренды и купли-продажи государственной, муниципальной и частной земли. Понимаемая столь широко, деколлективизация может стать частью “дорожной карты” и политической, и экономической модернизации страны.
Так, по закону в фонд перераспределения включаются земли, высвободившиеся в результате ликвидации сельхозпредприятий, отсутствия наследников, добровольного отказа и др. Они предназначены для передачи под фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства и садоводства. На 1 января 2010 года в фонде было 12 млн га, что на 285,2 тыс. га больше, чем год назад. И то, что фонд земель есть, а участки из него в собственность граждан не передаются, является серьезной политической и экономической проблемой.
С начала 1990-х годов правила землепользования менялись несколько раз, что негативно сказывалось на строительстве индивидуального жилья. В законах, регулирующих ведение личных подсобных хозяйств, деятельность дачных и садовых товариществ или партнерств, образованных жителями малоэтажной застройки, имеются пробелы и противоречия. Например, в многоэтажных домах в городах право долевой собственности на общее имущество (крышу, подвал, участок под домом) следует судьбе права на квартиру. А в партнерствах, созданных для строительства инженерных сетей жителями индивидуальной малоэтажной застройки, по закону можно не только исключить гражданина из партнерства, но и лишить его права на долю в общей собственности. Это открывает возможность для рейдерских захватов электроподстанций и для установления грабительских надбавок к тарифам. Как показывает практика, разрубить этот гордиев узел законодательства в судебном порядке самим гражданам чаще всего не удается.
Необходимо совершенствовать нормативную базу землепользования, пересмотреть или отменить устаревшие и неэффективные статьи законов, кодифицировать их, а заодно решить многочисленные принципиальные вопросы. Следует ли во избежание концентрации земельной собственности ограничить размер земельных угодий, контролируемых одной семьей? Надо ли вводить ограничения на землевладение в городах? Допустимы ли льготы, какие и кому? Какие организационно-правовые формы сельскохозяйственных кооперативов и некоммерческих организаций, объединяющих жителей малоэтажной застройки, лучше? Каковы допустимые технологии залогов и отчуждения земли? Нужна ли адресная помощь новым собственникам земли в форме государственных субсидий или ссуд для малообеспеченных, особенно в сельской местности и малых городах? Как показывает опыт развивающихся стран, даже небольшие ссуды позволяют, используя землю, выйти из порочного круга нищеты.
Справится ли с совершенствованием законодательства в таком ключе Госдума, которая давно стала “не местом для дискуссий”? Сегодня депутаты штампуют представленные правительством законопроекты сразу в нескольких чтениях, без должного общественного обсуждения, без учета мнения признанных экспертов и представителей общественных организаций. Неудивительно, что в них приходится вносить многочисленные поправки. По частоте изменений законодательства Россия идет впереди планеты всей. Выходит, мы вновь вынуждены признать, что ответственное проведение такой насущной реформы, как деколлективизация земли, требует коррективов политической системы.
Как побудить чиновников провести деколлективизацию?
Когда значительная часть сельского населения пребывает в нищете и пьянстве, чиновники чувствуют себя в полной безнаказанности. А вот в гражданах, обладающих материальной основой своей независимости, они видят прямую угрозу их доминантному положению. Вот почему до сих пор не завершено оформление и закрепление земель за фермерами. Чиновники по-прежнему могут изъять у них землю с издевательской формулировкой “ввиду ненадлежащего использования”, которая четко не определена законом. Аналогичные трудности возникают у владельцев личных подсобных хозяйств, домов и участков в сельской местности и малых городах.
Наряду с совершенствованием земельного законодательства нужны радикальные перемены в правоприменительной практике. Заставить чиновников соблюдать букву и дух закона, проявлять активность в деколлективизации можно двумя способами.
Во-первых, традиционным для России давлением “сверху”, устанавливая задания местной бюрократии по приватизации земли и поощряя ее за это. Чем больше будет доля земель в частной собственности, тем выше должна быть оценка результатов работы местных руководителей, тем вероятнее их карьерный рост и весомее премии.
Во-вторых, непривычным для нас давлением “снизу”, предоставив самим крестьянам и владельцам домов широкие права для судебной защиты общих интересов. Речь идет не просто о праве конкретного гражданина на гражданский иск к органу местной власти, а об исках в защиту групповых интересов или неопределенного круга лиц. Если по примеру Канады, Китая и Бразилии внести необходимые поправки в Гражданский кодекс и профильные законы, то владельцы участков земли, столкнувшиеся с противодействием деколлективизации и отважившиеся на конфликт с властью, смогут рассчитывать на материальное вознаграждение. В этих странах такой истец, выиграв в суде, получает долю от общей выгоды. Правда, такой подход предполагает наличие в России суда, независимого от исполнительной власти.
Частная собственность и местное самоуправление
Главная проблема местного самоуправления в России — недостаток финансирования. Опыт стран, где налогообложение недвижимости существует столетиями, основным источником пополнения местных бюджетов являются налоги на землю и недвижимость: поимущественный — в США и Японии; поземельный — в Германии и Франции; земельный налог со строений и налог на жилище — во Франции; налог на недвижимое имущество и налог на приращение стоимости участков — в городах Испании. Чем больше собственников земли и недвижимости на ней, тем стабильнее пополняется местный бюджет.
В европейских странах кадастровая или оценочная стоимость земельных участков как база налогообложения устанавливается ниже средней рыночной цены земли; считается, что высокие налоги препятствуют эффективному ее использованию и росту капиталовложений. И эта стоимость пересматривается каждые 3–5 лет.
В США оценочная стоимость участков используется для повышения интенсивности использования земли. Оценочная стоимость публикуется в бюллетенях, и каждый может самостоятельно рассчитать свой налог. Ставки земельных налогов в жилой зоне достигают 1?% рыночной стоимости земли, для сельскохозяйственной земли — 0,5–0,7?%. Ставки зависят также от районирования: коммерческая застройка и удобные участки оцениваются выше, чем застройка социальным жильем и публичные зоны. Налог на недвижимость платят не только собственники, но и получившие недвижимость в аренду от муниципалитета, в том числе в социальную аренду.
Льготы по земельному и имущественному налогам определяются, как правило, прямыми нормами местных законов. В США тот, кто берет участок земли под сельское хозяйство, получает льготу на 20 лет. При изменении целевого назначения земли льгота немедленно возвращается государству, а улучшение качества земли автоматически приводит к льготному налогообложению на период, определенный законом. Льготы получают и те, кто не нарушает экологические стандарты; засоряющие же окружающую среду, напротив, платят повышенные ставки. Величина земельного налога зависит также от того, как используется земля: незастроенная часть участка облагается ниже, чем застроенная. Поэтому вокруг европейских и американских торговых центров есть парковки для машин, а у нас их практически нет, ибо наше налоговое законодательство не соизволит опускаться до таких подробностей.
Налогами облагаются операции с землей и недвижимостью. Их платят при переходе прав собственности от одного собственника к другому. В Западной Европе они составляют 2–4?% суммы сделки, а в Восточной Европе в переходный период, сразу после приватизации земли, достигали 10–12?%.
Что нужно сделать у нас, чтобы использовать европейский опыт? Многое, но прежде всего — радикально облегчить процедуру перевода земли из категории земель сельхозназначения в земли поселений. Не только потому, что трудности с переводом — главный источник коррупционных доходов местных чиновников, но и потому, что облегченный перевод резко расширит налогооблагаемую базу местного самоуправления. А ведь именно из финансово самостоятельного местного самоуправления только и может вырасти подлинная демократия в России.
Частный сектор в городах
Формирование в провинции зоны комфортного проживания — задача преимущественно социальная и даже политическая. Только от малых городов и сел можно ждать прироста населения. Но если граждане не укоренены на земле, если ни землю, ни хозяйство на ней нельзя завещать детям — никакие призывы правительства повысить рождаемость не помогут. Лишь частная собственность, как показывает опыт США, создает необходимую мотивацию.
В российских городах примерно 19 млн человек проживают в домах без централизованного водоснабжения, отопления и канализации. Большинство живут в одноэтажных деревянных домах — в частном секторе, площадь которого достигает 2,7 млн га. Существующие законы позволяют приватизировать эту землю, но затрат и хлопот здесь даже больше, чем с дачными участками. На начало 2009 года права собственности на участки под такие дома были оформлены всего на 578,4 тыс. га, что составляет 22?% земель частного сектора, или 7,3?% городских земель.
Процесс приватизации пошел, но сразу же встретил активное сопротивление местной бюрократии. Конфликты провоцирует неразвитое и противоречивое законодательство в сфере, где сталкиваются интересы частных землевладельцев и потребности развития городов. Это районирование земель, прокладка дорог, определение размера компенсаций за сносимое жилье, строительство многоквартирных домов.
Особенно много проблем с оформлением прав на землю и дома в водоохранной зоне. Во всем мире люди живут у кромки воды и имеют зарегистрированные должным образом права на участки. И нам хорошо бы следовать этому примеру при определенных ограничениях в соблюдении экологических норм владельцами таких участков.
Дома в сельской местности
В России в сельской местности под частными индивидуальными домами с приусадебными участками находится свыше 3,0 млн га, из них в частную собственность оформлены лишь 600 тыс. га — очень мало для страны, которая почти 20 лет назад объявила о восстановлении частной собственности. В сельских районах, как правило, отсутствует необходимая для регистрации инфраструктура, жителям приходится помногу раз ездить в областной центр для оформления документов.
Жилой фонд в поселках создавался в основном на средства колхозов и совхозов и до сих пор числится на их балансах. По действующему законодательству это жилье должно быть приватизировано проживающими в нем гражданами, но во многих случаях из-за неурегулированных прав на приусадебные участки этого не произошло. Поэтому, приобретая разорившиеся колхозы или совхозы, предприниматели в нагрузку получают неприватизированное жилье со всеми его обитателями. Деколлективизация должна помочь решить эту проблему.
Многие граждане либо получили земельные участки под строительство индивидуального жилья по решению местных властей, но с нарушением установленного порядка, либо им просто не были оформлены нужные справки. Описаниями мытарств этих граждан полна пресса. Поэтому нужно амнистировать использование гражданами и организациями участков земли и возведенных на них домов и сооружений, полученных или построенных с нарушениями закона или установленного порядка. Без этого деколлективизация не будет успешной.
Такая амнистия была проведена в Казахстане по Закону “Об амнистии в связи с легализацией имущества” от 5 июля 2006 года. Граждане узаконили свою землю и недвижимость, многочисленные коррупционные схемы распались, а государство получило лояльных собственников и расширило налогооблагаемую базу.
Решение жилищного вопроса
Массовое оформление частной собственности граждан на земельные участки создаст предпосылки для решения главного вопроса России — жилищного. Переход от традиционного общества к индустриальному (не то что к постиндустриальному) невозможен там, где нельзя самому заработать на жилье, где в очереди на социальное жилье стоит 4,5 млн семей, а срок ожидания оставляет 15–20 лет. Только у нас работящий и образованный человек в зрелом возрасте вопрошает: “Почему я всю жизнь честно работаю и не могу заработать на дом или квартиру?” Для удовлетворения минимальной потребности россиян в жилье требуется увеличить жилой фонд в 1,5 раза.
Общество, в котором так остро стоит жилищный вопрос, обречено на социальные потрясения. Оно находится в нескольких шагах от хаоса. И, напротив, политические потрясения маловероятны, если у людей есть свое жилье. Недаром знаменитый американский домостроитель Уильям Левитт заявил членам Конгресса: “Когда у человека есть собственный дом, он никогда не станет коммунистом. Ему и без того есть чем заняться”.
Деколлективизация позволит наделить миллионы нуждающихся в жилье людей участками для строительства собственных домов. Конечно, этого недостаточно, чтобы человек решился на строительство. Государство должно помочь ему в создании инфраструктуры, кредитовать строительство дорог и инженерных сетей. Кроме нефтяных доходов, на эти цели целесообразно использовать средства от продажи состоятельным людям земельных участков в престижных районах. Сегодня на такой продаже обогащаются девелоперские компании, получающие эти земли почти даром, за откаты местным чиновникам. Это огромные суммы, источник которых — наглое расхищение общественного богатства.
Итак, кто должен строить инженерные сети и дома? В последние годы для решения масштабных задач стало модно создавать государственные корпорации. Они идеально приспособлены для “распила” бюджетных средств, а их менеджеры оперируют “ничейными” государственными активами. Напротив, частные компании рискуют своими капиталами и заинтересованы в снижении издержек, освоении современных технологий. Им-то как раз и следует по конкурсу передавать подряды от частных лиц и от органов местной власти. Мировой опыт доказал преимущество частных компаний перед государственными. Попытки российского правящего класса игнорировать его, переиграть предпринимателей с помощью госкорпораций обречены на провал.
В развитых странах малоэтажное жилье строится с использованием различных государственных ипотечных программ, в том числе и облигационных займов. Эти программы обходятся существенно дешевле, нежели строительство собственными силами граждан. Немецкая государственная ипотечная программа оказалась настолько эффективной, что ипотечный кризис, который бушевал в странах Запада, обошел Германию стороной. В ее законодательстве о строительстве можно найти ответы на многие наши вопросы. Нормы прямого действия определяют понятия социального и коммерческого жилья, его характеристики и технические регламенты, социальную инфраструктуру, предписывают, что надлежит делать с частными землями при массовой социальной застройке, подробно регламентируют государственный и муниципальный интересы, предельную норму владения землей, в том числе в городах. Хорошо бы нам взять за основу это законодательство, а немецкую ипотечную программу скопировать полностью.
Как показывают расчеты, в России стоимость 1 кв. метра малоэтажного жилья вместе с инженерными сетями (без коррупционных платежей) составляет примерно 30 тыс. рублей. Дом, площадью 100 кв. м, обойдется в 3 млн рублей. Государству по силам дотировать банковские проценты по ипотеке (на 30 лет), снизив их до 5?% годовых вместо нынешних 14?%. Тогда в месяц семья должна будет выплачивать порядка 20 тыс. рублей, что сопоставимо с арендной платой за среднюю однокомнатную квартиру в Москве. Но если государство возьмет на себя расходы по строительству подъездных дорог и инженерных сетей, то ежемесячные выплаты по кредиту сократятся до 14 тыс. рублей и станут вполне подъемными для двух работающих супругов.
Если государственную ипотечную программу рассчитывать на возведение ста тысяч домов в год, то сумма государственных дотаций на проценты по ипотеке не превысит 50 млрд рублей в год (1,5 млрд долларов). Плюс расходы государства на строительство дорог и инженерных сетей, которые составят 300 млрд рублей. Эти средства можно позаимствовать из “Фонда будущих поколений”, ведь эти дома возводятся именно для будущих граждан России. Во всяком случае, содержание госкорпораций и увеличение военных расходов обходятся нам намного дороже.
Пример Белгородской области
Подобная ипотечная программа строительства социального жилья успешно реализована в Белгородской области. С 1990 года население этой небольшой области увеличилось на 127 тыс. человек, в то время как в соседней Воронежской области уменьшилось на 200 тыс. Даже из Подмосковья люди готовы переехать в Белгородскую область. В чем причина такой популярности?
Согласно опросам общественного мнения, не менее 72?% россиян хотели бы жить в индивидуальном доме с комплексом городских коммунальных удобств, если его стоимость будет не выше стоимости жилья в многоквартирных домах. Это стало основой региональной политики Белгородчины, исключительной для нашей страны.
В начале 1990-х годов губернатор Белгородской области Е. Савченко сделал упор на создание класса земельных собственников. Приоритетом в жилищном строительстве стало возведение индивидуальных домов, доля которых к 2010 году должна была достичь 85?%. В районах массовой индивидуальной застройки строились дороги и инженерные сети, индивидуальным и корпоративным застройщикам участки предоставлялись за плату на льготных условиях, а также предоставлялись
кредиты.
Для реализации программы ипотечного жилищного кредитования в июле 2002 года постановлением губернатора было учреждено открытое акционерное общество “Белгородская ипотечная корпорация”. Администрация области передала ей земли, находившиеся в распоряжении чиновников. Корпорация предоставляет будущим застройщикам земельные участки для строительства жилья за плату по их заявлениям. Заявления собирают органы местного самоуправления, предприятия и организации. Близкие родственники, выразившие желание приобрести участки рядом, могут подать коллективное заявление. Информация о заявителях общедоступна. Если поступило больше заявлений, чем имеется участков на данной территории, проводится жеребьевка. Все неудовлетворенные могут претендовать на получение участков в другом месте.
Для того чтобы избежать произвола, определены четкие критерии отказа в предоставлении участка. Критерии таковы: отсутствие регистрации в области и постоянного места работы, проживание на ее территории менее трех лет, возраст старше 65 лет, сомнение в способности претендента исполнять договорные обязательства, а также если семья уже имела участок, но не завершила строительство дома на нем, не зарегистрировала право собственности.
Корпорация готовит землеустроительное дело и заключает договор с застройщиком о предоставлении ему участка в собственность. В договоре, в частности, фиксируются оценочная стоимость участка, которую корпорация определяет в соответствии с законодательством об оценке земли, и запрет на дробление участка на площади менее 0,15 га.
Для индивидуальных застройщиков предусмотрены льготы по оплате участка в рассрочку на 8 лет с момента государственной регистрации права собственности на участок. Нормативный срок строительства — 5 лет. До момента полной оплаты участок находится в залоге у корпорации. По истечении восьми лет долг по оплате участка прощается в соответствии со ст. 415 ГК РФ, но только если застройщик построил дом в течение пяти лет и оформил на него права собственности.
Отсрочка предоставляется под обязательство застройщика частично оплатить инфраструктуру, построенную на бюджетные средства: в первый год — 40 тыс. рублей, со второго по шестой — по 7 тыс. Если в период отсрочки в семье родится двое детей, сумма платежа сокращается вдвое, при рождении трех детей — на 100?%. Таким образом стимулируется рождаемость.
Кроме пряников, предусмотрены и кнуты. Если в течение пяти лет застройщик не построил дом и не зарегистрировал его, то обязан уплатить оставшуюся часть стоимости участка и проценты в размере половины ставки рефинансирования Центрального банка. Продав или подарив участок до завершения платежей, он должен компенсировать скидку с цены участка и погасить задолженность по расходам на строительство инженерных коммуникаций.
За 1994–2007 годы были выданы ипотечные займы под малоэтажное строительство на 1,69 млрд рублей, построены добротные и комфортабельные дома для 40 тыс. семей общей площадью 4,4 млн кв. м. По признанию белгородцев, жилье у них не строит себе только ленивый. Некоторые называют Белгородчину “русской Швейцарией” — не из-за альпийских красот, а из-за комфортности проживания.
Земли бывших колхозов и совхозов
В коллективно-долевой собственности граждане имеют не менее 107 млн га земельных угодий бывших совхозов и колхозов, которые используются сельскохозяйственными предприятиями разных организационно-правовых форм. Больной вопрос: что делать с этой землей? Существует радикальная либеральная позиция, совпадающая с патриархально-архаичной, — “всё поделить поровну”. Но давайте взвесим.
Реформы сельского хозяйства в странах Восточной Европы после распада социалистического лагеря были политически мотивированы, разрушалась коллективная форма собственности на землю, возвращалась частнокапиталистические отношения. Однако такая политика привела к резкому сокращению сельскохозяйственного производства. Опыт показал, что большинство крестьян не готовы самостоятельно вести хозяйство и рисковать. Им не хватает экономических знаний и предпринимательских навыков. И это в странах, где с социализмом экспериментировали всего лишь около сорока лет, а что же говорить о России, где коллективизация проходила в варварских формах и просуществовала на 15–20 лет дольше? Надо ли вновь повторять у нас этот опыт, когда в деревнях жизнь и так еле теплится?
Практика организации фермерских хозяйств в России показала, что, в отличие от столыпинских реформ начала XX века, для ведения современного семейного хозяйства требуются солидные средства, особенно на первоначальном этапе. Разумный отбор претендентов на получение кредитов на этапе массового “стартапа” невозможен в принципе, ведь банкам нужно время, чтобы понять, кто из хозяев наиболее эффективен. Кроме того, значительная часть земель, сооружений и иного имущества бывших колхозов и совхозов до сих пор не оформлена надлежащим образом. Поэтому сельхозпредприятиям всех организационно-правовых форм трудно получить банковские кредиты.
В 1992 году началась реорганизация колхозов и совхозов. Землю передали в собственность трудовых коллективов, установили общую долевую собственность на угодья, строения и технику, перерегистрировали предприятия в акционерные общества и товарищества. Однако раздел колхозов и совхозов на семейные фермы был не рационален, так как крупные сельские хозяйства просто технологически не были к нему приспособлены. Он обрек бы крестьян на применение архаичных технологий и ручного труда.
Вести хозяйство самостоятельно готовы были 10-15?% сельских жителей. Неудивительно, что из 12 млн земельных долей, розданных в 1992-1994 гг., только 300 тыс. домохозяйств воспользовались своим правом выйти из коллективных хозяйств и организовать семейные фермы. Тем не менее именно они стали катализаторами возрождения рыночных отношений в деревне. Сегодня менее 12?% собственников земельных долей зарегистрировали свои права. В натуре выделено 19,1 млн га, или менее 25?% площади, находящейся в долевой собственности.
Подавляющее большинство владельцев долей предпочитают не вкладывать их в уставной капитал новых АО, а сдавать их в аренду или продавать.
Несомненно, что при наличии современных агротехнологий необходимо сохранять землю в форме крупных полей. Только надо, чтобы эти поля нашли своих эффективных частных собственников. В земельное законодательство были внесены изменения, и теперь земельные доли можно реализовать, только если скупать их в больших количествах внутри коллективных хозяйств и выставлять требования к хозяйству, чтобы оно выделило целостные земельные поля, компактно расположенные в одном месте. Однако это повышает издержки при сделках купли-продажи участков и тормозит земельный оборот.
Поскольку при регистрации сельхозпредприятий в новых организационно-правовых формах права на землю зачастую надлежащим образом не оформлялись, многие граждане формально имеют право на долю в землях государственных и муниципальных предприятий (5?% общей площади) или в землях, вообще не подлежащих приватизации.
Земельные отношения на селе развивались по трем вариантам.
Первый — руководителям сельхозпредприятий удавалось уговорить крестьян переоформить свои земельные доли в паи в уставной капитал новых акционерных обществ. Земля из общей долевой собственности (с правом выделения) переходила в собственность юридического лица, а крестьяне лишались права на выдел. Дирекция АО могла заложить землю, продать или сдать в аренду. При банкротстве, нередко преднамеренном, земля отходила кредиторам. Таким образом распродавалась земля под коттеджные поселки в Подмосковье.
Второй вариант был опробован в середине 1990-х годах в Нижегородской области. Когда бывшие колхозы доказали свою несостоятельность, выход увидели в создании более компактных сельхозпредприятий. Правда, на селе осталось мало людей, готовых организовать собственное товарное сельскохозяйственное производство на ферме или в бывшем отделении колхоза. Если они находились, то вокруг них сплачивались небольшие коллективы дольщиков.
На закрытых аукционах бывшие колхозники приобретали активы колхоза (землю, здания, технику) за свои доли, то есть акционерам новых АО имущество переходило в натуре. Аграрное лобби, представлявшее интересы сельской бюрократии, в те годы заблокировало распространение нижегородского опыта, хотя этот вариант обеспечивал справедливость и конкурсность. Он выгодно отличался от прописанной в Земельном кодексе процедуры, по которой землю выделяет общее собрание, которое предпочитает отдавать фермерам “неудобья”.
Третий вариант — крестьяне добивались (зачастую по суду) выдела земельных участков в натуре, оформляли их в собственность и потом решали: вести ли фермерское хозяйство самим, сдать землю в аренду или продать под дачные участки.
Для того чтобы добиться роста товарного производства сельхозпродукции, а не просто увеличить число собственников земли, необходимо способствовать образованию конкурентоспособных АО и фермерских хозяйств, их естественному укрупнению. Нужен естественный отбор тех, кто способен вести хозяйство прибыльно, кто обладает предпринимательским талантом. В развитых странах ежегодно учреждаются миллионы фирм, многие из них потом разоряются, но зато оставшиеся демонстрируют завидную энергию роста.
Нельзя сказать, что власти не отдают себе отчета в ненормально сложившейся ситуации с бывшей колхозной землей. В декабре 2010 года была упрощена регистрация прав на земельные доли и участки, выделенные в счет земельных долей11. Было установлено, что если общее собрание участников долевой собственности не смогло разделить ее для оформления, то это обязаны сделать органы местного самоуправления.
Произошла подвижка и в судьбе невостребованных земельных долей. На начало 2010 года их площадь составляла 24,3 млн га. Теперь местная власть может обратиться в суд с требованием признать на них право муниципальной собственности. У владельца доли есть возможность отказаться от нее и передать право собственности муниципалитету, который получит возможность продать долю тому, кто обрабатывает этот участок, за 15?% ее кадастровой стоимости или выделить участок в натуре и продать его на тех же условиях.
Тем не менее в законодательстве осталось еще много пробелов, позволяющих творить произвол по отношению к владельцам долей. Законом должны быть усилены гарантии прав владельцев долей на оформление права частной собственности. Поправки в Земельный кодекс должны пресечь насильственную замену частно-правового режима земли публично-правовым, когда органы государства или местная власть пытаются принудительно передать земельные доли крестьян без их согласия в собственность сельскохозяйственных коммерческих организаций.
Деколлективизации должны подлежать в первую очередь хозяйства-банкроты, а это не менее трети всех бывших колхозов и совхозов. Их земли и сооружения должны попасть под раздел. Угодья предлагается распределять между бывшими колхозниками или их группами “в натуре” на закрытых аукционах — по примеру Нижегородской области. Землю же, оставшуюся нераспределенной, целесообразно принудительно передать сельскому муниципалитету для продажи в частную собственность любым покупателям. Закон позволяет это сделать, нужна лишь политическая воля, чтобы заставить чиновников применять этот закон.
А вот целостность прибыльных акционерных обществ нуждается в защите. Если предприятие эффективно использует земельные доли своих акционеров, а крестьянская семья все же хочет выйти из АО и создать семейную ферму, то в этом случае можно было бы использовать облигации, которые АО выкупает у государства в рассрочку. Получив такие облигации в обмен на свою долю, крестьянин сможет приобрести участок из фонда перераспределения земель. Но без деколлективизации на месте разорившихся колхозов вряд ли что-либо возникнет. Кто видел заброшенные усадьбы колхозов и вымирающие деревни, согласится: хуже уж точно не будет.
Отдать землю фермерам
С начала 1990-х годов земля передавалась фермерам в собственность, пожизненное наследуемое владение и аренду на основании Закона “О крестьянском (фермерском) хозяйстве”. Формально у фермеров находится 15,9 млн га, но в индивидуальном пользовании — менее трети, остальную землю используют фермерские ассоциации.
Земельная реформа натолкнулась на неизжитое общинное сознание крестьян. Тяжело видеть умирающие деревни среди брошенных земель, где не нашлось крестьян, желающих стать фермерами, взять на себя тяготы ведения товарного хозяйства. Большинство предпочли сохранить колхозно-общинную форму хозяйствования, теперь уже в виде фермерских ассоциаций — неуклюжей попытки сохранить неэффективное коллективное землепользование. Местные власти поддерживали это, стремясь сохранить по сути общинные отношения на селе. Ведь члены ассоциаций — не фермеры, а все те же колхозники.
Конечно, развитию фермерства препятствует отсутствие инфраструктуры, рабочих рук, трудности с получением кредитов, но главная проблема — психологическая. Это доказывает опыт корейцев и китайцев, которые арендуют поля у местных жителей и получают немалые доходы. Об этом же свидетельствует успех российских частных предпринимателей, которые выкупают земли и хозяйства бывших колхозов и делают из них прибыльные сельсхозпредприятия. Необходимым условием таких позитивных перемен является оформленная частная собственность на землю, которую можно продать, купить,
сдать в аренду.
“Вольные хлебопашцы” при Александре I жили и трудились на государственной земле. С тех пор прошло 200 лет, а чиновники по-прежнему вынуждают фермеров арендовать землю у государства или муниципалитетов, фактически сохраняя феодальные отношения. На 1 января 2010 года они арендовали у государства или муниципалитетов 33,6?% обрабатываемых ими земель, и только 29,7?% земель находилось в собственности фермерских хозяйств.
Необходимо передать в частную собственность фермерам арендуемые ими государственные и муниципальные земли, реформировать законодательство, организовать жесткий прессинг “сверху” и “снизу” на местную бюрократию. Фермерская земля должна продаваться, покупаться, сдаваться в аренду, выступать в качестве залога в банках и при необходимости отчуждаться ими. Следует предоставить фермерам право строить на ней технические сооружения и жилые дома.
Что делать с личными подсобными хозяйствами?
В сельской местности граждане, как правило, владеют участками для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) — этого рудимента крепостного права, царского и советского. Земля была закреплена за крестьянами на основе обычаев, передавалась по наследству по традиции. Уже нет помещиков, сгинули колхозы, но все еще сохраняется феодальный уклад на селе. Такой земли, приусадебной и полевой, по всей России — 7,2 млрд га. Ее обрабатывают 16,1 млн человек при среднем размере надела в 0,45 га. На 1 января 2010 года на земли ЛПХ приходилось 73,6?% всей земли, находившейся в пользовании тех, кто ее обрабатывает12. На этих наделах крестьяне производят не менее половины всей сельскохозяйственной продукции.
В отличие от фермерского, личное подобное хозяйство (ЛПХ) можно вести без образования юридического лица или получения статуса семейного крестьянского хозяйства, не покидая основного места работы. Это переходная форма от одного образа жизни к другому внутри сельского хозяйства.
Выделение земли под ЛПХ регулируется Законом “О личном подсобном хозяйстве”, который не учитывает многие реалии сегодняшней жизни, а главное, не побуждает местные власти приватизировать земельные участки ЛПХ. В одних случаях строить на данных землях дома и технические сооружения разрешено, в других — категорически запрещено. Не менее трети подобных хозяйств размещены на муниципальной и государственной земле — со всеми вытекающими отсюда рисками.
Для повышения эффективности использования участков нужно отказаться от пережитков феодальных отношений, оформить на них права частной собственности и включить в оборот. Впрочем, одной приватизацией проблемы ЛПХ не решить. Следует законодательно разрешить строить на таких землях сооружения, необходимые для ведения сельского хозяйства; сдавить участки в аренду; использовать их в качестве залога для получения кредита и возможности их отчуждения по суду; переводить эти участки в категорию фермерских для увеличения земельного надела и создания семейных ферм. Сегодня максимальный размер общей площади участков, которые могут находиться одновременно в собственности или в ином праве у граждан, ведущих подсобные хозяйства, — 0,5 га. Его можно увеличить законом субъекта Федерации, но не более чем
в 5 раз13.
Поскольку частная собственность должна служить не только ее владельцу, но и общественным интересам, развитые страны для сохранения традиционного сельскохозяйственного уклада нередко запрещают продажу земельных угодий, если меняется их целевое назначение. Хорошо бы и нам ввести такое ограничение. Также целесообразно не допускать дробления участков при наследовании и удлинить срок выплаты компенсации наследником. Например, в европейских странах она выплачивается в рассрочку в течение десяти лет.
Земли садоводов
Миллионы людей в России владеют садовыми участками и приусадебной недвижимостью. На 1 января 2009 года 14 млн садовых участков занимали площадь 1,25 млн га земли в зарегистрированных дачных обществах, около 830 тыс. га земли числилось за строящимися дачными объединениями. Сведений о количестве участков, принадлежащих гражданам на правах легальной частной собственности, найти не удалось. Впрочем, в публикациях о “дачной амнистии” звучала цифра 12?% удачно приватизированных дачных участков на конец 2008 года. Остальные миллионы дачников законных прав собственности на участки и дома не имеют.
До сих пор треть (688 тыс. га) земель садовых товариществ находится в государственной и муниципальной собственности, а у граждан — в срочном или бессрочном пользовании, что противоречит Земельному кодексу. Чиновники всегда могут изъять их или использовать в целях, противоречащих интересам граждан. Суды в таких тяжбах традиционно становятся на сторону государства.
Действующее законодательство по “дачной амнистии” настолько забюрократизировано, что для оформления документов даже с помощью юридической компании требуется более полугода и обходится не менее чем в 25 тыс. рублей. Самостоятельно оформить землю можно за 10 тыс. рублей, однако лишь немногие готовы потратить такую сумму и отстоять длинные очереди. Деколлективизация облегчит судьбу садоводов и резко ускорит темпы “дачной амнистии”.
Закон ограничивает право граждан на регистрацию постоянного проживания в садовых домах. Конституционный суд поправил законодателей, но практика правоприменения пока далека от разумной. Между тем круглогодичная жизнь людей на даче привнесла бы в сельскую местность городскую культуру, обеспечила бы приток налогов в местный бюджет и поддержку социальной инфраструктуры, а в городах снизилась бы острота жилищной проблемы.
Земли под частными предприятиями
Важной составляющей деколлективизации должна стать приватизация земель, находящихся в пользовании юридических лиц на возмездной и безвозмездной основе, и под частными приватизированными предприятиями. Такая приватизация должна проводиться на конкурсной основе и быть абсолютно прозрачной. Учитывая отечественный опыт, здесь тоже нельзя дать разгуляться аппетитам чиновников.
Необходимость стимулировать развитие отечественных предприятий, повышать их капитализацию и инвестиционную привлекательность требует как можно скорее найти приемлемый для общества способ передавать участки под приватизированными предприятиями их собственникам. Возможно, от них потребуется внести в бюджет или
в Пенсионный фонд компенсацию за землю с учетом ее реальной ценности. Здесь главное — четкие правила и прозрачность установления цены, реальный общественный контроль за сделками приватизации, иначе обществу не достанется ничего, всё уйдет в карманы чиновников.
Соблюдая общественные интересы, следует регистрировать право собственности на землю за тем юридическим лицом, которое непосредственно ведет на ней операционную деятельность, то есть приватизированная земля не должна числиться ни за какой оффшорной компанией. В договоре о безвозмездной приватизации земли, занятой предприятием, и в некоторых случаях при ее выкупе полезно прописать обязательства выгодоприобретателя по инвестициям в НИОКР и модернизацию предприятия. После исполнения этих обязательств все ограничения на оборот земельного участка должны быть сняты.
Предприятия со смешанной собственностью — с участием государства или органов местного самоуправления — зачастую находятся в тяжелом финансовом положении. Продажа пакетов их акций, сопряженная с приватизацией занимаемой ими земли, не только даст им рачительных хозяев, но и позволит получить дополнительные средства на развитие.
В России в сфере малого и среднего бизнеса многочисленные объекты возведены как “временные сооружения”. И находятся они под постоянной угрозой сноса по воле чиновников, которые снимают с этого административную ренту. Вернув такие объекты в “белую” зону, мы получим не только экономический, но социальный и политический эффекты: распадутся коррупционные схемы, которые сопутствуют официальному статусу “временное сооружение”, “временный объект”. Необходимо провести учет всех “временных сооружений”, имеющих признаки капитальных (фундаменты, инженерные сети, прочие коммуникации), и признать право частной собственности на них.
Отвечающим санитарным и противопожарным нормам сооружениям, возведенным “диким” способом, тоже нужна амнистия. Участки под ними должны выкупаться по кадастровой стоимости в рассрочку с учетом срока давности их приобретения, предусмотренного Гражданским кодексом.
Сколько придется потратить на деколлективизацию и за чей счет?
Сколько земли россияне используют индивидуально? Садовые участки — 2,08 млн га, городской “частный жилой сектор” — 2,68 млн, сельский “частный жилой сектор” — 3,04 млн, личные подсобные хозяйства (приусадебные и полевые) — 7,21 млн, земли фермеров-индивидуалов — 4,63 млн га. Итого: 19,64 млн из 570 млн га земли, которую следует считать товарной, или всего 3,51?%.
Именно с приватизации этих земель в интересах их сегодняшних пользователей должна начаться деколлективизация за счет государства. Почему должно платить государство? Потому что это будет акт искупления его грехов перед народом, особенно за советское обобществление и коллективизацию. Потому что это станет частью социальной политики, в том числе и борьбы с бедностью, через инвестирование в граждан. Такой акт войдет в народную память как знаковое событие, как отмена крепостного права 1861 года. Шутка ли — передать народу в частную собственность почти 20 миллионов гектаров земли! Это же территория такой страны, как
Белоруссия!
Во что обойдется государству деколлективизация? Землеустроительные работы на рынке оцениваются в 10 тыс. рублей за 1 гектар следовательно, на 20 млн га потребуется выделить 200 млрд рублей. Но государство как единственный заказчик может диктовать свою цену. Если снизить ее раза в три (до 3 тыс. рублей за 1 га), затраты сократятся до 65–70 млрд рублей. Подрядчики должны согласиться, ибо заказ огромный, для них эта работа создаст серьезный операционный денежный поток. Если деколлективизация продлится три года14, то на год придется порядка 23 млрд рублей (менее 1 млрд долларов). Для сравнения: коррупционный оборот в России оценивается в 300 млрд долларов в год, а доходы от продажи нефти за рубеж в 2011 году выросли на 42,7 млрд долларов и составили 171,7 млрд долларов15.
Придется расширить штат земельных комитетов и регистрационных палат на местах. Министерство финансов предлагает сократить 200 тысяч чиновников — вот вам и временные кадры на три года. По окончании деколлективизации их можно распустить, а на работу брать только по срочным контрактам на 1 год. На саму организацию деколлективизации потребуется примерно 15?% денежного потока (стандарт для инвестиционных планов), т.е. примерно 9–10 млрд рублей.
Из каких источников финансировать деколлективизацию, если не трогать вечно напряженный бюджет? Учтем, что оформление прав частной собственности ведет к увеличению налогооблагаемой базы, к капитализации, у граждан вырастает человеческий капитал. Значит, вложения в землеустройство выгодны. Опять же всё вложенное останется в стране и прирастет капиталом. Можно попытаться спрогнозировать мультипликативный эффект от таких инвестиций, но ясно, что он будет кратным от вложений.
Почему бы регионам не выпустить специальные облигации на цели деколлективизации, по сути, взять кредит у граждан, банков и иных юридических лиц? Не исключено, что их доходность окажется не ниже доходности тех ценных бумаг, в которых сейчас хранятся средства “Фонда будущих поколений”. Тогда есть прямой смысл уже сегодня вложить часть его денег в будущие поколения.
Альтернативы реформам нет
На международных форумах президент В.В. Путин пытается убедить иностранцев вкладывать деньги в Россию, но они не верят в наши гарантии частной собственности, в объективность российских судов, в уменьшение административных и коррупционных барьеров для бизнеса. И надо сказать прямо, что сам президент дал немало поводов к тому, чтобы не верить ему лично, не говоря уже об огромном штате его подчиненных. Деколлективизация, т.е. массовая приватизация земли, наглядно продемонстрирует реальное укрепление частной собственности
в России.
Опять же погружение людей в “освоения” своей частной собственности поможет сгладить трудности модернизации российской экономики, удержать общество от социальных катаклизмов. Граждане не будут “раскачивать лодку”, а правящий класс престанет раздражать общество, отойдя от практики изъятия административной ренты.
Сегодня Греция переживает бюджетный кризис, спровоцированный снижением важнейшей для этой страны статьи доходов — доходов от туризма. Люди, недовольные падением жизненного уровня, выходят на демонстрации, которые переходят в массовые беспорядки. В демонстрациях участвуют анархистские группировки, профсоюзные активисты, студенты, госслужащие и безработные, но не предприниматели, хотя они тоже испытывают трудности. Почему? Потому что бюджетники требуют от властей прекратить ужесточать режим экономии, урезать расходы бюджета, не заботясь, откуда возьмутся деньги, а частники привыкли рассчитывать на себя, у них другая психология и у них есть собственность, которую необходимо сохранить.
Подобную критическую ситуацию в России может спровоцировать резкое падение цен на нефть. На кого тогда сможет опереться власть? На частников. Альтернативой реформам, направленным на укоренение частной собственности, будет смута, и правящий класс окажется выброшенным из политической жизни вместе со своей “программой развития до 2020 года” и другой бутафорской державной атрибутикой. Возникнет риск разрушения самого государства и “обрушения” общества. Мировой истории известны только эти два пути. И никаких иных, “особых”, “третьих” путей!
Несовпадение взглядов общества и правящей бюрократии на то, что нынче надо делать для развития страны, неизбежно приведет к тому, что скоро “верхи” уже не смогут, а “низы” уже не захотят... Последствия могут быть разными: от февраля–октября 1917 года до августа 1991 года. Нежелание делиться собственностью с народом убило имперский класс царской России; тотальное обобществление похоронило правящий класс Советского Союза. Если же нынешний правящий класс не осознает губительных последствий проводимой им “советизации” страны, он тоже будет ниспровергнут.
Похоже, власти все же начинают понимать эту опасность. В октябре 2012 года Путин потребовал создать публичный кадастр земель, чтобы любой гражданин имел право заявить о своем желании купить конкретный участок на открытых торгах, которые обязана проводить местная власть. Но будет воплощено в жизнь это требование? Ведь высокопоставленные чиновники из администрации президента в личных беседах честно признают, что в режиме нынешнего “ручного управления” почти треть указов президента и распоряжений правительства не исполняется. Наша авторитарная политическая система, где отсутствует даже политическая конкуренция, выполняет подобные указания, только если они не ущемляют корыстные интересы чиновников.
Социальное партнерство между народом и власть имущими возможно, если у власти найдутся силы, готовые на масштабные политические и экономические реформы, в том числе земельную. И не по большевистскому принципу “отнять и поделить”, а путем деколлективизации, защищая граждан от произвола чиновников. Такая политика позволит власти получить определенные
гарантии и чувствовать себя более или менее комфортно. А выиграют от этого все.
Примечания
1 http://nextrus.ru/election-news/304-ottok-kapitala-iz-rossii-v-2011-vjros-v-25-raza.html
2 http://www.liveinternet.ru/tags/%F3%F2%E5%F7%EA%E0+%EC%EE%E7%E3%EE%E2/
3 http://akkor.ru/cifri/doklad–o–sostoyanii–i–ispolzovanii–zemel–selskoxozyajstvennogo–naznacheniya.html
4 ВЦИОМ. Самоидентификация россиян в начале XXI века // Московский комсомолец. 03.07.2002.
5 www.isras.ru
6 Там же.
7 http://akkor.ru/cifri/doklad-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemel-selskoxozyajstvennogo-naznacheniya.html
8 Франшиза (franchise – льгота, вольность) – личная материальная ответственность застрахованного лица, объем которой устанавливается страховым договором. Ущерб, превышающий франшизу, возмещается страховой компанией (Ред.).
9 Бродель Ф. Грамматика цивилизаций. М.: Весь мир, 2008.
10 Бетелл Т. Собственность и процветание. DJVU. М.: ИРИСЭН, 2008.
11 Закон “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения” № 435-ФЗ от 29 декабря 2010 года.
12 http://akkor.ru/cifri/doklad–o–sostoyanii–i–ispolzovanii–zemel–selskoxozyajstvennogo–naznacheniya.html
13 Федеральный закон “О внесении изменений в статью 217 части второй Налогового кодекса РФ и статью 4 Федерального закона “О личном подсобном хозяйстве”” № 147-ФЗ от 21 июня 2011 года.
14 За 8 лет столыпинской реформы при технических возможностях и средствах связи того времени работы по межеванию были проведены на площади примерно 22 млн га, землеустроительные работы – на 6,5 млн га. Представляется, что сегодня, имея спутники, системы GRPS и компьютеры, с большим в 3,5 раза объемом землеустроительных работ можно справиться именно за три года.
15 http://top.rbc.ru/economics/06/02/2012/636449.shtml
Опубликовано в журнале:
«Вестник Европы» 2012, №34-35
Объемы инвестиций в недвижимость в Европе должны вырасти в 2013 году, по иронии судьбы, благодаря кризису еврозоны.
Компания Ernst & Young подготовила отчет о том, как в Европе видят перспективы вложений в недвижимость. В отчете говорится, что объем сделок в 2013 году увеличится благодаря притоку международных инвестиций, причем продолжающийся кризис еврозоны и опасения по поводу инфляции не ослабят, а наоборот, укрепят эту тенденцию. Об этом сообщает портал OPP Connect.
По данным Ernst & Young, доверие к рынку недвижимости выросло в большинстве стран с момента прошлогоднего исследования. Более двух третей респондентов в 13 из 15 исследуемых стран оценили свою страну как привлекательную для инвестиций в недвижимость в 2013 году, в том числе и в сравнении с остальными регионами.
Самыми оптимистичными оказались инвесторы из Польши (45% респондентов оценили свою страну как привлекательную для вложения средств). За ней следуют Швеция (42%), Германия (41%) и Турция (40%).
Только в Италии и Испании, где кризис еврозоны сильно затронул жилищный сектор, большинство участников рынка оценили свою страну как менее привлекательную для вложений в недвижимость.
По всей Европе три четверти респондентов прогнозируют, что объемы продаж в 2013 году превзойдут показатели 2012 года. Только лишь в Италии ожидается снижение объемов продаж.
В большинстве стран ожидают значительное увеличение интереса зарубежных инвесторов к местной недвижимости по сравнению с 2012 годом. Самыми оптимистичными странами при этом оказались Швейцария и Германия.
Отчет Ernst & Young основан на опросе более 500 инвесторов в недвижимость в таких странах, как Австрия, Бельгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Польша, Россия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Украина и Великобритания.

Непотопляемый
Вячеслав Колосков — о том, почему Анатолий Тарасов всегда возил в багажнике курицу, о тревожных снах на чемодане, набитом долларами, о побеге Могильного за океан и роли рок-н-ролла в жизни советского чиновника, а также о том, как брал в заложники Блаттера и Юханссона
Мало кто из российских спортивных функционеров вызывает столь противоречивые чувства, как Вячеслав Колосков. Непотопляемый, Слава-лототрон — это лишь некоторые из кличек, которыми болельщики наградили чиновника, в течение целого олимпийского цикла руководившего отечественным хоккеем, а потом еще почти тридцать лет — футболом. В то же время Колоскову принадлежит огромная заслуга в том, что в нашей стране проходили финалы Лиги чемпионов и Кубка УЕФА, а в 2018 году состоится чемпионат мира. Да и сейчас — случись что в футбольном мире — за советом и комментарием первым делом обращаются именно к пенсионеру, оказавшемуся вроде бы на периферии спортивной жизни.
— Ваши спортивные увлечения, Вячеслав Иванович, практически поровну поделены между футболом и хоккеем. За каким видом спорта больше следите сейчас, отойдя от дел?
— Конечно, за футболом, все-таки последние тридцать лет я занимался именно им. Поэтому и футбольная жизнь мне куда более интересна, чем хоккейная. Хожу на матчи премьер-лиги и национальной команды, посещаю встречи московского «Торпедо» в первенстве ФНЛ, по телевидению смотрю игры зарубежных чемпионатов. За хоккеем практически не слежу, интересуюсь только поединками сборной.
— По степени вовлеченности в два самых популярных вида спорта с вами может конкурировать разве что легендарный Всеволод Бобров, который оставил очень серьезный след и в футболе, и в хоккее. Вы с ним пересекались?
— Впервые я увидел Боброва на хоккейном чемпионате мира 1957 года, организованном в нашей стране. Матчи проходили на открытом льду стадиона «Динамо», на них собирались десятки тысяч болельщиков. Естественно, пропустить такое событие было невозможно. Познакомиться лично с Всеволодом Михайловичем довелось много позже, когда он стал тренером и возглавлял сначала футбольный ЦСКА, а потом алма-атинский «Кайрат». Но общались мы мало, поскольку работал там Бобров недолго. А вот с другой легендой отечественного спорта — Эдуардом Стрельцовым мне доводилось встречаться даже на футбольном поле. Параллельно с учебой в Институте физкультуры я выступал за мужскую команду «Трудовых резервов» в чемпионате Москвы. Первенство города в то время было очень мощное, играли сумасшедшие по своему составу команды. К примеру, цвета «Спартака» защищали Старшинов и братья Майоровы.
Стрельцов тогда только-только вернулся из заключения. Играть за команду мастеров ему еще не давали, а вот разрешение выступить на любительском уровне руководство ЗИЛа пробило. В матче на нашем стадионе «Крылья Советов» мы встретились лицом к лицу: Стрельцов действовал на позиции центрального нападающего, я был центральным защитником. Мы проиграли 0:2, один из голов забил Эдик — как раз из-под меня. Пребывание в тюрьме, может быть, сказалось на его скорости, но ничуть не повлияло на технику. Даже после вынужденной паузы он оставался большим мастером.
— Знаю, у вас было бедовое детство. Могли разделить судьбу Стрельцова?
— Все могло быть. Я родился в 1941 году в Измайлове, это был один из самых бандитских районов в Москве. Мы жили в бараке, среди соседей хватало тех, кто сидел за воровство, ограбления, поножовщину. Они возвращались из тюрьмы, тут же совершали новое преступление и опять отправлялись за решетку. Во дворе время от времени происходили серьезные стычки, в том числе и с применением холодного оружия. Жизнь тогда была очень тяжелая: вода в колонке, туалет на улице, дрова в сарае. Вся среда располагала к тому, чтобы сбиваться в стаи и точить зубы.
Помню, жил в нашем доме такой паренек, Володя Лобанов. В одной из передряг его пырнули ножом, и вот мы, детвора, бегали смотреть на рубашку, которую его мать отстирывала от пятен крови. Рубаха эта висела на веревке перед домом, сбоку в ней зияла дыра. Нам тогда казалось, что это очень круто, Лобан в наших глазах был настоящим героем. Пацаны моего возраста участвовали в проделках помельче, например, воровали на конюшне жмых. Нынешнее поколение даже слова такого, наверное, не знает. Жмых спрессовывали в плитки, которыми потом кормили лошадей. Мы их разламывали на части и использовали в качестве жвачки. Еще воровали арбузы: делали пику, привязывали к ней длинную веревку и забрасывали через забор. После того как снаряд попадал в цель, его вместе с добычей с помощью веревки вытаскивали обратно.
— Родителям заниматься воспитанием было некогда?
— У многих отцы погибли на фронте, а матери разрывались между работой и домашним хозяйством. Я, правда, у своей мамы почти все время находился на глазах. Она была дворником и старалась постоянно контролировать меня. Будила в четыре утра, и до семи мы с ней махали метлой или лопатой, потом я шел в школу. Особенно тяжело приходилось зимой: у матери был свой участок, с которого нужно было не только убрать весь снег, но и вычистить его до черноты. Для этого существовали специальные скребки, сделанные из двуручной пилы. Ими чистили тротуар, вымощенный гранитным булыжником, так, чтобы между камнями не было грязи. Если же она все-таки оставалась, можно было схлопотать приличный нагоняй от участкового.
Вместе с матерью зимой во дворе я заливал каток, на котором проходили наши хоккейные баталии. В футбол мы играли в измайловском лесу — там был маленький пятачок с самодельными воротами. В 7 лет мне крупно повезло, меня взяли в «Трудовые резервы». Команды этого общества выступали на стадионе «Медик» в Измайловском парке, там я и начал всерьез осваивать кожаный мяч. К тому времени у меня уже было некоторое представление об этой игре, основанное прежде всего на репортажах о турне по Англии московского «Динамо» осенью 45-го. У нас в комнате стоял репродуктор, такая черная тарелочка, тогда-то я впервые услышал фамилии Бескова, Соловьева, того же Боброва...
— Антиподом Всеволода Боброва был знаменитый Анатолий Тарасов. Вы ведь с ним работали вместе?
— С Тарасовым я познакомился вскоре после того, как с отличием окончил Институт физкультуры, ГЦОЛИФК. Меня оставили преподавателем на кафедре футбола и хоккея. Как-то раз ее заведующий Михаил Давидович Товаровский — светлая ему память, золотой человек был — говорит: мол, один мой знакомый ищет специалиста, который помог бы по-научному грамотно построить тренировочный процесс хоккейных команд. Прихожу к нему в кабинет, а там Тарасов сидит. Конечно, я его сразу узнал — великий тренер бессменного чемпиона страны столичного ЦСКА и сборной СССР. Мы познакомились, начали сотрудничать и впоследствии провели очень много времени вместе на сборах. Довольно часто полемизировали по поводу физических нагрузок. Я считал, что целый ряд упражнений не развивает, а только утомляет хоккеиста, и предлагал заменить их целевой, специфической нагрузкой. Со временем мы подружились: ходили вместе в баню, выпивали иногда, в командировки ездили.
— Владислав Третьяк мне рассказывал, что ходить вместе с Тарасовым в баню было невозможно — до того фанатично он парился.
— Знаете, в Институте физкультуры был специальный курс, на котором учили правильно париться. Преподаватель рассказывал: если температура переваливает за отметку 120 градусов, нужно взять обычную мочалку, окунуть в холодную воду и вложить в рот. Будет легче дышать, и пар не обожжет горло. Тарасов же пошел еще дальше. Он ложился на полку, наливал в шайку холодную воду, опускал туда голову и пил. Его обрабатывали в четыре веника, а ему — хоть бы хны! И все же лучше всего всегда парились лыжники. Я был знаком с тренером Каменским, работавшим в сборной СССР с Вячеславом Ведениным и многими другими, и ходил с ним по четвергам в Центральные бани. Так вот, у лыжников был шикарный пар — горячий, но не обжигающий тело. Да и все остальное они тоже делали по науке: тот, кто парит, обязательно надевал шерстяную футболку, шапочку и огромные рукавицы.
В этом деле вообще много тонкостей. Нужно уметь правильно подготовить помещение, чтобы оно было сухим и вместе с тем в меру влажным. Как войти в парную, когда можно разговаривать, а когда нет — все это целая премудрость. Я очень люблю баню, каждую пятницу хожу в Сандуны. У нас образовалась компания футбольных людей — Борис Игнатьев, Михаил Гершкович, Александр Тукманов, Юрий Заварзин... Друг друга знаем по пятнадцать — двадцать лет, все знатные любители попариться. Случайных посетителей, способных плеснуть на камни пару шаек воды и все испортить, там нет.
— Вы упомянули совместные застолья с Тарасовым. Правда, что в багажнике своей «Волги» он всегда возил водочку, квашеную капусту?
— Еще там обязательно была отварная курица и соленые огурцы. Из напитков помимо водки — ягодные настойки на спирту. Он изготавливал их сам и меня научил. Я до сих пор их делаю из черной смородины, брусники и клюквы. Кстати, вопреки распространенному мнению пил Тарасов не очень много. Никогда не видел, чтобы он употребил больше 300 граммов.
Работали мы достаточно дружно, серьезная размолвка случилась лишь однажды. Я изобрел телеметрический прибор, с помощью которого записывал частоту сердечных сокращений хоккеистов во время тренировки. Наклеивал на грудь ребятам присоски с электродами и подключал их к специальному устройству, выводившему кривую. Обычно я приезжал минут за 40 до начала занятия, примерно к этому времени подтягивался и Анатолий Владимирович. Кто из игроков станет объектом моих наблюдений, мы всегда договаривались заранее. В тот раз эта доля выпала Фирсову. Прицепил я ему свои присоски и принялся ждать Тарасова, который почему-то запаздывал. Тренер влетел в раздевалку за несколько минут до выхода на лед, взъерошенный, возбужденный. Увидел меня и с порога начал орать: «Да вы тут затерроризировали всех своими приборами. Ну-ка марш отсюда!» — и еще пару крепких словечек добавил. Я ничего не понимаю. Словно ошпаренный, срываю с Фирсова присоски, думаю: все, конец совместной работе. После тренировки Тарасов, не взглянув на меня, пробурчал: «Идем в кабинет!» А там, вдруг повеселев, без обиняков признался: «Ну да, задержался. И ты хотел, чтобы ребята все занятие это обсуждали?! Нет уж, пусть лучше они тебе косточки перетирают». Понимаете, он переключил внимание команды со своего опоздания на меня. Помню, это очень задело, некоторое время я продолжал обижаться на тренера. Но потом негативные эмоции ушли.
— Как отнеслись к появлению постороннего звезды ЦСКА?
— Несколько раз меня проверяли, что называется, на вшивость. К примеру, на летних сборах в Кудепсте ребята тренировались по пять часов в день, тем не менее умудрялись и выпить, и на танцы сходить. Кузькин, Рагулин, Володя Брежнев неоднократно предлагали: давай, мол, наука, сбегай за винцом. Я понимал, что поддаваться нельзя, что это провокация — втянуть меня, а потом сделать заложником ситуации. Я отказался раз, два, потом они от меня отстали...
— Знаю, несколькими годами позже уже в качестве начальника Управления хоккея Спорткомитета СССР вы принимали участие в организации турне ЦСКА и «Крыльев Советов» по Северной Америке, которое получило название Суперсерия-1976.
— Я ездил на переговоры с Кларенсом Кэмбеллом, тогдашним президентом Национальной хоккейной лиги. Отношение к нашему хоккею в Канаде после Суперсерии-1972 поменялось, но не кардинально. Соперники по-прежнему считали себя гораздо сильнее нас. Готовившееся турне должно было доказать, что даже на клубном уровне советские хоккеисты могут обыгрывать сильнейшие заокеанские команды. Подводных камней в процессе переговоров было много. Прежде всего требовалось обеспечить безопасность нашей делегации, поскольку существовала угроза провокаций. Другим спорным вопросом были финансы. Заокеанская сторона настаивала на выплате денег по окончании всего турне, мы требовали производить расчет после каждого проведенного матча. Гонорар за одну игру составлял 200 тысяч долларов, за восемь поединков набегало больше полутора миллионов. Сумма по тем временам сумасшедшая! Часть денег шла в бюджет Спорткомитета, остальное доставалось хоккеистам.
Тем не менее гладкого течения серии обеспечить не удалось. В Филадельфии Бобби Кларк преследовал Харламова буквально по пятам: то по ногам его ударит, то по печени, то по лицу. В конце концов главный тренер ЦСКА Константин Локтев был вынужден увести команду в раздевалку. Зрители начали бесноваться, стали кидать на арену пакетики с чернилами. При ударе о лед полиэтилен рвался, образовывалось черное пятно. Под трибунами тем временем шла жаркая дискуссия. Больше всех кипятился Алан Иглсон, возглавлявший профсоюз игроков НХЛ. Это был известный мастер блефа и шантажа.
«Откажетесь продолжать матч — денег не увидите!» — кричал он. «Пожалуйста, здоровье игроков нам дороже», — спокойно возражал я, прекрасно понимая: заокеанская сторона не рискнет пойти на финансовые потери. В итоге мой расчет оправдался, канадцы признали обоснованность претензий. Команды вышли на лед и завершили матч.
— Гонорары за проведенные в Северной Америке матчи выплачивались наличными или переводились на банковский счет?
— Мне приносили в конверте пачки денег, которые я складывал в чемодан и хранил в гостиничном номере. Не скрою, держать у себя такую сумму было страшновато. Днем нас сопровождала охрана, но ночью-то в номере я оставался один. Однажды просыпаюсь словно от какого-то толчка и вдруг вижу: входная дверь открывается, в проеме — два силуэта. А у меня под кроватью около шестисот тысяч долларов, не меньше. Хватаюсь за выключатель настольной лампы, врубаю свет. Дверь раз — и тут же захлопнулась. Выяснить, кто это был, естественно, не удалось, но бдительность я усилил еще больше.
— Хоккейные звезды минувших лет говорят о совершенно особой обстановке, царившей в те годы в сборной. Они приукрашивают действительность или все так и было?
— Помню, на одном из чемпионатов мира, по-моему, в Германии, наши ребята в очередной раз выиграли золотые медали. В решающем поединке одолели главных соперников — чехов — и безоговорочно стали лучшими. После этого мы выдали игрокам суточные: небольшие, что-то вроде 550 марок. Сценарий празднеств был стандартным: прием в городской ратуше, награждение, официальный банкет. С банкета ребята поехали праздновать дальше. Утром просыпаюсь, иду на завтрак. Подходит ко мне капитан команды Борис Михайлов и говорит: мол, игроки приняли решение скинуться по 15—20 марок для Валеры Харламова. «Зачем? Что случилось?» — недоумеваю. Оказалось, они после общего банкета пригласили отметить окончание чемпионата чехов — Глинку, Поспишила и других. Счет вызвался оплатить Харламов, и у него не осталось ни копейки. А ведь надо было еще подарки купить: отцу, матери, сыну новорожденному. «Конечно, я не возражаю, — говорю. — И свою долю тоже внесу». Вот такие отношения царили в нашей команде. Один угощал непримиримых соперников, с которыми еще несколько часов назад вел ожесточенную борьбу, другие потом помогали ему из своих скромных суточных.
Или другой случай. Сборная летела на серию матчей в Канаду, пересадка была в Амстердаме. Пока ждали рейса, Валера Васильев и Саша Гусев успели махнуть пару рюмок. Приходит ко мне Виктор Васильевич Тихонов: мол, двое нарушили режим, что будем делать? «Наказывать обязательно», — отвечаю. Тихонов мнется: он только-только возглавил сборную, и проявлять жесткость ему было немного не с руки. «Может, вы сами как руководитель делегации?» — спрашивает. Выхожу, объявляю: «Гусев с Васильевым минус 500 долларов». Такой тариф у нас был тогда за подобные нарушения. Через несколько дней узнаю: после первой игры вся команда скинулась в пользу пострадавших. Без лишних обсуждений и дискуссий, по закону солидарности.
— Чрезвычайные ситуации за рубежом в вашу бытность руководителем советского хоккея случались?
— Самое главное ЧП было, когда Сашка Могильный после чемпионата мира-1989 убежал в США. Дело происходило в Швеции, мы тогда снова золотые медали выиграли. Закончилась последняя игра, за ней последовала вся обязательная программа — прием в ратуше, награждение, банкет. Вернулись в гостиницу, еще раз накрыли стол — уже только для своих. Спать разошлись где-то в районе двух. Завтрак был рано, около семи, надо было спешить на самолет. Просыпаюсь, врач команды докладывает: одного нет. Могильный жил в номере с Сергеем Федоровым, я — к нему. Тот головой качает: мол, ничего не знаю. Разделся, лег спать, а куда сосед делся — не в курсе. Все стало ясно, хотя надежда еще теплилась: вдруг Могильный загулял или в городе заблудился? Сразу оповестил о случившемся посольство, те вызвали полицию. Дали команду перекрыть аэропорт, да только самолет уже улетел.
— А как же представитель соответствующих органов, приставленный следить за моральным обликом членов делегации? Такие люди сопровождали наши команды в каждой зарубежной поездке.
— Обычно они имели должность заместителя руководителя делегации по воспитательной работе, но на деле являлись сотрудниками КГБ. В их задачу входил сбор информации на каждого спортсмена и тренера. За рукав никто никого не дергал, пальцем не грозил, и можно было никогда не узнать, что в компетентные органы по поводу твоей персоны поступил сигнальчик. Со мной такая история случилась как раз во время Суперсерии-1976 в Северной Америке. В состав делегации входил некий Подобед, он был моим замом. После одного из матчей хозяева пригласили вместе отметить Новый год. С нашей стороны были я, Константин Локтев, Владимир Юрзинов, канадцев представляли Иглсон, переводчик Агги Кукулович и еще несколько человек. Когда поступило приглашение, я сразу решил, что нужно сказать о нем Подобеду. Пусть лучше все увидит собственными глазами, чем потом услышит от других. Позвонил ему в номер, позвал: он сначала колебался, но потом согласился прийти. Появился в чем был — в шлепанцах на босу ногу, тренировочных брюках, разве что не в пижаме. Сидел тихо в уголке, в общих разговорах участия не принимал.
Вечеринка прошла без эксцессов, часа в два ночи мы разошлись спать. И только лет через пять я совершенно случайно узнал, что после возвращения на меня от Подобеда поступила докладная. Дескать, в беседе с иностранцами Колосков недостаточно активно пропагандировал идеи Советского Союза. Знакомые ребята в КГБ, которые занимались этими делами, все удивлялись: как ты устоял? Обычно после таких сигналов все поездки за границу людям перекрывали, они становились невыездными. С меня же даже объяснений не затребовали. Могу предположить, что в курирующей организации собрали дополнительные сведения по этому делу. У них обычно не один информатор был, а несколько, которые взаимно дополняли друг друга.
— Однако из-под колпака компетентных органов вырваться вам все-таки не удалось.
— Гром грянул в 1984 году, во время Олимпиады в Лос-Анджелесе. Как известно, советская делегация в этих Играх участия не принимала. В США пустили только тех, кто занимал высокие посты в международных федерациях. Я в ту пору являлся вице-президентом ФИФА, был председателем оргкомитета по проведению олимпийских футбольных турниров. Оставить дома меня не могли, но присмотр был усилен. Первая галочка была поставлена, видимо, после того, как на открытии олимпийского футбольного турнира я станцевал рок-н-ролл. Представьте себе: идет торжественный прием, зал уставлен шикарными розами, столы ломятся от лобстеров и креветок. Вдруг ведущий приглашает меня с дамой на сцену, начинает играть музыка. Конечно, можно было скорчить пренебрежительную физиономию: дескать, вы что, я же советский человек! Но решил не отказываться. Тем более в институтские времена я играл в КВН, и определенные навыки художественной самодеятельности у меня имелись.
Главный же проступок я совершил, когда в книжном магазине Олимпийской деревни купил двухтомник Мандельштама и томик Бабеля. Книги на русском языке, издательство «Посев». Эмигрантская организация, но я этому факту как-то не придал значения. Прилетаю в Шереметьево, таможенник просит открыть чемодан, а книги — вот они, на самом верху лежат. Меня задерживают, препровождают в специальную комнату, снимают показания. Разражается скандал, документы по цепочке поступают сначала в ЦК КПСС, потом в райком партии, оттуда — в нашу партийную организацию. Мне вынесли выговор с занесением в учетную карточку. Дело могло окончиться гораздо хуже, но я сумел защититься. В Ленинграде как раз впервые официально издали Мандельштама, мне эту книжку привезли. На заседании комиссии по моему делу я ее вытащил. «Вот, пожалуйста, — говорю, — точно такой же сборник, продается в магазине». Правда, разница все-таки была: ленинградское издание не содержало критических стихов о Сталине, а в привозном экземпляре они были. Но за меня заступился бывший председатель Спорткомитета Сергей Павлов, который не позволил дать ход делу. А через некоторое время с меня сняли и наложенный строгач.
— Насколько я понимаю, интерес к поэзии возник не на ровном месте. Вы вообще интересуетесь искусством, дружите со многими актерами и музыкантами.
— Оговорюсь сразу: близких друзей из числа артистов у меня немного. К таковым отношу Карину и Рузанну Лисициан и, конечно, Сашу Владиславлева, мужа Карины. Знавал я и самого Павла Герасимовича Лисициана. Когда стал работать в спорте, близко сошелся с комсоргом ЦК ВЛКСМ по воспитательной работе Володей Ясиным, через него познакомился с Владимиром Винокуром, Михаилом Ножкиным, Евгением Леоновым... Евгений Павлович вообще был нам близок, он часто ездил со сборной на крупные турниры. Хоккеисты его очень любили: каждый вечер перед отбоем команда собиралась в холле, и он рассказывал актерские байки, истории, анекдоты. Это позволяло ребятам на время отключиться от спорта, отдохнуть психологически. Во время футбольного чемпионата мира-1982 я встретился со Львом Лещенко и Иосифом Кобзоном, они приехали в Испанию в составе группы поддержки. С тех пор дружу с ними и с Левой Оганезовым, который выступал в качестве их аккомпаниатора.
— Вы возглавили советский футбол в июле 1979-го, годом позже случилось очень болезненное поражение нашей сборной на домашней Олимпиаде. Санкций за этот провал не последовало?
— Конечно, перед нами стояла задача завоевать в Москве золотые медали. Но не получилось. Начальство отнеслось к неудаче снисходительно: понимало, что я только осваиваюсь в новой роли. В хоккее на тот момент мы выиграли все, что возможно, — Олимпийские игры, Кубок Канады, Кубок вызова. В футболе дела обстояли много хуже. Первый вопрос, который возник: кого назначить главным тренером сборной? Футбольных специалистов я ведь толком не знал... Посоветовался с коллегами, выбор пал на Константина Бескова, который тогда работал в «Спартаке». Отправился к нему в Тарасовку с нехорошими предчувствиями: в середине 60-х Бесков уже возглавлял сборную, однако после второго места в розыгрыше Кубка Европы-1964 был отправлен в отставку. Я ждал отказа, но делать было нечего. Приехал, представился, рассказал о своем научном прошлом. Собеседник вдруг повеселел: «Я тоже написал диссертацию. Скоро буду защищать».
Стали разговаривать, контакт между нами установился очень быстро. Этому способствовал и патриарх «Спартака» Андрей Петрович Старостин, который все время был рядом. В общем, совместными усилиями мы уговорили Бескова вернуться. Началась коренная перестройка сборной: тренер сделал ставку на игроков, которых хорошо знал по совместной работе в клубе. Так в национальной команде появились Дасаев, Гаврилов, Черенков, другие отличные игроки. Несколько предыдущих крупных турниров сборная пропустила, потому что не смогла выйти из отборочной группы. Но чемпионат мира-1982 без наших футболистов уже не обошелся.
— Параллельно происходило ваше становление и в качестве одного из руководителей ФИФА. Тяжело ли было новичку отвоевывать свое место под солнцем?
— Отношение ко мне с самого начала было очень благожелательное. Я ведь пришел на место Валентина Гранаткина, занимавшего пост вице-президента ФИФА в течение тридцати с лишним лет. Коллеги по исполкому первое время то и дело вспоминали, как комфортно им работалось с Валентином Александровичем и насколько уважаемым человеком он был. Сразу после назначения шефство надо мной взял немец Нойбергер: подтянутый, улыбчивый, он производил очень приятное впечатление. Можете представить мой ужас, когда однажды президент ФИФА Жоао Авеланж рекомендовал его как самого молодого полковника абвера времен Второй мировой войны! Я похолодел, начал лихорадочно думать, что мне делать. Авеланж увидел мое замешательство и поспешил добавить: «Надеюсь, вы понимаете, что футбол находится вне политики». Сейчас я вспоминаю Нойбергера с большой благодарностью. Мы обсуждали предварительную повестку дня совещаний, он подсказывал, как вести себя в зависимости от ситуации.
Дело в том, что контингент в Международной федерации футбола тех лет был специфический. На заседаниях присутствовали высокопоставленные чиновники, офицеры, богатейшие люди мира. Скажем, египтянин Мустафа был генералом, аргентинец Карлос Лакост — адмиралом. Председателем Федерации футбола Великобритании являлся герцог Кентский, а Мексику представлял крупнейший телемагнат Гильермо Каньедо. И тут на их фоне — я, мальчишка из измайловского барака! Но ничего, потихоньку начали находить общий язык. Помню, приехал на первый исполком, после заседания по расписанию — обед. Достаю литровую бутылку водки, ставлю на общий стол: мол, угощайтесь, кто хочет. Многие из уважения подошли, выпили по рюмке в знак знакомства. После этого трудностей в общении стало меньше.
— Тонкости этикета быстро освоили?
— Этикет с дресс-кодом был для меня настоящей головной болью. Я даже в блокнот себе памятки записывал: синий пиджак, голубая рубашка — значит, галстук должен быть серым. Со временем выучил основные вещи, освоился. Много дало мне общение с Жоао Авеланжем, который относился ко мне очень тепло, даже по-отечески. Не зря я его иногда своим вторым отцом называл. Я бывал у него дома и на даче, он тоже приезжал ко мне в гости. Остаемся мы в контакте и по сей день: я присутствовал на его 90-летии, ездил и в Цюрих на 95-летие.
— Слышал, у вас была совместная поездка на Байкал, которая немного не задалась.
— Это была настоящая эпопея! (Смеется.) В середине 80-х Авеланж приехал в Россию со всей семьей: женой, дочерью и зятем Рикардо Тейшейрой. В то время не было таких современных, комфортабельных круизных пароходов, как сегодня. Нам дали два стареньких рыболовецких траулера после косметического ремонта. Кают-компания у них была отделана тонкими деревянными рейками, в каждой каюте — двухъярусные койки. Вышли мы в хорошую погоду, остановились в бухте, попарились. Авеланж, кстати, большой любитель этого дела: мы его в четыре веника обработали, он потом еще несколько раз в Байкал нырнул. Бывший пловец, закаленный человек: вода в озере плюс 12 градусов, а ему — хоть бы хны!
Стол от еды ломится, тогда с этим делом все просто было. Я позвонил в Армению, мне прислали коньяк. Из Грузии привезли сыр и вино, с Дальнего Востока — икру и рыбу. Подошли к острову Ольхон, и тут погода испортилась. Налетел знаменитый баргузин, набежали тучи, пошел дождь. Думаем: ладно, сейчас причалим, отогреемся. А там вместо теплой избушки оказалась приготовлена обычная восьмиместная армейская палатка, выстеленная лапником. В другой палатке стоит огромный стол из неотесанных досок, ящик водки, к дереву привязан блеющий баран — его должны были зарезать нам на ужин. У костра сидит бурят, черными от золы руками жарит хариусов. Приезжие дамы как увидели это, чуть в обморок не грохнулись. Дочь Авеланжа в слезы ударилась. Я в панике: траулеры уже ушли, ехать не на чем, а дождь все усиливается. Кое-как в палатку забились, сидим. Конечно, гости ни к водке не притронулись, ни к еде.
Чувствую, надо что-то делать. Связаться с местными властями мы не можем, раньше мобильных телефонов ведь не было. Пошли пешком на соседний аэродром, там все закрыто. Разбудили какую-то бабку, у которой был телефон, стали названивать в обком партии. Короче, через полтора часа нам с другого берега прислали уазик. Машина одна, а нас семеро — Авеланж, его жена Анна-Мария, Лусия с Тейшейрой, я, председатель областного спорткомитета и переводчица. С трудом разместились, едем — дорогу от дождя размыло, нас то в одну сторону бросает, то в другую. К утру добрались до устья Ангары, место Слюдянкой называется. Машин опять никаких нет. Председатель спорткомитета звонит начальнику милиции, тот присылает такой же уазик. Наконец на подъезде к Иркутску встречаем две черные представительские машины, которые шли за нами. Пересадили в них гостей — и на дачу к первому секретарю обкома Ситникову. Там сразу в баню пошли, отмылись, отогрелись. На ужин гости пришли уже веселые, Тейшейра чуть от смеха не помирает, вспоминая бурята с хариусами. Прошло почти тридцать лет, а Авеланж до сих пор ту поездку хвалит.
— Его сейчас обвиняют в получении гигантских взяток.
— Я знаю людей из швейцарской маркетинговой компании ISL, которые обанкротились и теперь пытаются свалить свои грехи на других. Мы разговаривали по этому поводу с нынешним президентом ФИФА Йозефом Блаттером, тот сказал буквально следующее: когда его предшественник подписывал контракт с ISL, законами Швейцарии предусматривались персональные бонусы за оформление выгодных сделок. Получается, Авеланж получал свою премию совершенно легально. Потом закон отменили. Ну и что, раньше было так — теперь по-другому. Но когда эта информация попала в МОК, его президент Жак Рогге, вместо того чтобы закрыть дело, еще больше добавил жару. Конечно, Авеланж, видя такое отношение, обиделся и написал заявление о выходе из состава МОК.
— Не секрет, что в организациях, подобных ФИФА, карьера строится в том числе и через застолья. Чтобы обзавестись нужными связями, нужно принимать участие в банкетах. Непьющий человек имеет шанс там зацепиться?
— ФИФА, кстати, практически непьющая организация. Едва ли не половину членов исполкома составляют мусульмане, которые почти не употребляют. В былые времена лишь мы с Блаттером могли на виски приналечь. Остальные в лучшем случае вино потягивали. В УЕФА, когда я туда пришел, была совсем другая ситуация. Европейский союз футбольных ассоциаций возглавлял швед Леннарт Юханссон — большой любитель выпить. Вокруг него сформировалась компания, всегда готовая поддержать шефа в этом начинании. И мне как новичку пришлось пройти довольно жесткие испытания.
Помню, в один из первых дней после ужина Юханссон предлагает: пойдем ко мне, посидим еще немножко. Прихожу, вся компания уже в сборе. Леннарт ставит на стол бутылочку виски, разливает. Часам к двум ночи шведа начинает клонить ко сну, тогда все поднимаются и тихо выходят. А на следующий день — заседание в 9 утра. Следующий исполком, опять та же история. Причем все идет по нарастающей: перед ужином — аперитив, за едой — вино или ликер, потом, в номере, — виски. Я хоть и моложе Юханссона, но уже тяжело. Надо ведь сохранить мозги светлыми, исполком все-таки. Придумал такой прием: во время ужина перед десертом встаю, выхожу — вроде как мне отлучиться надо — и уже не возвращаюсь. В первый раз коллеги попеняли: «Как же так? Нехорошо коллектив игнорировать». Повторил трюк во второй, третий раз, и от меня отстали.
Но хорошие отношения остались, я ведь членов исполкома УЕФА много раз в Москву приглашал. Мы их здесь принимали по русскому обычаю — с выпивкой и баней. Никогда не пытались какой-то дорогостоящий подарок преподнести или заманить другим способом. А вот проявить гостеприимство, угостить как следует, попарить — пожалуйста. Параллельно обсуждались многие важные вопросы: во многом благодаря такой непринужденной обстановке, например, нам удалось получить финалы Кубка УЕФА и Лиги чемпионов.
Был момент, когда взаимоотношения Блаттера и Юханссона резко ухудшились. Существовали силы, желавшие вбить между ними клин. В это время в Москве как раз какое-то мероприятие под эгидой ФИФА проходило, я обоих пригласил. Поехали к моим друзьям на дачу: погуляли на природе, смотрю — они все еще дуются друг на друга. Хоть и выпили немного, а взаимная неприязнь не проходит. Тогда я предпринял решительный шаг. Поставил на стол бутылку виски, тарелки с закуской и говорю — пока не договоритесь, из комнаты вас не выпущу. И закрыл дверь на ключ. Я не шучу, так все и было — любой из участников той встречи вам это подтвердит. Минут через сорок стучат в дверь. Открываю: оба стоят веселые, довольные — помирились.
— Выходит, совместные застолья с Тарасовым на заре карьеры стали для вас хорошей закалкой?
— Русских перепить вообще сложно. (Смеется.) Никогда не забуду историю, приключившуюся со мной во время летних Игр-1988 в Южной Корее. Советская олимпийская сборная играла тогда в Пусане — закрытом для иностранцев городе, месте дислокации огромной военно-морской базы. Русских там за всю историю не было, и местный мэр решил устроить в нашу честь прием. Здоровый такой дядька килограммов на 120, небольшого росточка, мощная шея — богатырь просто. Сидим за столом, музыка играет, девочки-кореянки в национальных костюмах хороводы на сцене водят. Вдруг мэр говорит: «По нашему обычаю, если гость вызывает доверие, ему предлагают принять участие в небольшом соревновании». Берет фужер, наполняет его пивом, а на дно ставит маленькую рюмку виски. Оба напитка нужно выпить залпом, у кого рука дрогнула — выбывает. Проделали этот опыт раз, два, три... До тринадцатого круга дотянули только мы с переводчиком Левой Зароховичем и мэр Пусана. Когда Лева предложил: «Может быть, теперь выпьем нормально, по-русски?» — у хозяина застолья опустились руки. «Нет, вас не перепьешь!» — только и смог заметить он.
— Наверняка вам пригодилась и закалка иного рода. Часто, например, приходилось противостоять лоббированию сверху кандидатуры того или иного тренера?
— Такое случалось, конечно. Скажем, одно время в Белом доме мне усиленно навязывали кандидатуру Анатолия Бышовца. Заместитель председателя правительства России Олег Сысуев и министр экономики Яков Уринсон уверяли, что никого лучше и быть не может. При этом у меня по поводу Анатолия Федоровича было свое мнение. Это же я пригласил его из обычной ДЮСШ в юношескую сборную страны, а потом назначил наставником олимпийской сборной для выступления на Играх в Сеуле. В обоих случаях Бышовец сработал превосходно. Он вообще был незаурядным тренером, равно как и игроком. Однако потом Бышовца начало заносить: вместо того чтобы заниматься непосредственно своими делами, он начал все больше ходить по инстанциям и решать вопросы, которые не касались его как тренера. Скоро он поставил себя выше руководителя федерации, у нас появились противоречия. Поэтому я очень четко сказал ходатаям: таким путем Бышовец не придет в национальную сборную никогда. Вот если на конкурсной основе — тогда другое дело. После отсева претендентов на финишной прямой остались двое: Бышовец и Михаил Гершкович. Но на исполкоме РФС Михаил Данилович снял свою кандидатуру, кто-то ему это настоятельно посоветовал. Бышовец остался без конкурента, но проработал в сборной недолго. Так часто бывает: если добиваешься своей цели не совсем законным способом, у тебя могут возникнуть проблемы.
— В последние месяцы работы вам пришлось противостоять уже не только моральному, но и физическому давлению. Обыск в офисе РФС должен был заставить вас поскорее освободить кресло президента?
— Мой уход на тот момент был уже делом решенным. У меня состоялся разговор на Старой площади, по ходу которого мне сказали открытым текстом: готовьте отчетно-перевыборную конференцию, у вас будет сменщик. Впрочем, я и сам не хотел оставаться. Унизительное поражение от португальцев в отборочном цикле чемпионата мира 1:7 и шквал негативной прессы только утвердили меня в этой мысли. Решил для себя — даже если сборная выйдет в финальную часть мирового первенства, на посту президента больше не останусь. Но беседа в администрации президента ускорила ход событий. На той встрече мы договорились: поскольку в уставе ФИФА четко прописано, что конференция может состояться не раньше, чем через три месяца со дня объявления, регламент должен быть соблюден. Виталий Мутко, который должен был меня сменить, присутствовал при разговоре и согласился с таким подходом. На том и разошлись.
Через несколько дней один из близких друзей, имеющий отношение к силовым органам, словно бы невзначай обмолвился: «Что-то ты, Иваныч, слишком откровенничаешь, когда говоришь по телефону в своем кабинете. Имей в виду, у стен бывают уши». «Да ты что? — не поверил я. — Неужели прослушку поставили?» Собеседник молча кивнул. Это меня просто взбесило. Зачем? Ведь мы же обо всем договорились, я готов уйти. В тот момент, признаюсь, забыл о всякой осторожности. «Не доверяете? — распирало меня. — Ждете подвоха? Что ж, я вам его устрою». Решил разыграть спектакль: собрал в своем кабинете исполком РФС и между делом сообщил, что не буду торопиться с уходом. Дескать, хочу организовать на Западе кампанию протеста, подключить руководство ФИФА и УЕФА...
На следующий день еду на работу, мне звонят: в офисе РФС идет обыск. Полтора десятка человек в масках с автоматами без разбора складывают документы в коробки, изымают оргтехнику. Ни описи, ни протокола — все сложили, запечатали и увезли. В общем, такой акт демонстративного устрашения. Я звоню куда надо, говорю: «Что вы делаете, мы же обо всем договорились. Все будет выполнено, как решили». В итоге арестованное имущество нам привезли назад и свалили в кучу.
— В вашей жизни был еще один момент, когда пришлось беспокоиться за собственную безопасность. Имею в виду конфликт РФС с Профессиональной футбольной лигой, занимавшейся организацией чемпионата страны в высшем дивизионе.
— Та история относится к началу 90-х, когда по всей стране шла борьба за власть. Кто главнее — государство или бандиты? Футбольная федерация или несколько клубов, объединившихся в лигу? ПФЛ тогда возглавлял Николай Толстых — человек жесткий, напористый и амбициозный. Хотя наш конфликт с ним не был личностным, это было столкновение двух организаций. Будучи на тот момент уже опытным функционером, я прекрасно понимал, что сложившаяся ситуация противоречит основополагающим документам ФИФА и УЕФА. И когда по моей инициативе в уставе Международной федерации футбола появилась запись, что лиги или иные образования клубов подчинены национальной ассоциации, все вопросы сразу отпали. Сейчас этот пункт помогает избегать новых склок и скандалов. Но в пору, когда наш конфликт эскалировал, пришлось пережить несколько неприятных недель. Был риск провокаций: друзья предупреждали, что мне могут подкинуть оружие или наркотик, а потом организовать обыск. Чтобы избежать этого, пришлось нанять охрану.
— Вы по-прежнему активно вовлечены в спортивную политику, внесли большой вклад в выигрыш нашей страной права на проведение чемпионата мира-2018. Не обидно, что о вас вспоминают, только когда нужно использовать ваши знакомства и что-то пролоббировать?
— Обид нет. Наоборот, мне приятно, что могу быть востребован. Несколько лет назад меня пригласили в Заявочный комитет, где мы проделали очень большую работу. Я встречался со всеми 24 членами исполкома ФИФА, с некоторыми — не по одному разу. Думаю, в том, что чемпионат мира-2018 пройдет в России, есть и моя заслуга. Сейчас вот Николай Толстых со мной по многим вопросам советуется. Я всегда готов помочь ему, не считаю это ниже своего уровня. К жизни нужно относиться философски: сегодня ты наверху, но кто знает, что случится завтра? Ничто на Земле не вечно...
Владимир Рауш
Досье
Вячеслав Иванович Колосков
Родился 15 июня 1941 года в Москве. Отец, Иван Трофимович Колосков, — участник Великой Отечественной, водитель автомобиля с артиллерийской системой «Катюша», был контужен, после окончания войны демобилизован. Мать, Александра Ильинична Колоскова, работала дворником.
С футболом Колосков познакомился в 7-летнем возрасте в спортобществе «Трудовые резервы». Окончил с красным дипломом Государственный институт физкультуры (ГЦОЛИФК) и аспирантуру, работал руководителем комплексной научной группы в хоккейных клубах ЦСКА и «Крылья Советов». В начале 70-х назначен тренером-методистом Управления зимних видов спорта Спорткомитета СССР. В 1975 году стал начальником отдела хоккея, со временем преобразованного в Управление хоккея.
В 1979 году переведен на пост начальника Управления футбола, впоследствии преобразованного в Управление футбола и хоккея Спорткомитета СССР. В 1990 году избран председателем Федерации футбола СССР. В 1992 году, после распада Советского Союза и его футбольной системы, во многом по инициативе Колоскова был учрежден Российский футбольный союз (РФС), который он и возглавил в качестве президента. В 2005 году сложил полномочия главы РФС, оставшись его почетным президентом.
В течение многих лет был вице-президентом Международной футбольной федерации (ФИФА), входил в исполком Европейского футбольного союза (УЕФА). Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орденов «Знак Почета» и Дружбы народов. Кавалер Ордена ФИФА и Олимпийского ордена. Профессор, заслуженный работник физической культуры России. Автор более 50 публикаций, в том числе двух монографий по хоккею.
Супруга, Татьяна Григорьевна Колоскова, — кандидат исторических наук. Сыновья — Вячеслав и Константин, внук Никита.
Студенты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и японского университета Рицумейкан представили роботов, которые могут вместо хозяев ходить в магазин и вести лекции, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией робототехники и искусственного интеллекта томского вуза Евгений Шандаров.
По его словам, презентация стала итогом 15-недельного межуниверситетского учебного курса "Global Software Engineering", в котором впервые приняли участие томские студенты.
Роботы уже обучены
"Презентации делали совместно студенты ТУСУРа и студенты Рицумейкан - всего 15 человек. Проекты они делали в двух группах, в каждой были наши и иностранные студенты. Они не только рассказывали о разработанных программах, но и демонстрировали их на роботе-андроиде NAO. При этом, проекты пока реализованы не полностью", - сообщил Шандаров.
Ученый уточнил, что Рицумейкан представляли студенты Японии, Индонезии, Мексики, Вьетнама, Монголии и Китая. Учащимся было предложено разработать и частично реализовать - довести до работающего прототипа - проект, "касающийся роботов, интернета и социальных сетей". Одной из предварительных идей было создать программу, благодаря которой робот мог бы узнавать хозяина в лицо, зачитывать записи с его профиля в соцсети или "подбодрить его любимой музыкой, когда человеку грустно".
Однако, по словам Шандарова, студенты остановились на разработке программ для робота, который может ходить в магазин вместо хозяина, и для робота, который способен прочитать лекцию вместо человека, находящегося на другом континенте.
Он уточнил, что робот-"покупатель" запрограммирован так, что придя в магазин и увидев товар на полке, он считывает его название или штрих-код. После этого машина выбирает, какой товар больше подходит для оставшегося дома хозяина, прочитав характеристики продукции в интернете и проанализировав соответствующие отзывы покупателей в социальных сетях.
Представитель вуза рассказал, что идея робота-лектора родилась у студентов во время лекций профессоров из университета Цюриха из Швейцарии и Рицумейкана, которые еженедельно общались с Томском через телемост. Робот, повторяющий движения и выражающий, насколько может, эмоции находящегося далеко лектора, позволил бы создать эффект присутствия и сделать занятия более насыщенными.
Шандаров пояснил, что робот управляется контроллером Kinect, который используется, в частности, в игровых приставках Xbox. Контроллер считывает движения человека, передает команды роботу, а тот повторяет их "как в "Аватаре". Так же машина повторяет речь лектора и может перевести ее на другой язык.
Робототехники еще учатся
"В самой программе дистанционного управления нет ничего потрясающего. Мы не для этого проводили презентацию. Она - заключительный аккорд 15-недельного учебного курса "Global Software Engineering", в переводе - Распределенная разработка программного обеспечения", - добавил собеседник агентства.
Он пояснил, что образовательный курс разработан в университете Рицумейкан для студентов Мастерской программы аспирантуры Информационных Наук и Технологий (Graduate School of Information Science and Engineering). Основной целью курса является обучение студентов работе над совместными проектами специалистов, находящихся в любой точке мира и, возможно, разговаривающих и программирующих на разных языках.
В Томске студентов обучали правильно формировать техническое задание, создавать на его основе проект, делить проект на составные части, распределять обязанности. Программирование роботов стало подобием контрольной работы после курса теоретических лекций.
"Судя по тому, что говорят представители Рицумейкан, и по проведенному мной мониторингу, это первый подобный образовательный проект в мире. То есть курс, где не только лекции в системе телеконференции, но и совместные практические занятия студентов из разных стран, которые также дистанционные", - подчеркнул преподаватель.
Университет Рицумейкан - один из трех крупнейших частных университетов в Японии (крупнейший в западной части Японии). Основан более 140 лет назад. В университете обучается более 40 тысяч студентов и аспирантов. Занятия вуза проходят в городах Киото и в префектуре Шига. В 2000 году Рицумейкан открыл международный Азиатско-Тихоокеанский университет в префектуре Оита. В настоящее время Рицумейкан - комплексный образовательный институт, состоящий из двух университетов и десяти общеобразовательных школ различных ступеней. При каждом факультете созданы научно-исследовательские институты по отраслям наук. Вуз известен своей успешной работой по отбору и запуску коммерчески успешных научных направлений.
ТУСУР - один из ведущих вузов Томска. Подготовка специалистов и инженеров ведется в вузе на семи дневных и вечерне-заочном факультете по 55 специальностям и направлениям в области радиотехники, информационной безопасности, электронной и вычислительной техники, программирования, автоматики и систем управления, информационных технологий, экономики и социальной работы. Карина Сапунова.
Вооруженный конфликт в Мали может вынудить до 700 тысяч жителей страны покинуть свои дома, сообщила на брифинге в Женеве в пятницу официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Мелисса Флеминг.
"Мы полагаем, что в ближайшем будущем еще 300 тысяч человек будут перемещены в пределах Мали и до 400 тысяч укроются в соседних странах", - сказала Флеминг, слова которой приводит агентство Рейтер.
По данным УВКБ, Мали уже покинули 147 тысяч человек, которые бежали в Мавританию, Нигер, Буркина-Фасо, Алжир и другие страны.
Ситуация в Мали обострилась в последние недели - боевики экстремистских группировок, контролирующих северные районы страны, начали нападать на позиции правительственных войск в центральной части страны. На помощь правительственным войскам в Мали 10 января прибыли французские военные, которые на следующий день развернули в стране военную операцию "Сервал". В операции также будут участвовать военнослужащие ЭКОВАС, переброска воинских подразделений сообщества началась накануне.

ОДНИМ НАЛОГОВЫМ РАЕМ СТАНЕТ МЕНЬШЕ
Офшорные Каймановы острова раскроют информацию о своих резидентах. Правда, известна станет только часть данных - названия компаний и имена их руководителей
Офшорные Каймановы острова намерены раскрыть информацию о своих резидентах. Как сообщает Financial Times, местный регулятор уже создает базу зарегистрированных на островах фондов, она появится в марте.
Известна станет только часть данных - названия компаний и имена их руководителей.
Вот как оценил реформу вице-президент "Спартак-банка" Павел Геннель: "Этого Америка и Европа добиваются от многих офшорных зон уже очень давно. Вот, наконец, они дожали и Каймановы острова. Это вполне предсказуемо. Я думаю, что зон, которые обеспечивают анонимность бенефициаров и реальных владельцев, становится все меньше и меньше. Это мировая тенденция, связанная с борьбой с уклонением от налогов. Правда, достаточно маловероятно, что они раскроют своих крупных клиентов, которые, собственно говоря, для них являются бюджетообразующими. Скорее всего, для начала раскроют какую-то "мелочь", которая им самим не особо интересна, чтобы показать, что они готовы сотрудничать с мировым сообществом".
Одно из главных преимуществ этой офшорной территории - отсутствие налога на рост капитализации компании. А по надежности сохранности финансовой информации острова занимают второе место на планете после Швейцарии.
На Кайманах зарегистрировано почти 70 тысяч компаний - это больше, чем население островов.
Представлен там и российский бизнес, рассказал заместитель исполнительного директора DS Express, Inc. Александр Захаров: "Каймановы острова привлекают в основном финансовую сферу, и в настоящее время публично известно, что ряд российских банковских структур имеют там под управлением фонды. Например, насколько мне известно из СМИ, "Газпромбанк" управляет фондом на Каймановых островах. Потом в структуре "Сбербанка" проходило юридическое лицо с Каймановых островов. То есть, я полагаю, что все зависит от тех целей, которые преследовали наши гиганты. И я полагаю, крупные игроки на рынке финансовых услуг Каймановых островов, безусловно, останутся".
Что же касается незначительных участников, то, по словам экспертов, те, которые хотят скрыть бенефициаров, вероятно, сбегут с Каймановых островов.
Также планируется проверять квалификацию глав хедж-фондов, зарегистрированных на Каймановых островах.
Британские эксперты предполагают, что большая часть местных управляющих - подсадные утки. Так, по данным одного из исследований, один директор может возглавлять 567 оффшорных компаний.
Авиакомпания Etihad Airways, национальный авиаперевозчик ОАЭ, запускает ежедневные рейсы между Абу-Даби и Амстердамом с 15 мая 2013 года. Перелеты будут осуществляться на двухклассовых Airbus A330-200 с компоновкой 262 кресла (22 – в классе Pearl Business, 240 – в классе Coral Economy). Ежедневные рейсы Etihad Airways дополнят рейсы между Амстердамом и Абу-Даби, которые в настоящее время совершает KLM, - таким образом, с 15 мая перелеты между обеими столицами будут осуществляться дважды в день. Джеймс Хоган, президент и исполнительный директор Etihad Airways, и Питер Хартман, президент и исполнительный директор KLM, обнародовали детали расширения код-шерингового соглашения между двумя авиакомпаниями. Джеймс Хоган заявил: «Мы очень рады, что с 15 мая Амстердам станет частью глобальной маршрутной сети Etihad Airways и увеличит число наших ключевых европейских направлений до 17 (включая Брюссель, Дублин, Франкфурт, Женеву, Лондон и Париж). Рейсы между Амстердамом и Абу-Даби, которые теперь будут совершаться дважды в день, станут ещё более удобными для пассажиров, путешествующих из Нидерландов в ОАЭ и далее по таким направлениям, как Шри-Ланка, Пакистан и Австралия». В соответствии с расширением код-шерингового соглашения, код Etihad Airways EY появится на рейсах KLM в Стокгольм, Абердин, Барселону, Бирмингем, Берген, Копенгаген, Эдинбург, Глазго, Гетеборг, Хельсинки, Лидс/Брэдфорд, Мадрид, Ницца и Торонто в дополнение к уже существующим код-шеринговым рейсам в Биллунд, Кардифф, Ньюкастл, Осло и Ставангер. Кодировка KLM “KL” появится на рейсах Etihad Airways в Багдад, Басру, Калькутту, Кочи, Дакку, Эрбиль, Хайдерабад, Катманду, Ченнай, Мале, Пешавар, Маэ и Тривандрум в дополнение к уже существующейна рейсах в Коломбо, Исламабад, Лахор, Мельбурн и Сидней. Питер Хартман отметил: «Запуск ежедневных рейсов Etihad Airways – хорошая новость для KLM, аэропорта Схипхола и Нидерландов в целом. Новые рейсы в совокупности с расширением нашего код-шерингового сделают взаимоотношения между столицами ОАЭ и Нидерландов ещё более тесными. Рейсы KLM в Абу-Даби пользуются большой популярностью - увеличение их числа до двух в день и появление нашего кода на рейсах Etihad Airways сделает перелеты ещё более удобными».
Шведское правительство приняло решение о закупке 60 боевых самолетов нового типа JAS 39 E, который иногда называют "супер-самолетом"/super-JAS. Это одна из самых крупных закупок шведской обороны. Поставки запланированы на 2018 год.
Шведский риксдаг еще в декабре проголосовал за покупку 40-60 самолетов. Правительство приняло теперь решение, что куплено у концерна СААБ будет 60 штук.
Новая модель обладает значительными преимуществами по сравнению с JAS моделей C и D, в частности, на 22% сильнее мотор.
В вопросе закупки этих военных самолетов Швеция заключила партнерский договор со Швейцарией. По плану, Швейцария купит 22 самолета и разделит стоимость эксплуатации и будущей модернизации.
Министр обороны Карин Энстрём/ Karin Enström сказала в интервью Шведскому телевидения/ SVT, что объем закупки - 60 самолетов - соответствует оперативным потребностям шведской обороны.
Стоимость сделки не сообщается.
По данным Северо-Западного таможенного управления, внешнеторговый оборот Калининградской области со Швейцарией в январе-сентябре 2012 составил 22,4 миллиона долларов США, в том числе экспорт - 3,3 миллиона долларов США - +11,5%, импорт - 19,1 миллиона долларов - −3,2%.
По итогам 9 месяцев 2012 года основу экспорта из Калининграда составили машины, оборудование и транспортные средства - 41,8%, алюминий и изделия из него - 32,7%, продукция химической промышленности - 24,2% - пластмассы и изделия из них.
Основа импорта из Швейцарии - продукция машиностроения - 58,8% - транспортные средства и их части, оборудование, древесина и целлюлозно-бумажные изделия - 15,3%, продукция химической промышленности -10,9%.
Кроме того, в январе-сентябре 2012 года в экономику Калининградской области из Швейцарии поступило иностранных инвестиций 16,1 миллиона долларов - 6,2% от общего числа, в том числе прямые - 5,2 миллиона долларов.
В Едином государственном реестре юридических лиц содержится 18 действующих предприятий с участием капитала юридических лиц, зарегистрированных в Швейцарии, с суммарным вкладом в уставный капитал 63,8 миллиона рублей.
ГОСДЕП: США РАССЧИТЫВАЮТ НА СОГЛАСОВАНИЕ С РФ ПОЗИЦИИ ПО СИРИИ
США рассчитывают на то, что им удастся согласовать с Россией шаги по урегулированию сирийского кризиса, заявила на пресс-брифинге в понедельник официальный представитель госдепартамента США Виктория Нуланд.
На прошлой неделе в Женеве прошла очередная встреча трех Б: заместителей глав внешнеполитических ведомств США и РФ Уильяма Бернса и Михаила Богданова и спецпредставителя ООН и ЛАГ по Сирии Лахдара Брахими.
Мы считаем, что стоит продолжить эти встречи с россиянами - во-первых, для поддержки усилий Брахими, но также в надежде на выработку решений о том, как двигаться дальше, достижение письменного соглашения и поддержку имплементации этого соглашения... Мы надеемся, что можем согласовать наши позиции относительно дальнейших шагов, и это может оказать позитивное воздействие на дальнейший сценарий, - отметила Нуланд, подчеркнув, что на это потребуется время.
Конфликт между силами вооруженной оппозиции и правительственными войсками не прекращается в Сирии с марта 2011 года. По данным ООН, жертвами противостояния за это время стали более 60 тысяч человек. Власти страны заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне.
Недвижимость на горнолыжных курортах Швейцарии очень дорогая. Стоимость квартир на 30% выше, чем во Франции и вдвое дороже, чем в Австрии. Тем не менее, для многих покупателей инвестиции в швейцарскую недвижимость являются безопасным вложением средств. Также инвесторов привлекают низкие ипотечные ставки.
Как сообщает портал Swissinfo.ch, каждый пятый дом для отдыха в Швейцарии принадлежит иностранцу. До недавнего времени на рынке доминировали немецкие, голландские, итальянские и британские покупатели. Но в последние два года россияне и выходцы с Востока также являются активными игроками.
На рынке Швейцарии насчитывается около 500 тыс. вторых домов для отдыха. Больше всего их в кантоне Вале – 62 тыс. За ним следует Граубюнден (48 тыс.), Берн (45 тыс.) и Во (43 тыс.).
Напомним, что в Швейцарии действуют жесткие законы, ограничивающие права иностранцев при покупке недвижимости. В марте 2012 года власти страны также приняли решение об ограничении строительства в туристических зонах.
Строительство третьей и четвертой ниток "Северного потока" будет вести новая компания, а не Nord Stream AG, являющаяся оператором первых двух веток газопровода, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"В настоящее время акционеры Nord Stream согласовали, что строительство третьей и четвертой ниток будет вести другая компания, хотя разработка предварительного ТЭО была профинансирована Nord Stream", - сказал Миллер во вторник журналистам.
Австрийская винная отрасль не обеспечила роста поставок в натуральном выражении в 2012 году, но ее доходы заметно выросли. Согласно данным Statistik Austria и Austrian Wine Marketing Board (AWMB), экспорт в 2012 году составил 46 млн л в натуральном объеме, а по стоимости €128,5 млн., пишет НВК
Общее ограниченное предложение австрийских вин сопровождалось снижением поставок в низкоценовом сегменте. Сокращение доходов от продажи дешевых вин компенсировалось ростом поставок более дорогих вин как на экспорт, так и на внутреннем рынке. Главными регионами сбыта для австрийских вин остаются ЕС, Швейцария и США. В эти страны поступает около 90% объема винного экспорта.
Важнейшим импортером остается Германия, что обеспечивает примерно 60% от всех доходов австрийских экспортеров вина. В Германии особенно заметно, что австрийские вина теряют свою долю в низком ценовом сегменте, но быстро набирают вес в высоком ценовом диапазоне.
Министр внутренних дел ИРИ по официальному приглашению Верховного комиссара ООН по делам беженцев посетил штаб-квартиру ООН в Швейцарии.
Мустафа Мухаммад Наджар на встрече с Антониу Мануэлом ди Оливейра Гутерриешем сказал, что "международному сообществу следует выполнять свои задачи и обязательства в отношении беженцев по улучшению их положения и возвращению на родину".
Глава МВД Ирана, также обвинив претендентов на защиту прав человека в создании серьезных проблем в Афганистане, заявил: "Для того, чтобы афганские беженцы могли возвратиться на родину, необходимо помочь Афганистану в восстановлении инфраструктуры, причем ООН и международное сообщество должны в этом деле выполнить более расширенную функцию".
Заместитель генсекретаря ООН и верховный комиссар ООН по делам беженцев Антониу Гутерриеш, в свою очередь, выразил главе МВД Ирана признательность за щедрую гуманитарную помощь Исламской Республики беженцам.
Отметим, что Иран в качестве одной из стран-участниц Конвенции по беженцам от 1951 г., приняв огромное число беженцев из соседних стран, в одиночку взял на себя "львиную долю" этой глобальной проблемы.
Иран в течение трех последних десятилетий принимал большой поток беженцев и, несмотря на наличие трудностей, приложил все свои усилия к созданию приемлемых условий и удобств для беженцев, а также предпосылок их возвращения на родину. К примеру, дети-беженцы и потомки нелегальных иммигрантов в Иране получили право на обучение в государственных школах. Это создало хорошие возможности для детей, которые из-за эмиграции родителей столкнулись с новым испытанием. Но, при этом, существуют и взаимные ожидания. Иран не раз призывал международное сообщество выполнить свои обязательства в соответствии с существующими реалиями.
В настоящее время в Иране проживает по разным подсчетам более 3 млн. легальных и нелегальных мигрантов. В то время, как официальные данные гласят о том, что каждый беженец обходится иранскому правительству в 5 долларов в день, международная помощь Ирану за каждого беженца составляет 10 долларов в год.
Между тем, Иран, несмотря на международные санкции и наплыв мигрантов, все еще принимает беженцев, наладив управление этим процессом за счет разумного планирования. На данный момент около 3% беженцев находятся в специальных поселениях, для них созданы разного рода возможности, в том числе возможность получения начального и среднего образования, социальных услуг и предоставление работы.
Длительное присутствие миллионов беженцев в Иране навязывает стране тяжелое социально-экономическое бремя в разных сферах, в том числе безопасности, занятости и образования, здравоохранения и медицинского лечения.
Русская служба ИРИБ
Посол Сирии в РФ Рияд Хаддад обсудил в понедельник итоги трехсторонней встречи по Сирии в формате Россия-США-Брахими со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку, заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым.
"В ходе беседы состоялось обсуждение развития ситуации в Сирии и вокруг нее, в том числе с учетом итогов прошедшего 11 января в Женеве очередного раунда консультаций по сирийской тематике в трехстороннем формате Россия-США-спецпредставитель ООН/ЛАГ Лахдар Брахими. На встрече были также затронуты некоторые актуальные вопросы развития двусторонних российско-сирийских отношений", - отмечается в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства в понедельник по итогам встречи.
Так называемая встреча "трех Б", в которой приняли участие заместители министров иностранных дел РФ и США Михаил Богданов и Уильям Бернс, а также спецпредставитель ЛАГ и ООН по Сирии Лахдар Брахими, состоялась в Женеве 11 января.
По итогам консультаций Брахими заявил, что все их участники остаются сторонниками разрешения сирийского кризиса мирными средствами, однако не сообщил, было ли достигнуто какое-либо конкретное соглашение относительно ситуации в Сирии. Официальный представитель госдепартамента США Виктория Нуланд назвала встречу в Женеве продуктивной, признав, в то же время, что разногласия сохраняются. В частности, и российская, и американская стороны подтвердили необходимость урегулирования на основе женевских договоренностей, но при этом Вашингтон настаивает на необходимости ухода Асада, в то время как РФ таких условий не ставит.
CREDIT SUISSE ПЛАНИРУЕТ УРЕЗАТЬ БОНУСЫ НА 20%
Таким образом сотрудникам не выплатят 2,5 млрд долларов
Финансовая группа Credit Suisse планирует урезать объем выплачиваемых сотрудникам бонусов за прошлый год на 20% до 2,3 млрд швейцарских франков (2,5 млрд долларов), сообщает Reuters со ссылкой на источники газеты Der Sonntag.
Речь идет об уменьшении дохода около 34 тысяч сотрудников в рамках программы по сокращению расходов группы. Она осуществляется на протяжении последних четырех лет - в 2011 году они были урезаны на 3 млрд франков, в 2010 году - на 5 млрд франков. В этом году намечена планка в 1,8 млрд франков.
Также планируются увольнения, благодаря чему группа хочет сократить издержки на 4 млрд франков к 2015 году. В 2009 году, к примеру, из Credit Suisse должны были уволить 7420 человек.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


























