Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
По итогам 2013 г., объем двусторонней торговли между Китаем и Турцией достиг $22 млрд. Это на 16,3% больше, чем в 2012 г. КНР стала третьим по значимости торговым партнером Турции, сообщило таможенное ведомство.
Кроме того, Поднебесная вышла на второе место среди источников импортных товаров Турции, а также стала важным экспортным рынком турецких компаний. В 2013 г. на долю турецко-китайской двусторонней торговли пришлось 7% от общего объема внешней торговли Турции.
В частности, прошлом году объем торговли между Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР и Турцией составил $106 млн. Данный показатель подскочил на 121% в годовом сопоставлении. За последние 10 лет объем торговли между Синьцзяном и Турцией возрос более чем в 20. В этом китайском регионе насчитывается 10 проектов с участием турецких инвестиций.
Напомним, что по итогам первых семи месяцев 2014 г.. объем внешней торговли Китая достиг 14,72 трлн юаней ($2,39 трлн), увеличившись на 0,2% по сравнению аналогичным показателем 2013 г. В частности, экспорт страны составил 7,82 трлн юаней с приростом на 1,1% в годом выражении, а импорт – 6,9 трлн юаней со спадом на 0,8%. Положительное сальдо торгового баланса составило 924,9 млрд юаней. Это на 18% больше, чем годом ранее.
Япония зависима от США в вопросах безопасности, поэтому ей пришлось ввести "пакет" санкций в отношении России, заявил в четверг губернатор японской столицы Ёити Масудзоэ журналистам во время визита в Томск.
Кабинет министров Японии одобрил ранее объявленный в конце июля "пакет" санкций в отношении России.
"Япония в области обеспечения безопасности зависит от США в отношении Китая и Северной Кореи. У нас проблемы вокруг нашей страны, что обусловливает необходимость опираться на военные возможности США. Нам очень хотелось бы, чтобы российский народ узнал ситуацию, о том, что подталкивает Японию", — сказал губернатор.
Он отметил, что речь идет о "небольших, не таких суровых, по сравнению с другими странами, санкциях".
"Буду прилагать все усилия, чтобы наши двусторонние отношения улучшились", — подчеркнул губернатор.
"Что касается Украины и принадлежности Крыма, то история этого полуострова незнакома японским людям, у нас мало знают, почему у России особая заинтересованность в этом вопросе. Я хотел бы, чтобы российская сторона больше объясняла мировому сообществу свою позицию", — добавил он.
Начальник мобилизационного управления самопровозглашенной Донецкой народной республики Павел Губарев выступил со своими предложениями по урегулированию кризиса на Украине: он предложил провести референдумы о независимости всем украинским регионам, "от Луганска до Одессы", сообщается на сайте пресс-центра юго-востока Украины.
"Народ объявляет все регионы бывшей Украины народными республиками, которые не подчиняются Киеву. Проводятся референдумы о независимости", — приводится в сообщении предложение Губарева.
По его словам, регионы, которые проголосуют против независимости, останутся в составе Украины; регионы, которые поддержат на референдуме свою независимость, могут войти в Новороссию. "Это единственный реальный мирный план. Мы воюем за Большую Новороссию от Луганска до Одессы", — заключил Губарев.
Ранее Донецкая и Луганская области провозгласили "народные республики", после референдумов в мае объявили о своем суверенитете и позже образовали союз "Новороссия". В Киеве ДНР и ЛНР не признают.
Крым и Севастополь, входившие ранее в состав Украины, стали российскими регионами после проведенного там референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ.
Согласно договору о присоединении, все жители Крыма признаются гражданами России, если не написали заявление о том, что хотят оставить гражданство Украины. По данным ФМС, заявления об отказе от российского гражданства подали только 3427 человек. Всего в Крыму проживают около 2 миллионов человек. Киев по-прежнему считает Крым и Севастополь частью Украины.
Руководство магистрата Праги приняло решение о приостановке сотрудничества с Москвой и Петербургом, сообщила РИА Новости в четверг официальный представитель магистрата Петра Груба.
"Руководство магистрата Праги приняло решение приостановить сотрудничество с Москвой и Петербургом. Это связано с действиями России на юго-востоке Украины. Последней, уже подготовленной, совместной акцией станут Дни Санкт-Петербурга в Праге, которые состоятся 9-10 сентября. Одновременно приматор Праги Томаш Гудечек призвал другие города мира последовать примеру чешской столицы", — сказала Груба.
Приостановка сотрудничества, по словам представителя магистрата, подразумевает окончание всех дальнейших совместных проектов, включая тех, которые находились лишь на стадии планирования. Партнерство может быть возобновлено, — добавила Груба, — когда кризис, который вынудил руководство магистрата пойти на эту меру, будет разрешен.
Москва и Прага приняли решение о партнерстве в 1995 году, Санкт-Петербург и Прага заключили подобное соглашение в 1991 году. Александр Куранов.
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что в НАТО многие рады нынешнему развитию событий на Украине, а также новому напряжению отношений с Россией.
Об этом Рогозин написал на своей странице в Twitter.
Радость американцев Рогозин объяснил тем, что "можно 1) выбить из европейцев допрасходы на оборону, т.е. на закупку вооружений made in USA (сделано в США – ред.) 2) обосновать raison d'etre (обосновать причину – ред.) Североатлантического альянса перед лицом "русской угрозы" и тем самым закрепить надолго своё военное присутствие в Европе и хозяйничанье в европейских экономических делах 3) ослабить эту же самую Европу — своего основного конкурента — экономическим конфликтом с Россией".
Ссылаясь на свой четырехлетний опыт работы в Брюсселе, Рогозин также утверждает, что НАТО радо тому, что "наконец-то можно оторвать очки от компьютерного преферанса и начать изображать заботу о "сохранении западной цивилизации", а заодно и рассчитывать на повышение зарплаты".
"Польско-балтийский "комсомол" НАТО рад тому, что на его "буферность" и "отчаяние" у самой берлоги русского медведя вновь обратят внимание и подбросят дровишек в чахлую экономику", — добавляет он.
По мнению вице-премьера, для ряда европейских лидеров, "обанкротивших свою репутацию среди собственных граждан", "хорошая "виртуальная войнушка" — что может быть лучше для отвлечения их внимания от непроходящих проблем экономической стагнации".
"Вот потому-то НАТО — истеричная дочь холодной войны — наконец встрепенулась и ждет новых приключений", — заключил он.
Генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти посетит Украину с 7 по 10 сентября для расследования нарушений в области прав человека, сообщил корреспонденту РИА Новости директор российского представительства организации Сергей Никитин.
"Салил Шетти рассмотрит вопрос о нарушениях прав человека, а также международного гуманитарного права всеми сторонами конфликта на востоке Украины, включая случаи неизбирательного применения вооружения, спровоцировавшие жертвы среди гражданского населения", — заявил Никитин.
Киевские власти с апреля проводят на востоке Украины силовую операцию, направленную против недовольных февральским госпереворотом жителей региона. По информации ООН, с середины апреля по 27 августа на Украине убиты более 2,5 тысячи мирных жителей, около 6 тысяч ранены. В Москве спецоперацию назвали карательной и призывают мировое сообщество принять все возможные меры для прекращения огня.
Ранее в среду президент РФ Владимир Путин предложил план из семи пунктов по разрешению ситуации на юго-востоке Украины, где продолжается вооруженный конфликт. В частности, президент предложил прекратить активные наступательные операции вооруженных сил и вооруженных формирований ополчения, провести полноценный и объективный международный контроль за соблюдением условий прекращения огня, исключить применение боевой авиации против мирных граждан и населенных пунктов в зоне конфликта, организовать обмена пленными по формуле "все на всех", открыть гуманитарные коридоры для передвижения беженцев и доставки гуманитарных грузов.
Газовая диета
Ожидаемый дефицит энергоресурсов может поставить на колени отечественную промышленность.
Ожидаемый дефицит энергоресурсов может поставить на колени отечественную промышленность.
Снижение температуры окружающей среды прямо пропорционально действует на атмосферу отечественного крупного капитала. Градус в этом конгломерате накаляет начало отопительного сезона, после чего отечественные промышленные гиганты начнут испытывать недостаток газа.
ХУДШИЙ СЦЕНАРИЙ
Темп падения производственной активности в Украине ускоряется в геометрической прогрессии. Если в январе Госстат говорил о 4,5%, то по итогам июля уже о 12%. У экономистов со слабой нервной системой эта тенденция вызывает панику, ведь замедление работы промышленности фиксируется в сравнении с прошлым годом, который был одним из худших за годы независимости страны. В такой ситуации придают бодрости лишь надежды на то, что мы достигли производственного дна. Но скоро и этот миф может быть развенчан.
Отсчетной датой нового кризиса украинской промышленности станет осень, когда в стране стартует отопительный сезон. В течение его Украине в общей сложности потребуется около 30 млрд. м3 газа, а мы располагаем лишь 23 млрд. м3. В условиях прекращения поставок газа российским «Газпромом» пережить этот период возможно лишь при условии тотальной экономии. По расчетам Министерства энергетики и угольной промышленности, речь идет о сокращении объемов потребления газа в стране сразу на 30%. При наличии плана мероприятий по экономии энергоресурсов можно было бы уповать на то, что недостающие объемы голубого топлива будут сэкономлены цивилизованным образом. Например, за счет перевода отечественных энергогенерирующих объектов с потребления газа на уголь. Но в Кабмине вовремя не уделили внимание этому вопросу, оправдывая себя тем, что для переориентации энергетиков нужны крупные инвестиции и годы работы.
Становится очевидным, что сводить баланс потребления и поступления газа Украина будет за счет самой крупной категории потребителей — промышленников. Власть этого и не скрывает: еще 9 июля правительство приняло постановление «О мерах по обеспечению населения, предприятий, учреждений и организаций природным газом до конца отопительного сезона 2014/2015 годов», которым среди прочего предусматривается сокращение использования природного газа промышленностью до уровня 7,53 млрд. м3. Эта цифра на 30% меньше, чем было потреблено сектором в аналогичный период прошлого года. И даже с поправкой на нынешний темп падения промышленности можно говорить о том, что осенью он ускорится в разы. Безусловными фаворитами этого процесса будут химики, использующие газ в качестве сырья при производстве продукции. Недалеко от них уйдут машиностроители и металлурги, на которых кроме ограниченности энергоресурсов негативно влияют военные действия в базовых регионах присутствия — Донецкой и Луганской областях.
Ситуация может усугубиться еще больше в случае, если Москва спровоцирует горячие головы в Киеве к непродуманным шагам. Один из них — обсуждающийся ныне разрыв дипломатических отношений с РФ, что будет означать прекращение любых торговых и экономических связей между двумя странами. Если смотреть на эту угрозу глазами эмоционального патриота, разрыв отношений — святое дело. Однако на самом деле у этого шага есть необратимые последствия: в случае прекращения внешней торговли с Россией Украине следует ожидать падения экспорта черных металлов, подвижного железнодорожного парка и продукции пищевой промышленности. По оценкам «Укрпромвнешэкспертизы», при таком развитии событий годовые потери Украины составят более 30 млрд. грн. Это неминуемо отразится на платежеспособности предприятий и, как следствие, может привести к социальному взрыву.
ПО КОМ МОЛЧИТ КОЛОКОЛ
Украинская власть наверняка осознает эти риски, но почемуто использует их не во благо страны, а в качестве оправдания бездействия в реформировании ее энергетического сектора. Этот факт еще более досаден, если понимать, что для поддержки отечественных промышленников было бы достаточно начать с административных мер. Элементарный пример: для того чтобы лимит голубого топлива для заводов, фабрик и комбинатов остался на прошлогоднем уровне, достаточно навести порядок с учетом затрат газа предприятиями теплокоммунэнерго. Так, на сегодня рынок централизованного теплоснабжения официально сжигает 9 млрд. м3 газа в год, тогда как фактически — около 6 млрд. м3. Разница между этими двумя цифрами (3 млрд. м3) экономится коммунальщиками за счет искусственного занижения температуры подаваемой потребителям тепловой энергии, после чего этот газ реализуется на теневом рынке. Чтобы эта схема начала работать на благо государства, достаточно начать с создания элементарной системы учета расходования энергоресурсов. Но этому вопросу в Кабмине почемуто не уделяют внимания.
Такая пассивность вызывает глубокое недоумение, если понимать, что ситуация с дефицитом газа может еще более усугубиться. Ведь события на востоке Украины уже привели к тому, что в июле (по сравнению с июлем-2013) добыча угля рухнула на 21,6% — до 5,6 млн. т. Это означает, что при активной нагрузке тепловые электростанции могут опустошить свои склады, что заставит их перейти на потребление дорогого газа. Разрядить напряжение сейчас могли бы только отечественные газодобытчики, у которых после ожидаемого повышения тарифов на их продукцию должны увеличиться возможности по инвестиционным вложениям в наращивание объемов добычи. Но эти надежды на корню пресекает анонсированный Кабмином проект закона«Об особом периоде в топливноэнергетическом комплексе», предусматривающий возможность обязывать частные компании продавать свой газ по заниженной стоимости.
Дмитрий Рясной, «Комментарии»
«Сумыхимпром»: банкротство в частных интересах
Непрекращающиеся боевые действия на Донбассе отвлекли внимание общественности от персоны беглого президента. В нынешних условиях беглого гаранта конституции на территории некогда дружественной страны нашим правоохранителям достать будет практически нереально, но прикрыть схемы, благодаря которым он и его ближайшее окружение наживалось на государственном имуществе им под силу.
Непрекращающиеся боевые действия на Донбассе отвлекли внимание общественности от персоны беглого президента. В нынешних условиях беглого гаранта конституции на территории некогда дружественной страны нашим правоохранителям достать будет практически нереально, но прикрыть схемы, благодаря которым он и его ближайшее окружение наживалось на государственном имуществе им под силу. Поводом для этой статьи послужило открытое письмо Общественной рабочей группы по решению проблемных вопросов функционирования титановой отрасли Украины. Члены группы обратились к премьер-министру Украины, главам правоохранительных органов и и.о. главы Фонда госимущества с требованием расследовать ситуацию вокруг ПАО «Сумыхимпром». Как следует из текста письма, Украина рискует окончательно потерять одно из крупнейших предприятий титановой отрасли и единственного крупного производителя фосфатных удобрений. И при том, не из-за военных действий, а из-за того, что виды на него уже давно имеет не кто иной, как задержанный в Австрии олигарх и один из ближайших соратников Януковича, Дмитрий Фирташ и его бизнес-партнер и бывший глава администрации экс-гаранта Сергей Левочкин. Почему окончательно потерять? Потому, что предприятие уже несколько лет контролируется коррумпированным менеджментом, который подконтролен Фирташу и Левочкину, делающим все, чтобы химический гигант, который, к слову, полностью находится в государственной собственности, попал в состав бизнес-империи и при этом бесплатно. Как «отжимали» у государства крупнейшее химическое предприятие общественные деятели тоже рассказали. Оказалось, в 2010 году на пост главы правления «Сумыхимпрома» был назначен Игорь Лазакович, до этого 4 года работавший замом главы правления «Крымского Титана» (еще одно крупное предприятие химической отрасли, входящее ныне в состав Group DF Фирташа). С тех пор финансовые дела предприятия начали идти из рук вон плохо. Не прошло и двух лет, как химический гигант превратился в банкрота, а большая часть долгов, что не удивительно, сконцентрировали предприятия Group DF. Проанализировав информацию о причинах банкротства «Сумыхимпрома», рабочая группа пришла к выводу, что, вероятнее всего, «имеет место организованное доведение предприятия до банкротства в интересах вышеуказанной группы лиц». Схема была достаточно простой – практически все сырье и другая продукция для нужд производства закупалась, естественно, по завышенной цене, у предприятий группы Фирташа-Левочкина. Та же ситуация была и со сбытом продукции. Так, на территории Украины продукцию химического гиганта реализовывает ООО «Синтез Ресурс», основателем которого является неизвестный кипрский офшор, а на мировом рынке – офшорная компания Tolexis (оба предприятия контролируются менеджментом группы Фирташа-Левочкина). Приобретая товары по завышенным ценам у предприятий вышеуказанной группы «Сумыхимпром» становился их должником. А продажа продукции через офшорные компании помогала их бенефициарам концентрировать основную часть прибыли на этих компаниях, оставляя при этом химический гигант с чистыми убытками. «Умелый менеджмент» Игоря Лазаковича привел к тому, что предприятие оказалось неплатежеспособным, что послужило поводом для банкротства. Его инициатором стало ООО «КУА «Промышленные инвестиции»», которое в числе прямых кредиторов химического гиганта изначально не числилось. Это ООО приобрело право требования к «Сумыхимпрому» у банка «Форум» на сумму 40 млн грн, подало в суд заявление о возбуждении дела о банкротстве, после чего скупило долги еще четырех кредиторов предприятия, сконцентрировав в своих руках пакет претензий на 126 млн грн. ООО «КУА «Промышленные инвестиции»», что не удивительно, контролируется партнером Фирташа и Левочкина, Иваном Фурсиным. В начале 2012 года на судебном заседании в г. Сумы представители новоиспеченного банкрота и прокуратуры признали обоснованными требования ООО «КУА ««Промышленные инвестиции»», и не возражали против возбуждения дела о банкротстве. Распорядителем имущества компании был назначен Марченко Р.В., которого также называют креатурой Фирташа-Левочкина. Далее началось формирование комитета кредиторов. И здесь решающую роль сыграло государство. Только сыграло, к сожалению, на руку частным интересам лиц, желавших овладеть тем, что по праву этому же государству и принадлежит. Позиция представителя «дочки» «Нафтогаза» «Газ Украины» на собрании кредиторов позволила компаниям Фирташа-Левочкина включить в состав комитета кредиторов только аффилированные с их бизнес-империей структуры: ООО «КУА «Промышленные инвестиции»», банк «Надра», ООО «Синтез Ресурс», «Крымский Титан», и Ostсhem International GmbH. При этом другие кредиторы, в числе которых и государственный «Укрэксимбанк», общая сумма задолженности перед которыми превышает миллиард гривен, к процедуре банкротства допущены не были. В октябре 2012 года Хозяйственный суд Сумской области ввел на предприятии процедуру санации, назначив управляющим санацией «Сумыхимпрома» Игоря Лазаковича, и оставив Романа Марченко управляющим имуществом. Таким образом, государственное предприятие было полностью отдано на откуп частной структуре - Group DF International. И, естественно, ни о каком улучшении финансового положения предприятия с таким комитетом кредиторов и управляющим санацией говорить даже не стоит. Да и о чем говорить, если план санации, который, по законодательству, должен быть представлен в течение трех месяцев после начала ее процедуры, до сих пор не предоставлен на согласование в Фонд Госимущества. Примечательно, что в обход действующего законодательства, 11 июня 2013 Хозяйственный суд Сумской области, продлил срок подготовки плана санации на полгода. Но и этого оказалось мало. Впрочем, это неудивительно, ведь план санации никто из уполномоченных на это лиц готовить и не собирался. Члены общественной рабочей группы указывают на то, что больше всего от вышеописанной схемы пострадало само же государство. «Сумыхимпром», к слову, собирались приватизировать в этом году, но в Фонде госимущества, видимо, вовремя одумались и и.о. главы ФГИУ вполне резонно сказал, что выставлять предприятие в таком виде на торги нельзя. Ведь государство рискует в таком случае отдать его за гроши, а то и вовсе бесплатно. Впрочем, как заявляют члены рабочей группы, если новые власти не предпримут решительных мер по отстаиванию государственных интересов, в число которых, вне всякого сомнения, должно входить сохранение крупнейшего в стране производителя фосфатных удобрений, а виновные в банкротстве не будут наказаны, Украина может потерять «Сумыхимпром» раз и навсегда, и химический гигант целиком, или по частям, задаром попадет в руки тех, кто еще недавно сулил стране «улучшение уже сегодня», которые вновь рвутся к власти, причем хотят это сделать за счет средств, похищенных у крупнейших государственных предприятий.Александр Рязанов

Мироустройство сквозь призму геронтологии
Цена здравоохранения: статус США как супердержавы под угрозой?
Виктор Басюк – консультант по науке, технологиям и национальной безопасности. Преподавал в Военно-морском колледже, Колумбийском университете, Университете Кейс Вестерн Резерв. Автор книг «Технологии, мировая политика и американская политика», «Технологии и мировая политика» и ряда статей.
Хьюбер Уорнер – бывший профессор и заместитель декана в колледже биологических исследований Университета Миннесоты. Занимал пост заместителя директора по экстрамуральной биологии в Национальном институте проблем старения.
Резюме Активное долголетие приведет к кардинальным трансформациям в международных отношениях. В отличие от предыдущего перелома – распада Советского Союза, – перемены будут постепенными, но не менее масштабными
Статья опубликована в The Brown Journal of World Affairs, vol. XX, issue I, Fall/Winter 2013.
Вашингтон уже некоторое время борется с проблемами дефицита бюджета и огромного госдолга. В краткосрочной перспективе эти проблемы можно решить традиционными, но не всегда приятными средствами – путем увеличения налогов, повышения возраста для получения медицинской страховки и социальных пособий, а также введением правовых норм для уменьшения платы за услуги врачей. Однако в долгосрочной перспективе очевидного решения нет. Потому что основной фактор роста дефицита бюджета и увеличения заимствований – это постоянно растущие затраты на здравоохранение, которые лежат на федеральном правительстве из-за программ медицинского страхования «Медикэр» (Medicare – федеральная программа медицинской помощи престарелым) и «Медикэйд» (Medicaid – государственная программа бесплатной или льготной медицины). Эти расходы повышаются, потому что население стареет, а новейшие медицинские разработки стоят дорого. Федеральное правительство тратит триллионы долларов в год, чего власти не могут себе позволить.
Вариант решения проблемы существует, хотя и кажется сейчас противоречащим здравому смыслу. Однако многие схемы, когда-то казавшиеся утопическими, сегодня стали частью политического устройства. Решение, которое может стать важнейшим средством сокращения расходов на здравоохранение, включая «Медикэр», – это увеличение продолжительности жизни и освобождение человечества от недугов, связанных с возрастом, – рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и болезни Альцгеймера, т.е. продление полноценной жизни. Подобные изменения не только станут ключевым фактором поддержания финансовой жизнеспособности Америки, но и скажутся на распределении мировой власти и системы международных отношений. Они оживят некоторые экономики и повлияют на иммиграционную политику ряда стран. В этой статье мы рассмотрим различные аспекты проблемы.
Бремя здравоохранения в международной власти
Во время президентской кампании-2008 обе партии предпочитали умалчивать о проблеме «Медикэр» – и не без оснований. В ближайшие годы затраты на нее будут сопоставимы с расходами на преодоление последствий недавнего финансово-экономического кризиса или даже превзойдут их. Реальные размеры расходов на «Медикэр» привлекли всеобщее внимание, только когда начались дебаты по реформе здравоохранения. Поэтому проблему стоит рассмотреть детально.
В докладе попечительского совета «Медикэр» и Социального страхования (государственная программа, обеспечивающая выплату пенсий по старости, пособий по безработице, инвалидности, бедности; фонд данной программы формируется за счет отчислений из зарплаты работников и доходов работодателей. – Ред.) за 2013 г. приведен прогноз расходов на ближайшие 75 лет. При сохранении нынешних законов затраты на «Медикэр» вырастут с 565 млрд долларов (3,6% от ВВП, что сопоставимо с долей бюджета Пентагона) до 3,1 трлн (5,8% прогнозируемого ВВП) в 2040 году. А к 2087 г. они возрастут до 33,7 трлн (7,2% от ВВП).
В докладе, правда, имеется важная оговорка: прогноз сделан при условии, что все законы 2010 г. по сокращению расходов, включая Закон о доступном медицинском обслуживании, вступят в силу в полном объеме. Это оптимистичное допущение вряд ли материализуется из-за столкновения интересов и неприятия некоторых положений. Авторы доклада предупреждают, что если законы не будут реализованы в полном объеме, расходы на «Медикэр» увеличатся до 3,8 трлн (6,5% от ВВП) в 2040 г., а к 2087 г. подскочат до невероятных 45,9 трлн (9,8% от ВВП). По прогнозам, приведенным в докладе, фонд больничного страхования, составляющий основную часть расходов «Медикэр», будет исчерпан к 2026 г., и тогда федеральному правительству придется покрывать дефицит средств «Медикэр» из бюджета.
Бремя «Медикэр» выглядит особенно тревожно в контексте меняющегося распределения мировой власти. Рост ВВП Китая составляет от 7,5% до 9% в год, Индии – 6–7%. ВВП США растет на 2,5–3%, а ЕС – на 1–1,5%. Недавний финансово-экономический кризис нанес Соединенным Штатам значительно больший ущерб, чем Китаю. У Вашингтона огромные долги, в то время как валютные резервы Пекина составляют 3,4 трлн долларов. В 2010 г. Китай опередил Японию по объему ВВП и занял второе место в мире после США. К 2019 г. Китай может обогнать и Америку. Кроме того, Соединенные Штаты переживают серьезный провал с точки зрения «мягкой силы». Экономический кризис поставил под вопрос американскую модель рыночного капитализма, которая последние 30 лет распространялась по всему миру как идеал. С другой стороны, быстрое восстановление Китая после мирового финансового спада продемонстрировало мощь государственного капитализма.
Невероятно высокие затраты на «Медикэр» и здравоохранение в целом наложат серьезные ограничения на американский бюджет. Такие статьи бюджета, как вооруженные силы, наука и технологии, помощь другим государствам, дипломатия и образование, не защищены законодательством, являясь дискреционными. Поэтому они в первую очередь пострадают от бюджетных ограничений. Жизнеспособность Америки как супердержавы окажется под угрозой, учитывая ключевое значение этих сфер в укреплении ее влияния за границей в дипломатическом, экономическом и военном смыслах.
В долгосрочной перспективе увеличивающиеся расходы замедлят экономический рост в Соединенных Штатах. Более того, изменится структура ВВП страны. Здравоохранение будет расширяться за счет производства, науки и технологий, обороны, экологии и образования.
Действенное средство сокращения расходов на здравоохранение: активное долголетие
Существует несколько способов уменьшить затраты на здравоохранение, в том числе улучшить систему здравоохранения, снизить стоимость лекарств и выплаты врачам. Все эти меры, безусловно, нужно вводить, но есть и более радикальная и потенциально более эффективная политика, которая пока не обсуждается. Этот вариант выходит за рамки традиционных сфер, связанных с политикой – экономики, права и политологии, и касается науки, в первую очередь биогеронтологии. Продление периода жизни, не отягощенного возрастными болезнями (диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком, болезнью Альцгеймера и другими), приведет к более значительному сокращению затрат на здравоохранение, чем все остальные меры вместе взятые. Это позволит сэкономить триллионы долларов в ближайшие годы, а миллионы здоровых, энергичных людей будут готовы работать, что придаст новый импульс экономике. И этот вариант не так сложно реализовать.
Продолжительность жизни в США за последнее столетие увеличилась на 30 лет и сегодня составляет 79 лет. Этого удалось достичь благодаря повышению качества питания, улучшению санитарных условий, открытию антибиотиков и успехам медицины, которая практически победила ряд болезней. Но люди все равно стареют, и затраты на обеспечение стареющего населения будут расти.
В последние годы биогеронтологи добились значительного прогресса в выяснении молекулярных основ старения. Различные методы позволяют продлить жизнь червей, дрозофил и мышей на 30–100%. Сработают ли аналогичные биологические стратегии в случае с людьми – пока клинически не доказано. Тем не менее научная инфраструктура для продления жизни и отсрочки возрастных заболеваний уже создана и опробована на мышах. Ведущие американские геронтологи –
Леонард Гуаренте (Массачусетский технологический институт), Дэвид Синклер (Гарвард), Синтия Кеньон (Калифорнийский университет, Сан-Франциско), Томас Джонсон (Университет Колорадо) и другие – считают, что при финансировании исследований в ближайшие 5–10 лет полноценную жизнь пожилых людей можно продлить на 20 лет. Внешне человек, скорее всего, не будет стареть. Однако, когда продленный период здоровой жизни истечет, процесс старения возобновится, и вновь появится риск развития болезней.
Как можно продлить жизнь без болезней?
Существует по меньшей мере четыре основных методики продления здоровой жизни. Первая из них – ограничение калорий (ОК), которое, как известно, сработало на мышах. Подтвердить эффективность ограничения калорий на мышах достаточно просто, учитывая их короткую жизнь. В случае с человеком сделать это гораздо сложнее: на подобные исследования понадобится много лет. Однако, несмотря на отсутствие клинических доказательств, подавляющее большинство биогеронтологов верят в эффективность ограничения калорийности пищи как способ продления здоровой жизни. Рой Уолфорд, известный биогеронтолог и сторонник ОК, основал в 1994 г. вместе со своей дочерью Лизой Уолфорд, Брайаном Делани и другими организацию CR Society International, несколько тысяч членов которой практикуют и исследуют ограничение калорий. На данный момент самым серьезным доказательством эффективности ОК для людей является исследование, длившееся 20 лет и завершенное в 2009 г., результаты которого показывают, что низкокалорийная диета позволила существенно отсрочить появление возрастных заболеваний и смертность макак-резус. Учитывая биологическое сходство макак-резус и человека, аналогичный эффект ОК возможен и у людей. Ограничение калорий требует сокращения потребляемой пищи на 30–40%, в результате включается защитный механизм организма, который призван защищать ДНК, и таким образом продлевается период здоровой жизни (иными словами, происходит увеличение продолжительности жизни и освобождение от возрастных болезней) почти на 30%. Однако такая диета, практически голодание, вряд ли подойдет многим, поэтому ограничение калорий нельзя считать эффективным.
Еще один метод, разработанный Гуаренте и Синклером, предполагает использование сиртуиновых генов для включения защитных механизмов организма, чтобы сохранить ДНК. Эффект от сиртуиновой активации напоминает воздействие ОК, но не требует специальной диеты. Этот метод был опробован на мышах и кажется многообещающим. Также было доказано, что ресвератрол в сочетании с SIRT1 (геном семейства сиртуинов) и АМФ-зависимой протеинкиназой (АМФК) продлевает период здоровой жизни у мышей.
Еще один подход, разработанный Синтией Кеньон и известный как гормональный контроль старения, направлен на уменьшение действия инсулина и связанного с ним гормона – инсулиноподобного фактора роста (IGF-1). В результате активируется ген FOXO, который, в свою очередь, стимулирует ряд процессов защиты клеток, включая укрепление иммунной системы и выработку антиоксидантов. Таким образом достигается активное долголетие.
В 2010 г. Зелтон Шарп и Рэнди Стронг, исследователи из Техасского университета в Сан-Антонио, открыли потенциал рапамицина – метаболита, вырабатываемого бактериями в почве, – для отсрочки старения и появления возрастных болезней. Метод сработал на мышах, а у некоторых больных раком наблюдалась ремиссия. Применение рапамицина особенно эффективно в зрелом возрасте, поскольку может отсрочить и снизить тяжесть старческих заболеваний.
Известно также, что генетические манипуляции, направленные на увеличение длины теломеров, способствуют продлению периода здоровой жизни у мышей. Но одновременно возрастает риск онкологии. Однако в 2012 г. Мария Бланко и ее коллеги из Испанского национального центра изучения рака в Мадриде выяснили, что генная терапия теломеразой оказывает положительное воздействие на здоровье мышей, продлевает период здоровой жизни и при этом не повышает риск рака.
Иными словами, биогеронтология сегодня способна продлить период здоровой жизни у мышей и в некоторых случаях у макак-резус. Теперь необходимо распространить эти возможности и на человека. Чтобы уменьшить риск ошибок и потери времени, серьезный проект продления жизни человека должен включать исследования нескольких перспективных методик.
Однако в настоящее время на биогеронтологические исследования не хватает денег. Затраты на исследования по продлению здоровой жизни человека оцениваются в 10 млрд долларов в ближайшие 5–10 лет. Хотя Национальный институт проблем старения в США в 2012 финансовом году выделил 1,13 млрд, большая часть этих средств предназначена для изучения возрастных болезней, и только десятая часть в лучшем случае пойдет на исследование продления жизни. Поэтому необходима масштабная программа, подобная проекту «Манхэттен», нацеленная на продление жизни без возрастных заболеваний. Это позволит сберечь деньги на изучение отдельных болезней и сэкономит триллионы долларов, которые правительству США придется тратить на «Медикэр» в ближайшем будущем.
Зацикленность на отдельных заболеваниях
Сосредоточенность Национального института проблем старения на отдельных заболеваниях – в ущерб более фундаментальному и всеобъемлющему подходу, когда одно лекарство будет защищать от целого ряда недугов, – обусловлена не только политикой руководства института. Она отражает традиционный, глубоко укоренившийся образ мыслей американского научного сообщества, который влияет на властные структуры и распределение бюджетных средств. В Национальный институт здоровья входят по меньшей мере девять институтов, занимающихся отдельными болезнями или их группами. Из них один только Национальный институт рака имеет бюджет в 5,07 млрд (2012 финансовый год) – в четыре раза больше, чем Национальный институт проблем старения.
В 2006 г. группа ведущих исследователей-биогеронтологов – Стюарт Джей Ольшански (Университет Иллинойса, Чикаго), Дэниэл Перри (Альянс исследований старения, Вашингтон), Ричард Миллер (Университет Мичигана, Энн-Арбор) и Роберт Батлер (Международный центр долголетия, Нью-Йорк) – попытались изменить традиционный менталитет научного сообщества по поводу старения и болезней, чтобы модифицировать систему распределения средств. Они опубликовали статью в журнале The Scientist, в которой подчеркивалось, что, найдя способ продления жизни без возрастных недомоганий, можно победить не одно, а целый ряд заболеваний и сберечь средства, которые сегодня выделяются на исследования отдельных болезней. Более того, увеличение продолжительности полноценной жизни поможет сократить расходы на здравоохранение и стимулировать экономику, поскольку в распоряжении государства окажутся огромные дополнительные финансовые ресурсы и рабочая сила. Ученые встретились с членами сенатского комитета, контролирующего бюджет Национального института здоровья, но их усилия оказались тщетными: нынешняя система финансирования по-прежнему нацелена на разработку методов лечения отдельных заболеваний. Именно поэтому необходимо создание «Манхэттенского проекта» продления полноценной жизни, который, функционируя вне рамок Национального института здоровья, будет свободен от традиционного мышления.
Если такой проект достигнет цели, польза для общества не ограничится сокращением расходов на «Медикэр». Можно сэкономить средства, объем которых пока трудно оценить, но суть экономии можно спрогнозировать уже сейчас. В первую очередь речь идет о социальном страховании. Нельзя однозначно увязывать рост расходов на социальное страхование с увеличением продолжительности жизни. Мы не знаем, сколько людей решат продолжить работу и сколько уйдут на пенсию. Те, кто продолжит работать, будут платить налоги в Фонд социального страхования, соответственно, расходы не будут расти. Увеличение продолжительности жизни приведет к повышению возраста выхода на пенсию. Это скажется на расходах, но понадобится политическое решение, прогнозировать которое невозможно. Система социального страхования получит прямую выгоду от продления здоровой жизни благодаря снижению выплат по нетрудоспособности. По меньшей мере в 50% случаев выплаты по нетрудоспособности (9% от общего объема расходов системы социального страхования в 2011 г.) связаны со старческими болезнями. По прогнозам, к 2086 г. потенциальное сокращение расходов на страхование по нетрудоспособности может составить 2,3 трлн только за один год.
Расходы на частное медицинское страхование также существенно сократятся. Затраты на «Медикэйд», на которую идет около половины федерального финансирования «Медикэр» (2011 финансовый год), серьезно уменьшатся. Общество сэкономит огромные средства, но это будет лишь временной передышкой. Дело в том, что по истечении двадцатилетнего периода здоровой жизни риск болезней вновь возрастет. Однако, если говорить об издержках, временность этой передышки может быть компенсирована тем, что в научном мире называется «сокращением заболеваемости».
Сокращение заболеваемости
Что же это такое? По мере старения человека в его организме накапливаются возрастные патологии, которые вызывают реальную или потенциальную нетрудоспособность. Этот процесс начинается примерно в 55 лет и только усугубляется до момента смерти, которая обычно наступает к концу седьмого десятка. Период нетрудоспособности, связанной с возрастными недомоганиями, можно свести к нескольким последним годам жизни и тем самым существенно уменьшить расходы на здравоохранение. Вместо того чтобы продолжаться несколько десятилетий, возрастные заболевания будут в основном приходиться на последние несколько лет перед смертью. Фактически путем сокращения периода повышенной заболеваемости можно будет избавиться от расходов на здравоохранение, связанных со старческими болезнями, соответственно явление уже не будет временным.
Сокращению периода повышенной заболеваемости способствуют два фактора, что было подтверждено клинически. Во-первых, это образ жизни и сила воли конкретного человека. Те, кто занимается спортом, ест здоровую пищу, следит за весом, не курит, проводит профилактику заболеваний и в целом ведет здоровый образ жизни, отодвигают появление болезней на конец жизни. Эту гипотезу первым высказал Джеймс Фрис из Стэнфордского университета еще в 1980 году. Долговременное исследование подтвердило эту концепцию.
Вторая причина – генетические особенности. Изучение долгожителей показало, что за свою жизнь они были госпитализированы лишь несколько раз, не злоупотребляли лекарствами и имеют небольшое количество заболеваний. У них было отличное здоровье до 90–95 лет, после чего происходил быстрый упадок. Иными словами, они обладали генами, которые обеспечивали сокращение периода повышенной заболеваемости и таким образом продлевали им жизнь.
К сожалению, обеспечить широкое распространение эффекта силы воли сложно. Однако если гены, обеспечивающие сокращение периода повышенной заболеваемости у долгожителей, можно идентифицировать и использовать, тогда сокращение периода повышенной заболеваемости станет доступно для всего населения, что приведет к уменьшению расходов на здравоохранение. Поэтому одной из задач «Манхэттенского проекта по продлению жизни» должно стать обнаружение этих генов. Эта работа согласуется с общей миссией проекта и его научными задачами.
С точки зрения максимального уменьшения расходов на здравоохранение открытие генов, отвечающих за сокращение периода повышенной заболеваемости, не будет иметь ключевого значения в первые 5–10 лет «Манхэттенского проекта». Они понадобятся, когда закончится эффект продления периода здоровой жизни, т.е. через 25–30 лет после запуска проекта. Имея в запасе такой срок, можно рассчитывать, что поиск нужных генов увенчается успехом.
Определенный прогресс уже достигнут. Исследование долгожителей Новой Англии под руководством Паолы Себастьяни и Томаса Перлса из Бостонского университета помогло обнаружить более 30 генов, сокращающих период повышенной заболеваемости. Каждый из них в отдельности дает скромные результаты, но их сочетание способно оказать существенное воздействие. Превратить целый ряд генов в препарат, сокращающий период старческой немощи, будет сложно, если вообще возможно. Необходимо идентифицировать один или два гена, достаточно сильных по воздействию, которые можно будет использовать в разработке препарата. Исследования в этом направлении продолжаются.
Продление здоровой жизни и финансовая жизнеспособность нации
Как продление полноценной жизни соотносится с усилиями по реформированию системы здравоохранения? Программа продления здоровой жизни будет иметь смысл, если эффективное средство активного долголетия будет разработано до конца этого десятилетия. Однако уже в следующие 10 лет ее результаты смогут способствовать изменению закона о реформе здравоохранения, в частности относительно расширения охвата и уменьшения средств, выделяемых на некоторые программы. В целом это поможет сократить дефицит бюджета.
Уменьшение затрат на здравоохранение будет иметь ключевое значение для финансового благополучия в ближайшие десятилетия, особенно учитывая ситуацию с госдолгом. Бюджетное управление Конгресса в долгосрочном прогнозе 2013 г. просчитывает размер госдолга до 2038 года. По базовому сценарию, который учитывает действующее законодательство, в 2038 г. госдолг США достигнет 100% от ВВП, или 53,1 трлн (в 2013 г. он составлял 73% от ВВП, или 12,2 трлн). Бюджетное управление рассчитало также альтернативный сценарий – некоторые действующие нормы, которые планируется изменить, сохраняются, а некоторые положения законодательства, которые сложно выполнять на протяжении длительного времени, модифицируются. По этому сценарию, который рассматривается как более реалистичный, в 2038 г. госдолг достигнет почти 190% от ВВП, или 100,9 трлн долларов. Значение этих цифр становится понятным, если заглянуть в историю: самое высокое соотношение госдолга к ВВП наблюдалось вскоре после Второй мировой войны – в 1946 г. оно составило 106%.
В Вашингтоне осознают опасности потенциального финансового кризиса в ближайшие годы. Весной и летом 2011 г. ожесточенные дебаты по этой проблеме привели к политическому кризису. Главной темой была система «Медикэр». Это очень болезненный и политизированный вопрос, поэтому дискуссии по «Медикэр» часто заходят в тупик. Вопрос до сих пор не решен, программу можно модифицировать, но от нее нельзя полностью отказаться. Поэтому новые заимствования неизбежны.
Увеличение расходов на программы здравоохранения станет важнейшим фактором роста госдолга. По прогнозам Бюджетного управления Конгресса, если действующие нормы законодательства не изменятся, расходы на основные федеральные программы здравоохранения возрастут с 4,6% от ВВП в 2013 г. до 8%, или 4,2 трлн, к 2038 году. «Манхэттенский проект продления жизни» поможет разрешить ситуацию, сняв необходимость лечить старческие болезни на протяжении длительного времени.
Соединенные Штаты являются одним из лидеров в области изучения долголетия и способны начать «Манхэттенский проект» самостоятельно. Частные благотворительные фонды могут спонсировать исследования. Помимо сокращения расходов на здравоохранение, продление здоровой жизни укрепит жизнеспособность нации, потому что самые талантливые и компетентные люди – энергичные и активные, не страдающие возрастными болезнями, – смогут работать гораздо дольше. Снижение затрат на здравоохранение смягчит нагрузку на бюджет, и правительству не придется урезать социальные программы, включая социальное страхование; возможно, их даже удастся увеличить.
Международная программа продления здоровой жизни?
Расходы на здравоохранение – проблема, актуальная не только для США. Это глобальная проблема. При этом 50% роста расходов дает усовершенствование технологий, еще 20% – старение населения. Но в ближайшие годы доля расходов, связанных со старением, будет расти. По данным ОЭСР, за последние 50 лет затраты на здравоохранение в среднем опережали рост ВВП на 2 процентных пункта.
Из-за различий в проводимой политике и местных условиях в странах сложилась разная ситуация. В Великобритании расходы на здравоохранение составляют около 8% от ВВП, т.е. вдвое меньше, чем в США, но этот показатель растет и уже начинает беспокоить британские власти. Население стареет, а коэффициент рождаемости составляет 1,7 на одну женщину, в то время как для восстановления естественной убыли населения он должен быть 2,1. Но благодаря иммиграции население, по прогнозам, продолжит расти: с 63 млн в 2012 г. до 71,2 млн к 2050 году. Население Японии, напротив, уменьшится со 127 млн в 2012 г. до 107,2 млн к 2050 г., а население России за тот же период может сократиться с нынешних 143 млн до 99 миллионов. В Китае уровень рождаемости снизился до 1,82, расходы на здравоохранение достаточно высокие, а население тоже стареет: к 2050 г. в Китае будет 334 млн пожилых людей.
Приведенные цифры позволяют предположить, что выделение средств на продление здоровой жизни отвечает интересам не только США, но и других развитых и развивающихся стран. Поэтому Соединенным Штатам было бы разумно начать «Манхэттенский проект» совместно с Евросоюзом, Японией, Китаем, Россией и другими странами. Международный подход позволит снизить цену исследований для США, поскольку другие страны тоже будут вкладывать деньги. Снижение затрат на здравоохранение важно для всех государств, но государства с сокращающимся населением – Япония, Россия и Украина – получат двойную выгоду, так как этот процесс по меньшей мере замедлится, а возможно, даже прекратится благодаря увеличению периода плодотворной жизни. Для таких стран, как США, Великобритания и Германия, где демографический и экономический рост в значительной степени зависят от иммиграции, продление здоровой жизни уменьшит потребность в иммигрантах и смягчит многие проблемы, связанные с этим.
Работы по продлению жизни на международном уровне станут для Соединенных Штатов знаковыми. Два предыдущих крупных научных проекта – «Манхэттен», в результате которого появилось ядерное оружие, и «Аполлон», который обеспечил высадку человека на Луне, – были самостоятельными начинаниями. Первый проект являлся военным, и на кону стояло выживание страны. Второй – продукт холодной войны – отражал биполярность существовавшей мировой системы. Международный «Манхэттенский проект продления жизни» станет символом признания Вашингтоном того, что мы живем в новом, многополярном мире, где целью крупного исследовательского проекта является не соперничество, а глобальная выгода.
Пользу для США от международного подхода к изучению долголетия легко доказать, если рассмотреть подобный проект в историческом контексте. Американская «мягкая сила» – имидж страны, мировое лидерство (в том числе в науке), общественная дипломатия, отношения с союзниками и менее дружественными странами – была серьезно подорвана во время президентства Джорджа Буша-младшего. Учитывая, что жесткая сила Соединенных Штатов – экономическая и военная мощь – относительно уменьшилась и продолжит снижаться в ближайшие годы, для Америки чрезвычайно важно попытаться компенсировать этот процесс увеличением «мягкой силы». Самым важным аспектом, вероятно, является мировое лидерство США. Международный «Манхэттенский проект продления жизни» может стать мощным инструментом «мягкой силы», особенно если политикам в Вашингтоне удастся извлечь из него пользу и по возможности обернуть потенциал «мягкой силы» в жесткую. Например, если продление периода здоровой жизни остановит сокращение населения Японии, оздоровит ее экономику и улучшит отношение японцев к Америке, Вашингтон может трансформировать эти изменения в выгодное торговое соглашение с Японией или какую-то иную форму жесткой власти.
Таким образом, биогеронтология поможет Соединенным Штатам справиться с двумя главными вызовами XXI столетия: относительным упадком влияния США в мировых делах и финансовой неэффективностью.
С точки зрения относительного упадка американской власти вклад биогеронтологии будет не только прямым, но и опосредованным. Продление здоровой жизни высвободит огромные ресурсы благодаря уменьшению расходов на здравоохранение. Эти ресурсы можно использовать в областях, имеющих ключевое значение для статуса Америки как супердержавы: наука и технологии, образование, вооруженные силы, международные дела, освоение космоса и экономический рост. Если средство для активного долголетия будет найдено в рамках международного «Манхэттенского проекта», биогеронтология поспособствует укреплению роли Соединенных Штатов в мире посредством «мягкой силы».
США вряд ли удастся на протяжении длительного времени решать обе задачи – поддерживать статус супердержавы и обеспечивать население социальными услугами, не прибегая к биогеронтологии. Однако если страна сможет успешно сочетать жесткую силу с «Манхэттенским проектом» и другими инструментами «мягкой силы», цель будет достигнута.
Спасут ли наука и ход истории Соединенные Штаты от потенциальных опасностей?
Стоит затронуть некоторые общие и абстрактные вопросы. Каковы будут региональные и глобальные последствия международного «Манхэттенского проекта» по продлению здоровой жизни? Как активное долголетие изменит тенденции развития международных отношений? Как это впишется в историю?
Науке удалось увеличить длительность жизни человека, но за это пришлось дорого заплатить. Мы достигли точки, когда увеличение продолжительности жизни и старение населения могут завести в тупик. Потребуются огромные ресурсы, и США не смогут осуществлять важные задачи, касающиеся национальной безопасности и внешней политики. Но сейчас наука предлагает продлить период полноценной жизни, в результате чего высвободятся значительные ресурсы, которые можно использовать в других целях. Положительная тенденция эволюционной истории указывает, что продление периода здоровой жизни произойдет в любом случае – с помощью «Манхэттенского проекта» или без него. Проект лишь ускорит процесс и направит его на достижение конкретных целей.
Активное долголетие приведет к кардинальным трансформациям в международных отношениях. В отличие от предыдущего крупного изменения – распада Советского Союза, – на этот раз перемены будут происходить постепенно. Демографические тенденции являются теневой силой, влияющей на распределение мировой власти в XXI веке. Как уже отмечалось выше, продление жизни по меньшей мере замедлит убыль населения – или даже перевернет тенденцию – в странах, где оно сокращается. Что, в свою очередь, укрепит жизнеспособность этих государств и предотвратит потенциальную нестабильность.
Если проект по продлению здоровой жизни окажется успешным, нынешние прогнозы распределения власти в мире, учитывающие демографические тренды, не оправдаются. Японская экономика восстановится, и страна вновь станет жизнеспособной мировой державой. Проблемы России сложнее, и неясно, решит ли преодоление старения проблему, поскольку демографический кризис в России обусловлен целым рядом причин, в том числе низким качеством медицины и высоким потреблением алкоголя. Чтобы воспользоваться преимуществами длительной полноценной жизни, России необходимо предпринять меры по значительному повышению качества жизни.
Население Китая стареет и будет сокращаться. По прогнозам, к 2050 г. его численность составит 1,304 млрд – на 39 млн меньше, чем в 2012 году. Продление периода здоровой жизни остановит убыль населения, оздоровит экономику и, возможно, даже предотвратит потенциальную нестабильность, связанную с огромным количеством пожилых людей, лишенных социальной защиты. В Индии коэффициент рождаемости, напротив, составляет 2,8, темпы роста населения быстро увеличиваются, а попытки правительства его остановить пока не увенчались успехом. К 2050 г. население Индии, по прогнозам, достигнет 1,659 млрд – на 355 млн больше, чем в Китае. Продление плодотворной жизни сократит расходы на здравоохранение, что очень важно для Индии, где население стареет и, соответственно, сталкивается с возрастными болезнями, в то время как в стране нет системы социальной защиты. Кроме того, продление здоровой жизни пойдет на пользу индийской экономике. Но высокие темпы роста населения сохранятся. Пока неясно, как численность населения Индии может трансформироваться в международную власть из-за огромного числа бедных и неграмотных (в 2012 г. уровень неграмотности в Индии составлял 37,2%, в Китае – 7,7%).
Для Евросоюза картина кажется более ясной. Согласно последним прогнозам, к 2050 г. ЕС потеряет всего 12 млн человек (с нынешних 504 млн до 492,4 млн, при этом почти все – 9,8 млн – в Германии), что значительно ниже показателей России и Китая. Продление здоровой жизни поможет увеличить численность населения и оздоровить экономику. Кроме того, может сократиться иммиграция, поскольку все больше здоровых европейцев будут продолжать работать, соответственно, количество рабочих мест уменьшится. Так как в Западной Европе процесс ассимиляции мигрантов происходит с большим трудом, вместе с сокращением притока мигрантов снизится и острота этой дестабилизирующей проблемы. Улучшение экономической ситуации стимулирует европейскую интеграцию, и Европейский союз сможет постепенно укрепить статус супердержавы.
Нынешние демографические прогнозы благоприятны для США. В настоящее время они являются единственной развитой державой, где рождаемость находится на уровне 2,1 или чуть выше, что необходимо для восполнения естественной убыли населения. С учетом иммиграции число жителей может возрасти до 423 млн к 2050 г. по сравнению с 313 млн в 2012 году. Соединенные Штаты сохранят за собой третье место в мире по численности населения после Индии и Китая. С продлением периода здоровой жизни общее количество жителей возрастет, при этом подавляющее большинство будут составлять здоровые и потенциально более активные люди. Подобные демографические тенденции позволяют предположить, что проект продления жизни поможет странам-участницам даже больше, чем США, с точки зрения роста численности населения и жизнеспособности нации. Увеличение населения в сочетании с укреплением «мягкой силы» станет серьезным стимулом для Соединенных Штатов, чтобы начать подобный проект.
Как отмечалось выше, продление периода здоровой жизни человека неизбежно произойдет, хотя, возможно, не так быстро, как мы предполагаем. К 2050 г. США и Евросоюз – два центра западной цивилизации – будут обладать суммарным населением в 1 млрд человек. Это будут хорошо образованные, энергичные и деятельные люди. Продление полноценной жизни укрепит жизнеспособность общества не только в экономике, но и в других сферах деятельности, которые являются важнейшими элементами цивилизации, включая музыку, науку, технологии, экологию, образование, международные отношения и литературу. Самые талантливые представители всех этих пяти сфер будут жить активной жизнью без старческих болезней на 20 лет дольше, чем сейчас. Это не только обогатит ту или иную сферу человеческой деятельности, но и ускорит эволюцию западной цивилизации. Поэтому говорить о XXI веке как о «столетии Азии» – скорее всего, преждевременно. Продление жизни принесет пользу и азиатским странам, но эффект будет немного иным.
Причины такого эффекта различаются в зависимости от страны, но суть проблемы заключается в том, что практически все западные державы получат два преимущества от продления периода здоровой жизни – увеличение населения и экономический рост. В большинстве стран Азии население растет довольно быстрыми темпами, и в некоторых государствах это может привести к печальным последствиям. Исключением является Япония, но, учитывая ее статус крупнейшей индустриально развитой державы Азии, экономическое возрождение Японии будет выгодно Западу. Позитивный эффект активного долголетия открывает новые возможности для Соединенных Штатов и их лидерства в мире. В этом контексте ключевую роль должно сыграть тесное сотрудничество между США и Евросоюзом.

После смерти идеологии
Еще раз о дипломатии в XXI веке
Яковенко А.В. – чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Великобритании.
Резюме Все слишком дорого заплатили за то, что России не было за «главным столом» европейской политики ни в конце XIX века, ни в начале XX. Сейчас мы просто не имеем права не вести активную внешнюю политику.
В июле в Москве прошло совещание послов, на котором выступил президент России. Он говорил о возросшей непредсказуемости развития международной ситуации, спрессованности событий во времени. Это повышает роль дипломатии, предъявляет дополнительные требования к дипслужбе, которая должна действовать не только напористо и с достоинством, но и сохраняя выдержку, чувство такта и меры. Собственно, тезис о возрастании роли дипломатии в современных условиях не оспаривают и наши партнеры, особенно когда эксперты предрекают возвращение международных отношений в XIX век и даже далее. Как показало совещание, вопрос этот – один из ключевых в современном мире и требует конкретной трактовки, уяснения того, какие задачи из этого следуют.
К примеру, никто не ждет «больших войн», т.е. вооруженных столкновений между ведущими государствами мира. Скорее наоборот, все убеждены в том, что государства между собой уже навоевались, а подавляющее большинство конфликтов носят внутренний характер, будучи продуктом дисфункции национального развития. Они случаются, казалось бы, на периферии Европы и остального мира. Но если говорить конкретно в привязке к реалиям сегодняшнего дня, то получается непростая картина комплексной трансформации мира, включая и международные отношения. Понять суть происходящего – важнейшая задача дипломатии, призванной содействовать созданию благоприятных внешних условий для развития страны.
Новая реальность
Практически все ведущие политики и эксперты-политологи признают, что на планете сложилась новая реальность. К чести российской дипломатии надо сказать, что мы первые обратили внимание на это преображение мира и сформулировали вытекающие из него требования к внешней политике страны. Это было сделано в концепциях внешней политики России 2000, 2008 и 2013 годов. Нашим международным партнерам, ослепленным «однополярным моментом», понадобился глобальный кризис и печальные итоги президентства Джорджа Буша-младшего, чтобы перейти на те же позиции.
В самом общем плане речь идет о возвращении к ценностям классической дипломатии. Кстати, в свое время это признали нынешнее коалиционное правительство Дэвида Кэмерона и бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон. Другое дело, что этот реализм, или его проблески, стали жертвой нынешнего обострения отношений между Западом и Россией, потребовавшего – вопреки здравому смыслу и новой международной реальности – идейного обоснования необходимости возврата в прежнее состояние холодной войны, интеллектуально и психологически привычное для большей части политических элит. Если оставить за скобками этот последний разворот в европейских делах, то потребность в классических инструментах дипломатии представляется вполне естественной.
Биполярность времен холодной войны с ее блоковой дисциплиной, минимумом дипломатии, которая реально вершилась между Москвой и Вашингтоном в жестко установленных пределах, упрощенными идеологизированными категориями и псевдостабильностью, явилась своего рода аберрацией, искривлением временного пространства на общем фоне всемирно-исторического развития. Главное, что она свела все богатство международной палитры к конфронтации двух военно-политических союзов.
С окончанием холодной войны ситуация в корне изменилась, хотя понимание этого и содержания самих перемен пришло далеко не сразу. С одной стороны, как показывает нынешний глобальный кризис, на первый план выходят вопросы внутреннего развития государств. Именно внутренняя устойчивость, прежде всего социально-экономическая, является ключевым внешнеполитическим ресурсом. Это признали даже американские военные, в частности тогдашний председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майкл Маллен, когда продолжение войны в Ираке пришло в явное противоречие с интересами развития самой Америки. Отсюда и общий настрой американцев, большая часть которых, согласно опросам, считает, что страна должна сосредоточиться на собственных делах.
Соответственно, в фокусе глобальной конкуренции оказались вопросы сравнительной эффективности моделей развития и систем ценностей, т.е. идея, что «все кошки серы», если выключить свет идеологий. Конечный критерий – эффективность, будь то протестантская этика, конфуцианство, просто теория развития.
По сути, речь идет о «смерти идеологии», как она господствовала в международных отношениях, да и во внутреннем развитии государств в послевоенный период. Надо будет заметить, что идеологическая конфронтация времен холодной войны не выходила за рамки европейской цивилизации: по обе стороны разделительной линии использовались различные продукты европейской политической мысли. Вследствие этого биполярность объективно представляла собой способ обеспечения доминирования европейской цивилизации в мировом развитии и международных делах.
С другой стороны, мир раскрепостился, и свободу исторического творчества обрело огромное число государств. Он стал более свободным в полном смысле этого слова. Эту свободу обеспечивает не только деидеологизация международных отношений. Гарантом становится множественность центров экономического роста и политического влияния, представляющих, особенно если взять нарождающиеся региональные державы, все культурно-цивилизационное многообразие мира. Многополярность выходит за узкие рамки геополитического треугольника Россия–США–Китай. Но даже эта треугольная конструкция в условиях отказа России от прежней идеологии и участия Китая, сознающего себя как самостоятельная цивилизация, исключает формирование внутри нее жестких постоянных альянсов прошлого, для которых сейчас просто нет никаких оснований.
Все ведущие государства действительно навоевались в своей истории. Для кого-то хватило Первой мировой войны, для остальных – Второй мировой. Принцип взаимного гарантированного уничтожения сохранял мир в отношениях между США и Советским Союзом, а значит и на всей планете. Поддержание стратегической стабильности сохраняет свое значение и поныне, раз ядерное оружие продолжает существовать.
Фактор силы
Это не значит, что фактор военной силы перестал играть роль в международных отношениях. Опыт последних двух десятилетий показывает, что конфликтов разного рода отнюдь не убавилось, скорее наоборот. Мы видели это и в ходе кавказского кризиса шесть лет назад. Примеры дают и многосторонние операции по подавлению очагов террористической угрозы, в частности в Афганистане. Применительно к интересам нашей страны события августа 2008 г. показали, что дипломатия, поддержанная, если цитировать американских политологов, «вызывающей доверие угрозой применения силы», остается во внешнеполитическом арсенале современных государств, включая Россию. Отсюда и требования к дипломатии, которая должна давать адекватный анализ и прогноз для столь исключительных политических решений. Тут надо различать два вида ситуаций.
Первый – это опыт администрации Джорджа Буша-младшего, развязавшей войну в Ираке вопреки ясно выраженной воле международного сообщества и национальным интересам самой Америки. В данном случае речь идет о применении военной силы как элемента саморазрушения государств, причем не только в части их международных позиций, но и внутреннего развития, в более общем плане – как ключевого пункта трансформации ведущих держав мира, которые не могут быть радикально преобразованы извне, как это было в случае с Германией и Японией после их поражения во Второй мировой войне.
Другая ситуация – когда применение военной силы носит вынужденный обстоятельствами характер, т.е. в защиту внятных и понятных остальному миру конкретных национальных интересов. Образец такого подхода дают кавказский кризис и нынешний кризис на Украине. Оба показывают, что при этом требуется трезвый анализ, учет всей совокупности факторов, включая волю населения соответствующих территорий и международное право в его развитии, а также политическую умеренность, т.е. умение знать, где остановиться, не пойти на поводу у военного потенциала и военных технологий. Военная сила не должна заказывать музыку политике и дипломатии, оставаясь лишь их инструментом.
Что касается украинского кризиса, то, согласно оценкам лондонского Международного института стратегических исследований и Королевского института оборонных исследований (Великобритания), Россия в последние месяцы продемонстрировала облик своих вооруженных сил, отвечающий требованиям XXI века, в то время как НАТО в своем реагировании, а это воздушное патрулирование вдоль российских границ и военно-морские демонстрации, так и осталась на уровне XX века. Применительно к международному праву необходим не только его комплексный учет, но и современное развитие с упором на нужды и интересы людей, а не интересы государств, если их трактовка элитами расходится с интересами населения.
Исключительность государств
Раз речь зашла о международном праве, стоит упомянуть мессианские идеи в духе «исключительности» тех или иных государств, причем имеется в виду исключение из общего международного правопорядка. Сплошь и рядом за претензиями стоят благие, идеалистические побуждения. К примеру, можно привести суждения Гегеля в его философии истории о том, что «призванием германских народов» с их «чистой искренностью» является создание идеального государства свободы как воплощенного и осознанного духа. Это говорилось за сто лет до прихода нацистов к власти в Германии. Кстати, идеи Ф.М. Достоевского, если к ним отнестись как к философско-историческим, дают убедительное опровержение любого стремления к такой «определенности», а значит и конечности самой истории, о чем, как известно, некоторые поспешили возвестить сразу же по окончании холодной войны.
Новое сдерживание
В любом случае и кавказский, и нынешний кризис на Украине доказывают, что большие войны исключены, но способность силового реагирования, не обязательно само оно, может иметь решающее значение в случае скрытой агрессии или агрессии через подставные государства, в которых произошла соответствующая «смена режима». В целом попытки возвращения европейской/евроатлантической политики в прошлое через уже открытое проведение курса на сдерживание России, хотя и теряют смысл в многополярном мире, но способны стать источником серьезной дестабилизации в регионе, уже не говоря о соответствующих государствах. Они безусловно бесперспективны в среднесрочном и долгосрочном плане, прежде всего потому, что в условиях восстановления нормального демократического процесса, который может быть временно искажен действиями национал-радикалов и других экстремистских сил, возобладают реальные, а не навязанные меньшинством и извне интересы страны.
В новых условиях не срабатывает прежняя формула «смысла существования» НАТО, которая принимает облик политики «двойного сдерживания» – России и Германии одновременно. Определенный временной ресурс у такой политики может быть связан с незрелостью политических элит, интеллектуальной и идейной инерцией в русле «старой геополитики», новизной и кажущейся беспрецедентностью нынешней ситуации в Европе и мире. Не следует забывать, что все прецеденты такой комплексной трансформации мира приходились на рубежи столетий, будь то Французская революция/Наполеоновские войны или Первая мировая война, ставшая, по словам Джорджа Кеннана, «исходной трагедией XX века». Сейчас речь идет о конце холодной войны, разрушившем биполярный миропорядок, а с ним и сам статус сверхдержавы, и глобальном кризисе, запущенном очередным системным кризисом западного общества, включая либеральный капитализм, политические системы, будущее среднего класса и качество элит.
Деглобализация
Глобализация и то, что с ней будет, также ставят целый ряд комплексных вопросов, требующих серьезного анализа со стороны дипломатов на уровне регионоведения, страноведения, изучения глобальных проблем и многих других вопросов. Как и в канун Первой мировой войны, глобализация пришла в противоречие с интересами развития западных стран: источники глобального экономического роста оказались за пределами исторического Запада, искусственные источники роста в финансовом секторе перестают срабатывать, инвестиционные социальные группы населения начинают выступать в роли рантье, обрекая на ущербное развитие свои страны, как это было в случае с Францией сто лет назад. Отсюда тенденция к деглобализации, которая проявляется в том числе и в регионализации глобальной политики в сфере торговли и экономической интеграции, включая создание региональных торговых пактов.
Интересно, что и тут могут иметь место попытки привнесения прежних геополитических соображений, т.е. интегрироваться не для чего-то, а против кого-то, в целях изоляции стран, рассматриваемых как геополитические конкуренты. Так, широко распространено мнение, что Транстихоокеанское партнерство создается для изоляции Китая, а Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство – против России. Неудивительно, что ни то ни другое не особенно получается, поскольку эти соображения, существующие в сознании определенных элит, входят в противоречие с новой реальностью и интересами развития потенциальных государств-участников. Если брать Россию, то ее участие в обеспечении энергобезопасности Европы – это реальность, которую не отменяет «сланцевая революция» в США: до поставок американского СПГ в Европу еще далеко, да и вряд ли он будет дешевым. К тому же неизвестно, как будет развиваться ситуация в районе Персидского залива уже в ближайшие месяцы, а это не только положение в Ираке, но и решение проблемы иранской ядерной программы, взаимоотношения между государствами Персидского залива и конечная цель «Аль-Каиды», каковой является контроль над Аравийским полуостровом и его исламскими святынями.
Геополитика
Евразийская интеграция и «интеграция интеграций» в Европе – через нормы ВТО и внедрение стандартов Евросоюза, а также трехсторонние проекты между ЕС, Россией и странами нашего «общего соседства», включая Украину – вписываются в эту общую глобальную тенденцию. Нынешний же кризис на Украине, наоборот, показывает, к чему приводит иная политика. Страна-субъект такой геополитической игры дестабилизируется и разрушается, превращаясь в геополитическую «подопечную территорию» образца времен холодной войны. Но фундаментальная проблема, а точнее, порок этих расчетов в том, что такой контроль требует огромных финансовых ресурсов и соответствующих «тотальных обязательств» со стороны стран-спонсоров. Идеологические императивы холодной войны обеспечивали наличие и того и другого. Сейчас это проблематично, поскольку нет ни ресурсов, ни соответствующей политической воли, что наглядно проявляется в стремлении протащить геополитический проект Евросоюза через заднюю дверь, без серьезных, с анализом всех последствий и аргументами, обсуждений ни в самом Европейском союзе, ни на Украине. Эта двусмысленность искусственно разрешается посредством неприглашения Киева к членству в Евросоюзе. Попытка же глубокой ассоциации с ЕС в ином формате переводит ситуацию на неизведанную территорию с абсолютной непредсказуемостью всего последующего развития событий, и прежде всего на самой Украине.
Пока же получается, что страна разрушается на глазах, напоминая Европе об угрозе радикального национализма, которая привела ко Второй мировой войне. Неужели речь идет о ее «незавершенке»? В конце концов, и германский национализм, доведенный до крайности, пытались использовать как средство борьбы с Россией, тогда Советским Союзом. Любое националистическое самолюбование, пусть даже у мыслителей масштаба Гегеля, не может быть невинным, поскольку не происходит в политическом вакууме.
Во многом потому, что происходящее противоречит экономическому смыслу и заставляет вспомнить о трагическом опыте Европы XX века, ситуация вокруг Украины все больше воспринимается как заговор против Европы, искусственный конфликт эпохи биполярности, а ведущие европейские столицы выступают в нем не как прямые участники, а как посредники между Вашингтоном и Москвой.
Предсказание Федора Тютчева
Серьезный системный анализ, которого требует нынешний этап мирового развития, отвечает давней традиции российской дипломатии. В частности, Ф.И. Тютчев в свое время предупреждал о бедствиях, с которыми будет сопряжено объединение Германии как Большой Пруссии. Он также продемонстрировал образец глубокого философского анализа проблем в отношениях Россия–Запад с пророчествами, которые сбылись или сбываются. Он вывел следующую формулу конечности раздельного существования Европы: «Самим фактом своего существования Россия отрицает будущее Запада». Тогда это трудно было понять, но сейчас с этим приходится считаться даже нашим западным партнерам – иначе трудно объяснить то упорство, на уровне инстинктов и вопреки собственным интересам, в проведении политики сдерживания России.
Необходимо помнить, что после Крымской войны и объединения Германии Россия практически утеряла способность оказывать решающее влияние на европейские дела. В итоге мы оказались в роли ведомых и нам пришлось разделить общую трагедию Первой мировой войны, ставшей результатом не только системного кризиса западного общества, но и наследия франко-прусской войны, приведшей к оккупации одной ведущей европейской державой территории другой, и англо-германских противоречий. Та война лишила нас столыпинских «двадцати лет без войны», необходимых для эволюционной трансформации России. Не Советскому Союзу отвечать за пороки Версальской системы и нежелание западных стран гарантировать восточные границы Германии. Отсюда видно, сколь трагичны могут быть последствия недостаточной роли России в европейских и мировых делах для наших собственных интересов, а также интересов Европы и всего мира.
Сейчас, в новых условиях и с качественно новых позиций уверенности в собственных силах, Россия может и должна проводить полноценную политику в Европе и мире по всему спектру актуальных проблем. А это означает в том числе полноценное участие в переустройстве архитектуры европейской безопасности в соответствии с требованиями нашего времени. Мы слишком дорого заплатили за то, что нас не было за «главным столом» европейской политики ни в конце XIX века, ни в начале XX. Если опыт и учит чему-то в данном отношении, то только тому, что в Европе не может быть альтернативы подлинно коллективной системе безопасности. Это тот необходимый минимум, без которого не будет взаимного доверия, а оно требуется для решения множества других проблем Европы и всего мира.
Прагматичная дипломатия
По большому счету, речь идет о прагматичной и многовекторной/многосторонней дипломатии, которая учитывала бы реальные интересы страны и необходимость участия в многообразных альянсах по интересам с открытой геометрией. О возросшем значении внешнеполитической работы говорит и необходимость выявлять как новые угрозы и вызовы, так и новые возможности, что существенно необходимо, дабы с большей уверенностью осуществлялось стратегическое планирование развития страны во всех аспектах, включая военное строительство. К тому же все говорит о том, что нынешний трансформационный момент, начавшийся с падения Берлинской стены в 1989 г.,
входит в эндшпиль: процессы ускоряются, захватывая практически все сферы мирового и национального развития. Хотя новая картина мира определяется только по итогам глобального кризиса, многое можно и нужно предвидеть и предполагать уже сейчас. Такая аналитика дает явные конкурентные преимущества, имеющие и вполне конкретное материальное исчисление.
Достаточно сказать, что многие успехи нашей внешней политики последнего времени, которые обеспечивались внешнеполитической самостоятельностью страны, стали во многом следствием верного понимания перспективных тенденций современного мирового развития, того, что реально, а что уже не работает, что отжило свое и продолжает существовать лишь в сознании западных элит, оказавшихся неспособными, если не ходить далеко за примерами, интеллектуально подготовить переход от холодной войны к миру XXI века.

Когда бессильна дипломатия
Заметки к анализу уроков столетней давности
Резюме: В 1914 г., как и сейчас, большинство полагало: что бы ни творили малые страны, война между великими державами противоречит здравому смыслу, поэтому не случится. Тогда, как и теперь, ведущие государства пренебрегали дипломатией. И, увлекшись тактикой, не успевали оценить стратегические последствия.
Тревожное сходство прослеживается между задачами, стоявшими перед государственными мужами сто лет назад, и вызовами, на которые приходится искать ответ сегодня. В канун Первой мировой войны также происходила быстрая глобализация, смещался баланс сил, нарастали национализм и социально-экономическая напряженность, трансформировались военные технологии.
Изменения в европейской политэкономии создали предпосылки для Первой мировой войны. Технологические новшества обусловили ее отличие от прежних войн. В те годы появились такие революционные новации, как сети железных дорог, колючая проволока, динамит, многозарядные винтовки, пулеметы, дальнобойная артиллерия, самолеты и подводные лодки, изменившие характер военных действий. Сегодня мы говорим о кибервойне, системах наблюдения космического базирования, беспилотных летательных аппаратах, высокоточных управляемых боеприпасах, противокорабельных ракетах подводного и наземного базирования, кибератаках, гиперзвуковых планирующих аппаратах и ядерных вооружениях.
Вооруженный конфликт между крупными державами в наши дни покажет, что военные действия снова претерпели кардинальные изменения, и участвующие в них стороны неизбежно столкнутся с новыми ужасами. Однако некоторые причины, ведущие к конфликту сегодня, мало отличаются от факторов, провоцировавших его столетие назад. И в 1914, и в 2014 гг. профессиональный военный истеблишмент, отчужденный от общества, но прославляемый им, строит планы применения новых технологий, исходя из роковой предпосылки, что единственная действенная оборона – это нападение. Как и тогда, ныне эти планы разрабатываются без должного и действенного политического надзора или дипломатического сдерживания. И тогда, и теперь взаимодействие армий внутри военных альянсов иногда происходит без надлежащего контроля гражданского общества и властей, что приводит к неуправляемой политической разобщенности, которая выявляется только после начала войны.
Вереница кризисов на Балканах в начале ХХ века привела к тому, что конкуренция между военными блоками пришла на смену осторожному балансированию интересов, преобладавшему в XIX столетии. Военные маневры стали неотъемлемой частью дипломатии, что мы видим и сегодня. Особенно наглядно это демонстрируют события в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, на Ближнем Востоке и Украине. Как тогда, так и сегодня решения, принимаемые малыми союзниками великих держав, провоцируют местные противостояния, чреватые разрастанием до мировых пропорций. Большинство людей снова думают, что, как бы ни вели себя небольшие страны, война между великими державами противоречит здравому смыслу и, следовательно, никогда не случится. И в те годы, и в наши дни главы государств и правительств занимались дипломатией, но не слышали друг друга. Они были настолько поглощены тактическими схемами, что не имели времени на обдумывание стратегических последствий.
Ирония в том, что в свете прошлых событий мало кто будет отрицать, что факторов, препятствующих войне, в 1914 г. было значительно больше, чем теперь. Европейские лидеры той поры не только лично знакомы, но во многих случаях и связаны родственными узами. И они, и их дипломатические советники прекрасно знали друг друга. Существовала общая европейская культура и традиция успешной дипломатии переговоров и управления кризисами, на которую можно было опереться. Империалисты Старого Света нередко решали проблемы, торгуя колониями и другими интересами на периферии для снижения напряженности. Сегодня нет ни одного из обстоятельств, снижавших в прошлом вероятность войн, поэтому в наши дни можно говорить о высокой вероятности военного конфликта между Соединенными Штатами и Китаем или Ираном, между НАТО и Россией, между Китаем и Японией или Индией. И это далеко не все участники возможных боевых действий, а лишь те противоборствующие стороны, о которых чаще всего говорят всевозможные подстрекатели.
С другой стороны, сегодняшние альянсы делают взаимодействие поверх их рамок более вероятным. В отличие от 1914 г., члены союзов больше не считают себя обязанными оказывать взаимную помощь и не имеют заранее согласованных общих целей. Этот отрадный, но постыдный факт снижает моральный риск, неявно присутствующий в оборонных обязательствах Америки по отношению к более слабым союзникам, и уменьшает вероятность необдуманных действий с их стороны, поскольку они не могут быть стопроцентно уверены, что США придут на помощь. Также снижается опасность автоматического расширения и эскалации местных конфликтов.
Никто не хочет войны. Но, как напоминают нам события лета 1914 г., неверия в ее возможность и нежелания воевать недостаточно для предотвращения столкновения. И, как заявил президент Обама в напутственной речи, произнесенной в Вест-Пойнте в мае этого года, нужно найти альтернативы применению силы для продвижения национальных интересов в XXI веке. Это означает расширение дипломатических возможностей.
Лучший в мире молоток
Говорят, что люди, не помнящие прошлого, обречены на его повторение. Не менее верно и то, что людей, не извлекающих правильных уроков из истории, ожидает болезненное перевоспитание. Поэтому неудивительно, что со времени окончания холодной войны американская дипломатия не раз была сконфужена неожиданным поворотом событий. Некоторые из этих событий происходили там, где когда-то как раз и разгорелся огонь Первой мировой, – на Балканах. Мы добились прекращения огня, расквартировали гарнизон и назвали это миром.
Однако наша способность успешно решать всевозможные задачи чаще всего испытывается в других местах, где результаты менее утешительны. Только подумайте о том, как мы разрешаем ядерные проблемы в Северной Корее и Иране или конфликт между Израилем и Палестиной! Вспомните об 11 сентября и нашем все более ожесточенном конфликте с воинствующим исламом, о смене режима в Ираке и о том, что за этим последовало, о российско-грузинской войне, о восстаниях «арабской весны» (в том числе в Сирии), о «гуманитарной интервенции» в Ливии. А как насчет «смещения внешнеполитической оси в Азию» в самый разгар конфликтов в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях или краха соглашения Сайкса-Пико? И как быть с фактическим возникновением Джихадистана в Леванте? С украинским кризисом? Америка провалила все эти экзамены по искусству государственного управления и дипломатии. Трудно назвать хоть один кризис, в котором Соединенные Штаты не оплошали бы.
Что же у нас не так? Понятно, что одной военной силы недостаточно, чтобы гарантировать порядок в мире или заставить другие страны уважительно относиться к пожеланиям США. Поэтому американцы находятся в поиске более сдержанного, менее милитаристского способа взаимодействия с остальным миром. Президент прекрасно уловил настроения в обществе, когда сказал, что «нашей армии нет равных», но тут же добавил: «Военные действия не могут быть единственным или даже главным компонентом нашего лидерства во всех случаях. Тот факт, что у нас лучший в мире молоток, не означает, что любая проблема – это гвоздь».
Из этой глубокой мысли логично следует, что нам нужно лучше овладеватьневоенными мерами воздействия, то есть дипломатией. По многим причинам мы не сильны в этом искусстве. Чтобы отказаться от грубой силы и развить у себя способность формировать события за рубежом к собственной выгоде, не прибегая безответственно к силовому решению, нам нужно избавиться от множества плохих привычек и пересмотреть некоторые предпосылки, которыми мы руководствуемся во внешней политике. Военное перенапряжение нельзя компенсировать неумелой дипломатией.
Для начала необходимо скорректировать неверные предположения о том, как взаимодействовать с раздражительными иностранцами. Можно, конечно, осуждать их, прекращать диалог, но таким путем не решить проблемы. Отказ от общения с враждебно настроенным правительством, которое не желает принимать наши моральные нормы и соответствовать им, – это верный рецепт попадания в тупиковую ситуацию. «Выходите с поднятыми руками, или мы не будем с вами разговаривать» – не слишком убедительный способ начинать переговоры. Декларативная дипломатия и санкции только углубляют конфронтацию. Они не смягчают ее и не устраняют ее причин. Это прекрасно видно на примере того, как Россия ведет себя на Украине после того, как США ввели против нее санкции.
Если исключить применение силы, мало кого можно убедить изменить образ действий без тактичной и аргументированной беседы. Это касается как отдельных лиц, так и целых государств. Трудно заставить неприятеля сдаться, если он считает, что его политическое выживание и достоинство зависит от упрямого отстаивания своей позиции. Поэтому если мы знаем, о чем собираемся сказать и какой эффект наши слова могут возыметь, лучше говорить, чем молчать. Людям, с которыми мы не согласны, нужно уважительно выслушать нашу точку зрения и понять, почему мы считаем их неправыми, почему думаем, что они вредят своим интересам, жертвуя возможностями, которыми следует воспользоваться, и рискуя понести урон, которого можно было бы избежать.
Требуется определенное время, чтобы добиться взаимного доверия, необходимого для ведения подобного диалога. Контрпродуктивно вставать в позу учителя, находясь по другую сторону Атлантики, и показывать другим государствам средний палец, угрожая бомбежками. Прекращать контакты с другими странами в качестве реакции на возникающие проблемы не имеет смысла. Как заметил Уинстон Черчилль, «дипломатические отношения устанавливаются не для обмена комплиментами, а для удобства». Вместе с тем мы привычно отзываем военных атташе, после того как в какой-то стране случается военный переворот. Поскольку наши атташе – единственные американские официальные лица, которые знают новых военных правителей и пользуются их доверием, это все равно что засунуть себе кляп в рот, оглушить и ослепить себя, то есть осуществить своего рода одностороннее дипломатическое разоружение. Мы отчаянно нуждаемся в новых методах дипломатии.
Нравственный абсолютизм и профессиональная несостоятельность
Но еще более фундаментальная проблема американской дипломатии кроется в нравственном абсолютизме, свойственном психологии исключительности. Наш уникальный исторический опыт вредит нам в международных отношениях, не позволяя идти на компромиссы, без которых дипломатия немыслима. Во время Гражданской войны, Первой и Второй мировых войн, а также в годы холодной войны мы демонизировали врага и пытались добиться его безусловной капитуляции, а впоследствии раскаяния, а также идейного и политического преобразования. Американская манера ведения международных дискуссий, опирающаяся на этот исторический опыт, отличается уникальной бескомпромиссностью и стремлением во что бы то ни стало «додавить» оппонента.
Наша непреклонность подкрепляется таким мифическим клише, как результаты потакания Гитлеру в Мюнхене. Используя эту историческую параллель по любому поводу, порой совершенно неоправданно, американские дипломаты уверены, что умиротворение неприятелей не только глупо, но и безнравственно и себе дороже.
Холодная война низвела большую часть американской дипломатии на уровень провозглашения ценностей, отстаивания своих позиций, сдерживания врага и недопущения его рейдов в сферу нашего влияния – зону, которую мы называли «свободным миром». Несмотря на эпизодические разговоры о «возвращении в исходную позицию», за редким исключением мы придерживаемся статичного и оборонительного подхода – дипломатического эквивалента окопной войны. В этот период становления американской дипломатии типичной целью было не разрешение международных конфликтов, а предотвращение их военной конфронтации. Поэтому мы научились реагировать на проблемы, наставляя ружье на тех, кто их порождал, но избегали переговоров с ними и даже не хотели, чтобы кто-то видел нас в их компании.
Сами того не сознавая, американцы превратили дипломатию в средство выражения неодобрения, драматизации разногласий, утрированной тактики сдерживания, недопущения перемен и каких-либо выгод для наших недругов. По большей части мы не рассматривали дипломатию как инструмент сближения позиций или тем более разрешения противоречий путем поиска беспроигрышных компромиссов. Мы слишком часто забываем, что обычно дипломатия преследует именно эти цели.
Опыт других государств заставляет большинство считать дипломатию и войну частью единого набора средств, используемых для того, чтобы убедить другие страны и народы в необходимости прекратить полемику и внести коррективы в свою внешнюю политику, изменить границы, отказаться от воинственной позы и тому подобное. С учетом того, что история Соединенных Штатов – это история изоляционизма, перемежающегося с тотальной войной, мы склонны считать дипломатию и вооруженный конфликт двумя противоположностями. Мы описываем войну как крах дипломатии, а не как порой необходимое нагнетание давления для достижения своих целей.
Американцы исходят из того, что дипломатия прекращается тогда, когда начинается война, которая должна идти до тех пор, пока враг не будет лежать перед нами простертым на земле. Мы полагаем, что войны заканчиваются, когда победитель провозглашает свою военную миссию выполненной, а не когда побежденного врага удается убедить признать поражение. Не имея традиции подводить дипломатическими средствами черту под вооруженным конфликтом, мы практически не способны успешно завершать войны, как видно на примере Кореи, Вьетнама, операций в Персидском заливе, в Боснии, Афганистане, Ираке и Ливии. Нам еще предстоит твердо усвоить, что до врагов необходимо доносить политические последствия исхода военных операций, чтобы победа приводила к подписанию мирных соглашений и обязывала проигравшую сторону принять новый статус-кво, а не пытаться оспаривать или ниспровергать его.
Дипломатические неудачи времен Первой мировой войны настроили большинство американцев очень скептично по отношению к дипломатии. Этот настрой хорошо обобщил Уилл Роджерс: «Соединенные Штаты не проиграли ни одной войны и не выиграли ни одного дипломатического сражения». Он добавил: «Отделите дипломатию от войны – и все развалится за неделю». США уже семь десятилетий имеют статус сверхдержавы, а американцы как нация до сих пор не воспринимают дипломатию всерьез. Большинство видят в ней проявление слабости и слюнтяйства – то ли дело морские пехотинцы! Хотя все больше фактов доказывает обратное, мы по-прежнему убеждены, что дипломатия – это любительский спорт.
И демонстрируем это своим подходом к укомплектованию государственного аппарата и дипломатического корпуса. Наша армия и разведка – профессионалы своего дела, но внешней политикой по большей части занимаются тщеславные дилетанты – наивные идеологи, проводники интересов крупного капитала, силовики, ищущие легкой и хорошо оплачиваемой работы, политические пиарщики и случайные ученые. Должности послов для работы в столицах важных государств раздаются в качестве награды за вклад в избирательную кампанию, но эти люди не имеют дипломатического опыта или необходимой компетенции для отстаивания государственных интересов США за рубежом.
Наши политики слишком часто бездельничают в то время, как в мире происходят важные события, оставляя дипломатические бастионы неукомплектованными грамотным персоналом во время опасных кризисов. Например, мы пять месяцев не отправляли нового посла в Москву. За это время русофобы на Украине и агрессивно настроенные русские начали растаскивать на части и без того слабую Украину, отделили от нее Крым и начали очередную конфронтацию между Востоком и Западом в Европе. В результате последнего голосования 1 августа в Сенате перед сезоном отпусков 59 стран остались без американских послов.
Дилетантский подход Соединенных Штатов к национальной безопасности уникален среди современных государств. Нам это сходит с рук только потому, что в дипломатическом корпусе пока еще трудятся яркие и способные кадровые сотрудники. Но внешнеполитические службы работают в условиях полного пренебрежения профессиональными качествами, вследствие чего потенциал отдельных госслужащих чаще всего остается непризнанным, некультивируемым и неразвитым. Если высшие должности в дипломатическом ведомстве резервируются для людей, заработавших хорошие деньги на другом профессиональном поприще, для чего тогда нашей самой талантливой молодежи – включая тех, кто искренне желает служить Отчизне – тратить время на обучение искусству дипломатии? Почему бы не заняться чем-то менее опасным и более прибыльным, а затем просто купить себе престижную должность в дипломатическом корпусе? Стоит ли после этого удивляться, что США славятся своей воинской доблестью, но не внешнеполитической компетентностью, не мудростью и изобретательностью своих государственных деятелей, не умелой стратегией и не тонкими дипломатическими ходами? Это оказывается опасным небрежением. В современном мире, все более конкурентном, с дипломатической посредственностью мириться больше нельзя.
Американцам придется хорошенько подумать, могут ли они позволить себе и дальше доверять дипломатию любителям. Поспешные звонки президентам других стран, стихийные летучки Государственного секретаря с коллегами по всему миру, поношение лидеров иностранных государств знаменитыми конгрессменами, приостановка двустороннего диалога, санкции (односторонние или многосторонние) и попытки свержения иностранных правительств – это на удивление жалкий инструментарий в постоянно усложняющихся внешнеполитических условиях, что складываются после холодной войны. Когда бряцание оружием сливается с дипломатией, это не менее опасно. Если мы, американцы, не научимся мирным, дипломатическим способам действия, у нас не останется иного выбора, как только прибегать к войне для решения проблем, которые, как нам подсказывает опыт, войной не решаются.
Чтобы добиваться успеха в многополярном мире, американцам просто необходимо овладеть высоким искусством дипломатических игр. В настоящее время мы очень далеки от этого. Так не будем же терять время.
Чез Фримен – президент Совета по ближневосточной политике (г. Вашингтон), председатель Projects International, в течение многих лет работал на ответственных должностях в Государственном департаменте США и Пентагоне, занимался проблемами Африки, Ближнего Востока, Китая, Южной Азии и европейской безопасности.

Основы мирового непорядка
Резюме: Украинский кризис начинался как тягучий политический конфликт вокруг мало кому понятного юридического документа (Соглашение об ассоциации с ЕС). Перерос в региональную конкуренцию крупных игроков, которая катализировала внутреннюю междоусобицу. К середине лета выяснилось, что последствия глобальны.
Украинский кризис начинался как тягучий политический конфликт вокруг мало кому понятного юридического документа (Соглашение об ассоциации с ЕС). Перерос в региональную конкуренцию крупных игроков, которая катализировала внутреннюю междоусобицу. К середине лета выяснилось, что последствия глобальны.
Дело, конечно, не в Украине, стране в мировом масштабе периферийной. Так вышло, что киевский Майдан-2014 стал последней каплей, которая переполнила чашу противоречий и взаимных недовольств, копившихся после холодной войны. Взрыв взаимной неприязни между Россией и Западом продемонстрировал, что конфронтация второй половины ХХ века не закончилась. Договоренность о новых правилах игры не достигнута. Сначала казалось, что возмущается одна Москва, но чем острее кризис, тем очевиднее, что потенциал неудовлетворенности статус-кво велик повсюду. Нового мирового порядка, о котором много говорили на рубеже 1990-х гг., не появилось, попытка его установить (однополярность, американское лидерство) заканчивается сегодня неудачей.
Каким будет будущее устройство, а рано или поздно оно установится, гадать пока бессмысленно. Но наши авторы хотят понять, из чего оно произрастает, каковы характеристики современной глобальной среды, которые определят грядущую ее структуру.
Алексей Арбатов не видит альтернативы наступающему полицентричному миру и отмечает, что в этой системе успех любой страны будет зависеть от способности построить эффективную и справедливую модель собственного развития. Сергей Глазьевпредлагает комплексную картину переустройства мира на основании борьбы с монополизмом Запада, в первую очередь США. Ключевой элемент – обуздание произвола эмитентов мировых резервных валют, которые пользуются своим положением для перекладывания своих проблем на остальные страны. Его выводы отчасти подтверждает Бенн Стейл – он призывает Федеральную резервную систему учитывать, как ее действия сказываются на других государствах, прежде всего экономически уязвимых. Сергей Афонцев анализирует возможности для диверсификации в сфере торговли – насколько реально уйти от доминирования доллара и евро.
После холодной войны либеральные правила мировой торговли распространились практически на всю планету, став наиболее осязаемым проявлением глобализации. Это, правда, почти сразу привело к нарастанию трений внутри ВТО, а война санкций, разгоревшаяся из-за Украины, наносит удар по ее базовым принципам. Мы публикуем статью известного специалиста по торговым вопросам Маартена Смеетса, написанную в 2000 году. Он приходит к выводу, что политически мотивированные санкции, конечно, противоречат духу ВТО, однако не угрожают ее деятельности. Впрочем, ситуация с Россией явно выходит за рамки того, о чем рассуждал автор. Никогда еще политико-экономические меры подобного типа не применялись против государства такого калибра, способного на масштабный ответ.
Александр Яковенко напоминает, что всегда, когда в силу тех или иных причин Россия не влияла на формирование правил игры, Европа и мир переживали тяжкие потрясения. Джон Миршаймер объясняет, почему стремление во что бы то ни стало продавить западное видение будущего Украины вопреки российским интересам приведет к тяжелым последствиям для всех. Чез Фримен анализирует популярную в этом году параллель – 1914–2014, обнаруживая тревожные сходства, прежде всего – пренебрежение дипломатией в пользу идеологии и давления.
Андрей Цыганков разбирается, осознает ли американский истеблишмент перемены на международной арене, которые больше не позволяют Вашингтону рассчитывать на безусловное доминирование. Его вывод – скорее нет. Прохор Тебин отмечает противоречия в военно-стратегическом мышлении Соединенных Штатов, которые отражают замешательство по поводу направления глобального развития. Дмитрий Шляпентох размышляет о том, что происходит с опорной осью трансатлантического сообщества – отношениями между США и Германией. Сергей Караганов ожидает длительного периода нового противостояния между Москвой и Вашингтоном.
Главная причина сдвигов, происходящих в мире, – быстрый экономический и политический подъем Азии.Бихари Каусикан отмечает, что Россия нужна в Азии, но ей еще предстоит найти свою роль и нишу в региональной политике. Тимофей Бордачёв иЕвгений Канаев предлагают основные положения стратегии, которой могла бы придерживаться России, совершая поворот на восток.
Александр Аксенёнок и Ирина Звягельскаяподводят предварительные итоги волны революций и переворотов, которая прокатилась по миру в этом десятилетии. Хотя в них отсутствует единая идеологическая составляющая и нет оснований для системной конфронтации, общий дестабилизирующий эффект велик. Желание же подвести все это под «демократизацию» создает кумулятивный эффект, который окажется сокрушительным для всей планеты.Вероника Костенко, Павел Кузьмичёв, Эдуард Понарин приводят интересные данные относительно того, как понимают демократию в арабском мире – совсем не так, как на Западе.
Хотя крепнет ощущение, что мы возвращаемся в мир классических международных отношений и геополитики, хватает и новых факторов. Им посвящен специальный раздел. Эрик Бринолфссон, Эндрю Макафи и Майкл Спенс обращают внимание на то, как развитие технологий ведет к росту глобального неравенства, а это окажет воздействие на мироустройство. Виктор Басюк и Хьюбер Уорнерполагают, что успехи биогеронтологии и продление активной жизни в развитых странах повлияют на демографическую ситуацию и расстановку сил в мире.
По установившейся традиции предсказывать содержание следующего номера не буду. Есть заготовки, но жизнь наверняка внесет масштабные коррективы.
Ф.А. Лукьянов - главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Выпускник филологического факультета МГУ, с 1990 года – журналист-международник, работал на Международном московском радио, в газетах "Сегодня", "Время МН", "Время новостей". Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России.

Крушение миропорядка?
Куда повернет Россия
А.Г. Арбатов – академик РАН, глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН., член редакционного совета журнала «Россия в глобальной политике».
Резюме Москва не готова к полицентризму, поскольку еще не осознала его главного правила, которое хорошо понимали российские канцлеры XIX века. Частные компромиссы нужны, чтобы иметь более благоприятные отношения с другими центрами силы, чем у тех между собой.
В России и за рубежом широко распространилось ощущение, что украинский кризис подорвал систему международных отношений, которая строилась после окончания холодной войны и даже с более давних времен – после завершения Второй мировой войны в 1945 году. Это ощущение подкрепляется впечатляющими аналогиями.
Тогда яблоком раздора стал раздел послевоенной Европы между Советским Союзом и Соединенными Штатами, а теперь – борьба за влияние на постсоветском пространстве и в его самой большой после России стране – Украине. В те времена геополитический конфликт происходил под сенью непримиримого идеологического противостояния коммунизма и капитализма. После двадцати лет забвения идеологическая схизма как будто вновь вышла на передний план: между духовными ценностями российского консерватизма и западным либерализмом (который представляют в виде однополых браков, легализации наркотиков и проституции, меркантильного индивидуализма). Еще больше усиливают ассоциации небывалый подъем великодержавных настроений и ползучая (но от этого не менее безнравственная и пагубная) реабилитация сталинизма в России, а за океаном – безответственный курс экспорта американских канонов свободы и демократии в докапиталистические страны.
Трудно отделаться от впечатления, что в начале XXI века с его глобализацией и информационной революцией мир вдруг вернулся в первую половину XX века и даже в XIX столетие с их территориальными захватами и геополитическим соперничеством. Слов нет, разрушающийся ныне миропорядок был далеко не совершенным, и у России, как и у многих других государств, к нему накопилось немало претензий. Но отнюдь не ясно, возможно ли новое издание холодной войны, будет ли грядущее мироустройство лучше прежнего и в чем, собственно, была суть того, что ушло в прошлое.
Мир и порядок холодной войны?
Система международных отношений строится не на основе международно-правовых норм и институтов, а в зависимости от реального распределения и соотношения сил ведущих держав и их союзов, наличия у них общих интересов. Именно это определяет, насколько эффективны и реализуемы упомянутые нормы и механизмы. Самый наглядный пример дал период после окончания Второй мировой войны.
Миропорядок того времени был заложен в 1945 г. комплексом договоренностей держав-победительниц в Ялте, Потсдаме и Сан-Франциско. Тогда на пространствах рухнувших империй Германии, Италии и Японии были определены границы европейских стран и государств Дальнего Востока, создана ООН, решены другие послевоенные вопросы. Замысел состоял в том, что великие державы будут совместно поддерживать мир и сообща разрешать международные споры и конфликты на основе Устава ООН во имя предотвращения новой мировой войны. Но этот миропорядок так и не был реализован – он быстро разбился о противостояние СССР и США в Европе, а затем и по всему миру.
В освобожденной Советской армией Центральной и Восточной Европе Советский Союз за несколько лет установил социалистический строй и инициировал массовые репрессии, что вызвало возмущение Соединенных Штатов, которые, в свою очередь, помогли подавить коммунистическое движение в ряде стран Западной Европы. Затем зоны оккупации Германии превратились в два государства – ФРГ и ГДР. Потом была создана НАТО, а в ответ на принятие в нее ФРГ – Организация Варшавского договора. Со временем по обе стороны от внутригерманской границы были развернуты беспрецедентные для мирного времени контингенты вооруженных сил и тысячи единиц ядерного оружия.
Важнейшие европейские границы (между ГДР и Польшей по Одеру–Нейссе, между ФРГ и ГДР, как и граница Советского Союза вокруг балтийских стран) юридически не были признаны Западом – в первом случае до соглашений 1970 г., во втором – до 1973 г., а в третьем – никогда. Статус Западного Берлина служил источником опаснейших кризисов (1948, 1953, 1958 гг.), а один из них, в августе 1961 г. (когда советские и американские танки стояли друг против друга на прямой наводке), едва не привел к вооруженному конфликту СССР и США. Берлинский вопрос урегулирован лишь соглашениями от 1971 года. Холодная война парализовала Совет Безопасности ООН и превратила его в форум пропагандистской полемики, а не институт поддержания международного мира и безопасности.
Готовые к применению ядерные потенциалы породили страх перед лобовым столкновением в зоне прямого военного противостояния двух мощных альянсов, что на время заморозила конфликты и фактические границы в Европе. (Что сделало неизбежным их размораживание после окончания холодной войны.) Но на протяжении первой четверти века существования того миропорядка европейский континент постоянно трясло от напряженности и кризисов между двумя блоками, а Советский Союз к тому же периодически силой подавлял мирные и вооруженные восстания в социалистическом лагере (в 1953 г. в ГДР, в 1956-м в Венгрии, в 1968-м в Чехословакии).
Относительной стабилизации удалось достичь только двадцать с лишним лет спустя – в ходе первой временной разрядки напряженности между двумя ядерными сверхдержавами, зафиксированной Договором по ПРО и соглашением ОСВ-1 от 1972 года. На этой волне в 1975 г. в Хельсинки был подписан и Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), закрепивший нерушимость европейских границ и десять принципов мирного сосуществования государств на континенте (включая территориальную целостность, суверенитет, неприменение силы и право народов на самоопределение).
Однако вне Европы миропорядок холодной войны вплоть до ее окончания заключался в его отсутствии. Сорок лет мир жил в постоянном ужасе перед глобальной войной. Помимо берлинского кризиса 1961 г., великие державы как минимум трижды подходили к грани ядерного катаклизма: во время Суэцкого кризиса 1956 г., в ходе ближневосточной войны 1973 г. и во время Карибского кризиса в октябре 1962-го, когда эту черту едва не переступили. Компромисс был достигнут за пару дней до момента намеченного авиаудара США по кубинским базам советских ядерных ракет, часть которых была приведена в боеготовность для ответного удара, о чем не знали в Вашингтоне. Тогда человечество было спасено не только благодаря осторожности Кремля и Белого дома, но и просто по счастливому случаю.
Не было никакого совместного управления миром двумя сверхдержавами – просто ужас перед ядерной катастрофой заставлял стороны избегать прямого столкновения. Тем не менее, за этот период произошли десятки крупных региональных и локальных войн и конфликтов, унесших жизни более 20 млн человек. Военные потери самих Соединенных Штатов в те годы составили около 120 тыс. человек – столько же, сколько в Первой мировой войне. Зачастую конфликты разражались неожиданно и завершались непредсказуемо, в том числе поражением великих держав: война в Корее, две войны в Индокитае, пять войн на Ближнем Востоке, войны в Алжире, войны между Индией и Пакистаном, Ираном и Ираком, на Африканском Роге, в Конго, Нигерии, Анголе, Родезии, Афганистане, не говоря уже о бесчисленных внутренних переворотах и кровавых гражданских катаклизмах.
В глобальном соперничестве стороны совершенно произвольно нарушали международно-правовые нормы, включая территориальную целостность, суверенитет и права наций на самоопределение. Под идеологическими знаменами военная сила и подрывные операции применялись регулярно, цинично и массированно. Вне Европы границы государств постоянно менялись, силовым путем страны распадались и воссоединялись (Корея, Вьетнам, Ближний и Средний Восток, Пакистан, Африканский Рог и пр.). Почти в каждом конфликте США и СССР оказывались по разные стороны и предоставляли прямую военную помощь своим партнерам.
Все это сопровождалось беспрецедентной гонкой ядерных и обычных вооружений, противостоянием вооруженных сил сверхдержав и их союзников на всех континентах и во всех океанах, разработкой и испытанием космических вооружений. Это соперничество принесло всем огромные экономические издержки, но более всех подорвало советскую экономику. Лишь в 1968 г. был заключен Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), с конца 1960-х гг. начались серьезные переговоры по ядерным вооружениям, а затем о сокращении обычных вооруженных сил в Европе.
Мировая экономика была разделена на две системы: капиталистическую и социалистическую. В этих условиях было невозможно применять друг против друга какие-то экономические санкции, поскольку они присутствовали постоянно в виде жестких торговых и технических барьеров (как, например, КОКОМ). И только в 1970-е гг. началось избирательное экономическое взаимодействие в виде экспорта советских углеводородов в Западную Европу и скромного импорта оттуда промышленных товаров и технологий. Экономические кризисы на Западе вызывали радость на Востоке, а хозяйственные трудности СССР встречали удовлетворение Соединенных Штатов и их союзников. Впрочем, экономическая независимость (автаркия) и опора на оборонный комплекс как локомотив развития в конечном итоге закономерно загнали социалистическую экономику в хозяйственный и научно-технический ступор.
Сорокалетний период биполярной системы международных отношений и холодной войны наглядно продемонстрировал, что международное право и институты действуют лишь как исключение – в тех редких случаях, когда ведущие державы осознают общий интерес. А в остальном игра с нулевой суммой превращает эти нормы и организации не более чем в средства оправдания своих действий и форумы для пропагандистских баталий.
С конца 1990-х гг. в России присутствует ощущение растущей угрозы, и даже на официальном уровне была высказана мысль, что окончание холодной войны не укрепило, а ослабило национальную безопасность. Это не что иное, как политико-психологическая аберрация. Частично она объясняется тем, что когда самая страшная угроза – вероятность глобальной ядерной войны – отошла далеко на задний план, вопреки наивным надеждам начала 1990-х гг., всеобщей гармонии не наступило. Ужасы сорока лет холодной войны заставили всех забыть, насколько опасным был мир до нее (приведя, помимо всего прочего, к двум мировым войнам). Кроме того, ностальгия по былому лидирующему положению своей страны – как одной из двух глобальных сверхдержав –
побуждает многих в России, кто работал в годы холодной войны, и тем более тех, кто пришел в политику после нее, подменять реальность историческими мифами и сожалеть об утерянном «миропорядке», который на деле был балансированием на грани всеобщей гибели.
Новое мироустройство
Как всегда бывало в истории, фундаментальное изменение расстановки сил на мировой арене сопровождалось изменением миропорядка, как бы сомнительно ни было применение этого понятия к периоду холодной войны. Крушение советской империи, экономики, государства и идеологии означало конец биполярной системы международных отношений. Вместо этого США на протяжении 1990-х и в следующем десятилетии пытались реализовать идею однополюсного мира под своим руководством.
Нельзя не отметить, что благодаря окончанию холодной войны начала складываться глобальная система безопасности: за это время были заключены важнейшие соглашения по контролю над ядерными и обычными вооружениями, нераспространению и ликвидации оружия массового уничтожения. Резко активизировалась роль ООН в миротворческих операциях (в течение 1990-х гг. было предпринято 36 таких операций из 49 проведенных ООН в общей сложности до 2000 года). За два с лишним десятилетия число международных конфликтов и их разрушительные масштабы не увеличились, а значительно уменьшились по сравнению с любым из 20-летних периодов холодной войны.
Россия, Китай и другие бывшие социалистические страны, несмотря на различия политических систем, были интегрированы в единую мировую финансово-экономическую систему и институты, хотя оказывали на них недостаточное влияние. За пределами этой системы остались лишь несколько государств (как КНДР, Куба, Сомали). Кризис 2008 г. как бы от обратного продемонстрировал финансово-экономическое единство мира. Начавшись в Америке, он быстро охватил остальные страны, в том числе тяжело ударил по экономике России (вопреки ее первоначальным, по старой привычке, надеждам остаться «островом стабильности»).
Предпринимались попытки юридически оформить новую расстановку сил: через договор об объединении Германии между ФРГ, ГДР, СССР, США, Великобританией и Францией (1990 г.), создание ОБСЕ на месте СБСЕ (1995 г.), развитие положений Хельсинкского акта в Парижской хартии (1990 г.) и Основополагающем акте России–НАТО (1997 г.), активно обсуждалась реформа ООН. Был адаптирован Договор по сокращению обычных вооружений в Европе (АДОВСЕ – 1999 г.), велись переговоры о совместном развитии систем ПРО.
Однако эти попытки во многих случаях были неуспешны или остались незавершенными, как и строительство всей системы международной безопасности, прежде всего из-за глобальных претензий Соединенных Штатов. С начала 1990-х гг. у США был уникальный исторический шанс возглавить процесс созидания нового, многостороннего, согласованного с другими центрами силы миропорядка. Но они этот шанс бездарно упустили. Неожиданно ощутив себя «единственной мировой сверхдержавой» и пребывая во власти эйфории, Соединенные Штаты стали подменять международное право правом своей силы, легитимные решения Совета Безопасности ООН – директивами американского Совета Национальной Безопасности, а прерогативы ОБСЕ – действиями НАТО.
В результате под новый миропорядок были заложены мины замедленного действия: расширение Североатлантического альянса на восток, силовое расчленение Югославии и Сербии, незаконное вторжение в Ирак, пренебрежительное отношение к ООН, ОБСЕ, контролю над вооружениями (выход США из Договора по ПРО в 2002 г. и отказ от ратификации Договора 1996 г. о запрещении ядерных испытаний). К России относились как к проигравшей державе, хотя именно она покончила с советской империей и холодной войной.
Первое двадцатилетие после биполярности убедительно показало, что и однополярный мир не приносит стабильности и безопасности. Как внутри стран, так и в международных отношениях монополизм неизбежно ведет к правовому нигилизму, произволу, стагнации и в конечном итоге – к поражениям.
Растущее противодействие «американскому порядку» стали оказывать Китай, Россия, а также новые межгосударственные организации: ШОС, БРИКС, региональные государства (Иран, Пакистан, Венесуэла, Боливия) и даже некоторые союзники Вашингтона (ФРГ, Франция, Испания). Помимо наращивания военного потенциала и соперничества в мировой торговле оружием Россия начала открыто противодействовать США в отдельных военно-технических сферах (развитии систем преодоления ПРО). В августе 2008 г. впервые за многие годы Москва применила военную силу за рубежом – на Южном Кавказе.
В российском публичном дискурсе «империализм» ныне утратил прежний негативный флер и все чаще используется с героическим пафосом. Исключительно позитивный смысл придается ядерному оружию и концепции ядерного сдерживания (и негативный – сокращению ядерных вооружений), поиску военных баз за рубежом, соперничеству в торговле оружием, воспевается политика наращивания и демонстрации военной силы, обосновывается отказ от договоров по контролю над вооружениями – все то, что раньше ставилось в вину «мировому империализму».
Китай, в свою очередь, приступил к последовательному наращиванию и модернизации ядерных и обычных вооружений, развернул программы преодоления ПРО США и соревнования с их высокоточными неядерными системами. КНР бросила вызов соседним странам и американскому военному доминированию в акваториях к западу и югу от своих берегов, заявила права на доступ к природным ресурсам Азии и Африки и на контроль над морскими коммуникациями их доставки в Индийском и Тихом океанах.
Однополярный «порядок» подорван фактическим поражением Вашингтона в иракской и афганской оккупационных войнах, а также глобальным финансово-экономическим кризисом 2008 года. Он закончился растущей интенсивностью военно-политического соперничества Соединенных Штатов с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе и жестким противостоянием США с Россией вокруг украинского кризиса.
Украинский момент истины
С точки зрения реальной политики при всем драматизме гуманитарной стороны кризиса и насилия на юго-востоке Украины суть происходящего проста: США и Евросоюз тянут Украину к себе, а Россия ее не пускает, стремясь оставить страну (или хотя бы ее части) в орбите своего влияния. Впрочем, теория реальной политики дает далеко не полную картину событий, поскольку не учитывает социально-экономическое и внутриполитическое измерение происходящего.
Большинство украинского общества выступает за демократические реформы и интеграцию с Западом, видя в этом перспективу выхода из многолетнего социально-экономического застоя и нищеты, преодоления коррупции, смены неэффективной системы власти. Проживающее на юго-востоке значительное меньшинство (составляющее до 10–15% всего населения) настроено против курса на Запад и за сохранение традиционных связей с Россией. Решения президента Виктора Януковича подписать, а затем отменить соглашение об ассоциации с ЕС резко обострили внутриполитический раскол: последовали Евромайдан и его расстрел, насильственное свержение законной власти, отделение Крыма и гражданская война на юго-востоке.
Хотя Вашингтон сейчас огульно обвиняет во всех бедах Москву, она имеет лишь косвенное отношение к интернационализации кризиса до крымских событий. В 2012–2013 гг. массовые протестные движения в России были восприняты ее новым правящим классом как инспирированная Западом попытка «цветной революции». Судя по всему, из этого сделали вывод об опасности дальнейшего сближения с США и Евросоюзом. Потому был отменен курс на «европейский выбор России», который многократно официально провозглашался в 1990-е гг. и в первый период правления Путина, начиная с Петербургского саммита Россия–ЕС в мае 2003 г. и вплоть до 2007 года. На смену «европейскому выбору» пришла официальная доктрина «евразийства».
Вовне она предполагает первоочередную интеграцию России в Таможенном и Евразийском союзе с постсоветскими республиками: прежде всего Белоруссией, Казахстаном и другими, которые пожелают присоединиться. А вместо получения инвестиций и передовых технологий Запада (на которые была рассчитана концепция «партнерства ради модернизации» президента Дмитрия Медведева) взят курс на реиндустриализацию экономики с опорой на оборонно-промышленный комплекс, получивший финансирование в 23 трлн рублей до 2020 года. Этот поворот сопровождался небывалой со времен холодной войны кампанией о военной угрозе Запада. Именно на фоне отмеченной смены российской ориентации намерение Киева подписать соглашение с ЕС было воспринято в Москве как серьезная угроза ее «евразийским» интересам. Ведь ранее заявки президентов Кравчука, Кучмы, Ющенко на членство в НАТО и Евросоюзе не вызывали жесткой реакции России.
Консервация сложившегося в России за последние двадцать лет государственного строя, отказ от существенных экономических и политических реформ получили доктринальное обоснование в философии консерватизма, возврата к традиционным духовным ценностям и государственно-политическим канонам. Что бы ни думали об этом в Кремле, легионы активистов в политическом классе и СМИ открыто призывают возродить великодержавно-православную Россию (не преминув использовать и сталинский опыт), присоединить Абхазию и Южную Осетию, после Крыма занять населенные соотечественниками юг и юго-восток Украины (Новороссию), Приднестровье, при случае – Северный Казахстан и части Балтии (ведущий идеолог такой философии Александр Проханов назвал это «империей обрубков».)
Вашингтон и его союзники по НАТО (кроме Польши и стран Балтии) в течение ряда лет не отвечали на новые веяния в российской политике. Однако после присоединения к России Крыма и начала войны на юго-востоке Украины их реакция была вдвойне жесткой, особенно со стороны администрации президента Обамы, которого консервативная оппозиция изначально обвиняла в излишнем либерализме и мягкотелости по отношению к Москве. Трагедия с малазийским лайнером в июле 2014 г. придала кризису небывалую эмоциональную остроту глобального масштаба, хотя причины катастрофы до сих пор не выяснены.
При всех огромных сложностях ситуации варианты решения по существу тоже просты, и определяться они будут не только на переговорах Киева и юго-востока, а в Москве, Брюсселе и Вашингтоне. Или Россия и Запад договорятся о каком-то взаимоприемлемом будущем статусе Украины и характере ее отношений с ЕС и Россией при сохранении нынешней территориальной целостности, или страна будет разорвана на части с тяжелейшими социальными и политическими последствиями для Европы и всего мира.
Что дальше?
На смену несостоявшемуся однополюсному миру идет полицентричный миропорядок, который опирается на несколько основных центров силы. Однако, в отличие от «концерта наций» (Священного союза) XIX века, нынешние центры силы не равновелики и имеют различное общественное устройство, которое во многих аспектах еще не устоялось. Соединенные Штаты, хотя их удельный вес постепенно снижается, остаются ведущим глобальным центром в экономическом (около 20% мирового ВВП), политическом и военном отношениях. По всем параметрам их стремительно догоняет Китай (13% мирового ВВП). Евросоюз (19% мирового ВВП) и Япония (6%) могут претендовать на такую роль в экономическом плане, но в политическом и военном аспектах зависят от США и интегрированы в американские альянсы вместе с рядом региональных государств (Турция, Израиль, Южная Корея, Австралия).
Россия строит свой центр силы вместе с некоторыми постсоветскими странами. Однако, имея глобальный ядерный и политический статус, укрепляя региональные силы общего назначения, она все еще не соответствует финансово-экономическим стандартам мирового центра ввиду относительно скромного объема ВВП (3% от мирового) и еще более – из-за экспортно-сырьевого характера экономики и внешней торговли.
Индия – ведущий региональный центр (5% мирового ВВП), как и некоторые другие страны (Бразилия, ЮАР, группа АСЕАН, в перспективе – Иран). Но между Россией, Китаем, Индией, Бразилией нет и не предвидится военно-политического союза, а по отдельности они заметно уступают военно-политическому и строящемуся экономическому альянсу США, Евросоюза, Японии и Южной Кореи.
В последнее десятилетие в полицентричном мире вновь наметились линии коллективного размежевания. Одна проходит между Россией и НАТО/ЕС по поводу расширения этих альянсов на восток, программы ЕвроПРО и особенно остро в последние месяцы – в связи с кризисом на Украине. Другая линия напряженности обозначилась между Пекином и Вашингтоном в борьбе за военно-политическое доминирование в западной части Азиатско-Тихоокеанского региона, контроль над природными ресурсами и путями их транспортировки, а также по финансово-экономическим вопросам.
Объективно по закону полицентричного мира это подталкивает Россию и Китай к более тесному партнерству, стимулирует курс СНГ/ОДКБ/ШОС/БРИКС к созданию экономического и политического противовеса Западу (США/НАТО/Израиль/Япония, Южная Корея/Австралия). Впрочем, эти тенденции едва ли выльются в новую четкую биполярность, сравнимую с эпохой холодной войны. Экономические связи с Западом основных членов ШОС/БРИКС и их зависимость от него в получении инвестиций и новейших технологий намного шире, чем существует у них между собой. (Например, объем торговли России и Китая в пять раз меньше торговли России и Евросоюза и в 10 раз меньше, чем у Китая с США, ЕС и Японией). Внутри СНГ/ОДКБ/ШОС/БРИКС есть более глубокие противоречия, чем между государствами этих сообществ и Западом (Россия и Украина, Индия и Китай, Армения и Азербайджан, Казахстан и Узбекистан, Узбекистан и Таджикистан). Также немало разногласий между Соединенными Штатами и европейскими странами по многим экономическим и политическим темам, особенно в части отношений с Россией.
Кризис вокруг Украины пока не разрешил противоречие между тенденциями к полицентричности и новой биполярности. Скорее он наглядно продемонстрировал специфику складывающейся асимметричной и весьма размытой полицентричности. Как показало голосование в ООН по крымскому референдуму, Россию однозначно поддержали 10 государств, США – 99 (включая все государства НАТО и ЕС), но при этом 82 страны (40% членов ООН) предпочли остаться вне конфронтации и не портить отношения с Москвой и Вашингтоном. Ни одно из государств ШОС/БРИКС не встало на сторону России, а из стран СНГ и ОДКБ лишь Белоруссия и Армения недвусмысленно поддержали Москву, причем президент первой вскоре поехал в Киев и призвал к возвращению Украине Крыма в каком-то неопределенном будущем. Три страны СНГ, помимо вышедшей из него Грузии, выступили против России (Азербайджан, Молдавия и Украина), Москву не поддержали и такие традиционные партнеры, как Сербия, Иран, Монголия, Вьетнам. Вместе с тем в лагере США тоже нет единства, к ним не присоединились Израиль, Пакистан, Ирак, Парагвай, Уругвай. Еще больший разлад в НАТО и Евросоюзе проявился по вопросу о санкциях и новой политике сдерживания России.
Исключительно важно и то, что все эти государства и группировки интегрированы в единую мировую финансово-экономическую систему. С одной стороны, это позволило Западу принять против России ощутимые, особенно в долгосрочном плане, экономические санкции. Но с другой – применение еще более жестких широких «секторальных» санкций по той же причине грозит нанести большой ущерб их инициаторам и потому не находит единой поддержки среди союзников Соединенных Штатов, да и в кругах американского бизнеса. Ответные санкции России против продовольственного импорта затронули экономику стран Запада, но могут еще больнее ударить по российскому потребителю, несмотря на обещания найти новых поставщиков и развить собственное производство (чего не удалось СССР за 70 лет и России за следующие четверть века).
Общий экономический базис, в отличие от периода холодной войны, по идее должен служить служит мощным стабилизирующим фактором. Однако опыт последнего времени продемонстрировал огромное обратное влияние политики: обострение отношений России и Запада разваливает их экономическое сотрудничество и глобальную систему безопасности.
Если Украина будет разорвана и по какой-то внутриукраинской границе пройдет новая линия конфронтации между Россией и Западом, то между ними надолго возродятся многие элементы отношений холодной войны. Авторитетный американский политолог Роберт Легволд подчеркивал: «Хотя новая холодная война будет основательно отличаться от первоначальной, она будет крайне разрушительна. В отличие от прежней, новая не охватит всю глобальную систему. Мир более не биполярен, крупные регионы и ключевые игроки, как Китай и Индия, будут избегать вовлечения… И все же новая холодная война скажется на всех сколько-нибудь важных аспектах международной системы». Среди вопросов, по которым будет прервано сотрудничество, Легволд выделяет согласование параметров систем ЕвроПРО, разработку энергетических ресурсов Арктики, реформу ООН, МВФ и ОБСЕ, урегулирование локальных конфликтов на постсоветском пространстве и вне его. К этому списку можно добавить взаимодействие в борьбе с международным терроризмом и оборотом наркотиков, противоборство с исламским экстремизмом – главной общей угрозой глобального и трансграничного характера для России и Запада, о которой напомнило наступление исламистов в Ираке.
В таких условиях неизбежно ускорение гонки вооружений, особенно в сферах высоких технологий: информационно-управляющие системы, высокоточные неядерные оборонительные и наступательные вооружения, ракетно-планирующие и, возможно, частично-орбитальные средства. Однако это соревнование едва ли сравнится с масштабом и темпами гонки ядерных и обычных вооружений времен холодной войны, прежде всего по причине ограниченности экономических ресурсов ведущих держав и союзов. Даже в условиях беспрецедентно острого украинского кризиса США продолжают сокращать военный бюджет и не могут заставить союзников по НАТО увеличить военные расходы. Тем более ограниченны экономические и научно-технические возможности России, а издержки гонки вооружений будут для нее относительно выше. Вместе с тем в такой обстановке практически неизбежен тупик на переговорах по контролю над вооружениями и весьма вероятен распад существующей системы ограничения и нераспространения вооружений (прежде всего Договор РСМД от 1987 г., возможно – новый Договор СНВ от 2010 г. и даже ДНЯО).
Если к этому добавится кризис между КНР и США с их союзниками на Тихом океане, то Китай сдвинется ближе к России. Однако Пекин не будет склонен к жертвам ради российских интересов, но постарается всемерно использовать ее ресурсы для соперничества с противниками в Азии и на Тихом океане (китайцы называют Россию своим «ресурсным тылом», вероятно, думая, что это ей льстит). Впрочем, Китай едва ли пойдет теперь на обострение с Вашингтоном: напряженность отношений России и Запада ставит его в самое выигрышное положение в полицентричном мире. Как ни парадоксально, именно Китай занял сейчас позицию балансира между Западом и Востоком (в лице России), к чему всегда стремилась Москва.
Российские внешнеполитические практики и теоретики двадцать лет отстаивали концепцию полицентричного мира в качестве альтернативы американской монополярности. Но на деле Москва оказалась не готова к такой системе отношений, поскольку еще не осознала ее главного правила, которое хорошо понимали российские канцлеры XIX века Карл Нессельроде и Александр Горчаков. А именно: нужно идти на частные компромиссы с другими державами, чтобы иметь более благоприятные отношения с остальными центрами силы, чем у тех между собой. Тогда они будут больше заинтересованы в сотрудничестве с Россией, и можно получать уступки от всех, выигрывая по сумме реализованных интересов.
Между тем ныне отношения России с Соединенными Штатами и Евросоюзом хуже, чем у них с Китаем и тем более между собой. Это чревато для Москвы большими проблемами в обозримой перспективе. В отношениях с США и их союзниками в Европе и на Тихом океане надолго вбит клин. Над Сибирью и Дальним Востоком нависает гигантский Китай, дружить с которым можно лишь на его условиях. С юга к России примыкают неустойчивые авторитарные государства, которым угрожает исламский экстремизм. В европейской части соседи представлены, мягко выражаясь, не вполне дружественными странами в лице Азербайджана, Грузии, Украины, Молдавии, Польши, Балтии и не очень предсказуемыми партнерами (Белоруссия). Конечно, несмотря на новую американскую политику сдерживания, России не грозит международная изоляция или военная агрессия. Но Советскому Союзу в 1991 г. это тоже не угрожало, причем он был намного больше, сильнее в экономическом и военном отношениях, имел защищенные границы и не так зависел от мировых цен на нефть и газ.
Если по вопросу о будущем Украины между Россией и Западом будет достигнут компромисс, разумеется, приемлемый для Киева и юго-востока страны, то возврат к сотрудничеству не произойдет быстро. Однако со временем противостояние будет преодолено и возобладает процесс формирования полицентричного мира. Он может стать основой нового, более сбалансированного и устойчивого, пусть намного более сложного и динамичного миропорядка. Он призван заниматься проблемами XXI века, а не возвращаться к политике прошлого столетия и более ранних времен: свержению неугодных режимов, вооруженному навязыванию другим народам своих ценностей и порядков, геополитическому соперничеству и силовой перекройке границ для исправления исторических несправедливостей.
Только на новой базе станет возможным существенное повышение роли и эффективности международных норм, организаций и наднациональных институтов. Фундаментальная общность интересов многополярного мира диктует большую солидарность и сдержанность в выборе инструментов достижения интересов, чем страх перед ядерной катастрофой в прошлом веке. Этого требуют новые проблемы безопасности – распространение оружия массового уничтожения, подъем исламского экстремизма, рост международного терроризма. К тому же подталкивают обостряющиеся климатические, экологические проблемы, дефицит энергоресурсов, пресной воды, продовольствия, демографический взрыв, неуправляемая миграция и угроза глобальных эпидемий.
Курс Евросоюза, Индии, Японии предсказуем в весьма узком диапазоне вариантов. Решающую роль в формировании будущего мироустройства будет играть выбор политического курса Соединенными Штатами, Китаем и Россией. США придется, не впадая в неоизоляционизм, приспосабливаться к реалиям полицентричного и взаимозависимого мира, в котором силовой произвол подобен бросанию камней в стеклянном доме. Как самый сильный участник такого мироустройства они могут играть очень важную роль, действуя в рамках международного права и легитимных институтов. Но любые претензии на гегемонию и «право силы» встретят саботаж союзников и отпор других глобальных и региональных держав. Китаю следует избежать соблазна наращивания вооружений, проведения силовой политики и выдвижения геополитических претензий для обеспечения своих растущих ресурсных потребностей – это может сплотить против него соседние страны на западе, юге и востоке под руководством США. Растущая стремительно экономическая мощь КНР предполагает адекватное повышение глобального экономического и политического влияния страны, но это должно осуществляться только мирным путем, на основе взаимоприемлемых договоренностей с другими странами.
Что касается России, то, лишь перейдя от экспортно-сырьевой к высокотехнологичной экономике, она способна стать полновесным глобальным центром силы. Это предполагает энергичные усилия по выходу из наметившегося экономического и политического застоя, грозящего перейти в упадок. Но он невозможен на путях великодержавной риторики, самолюбования на основе метафизических духовных традиций, экономической автаркии и наращивания военного потенциала сверх пределов разумной достаточности. Все это скорее усугубит проблемы России, даже если и вызовет на время патриотический отклик общества. Для реального экономического прорыва прежде всего нужны политические и институциональные реформы демократического характера: реальное разделение и регулярная сменяемость властей, честные выборы, четкое отчуждение чиновников и депутатов от бизнеса, активное гражданское общество, независимые СМИ и многое другое. Никаким иным способом в России не появятся крупные инвестиции и высокие технологии – они не будут генерироваться из внутренних источников, не придут с Запада и не будут присланы из Китая, который сам является получателем этих активов от стран инновационной экономики.
Пожалуй, мало кто из критиков нынешней философии и политики «евразийства», консерватизма и национал-романтизма смог бы более ясно и убедительно выразить идею европейского выбора, чем сам Владимир Путин. Несколько лет назад (в 2007 г.) он писал: «Этот выбор во многом был задан национальной историей России. По духу, культуре наша страна является неотъемлемой частью европейской цивилизации… Сегодня, выстраивая суверенное демократическое государство, мы в полной мере разделяем те базовые ценности и принципы, которые составляют мироощущение большинства европейцев… Мы рассматриваем европейскую интеграцию как объективный процесс, являющийся составной частью нарождающегося миропорядка… Развитие многоплановых связей с ЕС – это принципиальный выбор России».
Согласно этой идеологии, которая является фундаментом общественной жизни и менталитета, Россия должна вернуться на европейский путь, который не следует путать с торговыми потоками и маршрутами трубопроводов. Вектор развития вовсе не обязательно предполагает интеграцию России в Евросоюз или Евроатлантическую зону свободной торговли и инвестиций. Вполне вероятно сохранение России (основываясь на экономике высоких технологий) вместе с рядом постсоветских республик как самостоятельного центра силы в тесном сотрудничестве с США, ЕС, Китаем, Японией, Индией. Европейский путь – это прежде всего преобразование российской экономической и политической системы на основе передовых европейских норм и институтов, разумеется, сообразуясь с российскими потребностями и национальными традициями.

Угроза войн и ответ России
Как возглавить коалицию и избежать глобального конфликта
С.Ю. Глазьев – академик РАН, советник Президента России.
Резюме Миру нужна глобальная антивоенная коалиция с позитивной программой устройства международной финансово-экономической архитектуры на принципах взаимной выгоды, справедливости и уважения национального суверенитета.
Статья представляет собой выдержки из доклада «Объективные предпосылки и субъективные факторы новой мировой войны», подготовленной под руководством автора.
Действия США на Украине следует квалифицировать не только как враждебные России, но и как направленные на глобальную дестабилизацию, фактически провоцирование мирового конфликта для спасения американской геополитической и финансово-экономической власти. Поэтому ответ должен носить системный и всеобщий характер, быть направлен не только на разоблачение и разрушение политического доминирования Соединенных Штатов, но прежде всего на подрыв американской военно-политической мощи, основанной на эмиссии доллара как мировой валюты.
Миру нужна коалиция здоровых сил за стабильность, если угодно – глобальная антивоенная коалиция с позитивной программой устройства международной финансово-экономической архитектуры на принципах взаимной выгоды, справедливости и уважения национального суверенитета.
Обуздать произвол эмитентов резервных валют
В эту группу потенциально могут войти крупные независимые державы (БРИКС), развивающийся мир (большая часть Азии, Африки, Латинской Америки), дискриминируемый в существующей международной финансово-экономической архитектуре, участники СНГ, заинтересованные в сбалансированном бесконфликтном развитии, часть государств Европы, не готовых подчиняться явно невыгодному им диктату США. Коалиция должна принимать меры для устранения фундаментальных причин глобального кризиса, наибольшее значение среди которых имеют следующие:
бесконтрольность эмиссии мировых резервных валют, которая ведет к злоупотреблениям эмитентов монопольным положением ценой нарастания диспропорций и разрушительных тенденций в глобальной финансово-экономической системе;неспособность действующих механизмов регулирования операций банковских и финансовых институтов обеспечить защиту от чрезмерных рисков и появления финансовых пузырей;исчерпание пределов роста доминирующего технологического уклада и недостаточность условий для становления нового, включая нехватку инвестиций для широкого внедрения составляющих его базисных технологий.
Необходимы условия, которые позволят национальным денежным властям организовать кредитование развития производств нового технологического уклада и модернизации экономики на его основе, стимулирование инновационной и деловой активности в перспективных направлениях экономического роста. Для этого страны-эмитенты мировых резервных валют должны гарантировать их устойчивость путем ограничения величины государственного долга и дефицита платежного и торгового балансов. Кроме того, им следует соблюдать требования по прозрачности механизмов эмиссии своих валют, предоставлению возможности их беспрепятственного обмена на все активы, торгуемые на их территории.
Важным требованием к эмитентам мировых резервных валют должно стать соблюдение правил добросовестной конкуренции и недискриминационного доступа на свои финансовые рынки. Остальным странам, соблюдающим аналогичные ограничения, необходимо предоставить возможности применения национальных валют как инструмента внешнеторгового и валютно-финансового обмена, в том числе их использования в качестве резервных странами-партнерами. Целесообразно ввести классификацию национальных валют, претендующих на роль мировых или региональных резервных, по категориям в зависимости от соблюдения их эмитентами определенных требований.
Одновременно с введением требований к эмитентам мировых резервных валют необходимо ужесточение контроля за движением капитала, чтобы предотвращать спекулятивные атаки, дестабилизирующие мировую и национальные валютно-финансовые системы. Для этого странам коалиции следует ввести запрет на транзакции своих резидентов с офшорными зонами, а также не допускать к схемам рефинансирования банки и корпорации, учрежденные с участием резидентов офшоров. Валюты, эмитенты которых не соблюдают установленных правил, не следует использовать в международных расчетах.
Чтобы обеспечить контроль за эмитентами мировых резервных валют, потребуется глубокое реформирование международных финансовых институтов. Страны-участницы должны быть представлены справедливо по объективному критерию из набора признаков относительного веса в мировом производстве, торговле, финансах, природном потенциале и населении. По тому же критерию можно сформировать корзину валют под выпуск новой SDR (специальные права заимствования, СПЗ, условная расчетная единица МВФ), по отношению к которой могут определяться курсы всех национальных валют, включая мировые резервные. На начальном этапе в корзину могут войти валюты тех стран коалиции, которые согласятся взять на себя обязательства по соблюдению установленных норм.
Осуществление столь масштабных реформ требует правового и институционального обеспечения. Это возможно путем придания решениям коалиции статуса международных обязательств заинтересованных в их реализации стран, а также с опорой на институты ООН и уполномоченные международные организации.
Чтобы стимулировать глобальное распространение социально значимых достижений нового технологического уклада, необходимо развернуть международную систему стратегического планирования глобального социально-экономического развития. Она включала бы в себя разработку долгосрочных прогнозов научно-технического развития, определение перспектив экономики мира, региональных объединений и крупных государств, поиск возможностей преодоления диспропорций, в том числе разрывов между передовыми и слаборазвитыми странами, а также выбор приоритетных направлений развития и индикативных планов деятельности международных организаций.
США и другие члены G7, скорее всего, отвергнут перечисленные выше предложения по реформированию международной валютно-финансовой системы без обсуждения, поскольку они подорвут их монопольное право бесконтрольной эмиссии мировых валют. Получая от нее огромную выгоду, ведущие западные державы сдерживают доступ к собственным рынкам активов, технологий и труда, вводя все новые ограничения.
В случае отказа «семерки» «подвинуться» в органах управления международных финансовых организаций антивоенная коалиция должна обладать достаточной синергией, чтобы создать альтернативные глобальные регуляторы.
Прообразом может послужить группа БРИКС, в рамках которой возможны следующие меры обеспечения экономической безопасности:
создание универсальной платежной системы для стран БРИКС и выпуск общей платежной карточки, объединяющей китайскую UnionPay, бразильскую ELO, индийскую RuPay, а также российские платежные системы;создание независимой от Соединенных Штатов и Евросоюза системы обмена межбанковской информацией, аналогичной SWIFT;переход на использование своих рейтинговых агентств.
Россия – лидер поневоле
Лидирующую роль в создании коалиции по противостоянию США придется брать на себя России, поскольку именно она находится в наиболее уязвимом положении и без создания такой коалиции не сможет одержать верх в развязываемой против нее конфронтации. Если Россия не проявит инициативу, то формируемый Соединенными Штатами антироссийский альянс может поглотить или нейтрализовать наших потенциальных союзников. Так, провоцируемая американцами против России война в Европе может оказаться выгодной Китаю. Взаимное ослабление Америки, Евросоюза и России облегчает КНР достижение глобального лидерства. Бразилия способна поддаться давлению Вашингтона. Индия рискует замкнуться на решении своих внутренних проблем.
Россия обладает не меньшим, чем США, историческим опытом лидерства в мировой политике, необходимым духовным авторитетом и достаточной военно-технической мощью. Но отечественному общественному сознанию необходимо избавиться от комплекса неполноценности, восстановить историческую гордость за многовековое упорное создание цивилизации, объединившей множество наций и культур и не раз спасавшей Европу и человечество от самоистребления. Вернуть понимание исторической преемственности роли «Русского мира» в созидании общечеловеческой культуры, начиная от Киевской Руси – духовной преемницы Византийской империи – до Российской Федерации, являющейся преемницей СССР и Российской империи. Евразийский интеграционный процесс следует преподносить как глобальный проект восстановления общего пространства, развития веками живших вместе, сотрудничавших и обогащавших друг друга народов от Лиссабона до Владивостока и от Петербурга до Коломбо.
Социально-консервативный синтез
Идеологическим основанием нового миропорядка может стать концепция социально-консервативного синтеза, объединяющая систему ценностей мировых религий с достижениями социального государства и научной парадигмой устойчивого развития. Эту концепцию стоит использовать в качестве позитивной программы для формирования глобальной антивоенной коалиции, которая должна предложить понятные всем принципы упорядочивания и гармонизации социально-культурных и экономических отношений в мировом масштабе.
Гармонизация международных отношений возможна только на основе фундаментальных ценностей, разделяемых всеми основными культурно-цивилизационными общностями. К числу таких ценностей относятся принцип недискриминации (равенства людей) и декларируемая всеми конфессиями любовь к ближнему без разделения на «своих» и «чужих». Такие ценности могут быть выражены в понятиях справедливости и ответственности, а также в юридических формах прав и свобод граждан.
Фундаментальная ценность человеческой личности и равенства прав всех людей вне зависимости от их вероисповедания, национальной, классовой и какой-либо еще принадлежности должна быть признана всеми конфессиями. Основанием для этого, во всяком случае в монотеистических религиях, является понимание единства Бога и того, что каждое вероучение указывает свою дорогу спасения человека, имеющую право на существование. Подобное мировоззрение способно устранить насильственные формы межрелигиозных и межнациональных конфликтов, перевести их в плоскость свободного выбора каждого человека. Для этого необходимы правовые формы участия конфессий в общественном жизнеустройстве и разрешении социальных конфликтов.
Это позволит нейтрализовать одну из самых разрушительных технологий американской стратегии ведения мировой хаотической войны –
использование межконфессиональных противоречий для разжигания религиозных и национальных конфликтов, переходящих в гражданские и региональные войны.
Вовлечение конфессий в формирование международной политики даст нравственно-идеологическое основание для предотвращения этнонациональных конфликтов и создаст предпосылки для перевода межнациональных противоречий в конструктивное русло, их снятия посредством инструментов государственной социальной политики. В свою очередь, вовлечение конфессий в формирование социальной политики подведет нравственное основание под государственные решения. Это поможет обуздать дух вседозволенности и распущенности, доминирующий сегодня в правящей элите развитых государств, восстановить понимание социальной ответственности власти перед обществом. Пошатнувшиеся ценности социального государства получат мощную идеологическую поддержку. В свою очередь, политическим партиям придется признать значение фундаментальных нравственных ограничений, защищающих основы человеческого бытия.
Концепция социально-консервативного синтеза дает идеологическую основу для реформирования международных валютно-финансовых и экономических отношений на основе принципов справедливости, взаимного уважения национальных суверенитетов и взаимовыгодного обмена. Их реализация требует ограничения свободы действия рыночных сил, постоянно порождающих дискриминацию большинства граждан и стран по доступу к благам.
Либеральная глобализация подорвала возможности государств влиять на распределение национального дохода и богатства. Транснациональные корпорации бесконтрольно перемещают ресурсы, которые ранее контролировались государствами. Последние вынуждены снижать степень социальной защищенности граждан, чтобы сохранять привлекательность экономик для инвесторов. Одновременно снизилась эффективность государственных социальных инвестиций, потребители которых освободились от национальной принадлежности. В результате присвоения американоцентричной олигархией все большей части доходов, генерируемых в мировой экономике, происходит падение уровня жизни населения большинства стран с открытой экономикой, увеличивается дифференциация граждан по доступу к благам. Для преодоления разрушительных тенденций требуется изменить всю архитектуру финансово-экономических отношений, вводя ограничения на движение капитала. Цель – блокировать возможности его ухода от социальной ответственности, с одной стороны, и выровнять издержки социальной политики национальных государств – с другой.
Ограничение возможностей уклониться от социальной ответственности включает ликвидацию офшорных зон, позволяющих избегать налоговых обязательств, и признание права национальных государств регулировать трансграничное перемещение капитала. Выравнивание социальных издержек различных государств потребует установить глобальные минимальные социальные стандарты, что предусматривало бы опережающее повышение уровня социального обеспечения населения относительно бедных стран. Для этого должны заработать международные механизмы выравнивания уровня жизни, что предполагает создание инструментов их финансирования.
Руководствуясь концепцией социально-консервативного синтеза, антивоенная коалиция поставила бы задачи формирования глобальных механизмов социальной защиты. Так, способом финансирования международных механизмов выравнивания уровня жизни стал бы налог на валютообменные операции в размере 0,01 от суммы трансакций. Этот сбор (суммой до 15 трлн долларов в год) может взиматься на основе международного соглашения в рамках национальных налоговых законодательств и перечисляться в распоряжение уполномоченных международных организаций. В их числе – Красный Крест (предупреждение и преодоление последствий гуманитарных катастроф, вызванных стихийными бедствиями, войнами, эпидемиями и пр.); ВОЗ (предотвращение эпидемий, снижение детской смертности, вакцинация населения и пр.); МОТ (организация глобальной системы контроля за выполнением норм техники безопасности, соблюдением общепринятых норм трудового законодательства, включая оплату труда не ниже прожиточного минимума и запрет на использование детского и принудительного труда, за трудовой миграцией); Мировой банк (строительство объектов социальной инфраструктуры – водоснабжение, дороги, канализация и пр.); ЮНИДО (передача технологий развивающимся странам); ЮНЕСКО (поддержка международного сотрудничества в сфере науки, образования и культуры, защиты культурного наследия). Расходование средств должно вестись на основе бюджетов, утверждаемых Генеральной Ассамблеей ООН.
Еще одним направлением работы может стать создание глобальной системы защиты окружающей среды, финансируемой за счет ее загрязнителей. Для этого нужно заключить международное соглашение, предусматривающее универсальные нормы штрафов за загрязнение с перечислением их на экологические цели в соответствии с национальным законодательством и под контролем уполномоченной международной организации. Часть средств централизованно направляется на проведение глобальных экологических мероприятий и организацию мониторинга состояния окружающей среды. Альтернативный механизм возможен на основе оборота квот на загрязнение путем расширения и запуска механизмов Киотского протокола.
Важнейшее направление – создание глобальной системы ликвидации неграмотности и обеспечения доступа всех граждан планеты к информации и получению современного образования. Потребуется унификация минимальных требований ко всеобщему начальному и среднему образованию с выделением дотаций слаборазвитым странам за счет средств, собираемых посредством предложенного выше налога. Должна появиться доступная для всех жителей планеты система предоставления услуг высшего образования ведущими вузами развитых стран. Последние могли бы выделять квоты на прием иностранных студентов, набираемых по международному конкурсу с оплатой обучения из того же источника. Параллельно силами вузов-участников разворачивается глобальная система предоставления дистанционных образовательных услуг на бесплатной основе для всех желающих со средним образованием. Создание и поддержание соответствующей информационной инфраструктуры может быть возложено на ЮНЕСКО и Мировой банк с финансированием из того же источника.
Антикризисная гармонизация миропорядка
Растущий разрыв между бедными и богатыми странами создает угрозу развитию и самому существованию человечества. Он воспроизводится и поддерживается присвоением ряда функций международного экономического обмена национальными институтами США и их союзников, действующими исходя из своих частных интересов. Они монополизировали эмиссию мировой валюты, используя эмиссионный доход в своих интересах и обеспечивая неограниченный доступ к кредиту своим банкам и корпорациям. Монополизировали установление технических стандартов, поддерживая технологическое превосходство собственной промышленности. Навязали всему миру выгодные им правила международной торговли, заставив других открыть товарные рынки и резко ограничить собственные возможности влияния на конкурентоспособность национальных экономик. Наконец, принудили большинство стран к открытию рынков капитала, обеспечив господствующее положение своей финансовой олигархии, богатеющей за счет той же монополии на безграничную эмиссию мировой валюты.
Устойчивое и успешное для человечества социально-экономическое развитие невозможно без устранения монополизации функций международного экономического обмена в чьих-либо частных или национальных интересах. Ради устойчивого развития человечества и гармонизации глобальных общественных отношений, преодоления дискриминации в международном экономическом обмене могут вводиться глобальные и национальные ограничения.
В частности, для предотвращения глобальной финансовой катастрофы необходимы срочные меры по формированию новой безопасной и эффективной валютно-финансовой системы, основанной на взаимовыгодном обмене национальных валют и исключающей присвоение глобального эмиссионного дохода в чьих-то частных или национальных интересах.
Для выравнивания возможностей социально-экономического развития развивающимся странам необходим свободный доступ к новым технологиям при условии, что они возьмут обязательство не использовать их в военных целях. Государства, согласившиеся на такое ограничение и открывшие доступ к информации о военных расходах, выводятся из-под ограничений международных режимов экспортного контроля. Им также оказывается помощь в получении новых технологий, необходимых для развития.
Для обеспечения добросовестной конкуренции нужен международный механизм, который не позволил бы транснациональным корпорациям злоупотреблять монопольным положением на рынке. Соответствующие функции антимонопольной политики могут быть возложены на ВТО на основе специального соглашения, обязательного для всех государств-членов. Оно предусмотрит права субъектов международного экономического обмена требовать устранения монопольных злоупотреблений со стороны ТНК, а также компенсации вызванных ими потерь за счет введения соответствующих санкций. В число таких злоупотреблений наряду с завышением или занижением цен, фальсификацией качества продукции и другими типичными примерами недобросовестной конкуренции должно входить занижение оплаты труда относительно регионального прожиточного минимума, подтвержденного МОТ. В отношении естественных глобальных и региональных монополий следует установить процедуры регулирования цен на разумном уровне.
В условиях неэквивалентного экономического обмена государствам следует оставить свободу регулирования национальных экономик для выравнивания уровней социально-экономического развития. Наряду с принятыми в рамках ВТО механизмами защиты внутреннего рынка от недобросовестной внешней конкуренции инструментами выравнивания служат разные механизмы стимулирования научно-технического прогресса и государственной поддержки инновационной и инвестиционной активности; установление государственной монополии на использование природных ресурсов; введение норм валютного контроля для ограничения вывоза капитала и нейтрализации спекулятивных атак против национальной валюты; удержание под национальным контролем важнейших секторов экономики; другие формы повышения конкурентоспособности.
Особое значение имеет обеспечение добросовестной конкуренции в информационной сфере. Доступ в мировое информационное пространство должен быть гарантирован всем жителям планеты в качестве как потребителей, так и поставщиков информации. Для поддержания открытости этого рынка следует применять жесткие антимонопольные ограничения, не позволяющие какой-либо стране или группе аффилированных лиц доминировать в информационном пространстве.
Для соблюдения всеми участниками глобального экономического обмена установленных международных и национальных норм необходим обязательный для всех режим санкций за их нарушение. Для этого – международное соглашение по исполнению судебных решений, выносимых в отношении участников международного экономического обмена вне зависимости от их национальной принадлежности. При этом необходимо предусмотреть возможность апелляции к международному суду, решение которого обязательно для исполнения всеми государствами.
Введение обязательных норм и санкций за их нарушение (также как и санкций за нарушение национального законодательства) предполагает примат международных соглашений над национальным законодательством. Государства, нарушающие этот принцип, должны ограничиваться в правах на участие в мировом экономическом обмене. В частности, их национальная валюта не принимается в международных расчетах, в отношении их резидентов могут применяться экономические меры, их деятельность на мировом рынке может ограничиваться.
Для осуществления описанных принципиальных изменений в международных отношениях требуется мощная коалиция, способная преодолеть сопротивление США и государств G7, извлекающих гигантскую выгоду из монопольного положения на мировом рынке и в международных организациях. Эта группа стран должна быть готова к применению санкций в отношении Соединенных Штатов и других государств, отказывающихся признавать приоритет международных обязательств над национальными нормами. Наиболее действенным способом принуждения США к сотрудничеству может стать отказ от доллара в международных расчетах.
Антивоенная коалиция должна выдвинуть мирную альтернативу гонке вооружений как средству стимулирования развития технологического уклада. Эта альтернатива – в широкой международной кооперации при решении глобальных проблем, которые требуют концентрации ресурсов в проведении прорывных научно-технических разработок. К примеру, проблема защиты Земли от космических угроз не имеет в настоящее время технического решения. Чтобы его получить, нужны научно-технические прорывы на основе интеграции интеллектуальных потенциалов ведущих стран мира и совместного финансирования соответствующих международных программ научно-технического развития.
Парадигма устойчивого развития в принципе отвергает войны. Вместо конфронтации и конкуренции она делает ставку на кооперацию и сотрудничество как механизмы концентрации ресурсов в перспективных направлениях НТП. Она лучше, чем провоцируемая геополитикой гонка вооружений, подходит как научно-организационная основа механизма управления становлением нового технологического уклада. Основными потребителями продукции последнего являются здравоохранение, образование и культура, развитие которых слабо стимулируется военными расходами. Но на эти отрасли непроизводственной сферы вместе с наукой в близкой перспективе будет приходиться до половины ВВП развитых стран. Соответственно подход, при котором тяжесть государственного стимулирования НТП переносится с военных расходов на гуманитарные, прежде всего на медицинские исследования и науки о жизни, является дальновидным. Поскольку государство обеспечивает свыше половины расходов на здравоохранение, образование и науку, такой перенос способствовал бы укреплению планомерного начала в управлении социально-экономическим развитием, что ограничивало бы действие разрушительных сил.
* * *
С 2017 г. в США начнется новый избирательный цикл, который, по всей видимости, будет замешан на русофобии как идейной основе фактически разжигаемой Вашингтоном мировой войны за сохранение собственной власти. К этому времени кризисное состояние американской финансовой системы может проявиться в сокращении бюджетных расходов, обесценивании доллара и ухудшении уровня жизни населения. Давление внутренних проблем и кризисов во внешней политике, с одной стороны, будет провоцировать рост агрессивности американского руководства, а с другой – ослаблять его положение. В случае интеллектуальной, экономической и военной мобилизации у России есть шансы не проиграть в конфликтах 2015–2018 гг., поскольку США и их сателлиты еще не будут готовы к открытой агрессии.
Самый опасный период для России наступит в начале 2020-х гг., когда начнется технологическое перевооружение развитых стран и Китая, а Соединенные Штаты и другие западные государства выйдут из депрессии 2008–2018 гг. и совершат новый технологический скачок. Именно в 2021–2025 гг. Россия может резко отстать в технологическом и экономическом отношении, что обесценит ее оборонный потенциал и резко усилит внутренние социальные и межэтнические конфликты, как это произошло с СССР в конце 1980-х годов. Конфликты будут разжигаться извне и изнутри, а почвой станут социальное неравенство, неравенство между регионами и экономические проблемы. Чтобы избежать самого негативного сценария, ведущего к распаду страны, необходима системная внутренняя и внешняя политика укрепления национальной безопасности, обеспечения экономической самостоятельности, повышения международной конкурентоспособности и опережающего развития экономики, мобилизации общества и модернизации ВПК.
К 2017 г., когда США начнут открыто и по всем фронтам угрожать России, российская армия должна иметь современное и эффективное вооружение, российское общество – быть сплоченным и уверенным в своих силах, интеллектуальная элита – владеть достижениями нового технологического уклада, экономика – находиться на волне роста этого уклада, а российская дипломатия – организовать широкую антивоенную коалицию стран, способную согласованными действиями прекратить американскую агрессию.

Почему Запад повинен в кризисе на Украине
Либеральные авантюры, которые спровоцировали Путина
Джон Миршаймер – профессор политологии в Чикагском университете.
Резюме Вашингтону может категорически не нравиться российская позиция, но нельзя не понимать ее логику. Это «геополитика для чайников»: великие державы всегда крайне чувствительны к потенциальным угрозам по соседству.
Статья опубликована в журнале Foreign Affairs, № 5, 2014.
На Западе преобладает мнение, согласно которому кризис на Украине вызван почти исключительно российской агрессией. По этой логике российский президент Владимир Путин прибег к аннексии Крыма ради осуществления своей заветной мечты возродить советскую империю, а впоследствии он может попытаться установить контроль над всей Украиной и другими странами Восточной Европы. По мысли апологетов этой теории, изгнание президента Виктора Януковича в феврале 2014 г. было лишь предлогом для Путина, приказавшего российским войскам захватить часть соседнего государства.
Но это ошибочная точка зрения: большую часть вины за кризис должны взять на себя США и их европейские союзники. Главная причина постигшей нас беды – это расширение НАТО, которое стало стержнем более широкомасштабной стратегии по выведению Украины из российской орбиты и ее интеграции с западным миром. Другими важными элементами были расширение ЕС на восток и поддержка Западом продемократического движения на Украине, начиная с «оранжевой революции» 2004 года. С середины 1990-х гг. российские лидеры твердо противостояли расширению НАТО, а в последние годы дали ясно понять, что не будут спокойно наблюдать за тем, как их стратегически важный сосед превращается в бастион Запада. Последней каплей стало незаконное свержение демократически избранного и пророссийского президента Украины, которое тот справедливо охарактеризовал как «государственный переворот». На эти действия Путин ответил захватом Крыма – полуострова, который, как он опасался, станет военно-морской базой НАТО. Он также дестабилизировал ситуацию на Украине, чтобы она забыла о своих планах стать частью Запада.
Не стоит удивляться подобной агрессивной реакции Кремля. Ведь Запад начал хозяйничать на заднем дворе России, угрожая ее ключевым стратегическим интересам, против чего Путин неоднократно и эмоционально предостерегал. Американские и европейские элиты были потрясены и застигнуты врасплох последними событиями лишь потому, что придерживаются ошибочного взгляда на мировую политику. Они склонны считать, что логика реализма неактуальна в XXI веке, а Европа может быть единой и свободной благодаря таким либеральным принципам, как власть закона, экономическая взаимозависимость и демократия.
Но этот генеральный план не сработал на Украине. Кризис в этой стране показывает, что реальная политика остается актуальной, и государства, которые пренебрегают ею, многим рискуют. Американские и европейские лидеры глубоко просчитались, попытавшись превратить Украину в оплот Запада на границах с Россией. Теперь, когда последствия этих неразумных действий стали очевидны, было бы еще более грубой ошибкой продолжать эту непродуманную политику.
Наносит публичное оскорбление
Когда холодная война закончилась, советские лидеры согласились с тем, что американские войска останутся в Европе, и блок НАТО не будет расформирован, поскольку им казалось, что это позволит воссоединенной Германии быть миролюбивой страной. Но ни они, ни их российские преемники не хотели, чтобы Североатлантический альянс расширялся, и исходили из того, что западные дипломаты понимают их озабоченность. Администрация Клинтона, по-видимому, мыслила иначе и в середине 1990-х гг. начала добиваться расширения НАТО.
Первый этап произошел в 1999 г. – тогда к блоку примкнули Чешская Республика, Венгрия и Польша. На втором этапе в 2004 г. в НАТО вошли Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения. Москва горько сетовала и протестовала с самого начала расширения. Например, когда НАТО бомбила боснийских сербов в 1995 г., президент России Борис Ельцин сказал: «Это первое знамение того, что может происходить, когда блок НАТО приблизится к границам России… Вся Европа будет охвачена пламенем войны». Но русские тогда были слишком слабы, чтобы помешать. В любом случае это не выглядело слишком угрожающе, потому что ни один из членов блока не граничил непосредственно с Россией, за исключением крошечных стран Балтии.
Но затем альянс обратил взоры еще дальше на восток. На апрельском саммите 2008 г. в Бухаресте НАТО подняла вопрос о принятии Грузии и Украины. Администрация Джорджа Буша поддержала этот шаг, но Франция и Германия выступили против, поскольку не хотели раздражать и провоцировать Россию. В конце концов, нашли компромиссное решение: альянс не начал формальных процедур, ведущих к членству, но выступил с заявлением, в котором поддерживались устремления Грузии и Украины, и самоуверенно говорилось: «Эти страны рано или поздно станут членами НАТО».
Однако в глазах Москвы это был отнюдь не компромиссный вариант. Тогдашний заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сказал: «Членство Грузии и Украины в альянсе – это колоссальная стратегическая ошибка, которая повлечет за собой самые серьезные последствия для панъевропейской безопасности». Путин неоднократно заявлял, что присоединение этих стран к НАТО будет «прямой угрозой» для России. Одна российская газета сообщала, что в разговоре с Бушем Путин сказал без обиняков: «Если Украина будет принята в НАТО, она перестанет существовать».
Вторжение России в Грузию в августе 2008 г. должно было развеять любые сомнения относительно решимости Путина не допустить присоединения Грузии и Украины к альянсу. Президент Грузии Михаил Саакашвили, твердо намеренный привести свою страну в НАТО, решил летом 2008 г. вернуть в состав Грузии два сепаратистских региона – Абхазию и Южную Осетию. Но Путин хотел, чтобы Грузия оставалась слабой, разделенной и за пределами альянса. После того как начались боевые действия между грузинскими войсками и южноосетинскими сепаратистами, российские войска взяли под контроль Абхазию и Южную Осетию. Москва предельно ясно донесла свою позицию. Однако, несмотря на это ясное предостережение, НАТО так публично и не отказалась от своей цели интегрировать Грузию и Украину. И расширение блока продолжалось – в 2009 г. его членами стали Албания и Хорватия.
ЕС также продвигался на Восток. В мае 2008 г. он обнародовал инициативу по созданию «Восточного партнерства» – программы, которая, по мысли европейских стратегов, должна была способствовать процветанию таких стран, как Украина, и их интеграции в экономику Евросоюза. Неудивительно, что российские лидеры считают этот план противоречащим национальным интересам России. В феврале, до того как Януковича вынудили покинуть президентский пост, российский министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил Евросоюз в попытке создать «сферу влияния» в Восточной Европе. В глазах Москвы расширение Европейского союза – это предлог для экспансии НАТО.
Последний инструмент, который Запад использовал для изоляции Киева от Москвы – усилия по распространению западных ценностей и продвижения демократии на Украине и в других постсоветских странах. Подобные планы часто влекут за собой финансирование прозападных политиков и организаций. Виктория Нуланд, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, оценила в декабре 2013 г., что Соединенные Штаты с 1991 г. инвестировали более 5 млрд долларов, чтобы помочь Украине добиться «того будущего, которое она заслуживает». В рамках этих усилий правительство США субсидировало Национальный фонд поддержки демократии. Эта некоммерческая организация финансировала более 60 проектов, направленных на укрепление гражданского общества на Украине, а президент Фонда Карл Гершман назвал эту страну «самым большим призом». После победы Януковича на президентских выборах в феврале 2010 г. Фонд решил, что новый президент мешает осуществлять поставленные цели, поэтому удвоил усилия, направленные на поддержку оппозиции и укрепление демократических институтов страны.
Методы социальной инженерии, применяемые Западом на Украине, вызывают тревогу у российских лидеров, они опасаются, что их страна может стать следующей мишенью. И это отнюдь не беспочвенные страхи. В сентябре 2013 г. Гершман написал следующее в газете The Washington Post: «Решение Украины стать частью Европы ускорит гибель идеологии российского империализма, олицетворяемой Путиным». И добавил: «У россиян также есть выбор, и Путин может оказаться в стане проигравших не только в ближнем зарубежье, но и внутри самой России».
Создание кризиса
Тройственная политика Запада – расширение НАТО, расширение Евросоюза и продвижение демократии – подлила масла в огонь, готовый вспыхнуть в любой момент. Искрой стали события ноября 2013 г., когда Янукович отверг крупную экономическую сделку, которую обсуждал с ЕС, и решил принять контрпредложение России на сумму 15 млрд долларов. Это породило антиправительственные демонстрации, усиливавшиеся в течение трех последующих месяцев и приведшие в середине февраля к трагической гибели ста человек из числа протестующих. Западные эмиссары в спешном порядке вылетели в Киев, чтобы помочь в урегулировании кризиса. 21 февраля правительство и оппозиция заключили договоренность, позволившую Януковичу остаться у власти до новых выборов. Но она тут же развалилась, и на следующий день Янукович бежал в Россию. В Киеве установилось правительство, прозападное и антироссийское до мозга костей. В него вошли четыре высокопоставленных чиновника, которых с полным правом можно было бы назвать неофашистами.
Хотя роль Соединенных Штатов в украинском кризисе не до конца понятна, ясно, что Вашингтон поддержал государственный переворот. Нуланд и сенатор-республиканец Джон Маккейн приняли участие в антиправительственных демонстрациях, а Джеффри Пайет, посол Соединенных Штатов на Украине, заявил после свержения Януковича, что «этот день войдет в учебники истории». Как выяснилось после опубликования записи телефонного разговора, Нуланд выступала за смену режима и хотела, чтобы премьер-министром нового правительства стал Арсений Яценюк, который в итоге и занял эту должность. Неудивительно, что россияне всех политических убеждений считают, что Запад сыграл значимую роль в изгнании Януковича.
Для Путина настало время переходить к решительным действиям против Украины и Запада. Вскоре после 22 февраля он приказал российским войскам отнять Крым у Украины, а затем присоединил полуостров к России. Эта задача оказалась сравнительно простой, поскольку многотысячный российский воинский контингент уже находился на военно-морской базе в крымском порту Севастополь. Крым также стал легкой мишенью, поскольку этнические русские составляли 60% населения и большинство жителей не желали оставаться в составе Украины. После этого Путин оказал серьезное давление на новое правительство в Киеве, убеждая его не солидаризироваться с Западом против Москвы, дав ясно понять, что развалит украинскую государственность и будет сеять хаос в этой стране, но не позволит Украине превратиться в западную твердыню на заднем крыльце России. С этой целью он предоставил советников, вооружения и дипломатическую поддержку пророссийским сепаратистам в Восточной Украине, которые подталкивают страну к гражданской войне. Он сосредоточил большую армию у границ с Украиной, угрожая вторжением в случае, если правительство попытается уничтожить мятежников. Кроме того, Путин резко поднял цену на газ, который Россия продает Украине, и потребовал выплатить задолженность за прежние поставки. Путин использует силовые методы.
Диагноз
Действия Путина нетрудно понять и объяснить. Наполеоновской Франции, императорской Германии и нацистской Германии пришлось преодолеть для начала огромные равнинные пространства, чтобы нанести удар по России. Украина представляет собой буферное государство, которое чрезвычайно важно для России. Ни один российский лидер не потерпел бы того, чтобы военный альянс, бывший до недавнего времени злостным врагом, занял Украину. И ни один российский лидер не стал бы праздно наблюдать за тем, как Запад помогает привести к власти на Украине правительство, твердо намеренное добиваться интеграции страны в западные структуры.
Вашингтону может не нравиться позиция Москвы, но ему следует понять логику, которая за ней стоит. Это «геополитика для чайников»: великие державы всегда чутко реагируют на потенциальные угрозы в непосредственной близости от собственной территории. Представьте себе ярость Вашингтона, если бы Китай сколотил сильный военный альянс и попытался включить в него Канаду и Мексику. Дело не только в логике – российские лидеры неоднократно говорили своим западным визави, что считают включение Грузии и Украины в НАТО неприемлемым, равно как и любые попытки настроить эти страны против России. Российско-грузинская война 2008 г. не оставила сомнений в решительном настрое Москвы.
Официальные лица из США и их европейские союзники утверждают, что изо всех сил старались успокоить встревоженную Россию и заверить в том, что у альянса нет планов, направленных против нее. Помимо постоянного отрицания того, что расширение НАТО направлено на сдерживание России, альянс никогда не размещал на постоянной основе вооруженные силы в новых государствах-членах. В 2002 г. был даже создан Совет Россия–НАТО с целью стимулировать сотрудничество.
Пытаясь еще больше успокоить Россию, США объявили в 2009 г., что развернут новую ракетную оборонительную систему на военных кораблях в европейских водах (по крайней мере на начальном этапе), а не на территории Польши и Чехии. Но ни одна из этих мер не сработала; русские по-прежнему категорически возражали против расширения НАТО, особенно за счет Грузии и Украины. И именно русские, а не Запад, в конечном итоге решают, что считать угрозой.
Чтобы понять, почему Запад, особенно Соединенные Штаты, не смогли уразуметь, что их политика на Украине закладывает фундамент для крупного столкновения с Россией, необходимо вернуться в середину 1990-х гг., когда администрация Клинтона встала на позицию расширения НАТО. Ученые-политологи выдвигали различные аргументы за и против расширения, но всеобщего согласия добиться не удалось. Большинство иммигрантов в США из Восточной Европы и их родственники, например, решительно поддерживали расширение, потому что хотели, чтобы НАТО защитила такие страны, как Венгрия и Польша. Немногие реалисты также одобряли эту политику, поскольку считали, что Россию все еще необходимо сдерживать.
Но большинство реалистов противостояли расширению, полагая, что едва ли нужно сдерживать переживающую упадок великую державу со стареющим населением и одномерной экономикой. Они опасались, что расширение альянса лишь стимулирует Москву сеять беды в Восточной Европе. Эту точку зрения четко изложил американский дипломат Джордж Кеннан в интервью 1998 г. – вскоре после того, как Сенат одобрил первый этап расширения НАТО. «Мне кажется, что русские постепенно начнут крайне враждебно к этому относиться, что повлияет на их внешнюю политику, – сказал он. – Думаю, что это трагическая ошибка. Для этого не было никаких причин: никто никому не угрожал».
С другой стороны, большинство либералов, в том числе многие ключевые фигуры администрации Клинтона, приветствовали расширение. Они считали, что окончание холодной войны ознаменовало фундаментальную трансформацию мировой политики, и новый постнациональный порядок пришел на смену логике реализма, когда-то преобладавшей в Европе. Соединенные Штаты были не только «незаменимой страной», как выразилась Мадлен Олбрайт, тогдашний госсекретарь, но также и «милостивым гегемоном», а потому вряд ли могут считаться угрозой в Москве. По сути дела, цель заключалась в том, чтобы весь континент стал похож на Западную Европу.
Поэтому США и их союзники стремились насаждать демократию в странах Восточной Европы, усиливать экономическую взаимозависимость между ними и встраивать их в международные организации. После победы в Соединенных Штатах либералам не составило большого труда убедить своих европейских союзников поддержать расширение НАТО. В конце концов, с учетом прошлых достижений ЕС, европейцы еще в большей степени, чем американцы, сроднились с идеей о том, что геополитика больше не играет никакой роли, а всеобъемлющий либеральный порядок позволит сохранить мир в Европе.
Либеральная точка зрения до такой степени возобладала в рассуждениях о европейской безопасности в первом десятилетии XXI века, что даже когда альянс взял на вооружение политику открытых дверей и бесконтрольного роста, расширение НАТО почти не встречало сопротивления со стороны реалистов. Либеральное мировоззрение – общепринятая догма среди нынешних американских официальных лиц. Например, в марте президент Барак Обама произнес речь об Украине, в которой постоянно говорил об «идеалах», мотивирующих политику Запада, и как часто этим идеалам угрожают «более традиционные, устаревшие взгляды на власть». По реакции госсекретаря Джона Керри на кризис вокруг Крыма видно, что он руководствуется теми же установками: «В XXI веке нельзя вести себя так, как это было принято в XIX, вторгаясь в другую страну под совершенно надуманным предлогом».
По сути, две стороны действовали, руководствуясь разными политическими принципами: Путин и его соотечественники мыслят и действуют как реалисты, тогда как их западные визави придерживаются либеральных взглядов на мировую политику. В результате Соединенные Штаты и их союзники неосознанно спровоцировали серьезный кризис вокруг Украины.
Взаимные обвинения
В том же интервью 1998 г. Кеннан предсказал, что расширение НАТО спровоцирует кризис, после которого сторонники расширения скажут примерно следующее: «Мы всегда говорили, что русские именно так себя ведут в силу своей природы». Как по заказу, большинство официальных лиц Запада представляют Путина истинным виновником безвыходного положения на Украине. В марте, согласно сообщению The New York Times, канцлер Германии Ангела Меркель предположила, что Путин утратил связь с реальностью. Она сказала Обаме, что Путин, по-видимому, живет «в другом мире». Хотя у Путина, вне всякого сомнения, имеется склонность к авторитаризму, нет никаких фактов, доказывающих его умственную неуравновешенность. Скорее напротив: он первоклассный стратег, которого следует бояться и уважать всем, кто оспаривает его внешнеполитическую линию.
Другие аналитики ссылаются на то, что Путин сожалеет о распаде Советского Союза и твердо намерен обратить вспять этот процесс путем расширения границ России. Такая версия представляется более правдоподобной. Согласно этому истолкованию, захватив Крым, Путин в настоящее время прощупывает почву, чтобы понять, не пришло ли время завоевать всю Украину или по крайней мере ее восточную часть. И в конечном итоге он будет вести себя агрессивно по отношению к соседним странам. С точки зрения некоторых аналитиков из этого лагеря, Путин – современный аналог Адольфа Гитлера, и заключение с ним каких-либо сделок будет означать повторение ошибки, допущенной в Мюнхене. Таким образом, НАТО должна принять в свои ряды Грузию и Украину, чтобы сдерживать Россию и не позволить ей угнетать своих соседей и угрожать Западной Европе.
При ближайшем рассмотрении этот аргумент не выдерживает критики. Если бы Путин был привержен идее создания Большой России, то эти его намерения как-то проявлялись бы и до 22 февраля. Однако не существует фактически никаких доказательств того, что он был склонен к захвату Крыма или тем более других украинских территорий до этой даты. Даже западные лидеры, поддерживавшие расширение НАТО, делали это не из страха перед тем, что Россия вот-вот прибегнет к военной силе. Действия Путина в Крыму застигли их врасплох и кажутся им спонтанной реакцией на изгнание Януковича. Сразу после февральских событий Путин сказал, что выступает против отделения Крыма, но затем быстро изменил свое решение.
Кроме того, даже если бы Россия этого хотела, она не сможет так легко завоевать и аннексировать Восточную Украину, не говоря уже об остальной территории страны. Примерно 15 млн человек, или треть населения Украины, живут между рекой Днепр, которая делит страну на две части, и российской границей. Подавляющее большинство этих людей хотят быть гражданами Украины и, конечно, будут сопротивляться российской оккупации. Кроме того, у довольно посредственной российской армии, не подающей особых надежд на превращение в современный «вермахт», мало шансов на покорение всей Украины. Москва находится не в том положении, чтобы оплачивать дорогостоящую оккупацию; ее слабая экономика еще больше пострадала бы от новых санкций.
Но даже имея мощную военную машину и впечатляющую экономику, Россия все равно оказалось бы неспособна осуществить успешную оккупацию Украины. Достаточно вспомнить о горьком советском и американском опыте в Афганистане, американском опыте во Вьетнаме и Ираке, российском опыте в Чечне, чтобы понять, что военная оккупация обычно заканчивается очень плохо. Путин, конечно, понимает, что пытаться покорить Украину – все равно что проглотить дикобраза. Его реакция на события в этой стране – оборонительная, а не наступательная.
Выход
Учитывая, что большинство западных лидеров продолжают отрицать тот факт, что поведение Путина может быть продиктовано законной озабоченностью относительно безопасности России, нет ничего удивительного в том, что они пытаются изменить его, идя ва-банк в проводимой ими политике и наказывая Россию, чтобы сдержать ее дальнейшую агрессию. Хотя Керри утверждает, что «рассматриваются все варианты», ни США, ни их союзники по НАТО не готовы применить силу для защиты Украины. Вместо этого Запад полагается на экономические санкции, чтобы заставить Россию прекратить оказание помощи повстанцам в Восточной Украине. В июле Соединенные Штаты и Евросоюз ввели третий этап ограниченных санкций, главной мишенью которых стали в основном высокопоставленные лица, тесно связанные с российским правительством, некоторые крупные банки с государственным участием, энергетические компании и оборонные предприятия. Прозвучала также угроза еще более жестких санкций против целых отраслей российской экономики.
Подобные меры не возымеют большого эффекта. В любом случае жесткие санкции с большой вероятностью могут повредить экономике западноевропейских стран, особенно Германии. Не случайно Берлин не хотел вводить их из опасений, что Россия может предпринять ответные меры и нанести ЕС серьезный экономический ущерб. Но даже если Соединенным Штатам удастся убедить союзников пойти на жесткие меры, Путин вряд ли изменит курс. История показывает, что страны готовы переносить большие тяготы и лишения ради защиты своих ключевых стратегических интересов, и нет повода считать, что Россия – исключение из этого правила.
Западные лидеры проводили провокационную политику, которая в первую очередь ускорила приближение кризиса. В апреле вице-президент США Джозеф Байден встретился с украинскими законодателями и сказал им: «Вам представилась вторая возможность завершить то, ради чего была совершена “оранжевая революция”». Директор ЦРУ Джон Бреннан не оздоровил обстановку, когда посетил Киев в том же месяце. По заявлению Белого дома, его визит был призван улучшить сотрудничество с украинским правительством в сфере безопасности.
Тем временем Евросоюз продолжает продавливать свое «Восточное партнерство». В марте Жозе Мануэл Баррозу, председатель Еврокомиссии, подытожил размышления ЕС по поводу Украины, заявив: «У нас есть долг проявить солидарность с этой страной, и мы будем работать над тем, чтобы она была как можно ближе к нам». А 27 июня наконец состоялось подписание экономического соглашения между Европейским союзом и Украиной, отказ от которого семью месяцами ранее стоил Януковичу президентского кресла. Также в июне, на совещании министров иностранных дел стран НАТО, было решено, что альянс останется открытым для принятия новых членов, хотя министры воздержались от прямого упоминания Украины. «Никакая третья страна не может накладывать вето на расширение НАТО», – заявил генеральный секретарь Андерс Фог Расмуссен. Министры иностранных дел также договорились поддержать меры для повышения военных возможностей Украины в таких областях, как командование и управление войсками, материально-техническое обеспечение и кибербезопасность. Российские лидеры, естественно, выразили возмущение подобными действиями; реакция Запада на кризис еще больше усугубляет и без того плохую ситуацию.
Однако кризис на Украине можно разрешить, хотя для этого Запад должен принципиально изменить подход к этой стране. Соединенным Штатам и их союзникам следует отказаться от плана вестернизации Украины и вместо этого попытаться сделать ее нейтральным буферным государством между НАТО и Россией, каким была Австрия в эпоху холодной войны. Западным лидерам следует признать: Украина так много значит для Путина, что они не могут поддерживать антироссийский режим в этой стране. Это не означает, что будущее правительство Украины должно быть пророссийским или антинатовским. Суверенная Украина, независимая от России и Запада, – вот цель, к которой нужно стремиться.
Для достижения этой цели Соединенным Штатам и их союзникам следует публично исключить возможность расширения НАТО на Грузию и Украину. Запад должен также помочь в разработке экономического плана спасения для Украины, который будет финансироваться ЕС, МВФ, Россией и США. Москве следует приветствовать это предложение, учитывая ее заинтересованность в процветающей и стабильной Украине на юго-западном фланге. И Западу стоит существенно ограничить методы социальной инженерии внутри Украины. Вместе с тем американским и европейским лидерам нужно призывать Украину к уважению прав меньшинств, особенно языковых прав русскоязычного населения.
Некоторые могут утверждать, что изменение политики в отношении Украины на этом позднем этапе может серьезно подорвать доверие к США во всем мире. Конечно, какие-то издержки неизбежны, но цена осуществления глубоко ошибочной стратегии может быть намного выше. Кроме того, другие страны, скорее всего, будут уважать государство, способное учиться на своих ошибках и вырабатывать целесообразную политику для эффективного решения возникающей проблемы. Выбор остается за Соединенными Штатами.
Нередко приходится слышать утверждение, что Киев имеет право сам решать, кто будет его союзником, и русские не вправе мешать объединению с Западом. Это опасный образ мышления для Украины, когда речь идет о внешнеполитическом выборе. Печальная правда заключается в том, что в политике великих держав на первый план часто выходит право силы. Абстрактные права, такие как право на самоопределение, оказываются бессмысленными, когда могущественные страны конфликтуют с более слабыми государствами. Имела ли Куба право создавать военный альянс с Советским Союзом в эпоху холодной войны? США, конечно, так не считали, и русские придерживаются той же логики, когда речь заходит о присоединении Украины к Западу. В интересах Украины понять эту правду жизни и вести себя осторожно во взаимоотношениях со своим более могущественным соседом.
Но даже если не принимать во внимание этот анализ ситуации и считать, что Украина имеет право направить просьбу о присоединении к ЕС и НАТО, Соединенные Штаты и их европейские союзники вправе отклонить такую просьбу, и это несомненный факт. У Запада нет причин принимать в свои ряды Украину, если она будет склонна проводить ошибочную внешнюю политику, особенно если защита этого государства не входит в жизненно важные приоритеты Запада. Потакание мечтаниям некоторых украинцев может слишком дорого стоить украинскому народу, если это спровоцирует серьезный военный конфликт.
Конечно, некоторые аналитики могут согласиться, что НАТО неправильно строила отношения с Украиной, но при этом утверждать, что Россия – недружественная страна, которая со временем будет становиться все более грозным противником, а потому у Запада нет иного выбора, кроме как продолжать нынешний курс. Но это глубоко ошибочная точка зрения. Россия – слабеющая держава, и со временем она будет еще больше ослабевать. Более того, даже если бы Россия была усиливающейся державой, то и в этом случае не имело бы смысла принимать Украину в НАТО по одной простой причине: США и их европейские союзники не считают Украину частью своих стратегических интересов или приоритетов, что ясно видно из их нежелания помогать этой стране военной силой. Поэтому было бы верхом глупости сотворить нового члена альянса, которого другие члены блока не намерены защищать. В прошлом альянс расширялся в силу убеждения либеральных политиков Запада, что ему никогда не придется делом подтверждать гарантии безопасности, которые он дает своим новым членам. Однако нынешние силовые игры России показывают, что если принять Украину в НАТО, это может привести к вооруженному столкновению между Россией и Западом.
Продолжение нынешней политики осложнит отношения Запада с Москвой и по другим вопросам. Соединенным Штатам нужна помощь для вывода оборудования из Афганистана через российскую территорию, подписания соглашения с Ираном по ядерной энергетике и стабилизации ситуации в Сирии. Фактически Москва в прошлом помогала Вашингтону по всем трем вопросам; летом 2013 г. именно Путин выполнил за Обаму самую трудную работу, склонив Сирию к подписанию соглашения, по которому она обязалась уничтожить арсеналы химического оружия. Тем самым он избавил США от необходимости нанесения удара, которым Обама угрожал Асаду. Когда-нибудь Соединенным Штатам также понадобится помощь России для сдерживания усиливающегося Китая. Однако нынешняя американская политика лишь толкает Москву и Пекин в объятия друг друга.
У США и их европейских союзников есть выбор, какую политику проводить на Украине. Они могут продолжать нынешний курс, который усугубит вражду с Россией и приведет к полному разорению Украины в процессе этого противостояния. В случае реализации подобного сценария проиграют все. Либо американцы могут изменить проводимую политику и направить усилия на создание процветающей, но нейтральной Украины, которая не угрожает России и позволит Западу восстановить конструктивные отношения с Москвой. При таком подходе выиграют все стороны.

Москва и Берлин: шанс на «любовь втроем»
Появилась ли трещина в американо-германском альянсе?
Дмитрий Шляпентох – профессор истории в Индианском университете Саут Бенд.
Резюме Германия не «разведется» с США, чтобы раскрыть объятия России. Но моногамные отношения между Вашингтоном и Берлином могут перерасти в своеобразную «любовь втроем», которая позволит Москве увеличить влияние в Центральной Европе.
В современной мировой политике простого выбора не бывает. Каждый шаг или решение имеет положительные и отрицательные коннотации, и это в полной мере относится к кризису на Украине и к действиям всех участвующих в нем сторон, включая Россию. Отказ Москвы от поддержки ополченцев на востоке Украины имел бы для России не только негативные, но и позитивные последствия, поскольку повысил бы шансы на сближение с Германией и увеличил влияние в Восточной и Центральной Европе, где наследие прежней империи кажется утраченным навсегда. В данном случае Москва могла бы эксплуатировать расширяющуюся пропасть между Вашингтоном и Берлином, которая образовалась вследствие превращения Германии в мировую державу.
Новые ходы Берлина
Политические обозреватели в последнее время настолько захвачены беспорядками в Ираке, Газe/Израиле и на Украине, что упустили из виду один важный нюанс: явное ухудшение отношений между Берлином и Вашингтоном и возможные последствия этого процесса. Не так давно Германия узнала (в основном из откровений Эдварда Сноудена), что Вашингтон шпионил за Берлином и даже прослушивал телефонные разговоры канцлера Ангелы Меркель, которая в конце концов призвала Обаму прекратить эту деятельность. Но совсем недавно в Германии поймали американского шпиона. В итоге официальный представитель ЦРУ был вынужден покинуть ФРГ. Другой шаг Берлина, на мой взгляд, еще важнее. После разразившегося скандала министр внутренних дел объявил, что Германия «отказывается от соглашения о недопущении шпионажа, которое она заключила с США и Великобританией после 1945 г., и начнет полноценную разведку и слежку за операциями по сбору разведывательной информации у себя в стране».
Отказ от одного из ключевых элементов немецко-американского альянса можно также расценивать как неявный выход из НАТО. Ведь Соединенные Штаты и Германия – союзники по Североатлантическому блоку, а по-настоящему союзнические отношения едва ли возможны без сотрудничества разведывательных служб. Это хорошо видно на примере взаимоотношений США с англо-саксонскими союзниками, такими как Великобритания, Австралия и Новая Зеландия. Офицеры разведки этих государств не только сотрудничают, но известны случаи, когда новозеландцы и австралийцы возглавляли группы, в которых американцы были их подчиненными. Почему бы офицерам спецслужб Америки и Германии не взаимодействовать аналогичным образом? Откуда возник подобный скандал и с чем связаны столь суровые меры? Кому-то может показаться, что причина в беспардонных действиях американцев и щепетильности немецкой элиты. Но дело не в этом.
Не рискуя сильно ошибиться, можно предположить, что Соединенные Штаты шпионили за Германией давно, но Берлин никак на это не реагировал. Эта разновидность геополитического подглядывания в замочную скважину принималась без всяких претензий – не только Германией, но и другими европейскими союзниками, которые «проглатывали» куда более серьезные недружественные жесты с американской стороны.
Более того, совсем недавно, в эпоху Буша, американская разведка открыто похищала в Европе лиц, подозреваемых в связях с террористическими группировками. Некоторые европейские правительства протестовали, но не были услышаны. Вашингтон продолжал вести себя так, как считал нужным, и правительства не предпринимали никаких видимых действий, чтобы как-то обуздать «большого брата». Конечно, Германия видится последней страной, способной на подобное, поскольку там по умолчанию продолжается процесс геополитического или даже культурного самоотречения. Между прочим, английский язык играет куда более заметную роль в немецких научных дискуссиях, нежели в любой другой крупной европейской, неанглоязычной стране, такой как Франция или Италия. Так почему же Берлин сегодня решился на этот беспрецедентный шаг? Это можно понять, только проанализировав немецко-американские отношения в более широком контексте.
От поражения к подъему
После Второй мировой войны Европа напоминала склеп. Германия была особенно сильно потрепана, побывав театром ожесточенных военных действий, в основном против Красной Армии, а также вследствие разрушительных бомбардировок, которые вели ВВС США и Великобритании. Страна понесла ужасающие потери на Восточном фронте; к тому же с территории СССР, а также Польши, Венгрии и Чехословакии прибывали миллионы беженцев. Немцы чувствовали свою вину за зверства, которые творили нацисты. Вдобавок территория Германии была разделена на два государства, и это свело на нет тысячелетние усилия германских лидеров от Арминия до Бисмарка, пытавшихся объединить немецкие земли в одно государство. Мало кто праздновал столетие немецкого единства в 1971 году.
В этой ситуации у Германии – по крайней мере Западной – особого выбора не было: покориться либо имперскому господству Советов, либо более гуманному протекторату Соединенных Штатов, и нет нужды говорить о том, что даже самые крикливые из левых политиков предпочли второе первому. Германия смирила гордыню и стала абсолютно лояльным союзником США. И, конечно, она не могла поддержать попытку французов восстановить в Европе влияние Парижа. Такое намерение выражалось явно и недвусмысленно в годы правления генерала де Голля, когда страна вышла из НАТО и создала собственные независимые ядерные силы. И все же по окончании холодной войны и после воссоединения ситуация стала меняться, что довольно отчетливо проявилось в новом представлении Германии о себе самой.
Новое самоощущение
Было бы совершенно неверно утверждать, что страна полностью оторвалась от прошлого. В официальных и неофициальных кругах Германии нацизм и Холокост по-прежнему считают абсолютным злом, исключение составляет разве что кучка неформальных маргиналов. (Германия – одна из очень немногих стран, где отрицание Холокоста преследуется по закону и грозит тюремным сроком.) И все же немецкие ученые теперь утверждают, что и союзники по антигитлеровской коалиции были небезупречны. СССР сыграл определенную роль в развязывании Второй мировой войны, приняв участие в расчленении Польши. На совести Красной Армии – массовые изнасилования женщин и другие зверства. Ковровые бомбометания англо-американской авиации причинили смерть сотням тысяч, если не миллионам гражданских лиц, а после войны Советский Союз и другие европейские страны, исходя лишь из представления о «коллективной вине» всех немцев, поощряли этнические чистки, в результате которых миллионы изгнаны с насиженных столетиями земель. И в такой интерпретации Германия предстает в образе не только мясника и палача, но и жертвы. История Германии реабилитирована, и немецкое государство больше не ассоциируется исключительно с агрессией и репрессиями.
Об этом свидетельствует, например, восстановление доброго имени «Старого Фрица» – Фридриха Великого. Прусского короля почитал Гитлер, и по этой причине он какое-то время был отодвинут на периферию общественного дискурса. Но теперь Фридрих восстановлен в правах (вместе с Прусским государством) как внесший вклад в развитие немецкой экономики, общества и культуры. Новое представление Германии о себе все чаще связывают с ее более твердой позицией во взаимоотношениях с США. Во время войны с Сербией (1999) Германия всячески избегала непосредственной вовлеченности в события. Еще меньше она желала войны с Ираком. Наотрез отказалась участвовать в военной операции против Ливии. Когда разразился финансовый кризис, в Германии выросли протестные настроения против безответственного управления финансами со стороны американских властей.
Украинский конфликт продемонстрировал, несмотря на возмущение Берлина аннексией Крыма и снижение популярности России в германском общественном мнении, сохраняющуюся предрасположенность Германии к Москве, даже если это задевает Вашингтон. Недавние шпионские страсти служат этому подтверждением. «Германское правительство публично указало на дверь руководителю службы ЦРУ в Берлине, – писало популярное американское издание The Daily Beast – Его российскому коллеге не были предъявлены аналогичные требования, хотя было понятно, что Москва держит в Берлине достаточно сильный разведывательный аппарат». Это все больше огорчает Вашингтон, где даже звучат предположения о том, что Германия отдалилась «от Запада». Между прочим, автор статьи также намекал, что Германия, возможно, не является частью Запада… В последний раз подобные намеки делались в годы Первой мировой войны, век тому назад, когда немцев сравнивали с «гуннами» и азиатами, враждебными цивилизованному Западу.
В чем причина такого изменения во взаимоотношениях? Можно утверждать, что это объясняется эксцентричным поведением лидеров в Берлине и Вашингтоне, но причину стоит искать глубже: в усилении Германии. Между прочим, она становится ровней Соединенным Штатам, постепенно догоняя их по экономической мощи. То есть все больше превращается в соперника.
Усиление Германии и упадок США
Понадобилось несколько поколений, чтобы залечить раны, нанесенные Второй мировой войной. Когда же они наконец затянулись, Германия продолжала экономическую экспансию, а в Америке начался экономический упадок, ускорившийся в начале XXI века. Американские экономисты, конечно, не согласятся с такой терминологией, указав, что экономический рост в Соединенных Штатах просто не столь впечатляющий, как хотели бы американцы. Они готовы признать два крупных спада в экономике и сослаться на «Великую рецессию». Но все равно будут доказывать, что их экономика на подъеме и, невзирая на все проблемы, развивается значительно быстрее, чем почти застойная европейская, в том числе германская, ведь об этом напрямую свидетельствует американская статистика.
Однако можно вспомнить известную поговорку: «Есть ложь, большая ложь и статистика». Дело в том, что в американской статистике все отражается как ВНП (валовый национальный продукт). Финансовые спекуляции, растущие слои бюрократии или управляющего персонала – все это засчитывается как экономические показатели. Подобным не отличалась даже советская статистика. Конечно, Госкомстат СССР мог так или иначе фальсифицировать данные, играть с цифрами и т.д. Например, искажать фактическое производство стали. Но предметом советской статистики все-таки была реальная сталь, а не количество чиновников в Госплане или ЦК, и рост бюрократии никогда не считался индикатором развития экономики. Безусловно, в данном случае советские статистики отличались от американских в лучшую сторону. И если взглянуть на экономику США сквозь призму реального производства, отбросив «услуги», то окажется, что она не только не выросла за последние два поколения, но и фактически сократилась. Дело не просто в том, что доля Америки снижается в мировом промышленном производстве – промышленное производство сокращается и в абсолютном выражении.
Например, Соединенные Штаты производят меньше автомобилей, чем 30–40 лет назад. Критики могут возразить, что объем изготовления автомобилей не является критерием жизнеспособности экономики; автоиндустрия – пережиток экономики прошлого, скажут они, не определяющий экономическое здоровье нации. Можно было бы согласиться, что снижение производства некоторых товаров не означает отрицательных последствий для национальной экономики. Например, если в Евразии за 3 тыс. лет резко снизилось производство колесниц, это не указывает на экономический упадок в регионе просто потому, что никто ими не пользуется в XXI веке. Но автомобили – главное транспортное средство в Америке, поэтому снижение их выпуска – одно из важных свидетельств деиндустриализации, а значит и упадка. Если американская экономика неуклонно падает, в Германии дело обстоит совершенно иначе. Сравнительно небольшой рост валового продукта связан с реальным подъемом производства в Германии, а не с эфемерным сектором «услуг».
Существует еще один экономический аспект, который обычно игнорируется в Соединенных Штатах. Постоянно снижается качество большинства товаров. Новые изделия могут быть изящнее, им придается лучший вид и т.д., но работают они хуже, чем предыдущие модели. Американский автомобиль прошлых лет потреблял больше бензина и был внешне не таким привлекательным, как его современный аналог, но служил гораздо надежнее и дольше, чем современное авто. И, конечно, не случалось такого явления, как массовый отзыв бракованных и опасных машин, и вовсе не потому, что прежде автопроизводители меньше заботились о потребителях, просто в таких акциях не было особой нужды, так как автомобили были добротно сделаны и безопасны в эксплуатации.
Все эти проблемы американской экономики не свойственны Германии. Рост валового продукта – настоящий, он связан с реальным сектором, и при этом качество немецких товаров никогда не страдало. В результате немецкая экономика в реальном выражении может быть не намного меньше американской. Например, если доверять рейтингу Forbs, Германия производит в два раза больше автомобилей, чем США. По крайней мере основные немецкие автоконцерны явно не уступают крупнейшим американским. Все это вместе взятое – жизнеспособность экономики Германии в целом и качество немецких товаров – начинает создавать проблемы для Америки.
Второй фронт: Берлин против Вашингтона
Подъем Германии ведет к негативным последствиям для Соединенных Штатов. Во-первых, Германия стала серьезным конкурентом для американских товаров. По мере того как американская промышленность умирает, ее магнаты перекладывают ответственность на другие страны, применяющие «нечестные» методы, которые мешают процветанию отечественной индустрии. Шумиха вокруг «несправедливой» конкуренции и махинаций – излюбленная пища средств массовой информации. Основное внимание, конечно, уделяется Китаю, который, с точки зрения СМИ, повинен во многих незаконных операциях: Китай «крадет» американские технологии, рабочие места, манипулирует курсом национальной валюты и совершает другие аналогичные преступления, которые приводят к вытеснению фирменного знака «Сделано в США» лейблом «Сделано в Китае». Эта история хорошо известна. Однако существует и другой фронт: американская промышленность оказывается под прессингом не только Востока, но и Запада, а именно Германии.
Казалось бы, «западный фронт» не должен представлять угрозы американской промышленности – просто потому, что немецкие изделия, например автомобили, оцениваемые в евро, должны считаться непозволительной роскошью. Вместе с тем по причине превосходного качества немецкие машины начали конкурировать на американском рынке с автомобилями отечественного производства. То же касается других товаров из Германии. Не так давно канцлер Меркель выразила неудовольствие заградительными пошлинами, которые препятствуют проникновению немецких товаров на американский рынок и справедливой конкуренции. Несколько месяцев назад газета The New York Times рассказала о том, как автомобили из Германии попадают в Новый Свет. Перед доставкой в США их разбирают на запчасти, а по прибытии в порты назначения снова собирают на американском конвейере. Таким образом, местные трудящиеся вносят какую-то толику своего труда, и автомобили могут частично считаться местными. По мнению автора этих строк, такого сюрреалистического способа доставки можно было бы избежать; гораздо дешевле и удобнее поставлять машины напрямую в собранном виде. Однако это приведет к протестам американских производителей, которые боятся немецкой конкуренции.
И все же конкуренция – не основная проблема. Вторая и главная причина нервозности заключается в том, что Германия расширяет влияние в Восточной Европе.
Восточная Европа и «Четвертый рейх»
Большинство жителей Восточной Европы ликовали после краха Советской империи, видя в нем конец российского влияния. В этой части мира, особенно в странах, которые веками конфликтовали с Россией, не находили особой разницы между ее царской и советской ипостасями. Подобно населению большей части постсоветского пространства, массы жителей Восточной Европы считали, что все их проблемы связаны со злокозненностью и влиянием тех, кого они считали своими «азиатскими» соседями. Они верили, что освобождение от России, рыночный капитализм, а также помощь и руководство США превратят их в процветающие нации. Их преданность новому вашингтонскому патрону была поистине безграничной. Неудивительно, что Дональд Рамсфельд, министр обороны в администрации Джорджа Буша, противопоставлял «новую Европу» маргинальной «старой Европе», отживающей свой век и не желающей безоговорочно принимать американское лидерство.
Но вскоре восточноевропейские страны пережили горькое разочарование. Американские рецепты быстро разрушили их экономику, и уровень жизни во многих странах резко упал. Сказать по правде, государства Восточной Европы не питают особого пиетета и к Германии. Тем не менее только Берлин оказал им финансовую помощь, и они нехотя согласились с ростом его мощи. Это едва ли могло порадовать США, так как в таком контексте влияние Берлина не усиливало влияние Вашингтона, а, по сути, конкурировало с ним.
Германская геополитика и Россия
Недавняя размолвка по поводу стандартов слежки – не результат повышенной щепетильности Меркель или особой наглости Обамы. Причины охлаждения между Берлином и Вашингтоном лежат гораздо глубже, и они не исчезнут после смены политического руководства в двух странах. Германия и Восточная Европа могли бы снова сблизиться с США только в случае видимой военной угрозы – например, прямого российского вторжения на Украину. Можно даже предположить, что это на самом деле вполне соответствует пожеланиям Белого дома, поскольку представляется единственным способом укрепления трансатлантических связей и поощрения европейцев к увеличению расходов на оборону в то время, когда средства Вашингтона быстро тают. Отсутствие же резких изменений такого рода может иметь следствием усугубление отчуждения между Германией и Соединенными Штатами, которое Москва могла бы эксплуатировать к собственной выгоде.
Конечно, надо быть реалистом. Германия не «разведется» с США и не бросится в объятия России, пытаясь обновить ось Берлин–Москва, о чем мечтают некоторые романтики из числа российских геополитиков-националистов, борцов с атлантизмом. Вместе с тем моногамные отношения между Вашингтоном и Берлином могут в недалеком будущем трансформироваться в своеобразную «любовь втроем». Москве по силам найти место в этом треугольнике, разделяя влияние и, возможно, даже какую-то форму господства на пространстве Центральной и Восточной Европы. Не исключено, что и Украина могла бы оказаться под влиянием этого трио или даже дуэта, поскольку в долгосрочной перспективе только Берлин со своими финансовыми возможностями и Москва со своим газом способны помочь Киеву не попасть из одного экономического и политического кризиса в другой.

Россия – США: долгое противостояние?
Что обещает конфликт вокруг Украины
Сергей Караганов — политолог, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, председатель редакционного совета журнала "Россия в глобальной политике". Декан Факультета мировой политики и экономики НИУ ВШЭ.
Резюме Ставка Соединенных Штатов в ситуации вокруг Украины – падающая репутация лидера, риск еще одного унизительного поражения. Тем более что Россия выступает в качестве символа поднимающегося и становящегося все более антизападным «не-Запада».
Российско-американские отношения вступили, видимо, в долгий период не просто острого соперничества, но конфронтации. К такому неприятному выводу подталкивает не только объективная динамика отношений, которые уже к 2012–2013 гг. находились в состоянии тяжелого взаимного раздражения, но и анализ сегодняшних интересов элит двух стран. Придется жить в новой реальности. Важно, чтобы конфронтация не переросла в прямое военное столкновение, которое, как мы привыкли считать со времени прошлого тура противостояния – холодной войны 1945–1991 гг., – может угрожать существованию человечества.
Арьергардные бои Америки
Сначала о Соединенных Штатах. Одержав, как казалось, победу в холодной войне и почти воплотив мечту о Pax Americana, на этот раз в форме мира однополярного, американская правящая элита поверила в свою звезду, попыталась закрепить победу и даже расширить этот мир, в том числе с помощью военной силы. Первая попытка в Югославии, которую разбомбили, удалась. Но в Ираке, Афганистане, а затем и Ливии американцы и их союзники потерпели политические поражения. Они обесценили триллионные вложения в военную мощь, еще больше увеличив дефицит бюджета и ускорив рост государственного долга. Кризис 2008– 2009 гг., во многом не закончившийся до сих пор, нанес еще один чувствительный удар. Обрушилась вера в либеральную модель экономического развития, основанную на Вашингтонском консенсусе и ассоциирующуюся с США. А внутриполитический кризис – раскол американской элиты – выявил неэффективность в новых условиях политической модели. К тому же подорвал «мягкую силу» – способность Соединенных Штатов давать пример, которому готовы добровольно следовать другие страны.
Политическая дисфункция подспудно, а с годами все очевиднее, подрывает экономическую мощь, основа которой – не только передовая экономика, но и уникальные позиции доллара. Ведь авторитет доллара зиждился, в свою очередь, на двух китах – силе экономики и доверии к стабильности политической системы.
И все эти провалы происходят на фоне резкого подъема «новых», прежде всего Китая, который стал очевиден с начала 2000-х годов. А также своего рода «энергетической революции», произошедшей к концу предыдущего века. За короткий период владение большей частью энергетических ресурсов перешло от преимущественно частных западных корпораций к госкомпаниям добывающих государств. А эти корпорации остались на экономически по-прежнему выгодных, но политически резко ослабленных позициях. И хотя для Америки ситуация в области энергетики ко второму десятилетию XXI века стала меняться к лучшему (благодаря буму добычи сланцевого газа и нефти США приблизились к энергетической независимости), возможностей для использования энергетики как политического инструмента куда меньше, чем раньше.
За десять лет с начала 2000-х гг. мировые позиции Соединенных Штатов почти обрушились. Особенно учитывая ту вершину, на которую их подняло самомнение самих американцев и глупость или слабость остальных, поддакивавших мифу об однополярном мире. К концу минувшего десятилетия в ответственных кругах американской элиты сложилось мнение, что США должны обрубить лишние внешние обязательства и заняться внутренним возрождением. Именно в этом и состоял подход Барака Обамы. Но результатом стал еще больший раскол, граничащий с ненавистью со стороны консервативных и мессианских сил. К тому же болезни страны, которые унаследовал ее нынешний президент, так тяжелы, что с трудом поддаются лечению, даже если бы Белый дом проводил более решительную политику. Успехи, которых Обама добился в возобновлении промышленного роста, в энергетике и социальной сфере, его противниками с остервенением отрицаются. И весьма вероятно, что на смену нынешней администрации придет по-настоящему реваншистская команда.
Ситуация удивительно напоминает конец 1970-х гг., когда после поражения во Вьетнаме, нефтяного кризиса, Уотергейта к власти пришел «слабый» Джеймс Картер, но ему на смену американская элита быстро выдвинула решительного Рональда Рейгана. Правда, теперь мир кардинально изменился, и старые экономические рецепты не работают. Поэтому реванш, если попытка его состоится, будет, скорее всего, неудачным. Но он не станет от этого менее опасным. Может быть и более. Кроме того, подобная траектория развития не сулит нормализации российско-американских отношений.
Пока же, привычно провозглашая политику, нацеленную на поддержание мира и стабильности, пусть и в проамериканском духе, Соединенные Штаты де-факто переходят к линии на дестабилизацию ключевых регионов мира. Это существенное, если не кардинальное изменение внешнеполитического поведения. Уверен, для большинства членов американского истеблишмента даже подозрение, что США придерживаются курса на дестабилизацию, покажутся оскорбительными. Но де-факто он проводится. Может быть, «так получается», либо к этому сознательно или полусознательно ведут дело, чтобы ослабить конкурентов, создать условия для возвращения в будущем. Уничтожен Ирак, развалена Ливия, настает черед Афганистана. Продолжаются попытки расчленить Сирию. Отчаянная по неразумности поддержка «арабской весны», которая диктовалась совсем призрачной надеждой на укрепление позиций западной демократии в мире, обернулась ослаблением в основном проамериканских режимов. Ближний Восток стал качественно менее стабильным.
Вашингтон довольно искусно поддерживает напряженность вокруг Китая, мешая ему расширить периметр безопасности и поддерживая все страны, у которых с КНР есть территориальные конфликты. Правда, стравить Дели с Пекином не удается. И дело, похоже, идет к масштабному урегулированию отношений между двумя странами. Политика поддержания контролируемой напряженности проявляется и в потере Вашингтоном интереса к шестисторонним переговорам по северокорейской ядерной программе. Похоже, США устраивает ситуация, когда Пхеньян угрожает соседям, делая их более зависимыми от американских гарантий и создавая предлог для наращивания в регионе присутствия Соединенных Штатов.
Арьергардная стратегия оставления за собой зоны нестабильности и потенциальной зависимости как нельзя более ярко проявилась в провоцировании кризиса вокруг Украины и в его последующем раздувании. В целом складывается впечатление, что США из основы миропорядка и стабильности превращается в главного «спойлера», разрушителя. А задачей мирового сообщества и России становится предлагавшееся Западом управление не столько «подъемом новых», сколько ослаблением старых.
Угроза вместо обновления
Россия же, сжигаемая комплексами от собственных унижений прошлых лет, по-прежнему борясь с остаточным (конечно, весомым) доминированием Соединенных Штатов, упустила возможности договориться в минуту американской конструктивности. Над российским руководством довлел не только унаследованный от холодной войны антиамериканизм, но и опыт последних двадцати пяти лет. Возможно, шансов на нормальное отношение с российской стороны не было уже после бомбардировок Югославии, ужаснувших даже большинство прозападных членов российской элиты. Но Владимир Путин попробовал еще раз после террористической атаки на США. Не получилось. Последовали следующая волна расширения НАТО, выход Соединенных Штатов из договора по ПРО. В отношении нашей страны, не признававшей себя проигравшей, проводилась политика победителей, нарочито не учитывавших ее мнений, системно наступавших на сферы ее жизненных интересов. Расширяли свою зону военно-политического и экономического контроля и влияния, твердя о том, что концепция сфер интересов якобы устарела. В России это считали лицемерием, если не откровенной ложью. По сути, второй раз за сто лет проводилась «версальская политика». На этот раз более мягкая, чем в отношении Германии после Первой мировой войны. Ну и результат пока помягче. Но подобие «веймарского синдрома», который когда-то привел униженную Германию к фашизму и попытке реванша, все равно возникало. Его приходилось лечить, воюя в Чечне, с Грузией, потом забирая Крым.
Особенного желания попробовать снова с Обамой не было. И остатки таких намерений улетучились после Ливии, когда НАТО, вопреки полученному от ООН мандату, пошла на прямую поддержку свержения правившего режима, что обрушило страну в пучину дезинтеграции всего и вся.
Ошибкой была и перезагрузка. В ее основе лежала искусственная, ненужная никому повестка дня, унаследованная от прошлого (сокращение стратегических наступательных вооружений). В то же время игнорировались вопросы, важные для обеих сторон – дестабилизация расширенного Ближнего Востока и главное – судьба постсоветского пространства. Не была перезагрузка и нацеленной в будущее – на налаживание взаимодействия по вопросам перспективной повестки дня: климат, новая ситуация в Азии, Арктика и т.д.
Результат – отсутствие позитивного баланса во взаимоотношениях, простор для тех сил, которые хотели возвращения к конфронтации, взаимное безразличие, непонимание и раздражение.
И в итоге Россия выстраивала стратегию на противостоянии Америке, не используя новые перспективы, которые, возможно, предоставляла слабость США. В результате Москва нарвалась на арьергардный бой со все еще сильным противником. Можно ли было добиться своих целей в кризисе вокруг Украины без прямой конфронтации – вопрос бессмысленный. Она началась.
Россия из нее выходить пока, видимо, не будет. Во-первых, потому что Москва в ней, похоже, заинтересована. Не сумев выработать и претворить в жизнь убедительную и действенную концепцию развития, поболтав впустую о «модернизации», российская элита частью осознанно, частью бессознательно стала искать оправдания своему бездействию. И обратилась к идее внешней угрозы, всегда спасавшей страну, которая тысячелетия строилась вокруг обороны. Угрозу исправно накачивали. Затем она появилась – начался уже и настоящий кризис. Но мобилизации на цели национального развития пока не произошло. Придется «подкачивать» одну только угрозу.
Теперь шансы на быстрый выход из клинча невелики. Возможность крутого пируэта теоретически есть всегда. Обаме нечего бояться выборов, Путин – силен внутри страны. Но баланс интересов и взаимное раздражение мешают поиску компромисса. Скорее возможна эскалация конфронтации. Вплоть до силовых столкновений.
Ставки велики
Для США на кону – падающая репутация лидера, риск еще одного унизительного поражения. Ставки высоки еще и потому, что Россия выступает как символ поднимающегося и становящегося все более антизападным «не-Запада». Бьются с Россией, но хотят припугнуть Китай, Индию, Бразилию. Не осадить Россию – означает де-факто признать поражение того миропорядка, который «победивший» Запад строил более двадцати лет после окончания холодной войны. Подстегивает и ощущение, частично ложное, подпитанное собственными пропагандистами, что Россия – «колосс на глиняных ногах», можно попытаться добить ее.
И Соединенные Штаты действительно пустились во все тяжкие. Не только отброшены все приличия в информационной войне, проводится открыто враждебная политика, пущено в ход обоюдоострое оружие, подрывающее тенденцию к экономической глобализации, – исключение из платежных систем Visa, MasterCard, угрозы обрубить России системы банковских платежей SWIFT, личные санкции против представителей политической элиты. Эти меры не только наносят ущерб России, но и подрывают систему американского влияния, которой пользовались все, но которая была выгоднее более всего американцам – современную финансовую систему, модель свободной торговли. Колокол по ВТО звучит все громче.
Если Россия выстоит, то через 5–10 лет эти важнейшие основы американского влияния ослабеют. Появятся запасные банковские платежные и финансовые системы, неамериканские международные банки, новые финансовые центры и резервные валюты, взаиморасчеты в национальных валютах, все более вероятно бегство от доллара. Усилится тенденция к созданию торгово-экономических группировок вне ВТО.
Для Москвы ставки еще выше. Проиграть в этой конфронтации означает потерпеть реальное – на десятилетия – поражение. Будут подорваны надежды большинства элиты на возрождение России как великой державы и мощного, самостоятельного центра мировой экономики и политики. И, может быть, главное для сегодняшней Москвы – качественно ослабнет легитимность и поддержка правящего режима, зиждущаяся все больше не на успехах в экономической сфере, а на возрождении чувства национальной гордости и присущей большинству россиян веры, что «мы живем в великой державе».
Вашингтон на Украине отступать, видимо, не хочет. Хотя выигрыш – перетягивание страны на западную орбиту, видимо, недостижим, учитывая состояние экономики, государства и общества. Игра будет вестись за достижение негативных целей – недопущение попадания Украины под влияние России, поддержание раскола Европы и все более очевидно – ослабления самой России и даже уже почти не скрываемое желание свалить правящий в ней режим и лично президента Путина. Будут пытаться втянуть Россию в полномасштабный конфликт с Украиной, в Афганистан-2. Себестоимость же такой политики пока невелика. Она ведет к опасному для США сближению России и Китая, но большая ее часть перекладывается на Европу, Россию и, конечно, на многострадальный народ Украины, брошенный в топку новой холодной войны.
Сценарий, который разыгрывают Соединенные Штаты, напоминает трагифарс, он похож на снятый с пыльной полки план борьбы Рейгана против «империи зла», только вместо организации восстания в Польше – Украина, вместо южнокорейского «Боинга» – малайзийский. Те же попытки сбить цену на нефть, не допустить строительства новых энергопроводов, связывающих Россию и Европу, тот же, если не худший, накал риторики. Только лжи со всех сторон еще больше.
Российская элита пока в относительном выигрыше. Присоединен Крым, произошла возгонка национальной гордости и самоуважения, страна объединилась вокруг руководства, резко возросла популярность президента. Нанесено чувствительное поражение политике экспансии Запада. Ускорен, хотя и неизвестно насколько необратимо, процесс перехода мира от доминирования Запада к более равноправному и выгодному не-Западу миропорядку. Но, проиграв первый тур, когда Россия перевела почти подспудное мягкое соперничество в соревнование жесткой силы и воли, США и ориентирующиеся на них европейцы пытаются перенести борьбу в сферы, где они сильнее – экономическое давление, информационное противостояние.
За первоначальный успех Россия платит ухудшением экономического климата и имиджа на Западе. Который, впрочем, Кремль уже не беспокоит. К тому же компенсируется ростом уважения не-Запада. Но это ухудшение болезненно для части значимых российских элит, привычно западно-ориентированных. Еще одна цена – надеюсь, обратимая, – замедление из-за отвлечения внимания давно перезревшей экономической переориентации на Азию через ускоренный подъем Сибири и Дальнего Востока. А отвлечение России от поворота на Восток остается одной из целей политики и американцев, и европейцев. Ведь такой поворот усиливал бы российские позиции в торге на Западе (появляется альтернатива, которой, как утверждалось еще недавно, у России нет и быть не должно) и укреплял бы не только Китай, но предоставлял бы большее поле для маневра союзникам Соединенных Штатов в Азии, уменьшая их зависимость от американских гарантий.
Возможностей нанесения прямого ущерба соперникам у России гораздо меньше. Поэтому помимо полусимволического эмбарго на ввоз части сельхозпродукции российская стратегия объективно смещается к ориентации на экономический и политический развал Украины. Возможно, в надежде, что Запад (Европа) одумается и отступит.
Результат неутешителен для жителей этой страны. Сначала Запад превратил её в «пушечное мясо» геополитической борьбы, подтолкнув к экономически бессмысленной, но вызывавшей жесткое противодействие России ассоциации с ЕС. Москва, по всей видимости, будет теперь «валить» Украину, чтобы «наказать» Запад, продемонстрировать его бессилие. Опасность и в том, что ограниченность возможностей в экономической, финансовой и информационной сферах опять же объективно будет толкать в большей мере к военной силе. А там недалеко и до поигрывания ядерными мышцами. Тем более что масштабные учения стратегических ядерных сил Россия в начале украинского кризиса уже проводила. И политика Запада выглядит чуть ли не тотально враждебной. Хочу ошибаться.
Контуры компромисса
Есть ли выход? Близкого не вижу. Исключить худшего варианта не могу. Недоверие зашкаливает. «Черные лебеди» – непредвиденные катастрофы или провокации типа уничтожения малайзийского «Боинга» – могут начать летать стаями.
Но выход, наверное, есть. Внутри России – это мобилизация общества на ударные экономические реформы, на подъем востока страны. О необходимости концентрации на внутреннем развитии сказал, наконец, Владимир Путин в Крыму в августе 2014 года. Такой стратегии будет мешать бесконечная конфронтация. Хотя пока «враждебное окружение», частично созданное нами самими, можно было бы использовать для запуска реформ. В дипломатии – во-первых, избежание большой войны на Украине или прямого российского столкновения с Западом, во-вторых – поиск долгосрочного компромисса и урегулирования, возможно, через краткосрочное повышение ставок.
Несмотря на острое неприятие нынешней западной политики и некоторых ценностных тенденций, ненависть и презрение не должны определять поведение. Даже если Россия «победит» – США вползут еще в один кризис, а ЕС, что, в принципе, вероятно, начнет всерьез трещать по швам, ситуация для нашей страны может оказаться не менее сложной и опасной. Падающий противник в новом сверхвзаимозависимом мире так же опасен, как противник наступающий.
Нужно искать возможности урегулирования – лучше зафиксированный договором новый статус-кво в Европе. Территория, являющаяся ныне Украиной, либо делится, либо, что предпочтительнее, становится зоной совместного развития. К этой же категории относятся и другие страны, за которые ведется борьба. Пытаться договариваться будет трудно. Соединенные Штаты, видимо, пока не заинтересованы в урегулировании. Украина несамостоятельна и теряет управляемость. Неизвестно, смогут ли Германия и другие европейские страны, выступавшие за тесные связи с Россией, взять инициативу в свои руки. Пока они потеряли инициативу и доверие. Хотя украинская ситуация, угрожающая обрушить мирный порядок, на котором зиждется благополучие и влияние Европы, для европейцев больший вызов, чем для США.
России нужен мир на Западе. Европейцам – мир на востоке Европы. Обоим игрокам угрожает маргинализация, если они не сумеют преодолеть раскол и объединить потенциалы и усилия.
Контуры компромисса нащупать в принципе можно. Вечный нейтралитет Украины, закрепленный в Конституции и гарантированный внешними державами. Значительная культурная автономия для Востока и Юго-Востока Украины. Экономическая открытость Украины и на Восток, и на Запад (в идеале – компромисс, позволяющий Киеву быть и в ассоциации с ЕС, и в Таможенном союзе). Согласие России и Германии совместно поддерживать экономическое развитие Украины. Прекращение всеми сторонами, включая Россию, поддержки сторон гражданской войны и призыв к участникам отказаться от силовых действий. Вывоз беженцев и бойцов сопротивления. Взаимное прекращение санкций и контрсанкций.
Пока до этого далеко. Но другого решения, видимо, нет. Альтернатива – вялотекущая гражданская война в центре Европы с нарастанием угрозы катастроф (на Украине 15 ядерных реакторов), десятилетия несчастья для украинского народа, гибель десятков и сотен тысяч людей – не только в конфликтах, но и из-за деградации систем жизнеобеспечения, здравоохранения.
Подобные предложения, разумеется, с уклоном в сторону своих интересов и идеологии, выдвигаются и на Западе. Остается надеяться, что дипломатии будет дан шанс до того, как этот кризис обострится до следующего уровня, и в Европе снова будет спровоцирована война.
Но в любом случае складывать все яйца в европейскую корзину уже нельзя. Поэтому параллельно с попытками договориться на Западе нужно, повторюсь, удесятерить усилия по новому освоению Сибири, по выстраиванию новой азиатской экономической и политической дипломатии. Требуется активизация ШОС, ее конвергенция с Евразийским экономическим союзом, ОДКБ, китайской идеей «нового шелкового пути» (к чему Пекин вроде бы склоняется), южнокорейским проектом «евразийского сообщества», со сближением с будущим лидером Центральной Азии – Ираном. Такой поворот будет нелегким для российской европоцентричной элиты. Но попытка интеграции с Западом не удалась. Отказываться от Европы, от своих европейских корней опасно для русской идентичности, для развития России. А не использовать образующиеся на Востоке возможности бесхозяйственно и опасно.
Ну а через четыре, шесть, восемь лет возможно и новое (на новых условиях) сближение с Соединенными Штатами. И уж тем более с Европой. Оно объективно, как говорили в недавнюю старину, отвечает и интересам сторон, и интересам всего мира.

Отложенный полицентризм
Американские споры о мировом порядке
А.П. Цыганков – профессор международных отношений и политических наук Университета Сан-Франциско.
Резюме Успехи российской политики будут связаны с гибким отстаиванием национальных интересов, а не фронтальным столкновением с агрессивными и сильными державами, главной из которых являются сегодня Соединенные Штаты.
Несмотря на относительный упадок США, подъем Китая и других стран БРИКС, американское политическое и академическое сообщество убеждено, что в обозримой перспективе Соединенные Штаты сохранят мировое лидерство. Ожидания России, что Америка постепенно воспримет международные изменения в сторону многополярности и полицентризма, пока не оправдываются.
Мировой порядок и американская мысль: глобалисты против изоляционистов
Со времени окончания Второй мировой войны в американском интеллектуально-политическом сообществе активно обсуждаются вопросы стабилизации международного порядка и роли США. По мере выдвижения на первый план новых проблем формируются различные группы сторонников укрепления или, наоборот, ослабления американского участия в управлении миром. Аргументация глобалистов и изоляционистов меняется сообразно времени.
Распад биполярной системы обнажил имеющуюся в американских университетах и мозговых трестах тенденцию подстраивать под себя остальную часть мира. Эпоха противостояния с СССР ее маскировала, выдвигая на первый план практические императивы выживания и контроля вооружений. Крах Советского Союза поставил Америку и ее интеллектуальное сообщество в новые условия. Подавляющее большинство его представителей убеждены в прогрессивности американской гегемонии и «империи», а в академической науке заметно стремление обосновать важность глобализации с американским лицом, альтернативой которой видится глобальная неуправляемость. Реалисты, или теоретики баланса власти в мировой политике, выдвинули теорию стабильности однополярного мира. Либералы привычно настаивают на необходимости глобального распространения американских идеалов демократии и рыночной экономики. А так называемые конструктивисты отстаивают концепции глобального изоморфизма культурных норм, возникших в глубинах западной цивилизации.
Глобалистам традиционно оппонировали сторонники снижения роли Соединенных Штатов в мире, или изоляционисты. Уже со второй половины 1970-х – начала 1980-х гг. в американском интеллектуально-политическом сообществе обнаружились критики доминирования США. Среди них были как левые, формировавшие свои взгляды во многом под влиянием теории Иммануила Валлерстайна о капиталистической «мир-системе», так и сторонники снижения американского глобального участия в целях национальной безопасности. Последние, подобно йельскому историку Полу Кеннеди, говорили о «перенапряжении» (overstretch) великих держав, которое они связывали с нарастанием процессов международной дестабилизации и последующим ослаблением государств, находившихся в центре мировой системы. В 1990-е гг. спор глобалистов и изоляционистов вылился в полярно-противоположные позиции Фрэнсиса Фукуямы и Сэмюэля Хантингтона. Если первый постулировал триумф либеральной демократии американского образца, то второй предупреждал Америку об иллюзиях универсальности ее ценностей и опасностях подъема альтернативных западным цивилизаций.
И хотя глобалисты традиционно пользовались гораздо большим влиянием в обществе, вторая половина 2000-х гг. способствовала укреплению изоляционистов. Причиной тому стало нарастание мировой нестабильности и общего восприятия за пределами западного мира роли Америки как деструктивной, а не конструктивной силы в глобальном управлении. Мировой финансовый кризис, начавшийся со скандалов на Уолл-стрит, поражения внешней политики Вашингтона в Афганистане и Ираке, а также заметный экономический подъем Китая и других незападных держав стимулировали развитие критической мысли.
Аргументы изоляционистов
Сегодня, как и ранее, умеренных и радикально-изоляционистских взглядов придерживаются аналитики различных идеологических ориентаций – как левые, так и консервативные. К первым относятся, например, сторонники критических теорий международных отношений, ратующие за радикальные изменения в мире и подвергающие критике не только внешнюю политику США, но и сами базовые понятия современности, такие как государственный суверенитет, капитализм и либеральная демократия. Ко вторым принадлежат те, кто вслед за Хантингтоном желали бы укрепления американских ценностей внутри страны, а не за ее пределами.
Но более других влиятельны реалисты, традиционно выступавшие критиками экспансионистских и глобалистских амбиций американской политической элиты. Представители этого лагеря обрели влияние со времени, когда бежавший из нацистской Германии Ханс Моргентау выдвинулся в число наиболее значительных теоретиков международных отношений и сформулировал основные принципы дипломатии в книгах, по которым училось несколько поколений американского истеблишмента. Однако Моргентау известен и в качестве непримиримого критика американской войны во Вьетнаме, осудившего США как действовавших вопреки собственным национальным интересам.
Подобно Моргентау, современные реалисты резко критикуют американскую внешнюю политику как подрывающую интересы государства. Влиятельность ряда представителей академического реализма, таких как Кеннет Уолтц, Джон Миршаймер, Роберт Арт, Барри Позен, Стивен Уолт и другие связана с уже упомянутым значительным местом реалистского мышления в истеблишменте, а также участием его адептов в экспертно-аналитической деятельности и относительной консолидированностью их позиции. Примером последней может служить появление в The New York Times в сентябре 2002 г. аргументированной критики вторжения Соединенных Штатов в Ирак за подписью тридцати трех ведущих реалистов.
Позицию реалистов следует обозначить как умеренный изоляционизм. Никто из них не отрицает необходимости глобальной вовлеченности США в реагирование на важнейшие угрозы национальной безопасности, связанные с терроризмом, распространением ядерного оружия и региональной нестабильностью. Но они исходят из невозможности продолжать управление миром в прежних имперских формах, в первую очередь из-за ограниченности материально-экономических ресурсов страны. В различных формах на ресурсную ограниченность указывает аргументация Фарида Закария о возникновении «постамериканского» мира, Кристофера Лэйна, Роберта Пэйпа, Эндрю Басевича и других. В этом вопросе с реалистами солидарны как левые, так и консервативные изоляционисты, которые давно говорили о проблеме гигантского внешнего долга и экономической переориентации страны на глобальное производство, сопряженной с серьезными национальными рисками.
В качестве альтернативы реалисты-изоляционисты предлагают концепцию ограниченного участия в мировом управлении, которую одни именуют избирательной вовлеченностью (Роберт Арт), а другие – офшорным балансированием (Джон Миршаймер, Стивен Уолт). Следует не препятствовать подъему региональных держав, а управлять их руками. Это должны быть государства, у которых сложились прочные отношения с Америкой и чьи интересы не входят в противоречие с американскими. Например, на Ближнем Востоке это Турция и Израиль. При этом многие реалисты выступают против чрезмерной военной и политической поддержки Израиля как противоречащей американским задачам. Миршаймер и Уолт опубликовали нашумевшую книгу о неблаговидной роли «израильского лобби» во внешней политике. Национальные интересы они связывают с поддержанием региональной стабильности, противодействием терроризму и ядерному распространению, но не с распространением демократии в мире.
В связи с этим, а также с тем, что большинство представителей данного лагеря воспринимают в качестве стратегического противника Китай, некоторые желали бы видеть главным партнером в Евразии Россию (на это в свое время намекал и Хантингтон). Многие реалисты против расширения НАТО и с пониманием относятся к критической позиции России по этому вопросу. Ряд реалистов, а также изоляционистов левой и консервативной ориентации, жестко критиковали интервенционистскую роль США в евразийском регионе и позицию в «цветных революциях» в Грузии и Украине. С такой критикой выступали на страницах ведущих изданий Стивен Коэн, Пэт Бьюкэнен, Дмитрий Саймс, Стивен Уолт, Джон Миршаймер и многие другие. Следует заметить, что как у левых, так и у реалистов-изоляционистов имеются свои, влиятельные издания, такие как Nation и National Interest. Вообще изоляционисты менее других склонны воспринимать российские амбиции как глобально-ревизионистские и более других считают возможным заключать с Москвой взаимоприемлемые соглашения.
Иное дело – Китай. Считая Пекин главным вызовом американской безопасности, большинство представителей данного лагеря предупреждают о возникновении новых, все более острых кризисов в отношениях двух стран. Наиболее пессимистично настроен Миршаймер, недавно предрекавший в своей книге «Трагедия великих держав» неизбежность американо-китайской войны.
Он же предложил теоретическое обоснование умеренно-изоляционистской внешней политики, показав на большом историческом материале опасность великодержавных амбиций и отвергнув понятие однополярности как не имеющее исторических прецедентов. По убеждению Миршаймера, любое возвышение одной из держав является временным, оно неизбежно вызовет противодействие остальных. Современное же состояние американской гегемонии не может продлиться долго. Сдерживание амбиций США уже началось, и главный вопрос заключается в том, примет ли оно мирные формы или же завершится войной. Мы вступили, считает ученый, в наиболее опасный период развития мировой системы, который он называет «несбалансированной многополярностью».
Ответ глобалистов
Пестрый лагерь глобалистов объединяет убежденность в необходимости сохранения американского лидерства и масштабного военно-политического влияния Соединенных Штатов в мире. Наиболее заметны здесь позиции реалистов и либералов-институционалистов, которые частично разделяют взгляды друг друга и даже выступают с совместными публикациями. Примером может служить статья «Не возвращайся домой, Америка», опубликованная в ведущем академическом журнале реалистской направленности International Security за авторством Стивена Брукса, Джона Айкенберри и Уильяма Вулфора. Брукс и Вулфор известны как реалисты и авторы теории стабильности однополярного мира, в то время как Айкенберри – институционалист, защищающий важность упрочения мировых политических организаций при ведущей роли США. Другой пример синтеза реалистско-либеральных воззрений – позиция теоретика «мягкой силы» Джозефа Ная, выступающего за глобальное распространение ценностей плюралистической демократии и рыночной экономики не ради «эфемерной популярности», а в качестве «средства достижения желаемых Соединенными Штатами результатов».
Сначала о реалистах-глобалистах, взгляды которых в последние годы претерпели некоторые важные изменения. С 2000-х гг. ряд реалистов, подобно Вулфору, включились в обоснование теории стабильности однополярного мира. Их аргументация сводилась к тому, что в силу огромного, исторически беспрецедентного разрыва между военно-экономическим потенциалом США и остальных крупных держав всякое сдерживание «гегемона» утрачивает смысл как слишком дорогостоящее. Вместо этого игроки мировой политики будут стремиться к получению выгод, укрепляя взаимодействие с центром. Последний же сможет воспользоваться своим доминирующим положением для поддержания мира, стабильности и экономической открытости. В связи с этим в упомянутой статье Брукс, Айкенберри и Вулфор отстаивают стратегию «глубокой вовлеченности» во всех основных регионах мира.
Эта благостная картина подверглась изменениям под влиянием военных и экономических поражений Соединенных Штатов конца 2000-х – начала 2010-х годов. Так, некоторые из реалистов перестали настаивать на мирном характере однополярности, доказывая неизбежность противоречий между доминирующим полюсом и остальными державами, а также нарастание асимметричных и периферийных конфликтов с участием крупных региональных держав. По этому пути пошел Нуно Монтейро, ученик Миршаймера, поставивший перед собой задачу сформулировать полноценную теорию однополярной политики. Монтейро убежден в возможности и необходимости однополярности, однако, не считая систему способной гарантировать мир, он полагает оптимальной для США стратегию оборонительного приспособления (defensive accommodation), а не всестороннего доминирования. По его мнению, однополярность будет отвечать интересам Соединенных Штатов, если они будут стремиться к военно-стратегическому поддержанию статус-кво и постепенному вовлечению остальных государств в глобальное экономическое сотрудничество. Офшорное балансирование не решает проблем, поскольку ни Япония, ни Южная Корея не смогут самостоятельно сдерживать амбиции Китая. США необходимо быть готовыми к прямому, хотя и частичному участию в периферийных конфликтах.
С похожих позиций выступают и представители консервативного истеблишмента. В отличие от реалистов, консерваторы настаивают на распространении демократии как отвечающей американским интересам и ценностям (в этом они сходятся с Наем и другими представителями либеральных теорий). Однако, в отличие от либералов, считают непременным условием успеха расширения свободы сохранение за США глобального военного превосходства и готовности использовать силу. Здесь, впрочем, тоже есть сдвиги. Характерна, например, позиция Генри Нау, придерживающегося консервативного интернационализма. Отмежевавшись от устремлений Буша-младшего насадить демократию во всем мире, Нау призывает «фильтровать» цели Америки сообразно возможностям. Кроме того, он считает ошибочным нежелание Буша и Обамы вступать в переговоры с Россией и другими странами-«диктаторами» и «агрессорами». На смену санкциям и односторонним угрозам должны прийти переговоры и возможность предложить противоположной стороне выгодные для нее экономические и политические условия. Однако такого рода переговоры должны проводиться только с позиции силы, вплоть до возможности использования ресурсов НАТО против агрессора и необходимости дальнейшего расширения и укрепления военного альянса.
Наконец, в американском истеблишменте по-прежнему сильны либералы-демократизаторы и сторонники укрепления международных экономических институтов. Как первые, так и вторые обильно представлены в администрации президента Барака Обамы. В частности, Госдепартамент продолжает исходить из необходимости и даже неизбежности распространения демократических ценностей в мире, по возможности без применения военной силы. При всех отличиях взгляды Хиллари Клинтон, Виктории Нуланд и Джона Керри в данном отношении весьма схожи. В экспертно-академическом сообществе подобные идеи отстаивают Най и другие сторонники «мягкой силы», а также приверженцы теории демократического мира, согласно которой демократии не вступают в вооруженные конфликты друг с другом. Популярны и либерально-конструктивистские теории, изучающие глобальное распространение западных норм и идентичности «мировой цивилизации». Достижения конструктивистов представлены, в частности, работами Питера Катценстайна о роли религии и цивилизации в международных отношениях с общим выводом о постепенности формирования, несмотря на сохраняющиеся культурные различия, «цивилизации современного общества».
Заметно и влияние теоретиков открытой экономики и укрепления международных экономических институтов. Некоторые из них, подобно Эрику Гарцке, убеждены, что капитализм гарантирует мирное взаимодействие государств. Другие настаивают на том, что наличие международных экономических институтов, таких как МВФ и Всемирный банк, и постепенное расширение участия незападных стран в деятельности глобальных институтов стало залогом предотвращения второй Великой депрессии. Но и здесь, считают они, лидерство Соединенных Штатов – залог стабильности. Без него не было бы глобальной поддержки идей экономической открытости, предоставления необходимой для выхода из кризиса ликвидности и макроэкономической координации среди основных экономик мира (США, ЕС и Китай). Такова, в частности, аргументация недавней книги Дэниела Дрэзнера «Система сработала». Америка, считают представители данной группы, заинтересована в распространении глобального капитализма и вовлечении в его систему всех значимых игроков. Это ведет к снижению их эгоизма (free ride) и повышению чувства ответственности за поддержание мировой экономической открытости. Характерно, пишет Дрэзнер, что Китай сыграл в период глобального кризиса по правилам вашингтонского, а не пекинского консенсуса.
Важнейший для глобалистов вопрос – как быть с подъемом Китая? Несмотря на рост алармизма американского интеллектуально-политического сообщества относительно намерений и возможностей азиатского гиганта, глобалисты в целом менее пессимистичны, чем изоляционисты. Так, реалисты ставят под сомнение способность Китая, несмотря на его экономический подъем, всерьез конкурировать с США в военной области. Значительный ВВП, считает, например, Майкл Бекли, еще не означает способности конвертировать его в национальную мощь. Последняя определяется показателями инновационности и возможностями высокотехнологического производства внутри страны, по которым отставание Китая от Америки не сократилось с 1991 года. В основном реалисты-глобалисты считают, что следует активнее проецировать военную мощь в Азии, вовлекая Китай в экономическое сотрудничество. Шансы военной конфронтации остаются невысокими, учитывая ее дорогостоящий характер, а инновационность экономики США позволит ей сохранить ведущие позиции в мире. В этом с реалистами солидарны и представители либеральных школ.
Что касается России, то большинство глобалистов считают ее сложным партнером. В силу традиционно-великодержавного менталитета и все еще слабой степени интеграции в западные политико-экономические структуры Россия пока не готова примириться с глобальным доминированием Соединенных Штатов и довольствоваться ролью младшего партнера. Нельзя сказать, что глобалисты озабочены этим больше, чем растущей ролью Китая. Россия воспринимается как слабое, хотя и капризное (prickly) государство, которому со временем придется примириться со своим объективно скромным положением в мире и принять глобальное лидерство Америки как должное. Экономическое и военно-политическое сближение России и Китая тревожит некоторых глобалистов, но не до такой степени, чтобы изменить принципы защищаемой ими линии. Политика глобального лидерства представляется им необходимой, в том числе и потому, что в мире все еще остаются государства, готовые бросить вызов американским интересам и ценностям.
Выводы для России
Таким образом, в споре изоляционистов и глобалистов последнее слово остается за глобалистами. Корректируя свои позиции, они продолжают доминировать в интеллектуально-политическом дискурсе, настаивая на политике глубокой вовлеченности и отказывая незападным странам в статусе равных партнеров. Как выразился недавно в статье в The Wall Street Journal Фукуяма, «если меня попросят на спор предсказать, будут ли через пятьдесят лет США и Европа напоминать Китай или же наоборот, я без колебаний выскажусь в пользу последнего», ссылаясь при этом на недолговечность китайской модели роста и политической системы. Фукуяме, кажется, и в голову не пришла возможность, что не произойдет ни первого, ни второго, в то время как западная и китайская модели сохранят глубину своих социокультурных различий.
Другой характерный пример – президент Обама, который со времени своего избрания на первый срок склонялся к изоляционизму в гораздо большей степени, чем кто-либо из его предшественников. К сожалению, это был изоляционизм недостаточной осведомленности и опыта, в результате чего президент уверовал, что отношения с Россией, Китаем и странами Ближнего Востока будут укрепляться уже в силу демонстрации Америкой намерений отказаться от силовой политики Буша-младшего. Сегодня политика в отношении России во многом отдана на откуп Госдепартаменту, влияние «ястребов» в окружении президента существенно возросло, а сам он все чаще выступает как ярый поборник американской исключительности и глубокой глобальной вовлеченности.
Сказанное подводит к мысли, что Россия не может строить свою политику исходя из убеждения, что Америка вот-вот избавится от иллюзий однополярности. Эти иллюзии укоренены в ментальности политического класса и на обозримый период продолжат определять формирование американских интересов в мире. Даже если к власти придет лидер со взглядами, близкими изоляционистским, он вскоре скорректирует их в соответствии с убеждениями глобально-ориентированной элиты. Эта элита как огня боится национализма великих держав, в котором немедленно усматривает «нового Гитлера», и экономического меркантилизма, подобного предшествовавшему Великой депрессии. Аналогии с предвоенной Европой по-прежнему формируют внешнеполитическое сознание США, требуя курса на глобальную вовлеченность. Москве следует готовиться к длительному сосуществованию с такого рода элитой с глобальными амбициями и не ожидать замирения с Вашингтоном на равных условиях, даже если российская экономика окрепнет, а подъем Китая и Индии будет идти по-прежнему впечатляющими темпами. В отношении России в Америке глубоко укоренено убеждение, которое недавно выразила в своих мемуарах Хиллари Клинтон. В преддверии номинации на участие в президентской гонке от Демократической партии в 2016 г. она написала о заблуждении России в том, что США нуждаются в ней больше, чем она в них, и о том, что «сила и решимость –
это единственный язык, который способен понять Путин».
Как строить систематическую внешнюю политику – вопрос, нуждающийся в самостоятельном обсуждении. Однако представляется очевидным, что успехи российской политики будут связаны с гибким отстаиванием национальных интересов, а не фронтальным столкновением с агрессивными и сильными державами, главной из которых являются сегодня Соединенные Штаты. Конфликты, подобные грузинскому и украинскому, не должны стать правилом. Необходимо новое понимание превентивной дипломатии в Евразии, современная интерпретация российских интересов в Азии и поиск сфер взаимодействия с западными странами. Пока формируется такая модель, России придется, как и ранее, импровизировать и удивлять мир. По выражению Сергея Караганова, «несмотря на свои очень скромные экономические и культурные возможности, она (Россия) играет гораздо более существенную роль в мировой политике, чем можно было бы ожидать. В основном это происходит благодаря ее воле и опыту».
Формирование действительно полицентричного или многополярного мира потребует значительного времени. Скорее всего, этот период неопределенности или «несбалансированности» продлится не одно десятилетие и окажется наиболее опасным со времени окончания Второй мировой войны. Российской внешней политике нужны новые теоретические ориентиры, выводящие ее за пределы чрезмерно абстрактной и дезориентирующей теории многополярного мира. Со временем прогнозы ее сторонников сбудутся, и придет время более изоляционистского мышления. Но произойдет это не ранее, чем Америка пройдет через новую череду внешнеполитических кризисов и поражений.

Пошатнувшееся лидерство
ЧООП-2014 и кризис американского доминирования
П.Ю. Тебин – кандидат политических наук.
Резюме Военные в США рады вернуться к понятной ситуации сдерживания «российской угрозы». Она гораздо более комфортна, чем «новые угрозы XXI века», для которых авианосцы и атомные подлодки – не приоритет.
Четырехлетний обзор оборонной политики (ЧООП) США, опубликованный в марте 2014 г., стал очередной попыткой Вашингтона скорректировать свою долгосрочную стратегию в условиях существенных изменений международной обстановки. Анализ документа и среды, в которой он был подготовлен, позволяет лучше понять эволюцию военно-политической стратегии США и перспективы ее развития. Тем более что документ вышел в свет на фоне резкого обострения международной ситуации и начала новой фазы глубоких сдвигов мироустройства.
Предыстория четырехлетних обзоров
На рубеже 1990-х гг., после резкой интенсификации биполярного противостояния и военного строительства в первой половине 1980-х гг., Соединенные Штаты оказались в роли единственной сверхдержавы, победителя в холодной войне. Это немедленно выразилось в сокращении военных расходов. Свертывание ряда программ (например, «флота в 600 кораблей») и более жесткий контроль над тратами начался еще во второй половине восьмидесятых. Примечательно, что одним из приводных ремней этого процесса стала борьба с дефицитом бюджета, что, в частности, выразилось в принятии в 1985 г. закона Грэмма–Радмана–Холлингза, направленного на урезание расходной части.
В 1989–1992 гг. началось масштабное сокращение ВС и переориентация с тотальной войны с СССР на региональные конфликты. На это был направлен так называемый процесс «Базовых сил», который возглавлял председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Колин Пауэлл. В 1990 г. Буш-старший заявил, что «новый мировой порядок» можно обеспечить силами, которые на 25% меньше нынешних.
Администрация Билла Клинтона, которая пришла к власти в 1993 г., обозначила курс на дальнейшее уменьшение военных расходов. Параллельно встала проблема выработки долгосрочной внешнеполитической стратегии. Работу возглавил министр обороны Лес Эспин. Результатом стал «Всеобъемлющий обзор», в котором авторы увязали воедино военно-политическую стратегию, структуру вооруженных сил и планы военного строительства, а также бюджетные ограничения.
«Всеобъемлющий обзор» был встречен острой критикой и обвинениями в искусственности привязки стратегии к военному строительству и бюджету. Основные претензии заключались в том, что обзор диктовался определенным ранее уровнем сокращения военных расходов и не обеспечивал «стандарта двух крупных региональных войн». Один из оппонентов Эспина – сенатор-демократ Сэм Нанн, говоря о будущих сокращениях, заявил, что «цифры взяты с потолка». Однако администрация Клинтона посчитала «Всеобъемлющий обзор» настолько удачным, что в 1996 г. была введена законодательная норма, обязывающая министра обороны публиковать подобный документ каждые четыре года. Так родился институт четырехлетнего обзора оборонной политики.
В соответствии с законом, ЧООП должен иметь глубину планирования в 20 лет и определять согласованную со стратегией национальной безопасности стратегию обороны, а на основе последней – структуру ВС и ключевые направления военного строительства. Обзор готовится в тесном сотрудничестве с председателем КНШ и специально созданной для каждого конкретного ЧООП Комиссией по вопросам национальной обороны (десять гражданских экспертов, восемь из которых назначаются руководством профильных комитетов Конгресса, а два сопредседателя – министром обороны).
Первый ЧООП появился в 1997 г. и положил начало процессу трансформации ВС после десятилетних «закупочных каникул» (procurement holiday). Документ обрисовал обновленную стратегию и три варианта структуры ВС. Одна предполагала сохранение существующей структуры для реагирования на имеющиеся угрозы, другая – резкое ее сокращение и скорейшую трансформацию ВС для противодействия угрозам перспективным. Третий вариант, поданный как оптимальный, предусматривал поиск баланса между статус-кво и трансформацией.
С учетом вышеупомянутой критики приняли специальную поправку, в соответствии с которой рекомендации ЧООП должны быть независимы от действующего военного бюджета. Напротив, именно обзор определяет стратегию обороны, а также ресурсы, необходимые для ее реализации «на низком или среднем уровне риска». Если средства, заложенные в действующих бюджетных планах, недостаточны, то ЧООП указывает на необходимые дополнительные ресурсы.
ЧООП-2001 был принят спустя менее месяца после атак 11 сентября и отражал растерянность военно-политического руководства. В документе не содержалось четкой увязки стратегии с конкретной структурой ВС и планами военного строительства. Обзор исходил из достаточности существующих ВС и определял переход к т.н. планированию «исходя из способностей» (Capabilities-Based Programming). Подход подразумевал не противодействие конкретным потенциальным угрозам, а достижение такого уровня технологического превосходства, который обеспечил бы возможность отражения любой будущей угрозы. Как отмечал эксперт корпорации РЭНД Пол Дэвис, Пентагон стремился овладеть способностью противодействовать любому противнику, «даже вторжению инопланетян». Таким образом, ЧООП-2001 по сути не предусматривал приоритетов и не допускал компромиссов, связанных с ограниченностью ресурсов.
Обзор 2006 г., подготовка которого велась дольше обычного, также носил общий характер и отстаивал идею сохранения существующей структуры вооруженных сил в условиях глобальной войны с терроризмом. Документ признавал имеющиеся ВС достаточными, но уже в 2007 г. Джордж Буш-младший объявил о резком увеличении численности армии (сухопутных сил) и корпуса морской пехоты (КМП) для наращивания присутствия в Ираке. Администрация Буша предлагала увеличить к 2011 г. численность армии до 547 400 военнослужащих действительной службы, а КМП – до 202 тыс., в то время как ЧООП-2006 определил эти показатели на уровне 484 400 и 175 тыс., соответственно. Пример демонстрирует несовершенство обзора – при законодательно установленной двадцатилетней глубине планирования отметки документа-2006 сохранили актуальность лишь около года.
Наконец, судьба ЧООП-2010 оказалась едва ли не печальнее, чем у его предшественника. Реальная программа Пентагона была изложена в 2009 г. в статье министра обороны Роберта Гейтса «Сбалансированная стратегия» (журнал Foreign Affairs). Гейтс подчеркнул необходимость искать оптимальное соотношение между текущими и перспективными угрозами в условиях ограниченных ресурсов, выступил за отход от планирования «исходя из способностей» и стремления к абсолютному доминированию во всех сферах. ЧООП-2010 ответов на сложные вопросы, стоящие перед американским военно-политическим руководством, не дал.
В 2011 г. Пентагон начал процесс «всестороннего обзора», целью которого был поиск путей «стратегически обоснованного» сокращения военных расходов. Результатом стала публикация в начале 2012 г. Стратегического руководства по вопросам обороны (СРВО-2012), заменившего действующий ЧООП-2010. Подобное случалось и ранее – в 2005 и 2008 годах. Пентагон публиковал две версии Национальной стратегии обороны, опиравшиеся на ЧООП-2001 и ЧООП-2006, соответственно.
Изобилие сменяющих друг друга ЧООП и сопутствующих документов, их неспособность обеспечить адекватное планирование даже на четырехлетний период стали причиной резкой критики всего института обзоров. Дорогостоящие ЧООП стремились «объять необъятное», не соответствовали многим законодательным требованиям. В разное время звучали призывы отказаться от этой формы стратегического планирования в пользу более конкретных обзоров по приоритетным темам. В 2013 г. даже появились слухи о том, что ряд конгрессменов рассматривают возможность упразднения четырехлетнего обзора, если версия 2014 г. не оправдает возложенных на него надежд.
Обзор-2014 в системе военно-политической стратегии
Обзор дополняет другие ключевые документы военно-политической стратегии администрации Обамы: Стратегию национальной обороны 2010 г. (СНБ-2010), Национальную военную стратегию 2011 г. (НВС-2011) и СРВО-2012. При этом нужно понимать, что СНБ подготавливается на уровне президента и его аппарата, НВС – на уровне Комитета начальников штабов, а СРВО – результат совместной работы Минобороны и Белого дома. Сам ЧООП является продуктом Пентагона и дополнен председателем КНШ, выражающим позиции руководства видов ВС.
Стратегия Соединенных Штатов опирается на три столпа: оборону и защиту страны, обеспечение международной безопасности и стабильности, а также проецирование силы и достижение победы в случае конфликта. ЧООП-2014 выделяет четыре жизненных национальных интереса:
обеспечение безопасности Соединенных Штатов, их граждан, союзников и партнеров;сохранение сильной растущей экономики США и открытой мировой экономической системы;защита и уважение «универсальных ценностей» в мире;укрепление мирового порядка, основанного на американском лидерстве.
В своем примечании председатель КНШ приводит несколько иной реестр жизненных интересов, более откровенный и реалистичный в сравнении с достаточно политизированным списком в основном тексте обзора-2014. Из различий между двумя списками и приоритетности тех или иных интересов (место в списке фактически равняется месту в системе приоритетов) видно, за что Соединенные Штаты будут бороться до конца, а от чего могут при необходимости и отказаться:
выживание американской нации;предотвращение катастрофической атаки на США;безопасность глобальной экономической системы;безопасность, уверенность и надежность союзников;защита американских граждан за рубежом;защита и распространение «универсальных ценностей».
В целом же стратегическая повестка дня Соединенных Штатов и видение будущего достаточно туманны. ЧООП-2014 содержит ставшие обязательными в последние 20 лет ссылки на растущую взаимозависимость государств, глобализацию, угрозу международного терроризма, неопределенность в международных отношениях и даже опасность изменения климата. За всем этим скрывается отсутствие новой повестки дня за исключением сохранения статус-кво в форме американского доминирования в мире в условиях сокращения военных расходов и ряда других тенденций, ослабляющих позиции Америки.
Региональные аспекты
ЧООП-2014 подтверждает приверженность американского руководства переориентации на Азиатско-Тихоокеанский регион. Основной целью в АТР определяется сохранение существующего порядка, в котором США – главный гарант безопасности и стабильности, строящейся вокруг господствующего положения Америки и совокупности двусторонних договоренностей с ключевыми союзниками. Примечательно, что в документе прямо не говорится о растущей военной мощи и внешнеполитических амбициях Китая. На первое место выведена КНДР, которая называется «существенной угрозой миру и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, а также растущей прямой угрозой Соединенным Штатам» (курсив мой. – Авт.). Под флагом северокорейской угрозы происходит сплочение союзников вокруг Вашингтона и выдвигаются инициативы в сфере ПРО в регионе.
Хотя нестабильность на Корейском полуострове сохраняется, ключевой потенциальной угрозой американскому лидерству в АТР, да и в мире в целом является Китай. Это понимает и большинство представителей экспертного сообщества США. Во времена холодной войны Москва и Вашингтон постоянно прибегали к взаимной агрессивной риторике, но нынешние тесные экономические связи Соединенных Штатов и Китая заставляют быть осторожнее. ЧООП игнорирует проблему риска столкновения великих держав. Открытым остается вопрос, чего здесь больше: наивности или неуместной деликатности? Начальник штаба ВМС адмирал Джонатан Гринерт заявил, что открытое обсуждение сдерживания Китая «порождает ненужный антагонизм», но признал, что на секретном уровне дискуссия активно идет.
Роль Ближнего Востока в американской стратегии остается значительной, хотя и несколько снижается на фоне свертывания операций в Афганистане и Ираке, а также переориентации на АТР. США больше нацелены на поддержание региональной стабильности и работу с партнерами. Примечательно, что американская позиция в отношении Ирана выглядит настороженной, но менее враждебной, чем ранее. Иран объявляется «дестабилизирующим актором», который «угрожает безопасности». Вместе с тем последние шаги по переговорам с Ираном в отношении его ядерной программы, в частности прошлогодний Совместный план действий, привели к определенному смягчению позиции Вашингтона. Понятно, что на американо-иранские отношения, да и на всю ситуацию в регионе повлияет то, что будет происходить в Ираке после захвата значительной части территории исламскими радикалами-суннитами, близкими к «Аль-Каиде».
В ЧООП-2014 отражено понимание стратегической роли Европы. После окончания холодной войны и прекращения противостояния с Советским Союзом, зато на фоне обостряющихся конфликтов на Ближнем Востоке и роста китайской мощи, Старый Свет не был в числе приоритетов американской военно-политической стратегии. Некоторое снижение прочности атлантических связей вкупе с ощущением возрождающейся угрозы со стороны России заставляет Вашингтон формулировать новую европейскую стратегию. В ЧООП-2014 этого сделать не удалось, но, без сомнения, кризис вокруг Украины дает новый импульс дискуссиям на эту тему.
ЧООП-2014, как и аналогичный обзор 2001 г., опубликован в один месяц с событиями, резко повлиявшими на обстановку в мире (на сей раз –
референдум в Крыму и присоединение полуострова к России). Как и 13 лет назад, ЧООП не отражает адекватно эти изменения. Россия упоминается в документе лишь 10 раз. ЧООП призывает к сотрудничеству с ней по широкому спектру вопросов безопасности, сохранения стратегической стабильности, увеличению «прозрачности» и лишь в общих чертах отмечает риски, которые США видят для себя в модернизации российской армии и действиях Москвы, «нарушающих суверенитет ее соседей». В реальности политика Вашингтона как минимум не полностью согласуется с установками ЧООП, события последних месяцев это наглядно доказывают.
Латинская Америка и Африка, очевидно, отнесены к наименее приоритетным регионам по уровню выделяемых ресурсов. В качестве ключевой угрозы ЧООП-2014 выделяет повстанческие движения, террористов и пиратов в Африке, а также наркотрафик, транснациональную организованную преступность, стихийные бедствия и экономическое неравенство. Политика Вашингтона в обоих регионах предполагает минимизацию выделяемых ресурсов. В Африке американцы исходят из приоритета укрепления государственных институтов, борьбы с анархией и формирования жизнеспособных местных вооруженных сил в рамках межгосударственного сотрудничества с активным привлечением международных организаций, включая ООН и Африканский союз. В Латинской Америке Соединенные Штаты четко обозначили важность обеспечения региональной стабильности через сотрудничество с теми странами, которые готовы тратить собственные ресурсы.
Секвестр
Лейтмотивом дискуссий, которые сопровождали подготовку ЧООП-2014, стало сокращение военных расходов. Закон о бюджетном контроле 2011 г. поставил Пентагон перед необходимостью сокращения военных расходов в течение 10 лет почти на 1 трлн долларов, включая 500 млн секвестра. Двухпартийный закон о бюджете предоставил передышку на 2015 год. Президентский вариант Закона о расходах на оборону на 2015 г. подразумевает сокращение прогнозируемых трат в 2015–2019 гг. на 113 млн долларов в сравнении с бюджетом на 2014 г., в то время как в соответствии с секвестром они должны быть сокращены приблизительно на 228 млн долларов за тот же период.
Несмотря на передышку в 2015 г., сохраняется возможность возобновления секвестра в 2016 г., что автоматически приведет к пересмотру прогнозируемого бюджета на всю пятилетку. В ЧООП-2014 восемь раз (!) повторяется в разных вариациях следующая мысль: «Военный бюджет на 2015 финансовый год позволяет Министерству обороны справиться с рисками, вызванными сокращением военных расходов, но риски значительно возрастут, если в 2016 г. произойдет возврат к секвестру».
Перед Пентагоном стоял вопрос: что важнее – количество или качество? Иными словами – сохранение существующей структуры ВС или программ перевооружения и модернизации. Министерство обороны зафиксировало свой выбор в ЧООП – приоритет отдан модернизации, американские силы в ближайшей перспективе станут «меньше, но современнее».
Минобороны волнует неопределенность относительно размера бюджета в будущем, а также неготовность Конгресса пойти на ряд реформ, которые Пентагон считает необходимыми в рамках сокращения военных расходов. В частности, Минобороны неоднократно безуспешно просило Конгресс о начале нового этапа свертывания зарубежных баз. Если Конгресс не удовлетворит эти требования, то Пентагону придется сокращать другие строки расходов.
Конгресс резко воспротивился идее Минобороны и ВВС снять с вооружения штурмовики A-10. Подверглась острой критике и вряд ли будет реализована угроза отказа от капитального ремонта и перезагрузки реакторов авианосца USS George Washington в случае возврата к секвестру в 2016 году. Ряд наблюдателей увидели в угрозе списания авианосца попытку Пентагона шантажировать Конгресс.
ЧООП-2014 обозначил и приоритеты военного строительства. К ним отнесены модернизация потенциала ядерного сдерживания, обеспечение превосходства в космическом, подводном и киберпространствах, развитие сил специальных операций (ССО) и систем ПРО, противокорабельных ракет и ракет «воздух-земля» большой дальности. ЧООП-2014 однозначно направлен на защиту регулярно критикуемой программы единого истребителя пятого поколения F-35, а также находящегося в самом начале пути проекта создания стратегического бомбардировщика нового поколения.
Приоритетные направления военной деятельности США суммированы в примечании председателя КНШ к ЧООП:
сохранение устойчивых и эффективных стратегических ядерных сил;оборона территории страны;победа в войне;обеспечение внешнего присутствия;борьба с терроризмом;борьба с ОМП;предотвращение достижения противником своих целей;реагирование на кризисы и проведение операций низкой интенсивности;сотрудничество в военной сфере;операции по обеспечению стабильности и борьбе с иррегулярным противником;помощь гражданским ведомствам;гуманитарная помощь и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.
Этот список демонстрирует прагматичность военного руководства и показывает, что в случае секвестра Соединенные Штаты могут отказаться от значительного числа задач мирного времени в пользу традиционных задач по обороне и подготовке к классической войне – тому, о чем старательно умалчивается в ЧООП-2014. Первое место, отданное ядерному оружию, и последнее, отданное гуманитарной помощи, очерчивают пропасть между иногда искренними, а зачастую лишь притворными или сугубо корыстными заявлениями политических деятелей и реализмом военных. Председатель КНШ прямо говорит: «В перспективе 10 лет я ожидаю рост риска межгосударственного конфликта в Восточной Азии».
ЧООП-2014 обозначает структуру сил, которая сложится к 2019 г., а также указывает на жертвы, которые будут принесены в случае возобновления секвестра. Но данная структура выглядит привязанной не столько к стратегии, сколько к последствиям сокращения военных расходов. ЧООП-2014 следует не логике «для выполнения задач военной стратегии нам нужна следующая структура ВС», а логике «если секвестр вернется, то все станет еще хуже, чем есть».
Председатель КНШ подчеркнул, что даже структура, обрисованная в ЧООП (т.е. без учета возобновления секвестра), сделает американские вооруженные силы «меньше и слабее». Во время слушаний в Конгрессе ему вторил его заместитель адмирал Джеймс Винфелд, заявивший, что даже без секвестра ВС США смогут реализовывать военную стратегию на «среднем уровне риска, близком к высокому». Сокращение военных расходов снижает возможность Вашингтона вести больше одной крупной военной операции одновременно, повышает зависимость от союзников и может само по себе спровоцировать агрессивные действия против ослабевших Соединенных Штатов.
Ошибочная магия «стандарта двух войн»
Многие отечественные и зарубежные наблюдатели уделили излишнее внимание введенному в СРВО и сохранившемуся в ЧООП-2014 т.н. отказу от «стандарта двух крупных региональных войн», который, как подчеркивается, был основой структуры американских ВС в течение 20 лет. С одной стороны, «стандарт двух войн» действительно оказывал существенное влияние на определение достаточной структуры ВС. С другой стороны, он изначально был абстрактным, политизированным и малореалистичным.
В соответствии с СРВО и ЧООП-2014 Соединенные Штаты отказались от «стандарта двух крупных региональных войн» в пользу того, что можно назвать «стандартом полутора войн», т.е. достижения решительной победы в одной крупной региональной войне и одновременно сдерживании или нанесении неприемлемого ущерба противнику в другой войне. При этом США исключают проведение в обозримом будущем «масштабных длительных операций по обеспечению стабильности», подобных тем, что проводились в Ираке и Афганистане.
Изначально «стандарт полутора войн» (тогда он назывался «победить-сдержать-победить») появился во «Всеобъемлющем обзоре» Эспина. Он предлагал строить ВС из расчета на победу в одном конфликте, сдерживание в другом и победу во втором после окончания первого, что во многом созвучно подходу СРВО. Но из-за критики Эспин отказался от своей первоначальной концепции в пользу «стандарта двух войн». Тем не менее речь шла о ведении двух войн не одновременно, как настаивали оппоненты Эспина, а «практически одновременно». Кроме того, переход от «полутора войн» к «двум войнам» не повлиял существенным образом на структуру во «Всеобъемлющем обзоре» и не уменьшил масштаба сокращения военных расходов. В итоге сам Эспин признал, что оборонный бюджет не позволяет реализовать «стандарт двух войн» и все задачи «Всеобъемлющего обзора».
Вторым фундаментальным недостатком «стандарта двух войн» стало то, что за условную «крупную региональную войну» была взята операция «Буря в пустыне». Она проводилась в весьма благоприятных условиях: достаточно времени для подготовки и развертывания, наличие вблизи театра военных действий безопасных баз, портов и аэродромов, превосходство на море, в воздухе, космосе, информационном пространстве. Очевидно, что более или менее масштабное столкновение с Китаем не вписывается в эти рамки. «Стандарт двух войн» предполагал, что ВС, способные вести две войны, могут выполнять и все остальные задачи военной стратегии.
ЧООП-1997 сохранил «стандарт двух войн» и военную структуру практически в неизменном виде. Обзор-2001, также оставив ВС без серьезных изменений, выдвинул еще более амбициозный «стандарт 1-4-2-1» (его также можно назвать «стандартом двух с половиной войн»), в соответствии с которым американские военные должны быть способны одновременно эффективно защищать территорию США, осуществлять сдерживание в четырех регионах и вести две войны, в одной из которых победа должна быть достигнута максимально быстро. Обзоры 2006 и 2010 г. сохранили «стандарт двух войн» и основные идеи «стандарта 1-4-2-1», усилив акцент на борьбу с иррегулярным противником и противодействие иным нетрадиционным угрозам. В этих документах также отсутствовало долгосрочное стратегическое видение, а во главу угла ставились «текущие операции» в Ираке и Афганистане.
Уже более 15 лет американские военные практически беспрестанно жалуются, что у них «все больше задач и все меньше ресурсов». Таким образом, «стандарт полутора войн» в СРВО является не реальным изменением в военном планировании, а приведением декларируемых принципов и задач к реальности и имеющимся ресурсам.
Страх и ненависть в Европе?
События на Украине и в Крыму, политика Москвы вызвали острое неудовольствие и настороженность в США и ряде стран Европейского cоюза и НАТО. Вхождение Крыма в состав России большинство евроатлантического истеблишмента воспринимает как «вторжение», «агрессию», «аннексию», гражданская война на востоке Украины толкуется как результат исключительно российской подрывной деятельности на грани прямой агрессии. Анализ американских официальных документов и тем слушаний в Конгрессе показывает, что Россия вновь стала восприниматься в качестве одной из ключевых стран, угрожающих национальной безопасности Соединенных Штатов наряду с Китаем, КНДР и Ираном. В докладе, анализирующем ЧООП-2014, Комиссия по вопросам национальной обороны уделила гораздо большее внимание «российской угрозе» и поставила под вопрос утверждения авторов обзора о том, что Европа является «нетто-экспортером» безопасности. Комиссия фактически настаивает на сдерживании России через наращивание мощи НАТО. Также заявлена необходимость сохранения за США роли лидера в альянсе в сочетании с перекладыванием более значительной части бремени по обеспечению обороны на союзников Вашингтона.
Соединенные Штаты не только отказывают России в праве на собственную сферу влияния и самостоятельную позицию по вопросам национальной безопасности и национальных интересов, но и стремятся разрушить хрупкое партнерство Москвы и ЕС, которое долго и кропотливо выстраивалось.
В Европе нет единства по российскому вопросу. Вашингтон же, естественно, ориентируется на страны, настроенные наиболее жестко в отношении Москвы, стремится поддержать запрос части европейских союзников на активизацию антироссийской политики. И, насколько можно судить, на первое место выходит Великобритания, которая стремится к роли военно-политического лидера Старого Света, пользуясь концентрацией Германии на экономических вопросах и некоторой отстраненностью Франции от антироссийского курса.
Лондон желает подтвердить статус ключевого военного союзника США. Это прослеживается в действиях премьер-министра Дэвида Кэмерона по сдерживанию России и укреплению НАТО, а также в установках Первого морского лорда (главы всех военно-морских сил) адмирала Джорджа Замбелласа, согласно которым Королевский флот должен быть готов к конфликтам высокой интенсивности.
Соединенные Штаты, находясь в самом начале формулирования полноценной новой стратегии в отношении России, отдают инициативу Лондону. Поведение последнего легко понять: политическое руководство стремится увеличить британское влияние в Европе в условиях бурных дискуссий об отношениях острова с континентом и будущем самого Соединенного Королевства (в сентябре предстоит референдум о независимости Шотландии). Военные радуются возможности вернуться к простой и понятной ситуации сдерживания «российской угрозы». Она более комфортна по сравнению с «новыми угрозами XXI века», которые не предусматривают приоритетный характер авианосцев и атомных подлодок. Также «российская угроза» – удобный довод против сокращения военных расходов.
НАТО продолжает использоваться как инструмент сохранения американского влияния в Европе. Это в значительной степени объясняет сохранение альянса после холодной войны, постоянный поиск «новой повестки дня» и расширение за счет стран, которые сдерживали периодические отклонения некоторых старых членов блока от «генеральной линии». Так что сдерживание России посредством НАТО – не только цель, но и средство укрепления евроатлантизма и американского влияния в Европе в целом.
Показательным станет сентябрьский саммит НАТО, на котором должен проясниться расклад сил между «умеренными» (Франция, Германия, Турция и др.) и «алармистами» (США, Великобритания, страны Восточной Европы). Мероприятие, вероятно, пройдет в атмосфере накаленных эмоций и растерянности, что на руку «алармистам». Реальный же долгосрочный курс Соединенных Штатов и НАТО выработается, скорее всего, к 2015 году. От него зависит очень многое. Как для России, так и для США.
Очевидно, что долгосрочное планирование, особенно в сфере национальной безопасности – дело сложное, а его результаты зачастую не выдерживают столкновения с действительностью. Вместе с тем национальная безопасность во многом зависит от адекватных и прагматичных стратегии и планирования. В их основе – развитая концептуальная база, которую следует строить как постоянный институт, не зависящий от сиюминутных изменений курса руководства, а отражающий фундаментальные интересы страны, меняющиеся угрозы и долгосрочные приоритеты военного строительства.
История показывает, что излишний оптимизм и недальновидность могут дорого обойтись государству. 11 сентября 1990 г. Джордж Буш-старший выступил с речью о «новом мировом порядке», а спустя ровно 11 лет этот «порядок» ударил по Соединенным Штатам. Будущее покажет, насколько полезным для Вашингтона окажется ЧООП-2014 и не обернется ли внешняя политика Обамы еще большими проблемами для США в ближайшей перспективе.

Проблема с ограничением долларовых вливаний
Последствия политики ФРС для мировой экономики
Бенн Стейл – старший научный сотрудник и директор по мировой экономике в Совете по внешним связям. Автор недавно изданных книг «Бреттон-Вудская битва: Мейнард Кейнс», «Харри Декстер Уайт» и «Создание нового мирового порядка».
Резюме Вашингтон должен отказаться от санкций против государств, предпринимающих законные меры для защиты от шоков, вызванных политикой ФРС. Даже если эти страны манипулируют валютно-обменными курсами.
Статья опубликована в журнале Foreign Affairs, № 4, 2014.
В апреле 2013 г. дефицит по текущим операциям на Украине был на уровне 8%, и страна отчаянно нуждалась в долларах для оплаты жизненно важного импорта. Однако 10 апреля правительство президента Виктора Януковича отвергло условия, на которых Международный валютный фонд был готов предоставить ей пакет финансовой помощи на сумму 15 млрд долларов, отдав предпочтение заимствованию у частных инвесторов за рубежом. Ровно через неделю Киев выпустил 10-летние евробонды на 1,25 млрд долларов, чтобы с их помощью продолжать финансирование разрыва между внутренним производством и гораздо более высоким уровнем потребления. Иностранные инвесторы раскупили эти облигации со ставкой доходности 7,5% годовых.
Все вроде бы шло гладко до 22 мая, когда тогдашний председатель Федерального резерва США Бен Бернанке высказал предположение: если американская экономика продолжит уверенное восстановление, ФРС может начать сокращать или урезать ежемесячный выкуп ценных бумаг Казначейства Соединенных Штатов и бумаг, обеспеченных залогом недвижимости.
ФРС начала осуществлять выкуп ценных бумаг в сентябре прошлого года, чтобы сбить долгосрочные процентные ставки и стимулировать частное кредитование. Сворачивание выкупа активов означало бы более высокую доходность по облигациям США с более длительным сроком погашения, вследствие чего развивающиеся рынки становились менее привлекательными. Инвесторы, вложившиеся в украинские облигации, моментально отреагировали на разговоры об урезании программы выкупа, начав избавляться от них; в результате доходность по этим облигациям достигла почти 11% и уже не снижалась до конца года.
Финансовые проблемы Украины усугублялись на протяжении многих лет, поэтому только перспектива того, что ФРС из месяца в месяц будет закачивать все меньше новых долларов на рынок, сделала невозможным обмен старых облигаций на новые. Киев просто не мог позволить себе платить такие высокие процентные ставки по облигациям.
Если бы ФРС продолжила либеральную политику, Украина смогла бы по меньшей мере отсрочить наступление финансового кризиса, а отсрочка кризиса зачастую значит его предотвращение. В конце концов Янукович обратился за помощью к Москве, которая настояла на том, чтобы он отказался от подписания соглашения об ассоциации с Европейским союзом. В знак протеста украинцы вышли на улицы. Остальное уже история.
До недавнего времени не было принято говорить о роли, которую ФРС сыграла в свержении Януковича и хаосе, воцарившемся в стране. Этот факт вызывает большую тревогу, поскольку Украина – одна из многих экономически слабых стран мира, зависящих от вливания долларов, рынки которых начинает лихорадить от одного намека на изменение политики ФРС.
Доллар за доллар
Американский доллар играет уникальную роль в мировой экономике. Хотя вклад США в нее не превышает 23% и постоянно снижается, большая часть мировой торговли за пределами еврозоны осуществляется в долларах, и 60% всех золотовалютных резервов государств деноминированы в американской валюте. В частности, экономическое взаимодействие развивающихся стран с остальным миром происходит исключительно через нее. Следовательно, изменения в монетарной политике Вашингтона могут оказать самое непосредственное и существенное воздействие на мировую экономику, расширяя или сужая потоки капитала на развивающиеся рынки и в противоположном направлении, а также снижая ценность валют развивающихся стран по отношению к доллару, что, в свою очередь, может изменять уровень инфляции в других государствах и влиять на объем их экспорта. В итоге для многих государств валютно-финансовый суверенитет – не более чем недостижимый идеал. Признавая этот факт, некоторые из них, такие как Эквадор и Сальвадор, в последние десятилетия зашли так далеко, что полностью избавились от собственных валют, приняв доллар в качестве основной единицы расчетов и дома, и за рубежом.
После предупреждений Бернанке в мае прошлого года о сворачивании финансирования казначейских обязательств Украина оказалась одной из многих развивающихся стран, пострадавших от массированной распродажи активов на валютном рынке и рынке облигаций, поскольку инвесторы попытались вывести средства с этих рынков для более безопасного инвестирования в Соединенных Штатах. Однако распродажа не была беспорядочной. Страны, пострадавшие сильнее других, – Бразилия, Индия, Индонезия, ЮАР и Турция – имели большой дефицит по текущим операциям, для финансирования которого необходим импорт капитала. Их рынки умеренно восстановились после неожиданного сентябрьского решения ФРС отсрочить снижение темпов выкупа ценных бумаг, но их снова начало лихорадить в декабре, когда ФРС объявила, что намерена осуществить свои планы.
Когда эти рынки сдали позиции, многие наиболее пострадавшие столицы принялись критиковать Вашингтон за эгоцентризм и зашоренность. «Международное валютно-финансовое сотрудничество подошло к концу», – заявил разгневанный Рагхурам Раджан, руководитель Центрального банка Индии, после очередного вывода денег с индийского валютного рынка и рынка облигаций. ФРС и другие организации богатого мира, сказал он, не могут просто «умыть руки и сказать: мы сделаем все, что будет нужно, а вы приспосабливайтесь».
Недавно опубликованная стенограмма совещания Федерального комитета по открытым рынкам в октябре 2008 г. помогает понять, чего ожидал Раджан от ФРС и что его так разозлило. Члены Комитета прекрасно понимали глобальный характер разрастающегося кризиса, однако были сосредоточены не на том, чтобы остановить его расползание на развивающиеся рынки, а на ограничении негативных последствий для США. Члены Комитета согласились с тем, что договоренности ФРС о свопах с центральными банками развивающихся рынков, по которым она ссуживала им доллары под залог их местных валют, носят временный характер и должны заключаться с теми странами, которые считаются большими и важными для здоровья финансовой системы Соединенных Штатов. Речь идет о Бразилии, Мексике, Сингапуре и Южной Корее, проблемы которых могли повлиять на американские рынки. Например, Дональд Кон, тогдашний член Управляющего совета ФРС, высказал озабоченность по поводу того, что массированные продажи за рубежом ценных бумаг Fannie Mae и Freddie Mac могут «плохо отразиться на ипотечных рынках в США», поскольку ставки заимствования средств вырастут. Некоторые страны могут пойти этим путем, если у них не будет менее разрушительных способов получить доступ к долларам, таких как соглашения ФРС о свопах. Если они прибегнут к такой стратегии, «это не будет отвечать нашим интересам», отметил Кон.
В том году ФРС неофициально отказалась удовлетворить запросы на подписание соглашения о свопе, поступившие от Чили, Доминиканской Республики, Индонезии и Перу. А двумя годами позже, когда американская экономика стала гораздо менее уязвима для финансовой нестабильности на внешних рынках, ФРС не стала возобновлять соглашения о свопах с Бразилией, Мексикой, Сингапуром и Южной Кореей. Спустя еще два года, в 2012 г., ФРС отвергла запрос Индии на подписание соглашения о свопе, чем вызвала гнев Раджана.
ФРС критиковали не только за то, что своими разговорами о снижении финансирования ценных бумаг она спровоцировала обвал валют других стран в 2013 г., но и за противоположные действия, которые привели к резкому скачку курса иностранных валют вследствие проведения политики количественного смягчения в 2010 году. В итоге это стало причиной снижения конкурентоспособности экспорта многих государств. Как посетовал в то время замминистра финансов Китая Чжу Гуангяо, ФРС «не вполне учла, что избыточные потоки капитала могут вызвать финансовую дестабилизацию развивающихся рынков». Министр финансов Бразилии Гвидо Мантега высказался более категорично, обвинив ФРС в развязывании «валютной войны».
Однако было нереалистично ожидать от ФРС иных действий, какими бы желательными они ни были для других стран, поскольку главные ее задачи – обеспечение стабильных внутренних цен и максимального уровня занятости – прописаны в законе, и ФРС не имеет права жертвовать интересами американцев во имя интересов зарубежных государств. Неудивительно, что она не проявляла к этому склонности с тех пор, как шесть лет назад в мире начался финансовый кризис.
От Бреттон-Вудс к биткоину
Легко понять, почему другие правительства начали искать альтернативу мировой финансовой архитектуре, в которой доминирует доллар. Они хотят уменьшить зависимость от монетарной политики, проводимой США. В 2009 г. руководитель Центрального банка Китая Чжоу Сяочуань повторил призыв Джона Мейнарда Кейнса, прозвучавший в 1940-е гг., к созданию наднациональной валюты под управлением МВФ, которая взяла бы на себя несоразмерно большую роль, отведенную сегодня в мировой экономике американскому доллару. Фактически в этом качестве могли бы уже сегодня выступать Специальные права заимствования (СПЗ) Фонда, представляющие собой потенциальные заявки на валюты стран – членов МВФ. Однако в настоящее время частный сектор не выставляет счета, не осуществляет заимствование или кредитование в СПЗ. И пока это положение не изменится, у центральных банков не будет стимула держать значительно больше СПЗ, чем они это делают сегодня – примерно 3% мировых валютных резервов.
Когда СПЗ были созданы в 1960-х гг., Жак Рюэф, в ту пору главный экономический советник президента Франции Шарля де Голля, нелестно отозвался о них как о «пустоте, облаченной в видимость валюты». Кейнс подробно описал, как можно расширить предложение валюты МВФ, но никогда не говорил о том, как сократить его. Поэтому Рюэф считал, что СПЗ имеют инфляционный потенциал, который не сможет ограничить никакая бюрократия. Вместо этого он призывал вернуться к золотому стандарту конца XIX века, позволившему процветать системе многосторонней торговли и исключавшему глобальные диспропорции, приводящие к кризисам. Система с этим справлялась, объяснил он, автоматически повышая процентные ставки в странах с бюджетным дефицитом и снижая их в странах с профицитом бюджета.
Идея вернуться к какой-то разновидности золотого стандарта и сегодня имеет известных сторонников, таких как Рон Пол, бывший республиканский конгрессмен из Техаса, а также бизнесмен и писатель Льюис Лерман. Но с учетом прежде всего тяжелых времен, наступивших для некоторых южных государств еврозоны после 2008 г., неудивительно, что предложения снизить активное управление национальной финансовой политикой со стороны правительств – посредством ли создания новых мировых валют, таких как евро, или возвращения к некой разновидности товарной обеспеченности денежной массы – все чаще воспринимаются управленцами как опасные шаги назад.
Конечно, цифровая валюта биткоин продемонстрировала, что нечто, имеющее свойства транснациональных денег, вовсе не обязательно должно создаваться политиками. Вместе с тем после хаотичного коллапса на Маунт Гокс, некогда крупнейшей бирже этой криптовалюты, рынок биткоина едва ли будет всерьез рассматриваться политиками, стремящимися минимизировать волатильность рынков и избежать кризиса.
Многие по-прежнему указывают на Бреттон-Вудскую эпоху фиксированных обменных курсов, существовавшую с 1946 по 1971 гг., когда мировая торговля и производство быстро росли, как на ту разновидность мирового финансового сотрудничества, которому следует подражать. Однако другие инициативы, выдвинутые сразу после окончания Второй мировой войны, такие как план Маршалла, предложенный в 1948 г., и Европейский платежный союз, сформированный в 1950 г., в большей степени заслуживают лестных оценок, поскольку именно они запустили механизм мировой торговли и способствовали быстрому экономическому росту. Кроме того, нельзя сказать, что валютно-финансовая система, для надзора за которой и был создан МВФ, сформировалась раньше 1961 г., то есть первые 15 лет существования Фонда ее вовсе не было. Лишь в 1961 г. первые девять европейских стран сделали свои валюты конвертируемыми в доллары США. И уже в это время в системе обозначилось некоторое напряжение, поскольку Франция и другие страны начали требовать от Соединенных Штатов, чтобы те выкупили избыточные доллары, заплатив за них золотом.
Сегодня план валютно-финансовой реформы с целью налаживания сотрудничества между странами неосуществим по политическим причинам. По сути, Бреттон-Вудские соглашения – это сделка между двумя государствами, политика которых была критически важна для достижения мировой финансовой стабильности: США, главным кредитором мира, и Великобританией, крупнейшим должником. Соединенные Штаты согласились помогать странам, борющимся с дефицитом по текущим операциям, а последние должны были отказаться от конкурентного обесценивания своих национальных валют. Сегодня крупнейший кредитор мира – Китай, а крупнейший должник – США. Вместе с тем обе страны не желают отказываться от мер контроля: Пекин – обменного курса своей валюты, а Вашингтон – долларовых процентных ставок, хотя теоретически это послужило бы общему благу.
Из всего вышесказанного следует, что мировая экономика еще какое-то время будет обречена на зависимость от «нелюбимого долларового стандарта», по выражению экономиста Стэнфордского университета Рональда Маккиннона. Но Маккиннон и его коллега Джон Тейлор полагают, что ФРС могла бы предпринять определенные шаги для укрепления лояльности доллару за рубежом. Тейлор считает, что Соединенным Штатам следует в одностороннем порядке вернуться к менее волюнтаристской монетарной политике, в большей мере основанной на правилах, поскольку это привело бы к более предсказуемым потокам капитала и экономическим условиям за рубежом.
Тейлор, конечно, прав в том, что предсказуемость денежной политики США исторически была фактором, который помогал стабилизировать мировые рынки. Вместе с тем относительная непредсказуемость этой политики сегодня – прямое следствие урона, нанесенного американской экономике финансовым кризисом, обнулившим краткосрочные процентные ставки и вынудившим ФРС импровизировать. Едва ли стоит удивляться разноречивости, изменчивости и многочисленности точек зрения на то, в чем должна заключаться эта импровизация – разные мнения имеются и внутри самой ФРС. Никогда еще экономисты и политики не расходились так далеко во взглядах на надлежащие правила ведения монетарной политики и на условия, при которых данные правила должны соблюдаться, меняться или упраздняться. И если эти правила не будут кодифицированы, каждый из руководителей центральных банков будет изобретать собственные и периодически менять отношение к этим правилам. На самом деле они этим занимаются уже с 2010 г., когда ФРС впервые опробовала нетрадиционную денежную политику, такую как крупномасштабные скупки активов.
Например, в июне прошлого года Бернанке попытался управлять ожиданиями рынков, высказав предположение, что ФРС прекратит скупку активов, как только уровень безработицы опустится примерно до 7 процентов. Тем не менее ФРС начала лишь умеренное ежемесячное сокращение скупки активов в январе, хотя к тому времени безработица уже упала ниже установленного уровня – до 6,6 процента. В некоторых случаях ФРС пытается убедить общественность, что не будет делать некоторые вещи – например, поднимать процентные ставки до некой отдаленной даты (середина 2015 года). Вместе с тем она заявила, что продолжит выверять прочие интервенции, такие как скупка активов, сообразуясь с месячными данными по безработице и другой статистикой, которая обычно нестабильна, а потому предполагает частые изменения в поведении ФРС. Неудивительно, что рынки подчас реагируют крайне нервозно.
Протекционистская политика
Но неужели развивающиеся страны не могут принять меры по защите своих рынков без сотрудничества с Соединенными Штатами? Конечно, могут! Авторы исследования, недавно проведенного МВФ, пришли к выводу, что наибольшую устойчивость перед лицом нетрадиционной денежной политики США с 2010 г. демонстрировали государства, для которых характерны три особенности: иностранцы владеют сравнительно небольшой долей их национальных активов, они имеют торговый профицит и значительные золотовалютные резервы. Это дает политикам четкие ориентиры: в благоприятное время правительствам развивающихся стран следует снижать импорт и курс национальной валюты и в то же время наращивать экспорт и долларовые резервы.
К сожалению, многие в Соединенных Штатах считают такую политику нечестным валютным манипулированием, наносящим ущерб американским экспортерам. Чтобы помешать иностранным правительствам предпринимать подобные шаги, некоторые влиятельные американские экономисты, например Фред Бергстен, при поддержке крупных американских корпораций призвали Белый дом включить в будущие торговые соглашения положения, направленные против манипулирования валютными курсами. Другие, в том числе экономисты Джаред Бернстайн и Дин Бейкер, зашли так далеко, что потребовали от Вашингтона вводить налоги на иностранные активы в виде казначейских обязательств США, а также заградительные пошлины на импорт из стран, манипулирующих, по мнению американских законодателей, курсом национальных валют.
Подобные предложения сбивают с толку; они только усиливают трения между участниками мировой торговли и провоцируют политические конфликты. Но сам по себе факт того, что видные аналитики призывают к таким действиям, показывает, как функционирование мировой финансовой и денежной системы или сбои в ее работе могут вызвать цепь политических мер, способных нанести ущерб экономике разных стран. Например, недавние соглашения, заключенные Китаем с Бразилией, Японией, Россией и Турцией об отходе от долларовых расчетов в торговле, могут подорвать систему мировой торговли. Американский доллар играет критически важную роль в этой системе, поскольку страны хотят экспортировать больше той компенсации, которую получают в виде импорта, только в силу убеждения, что деньги, накапливаемые ими в процессе такой торговли, – доллары США – сохранят покупательную способность на мировом рынке в течение длительного времени. Уберите доллар из этой картины, и страны начнут возводить торговые барьеры для предотвращения диспропорций в двусторонней торговле, поскольку у них нет желания накапливать не заслуживающие доверия валюты друг друга (это в полной мере относится к Бразилии, России и Турции). И если все пойдут этим путем, результатом будут торговые войны наподобие тех, которые бушевали во время Великой депрессии в 1930-е годы.
Будущее ФРС
Федеральная резервная система была создана 100 лет назад, чтобы положить конец панике на американском банковском рынке. Страшный урон, нанесенный финансовой системе Великобритании двумя мировыми войнами, сделал ФРС сильнее Банка Англии, вследствие чего она сегодня играет привилегированную роль ядра международной денежной системы. Но, несмотря на беспрецедентное усиление, она так и не обрела то чувство глобального управления и руководства, которое было присуще Банку Англии в XIX веке. Конгресс США никогда не порывался изменить такое положение вещей, и трудно представить себе, что в ближайшем будущем он будет действовать как-то иначе.
Учитывая траекторию, которая явно просматривается в политике Соединенных Штатов, и неразбериху, царившую последний год на валютных рынках и рынках облигаций развивающихся стран, это должно побудить другие государства удвоить коллективные усилия для защиты мировой финансовой системы от ударов в спину со сторону ФРС. У большинства стран с развивающимися рынками недостает ресурсов, чтобы защитить себя в одиночку. Но если они будут действовать сообща, то накопят достаточно золотовалютных резервов. Например, инициатива Чиангмая 2010 г. по многосторонности платежей позволяет 13 странам Азии в случае кризиса платежного баланса получать доступ к объединенным резервам в размере 240 млрд долларов.
К сожалению, здесь все не так гладко, как может показаться на первый взгляд. Государства, подписавшие соглашение Чиангмая, на самом деле не собрали обещанных денег, и участники этих договоренностей могут запросить значительные фонды, только если принимают программу МВФ и, следовательно, выполняют все условия Фонда и находятся под его наблюдением, а это довольно тяжкое бремя. В действительности правительства региона неохотно выдают кредиты друг другу во время кризисов, когда в них, собственно говоря, и возникает потребность. Тем временем страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) заявили в 2013 г. о создании собственного банка развития. Но одно дело заявить о таком намерении, и совсем другое – практически реализовать разработанный план. Ни одна из вышеупомянутых инициатив пока не привела к выделению хотя бы нескольких долларов взаимной помощи, и в ближайшем будущем вряд ли ситуация изменится.
Все это свидетельствует о том, что легко сетовать на отсутствие финансового лидерства со стороны США, но очень трудно найти ему замену, даже когда имеются все необходимые для этого ресурсы. С учетом мандата, полученного от американских законодателей и общественности, ФРС не имеет большого выбора и вынуждена будет и дальше ставить перед собой прежде всего внутриполитические задачи, не обращая внимания на нежелательные последствия для тех стран, от которых не исходит угрозы экспорта экономической нестабильности в Соединенные Штаты. Но если уж Вашингтон не способен руководить, он по крайней мере должен не мешать другим искать способы стабилизации своей экономики и отказаться от призывов применения санкций против государств, предпринимающих законные меры для защиты от будущих шоков, вызванных политикой ФРС, даже если эти страны прибегают к манипулированию валютно-обменными курсами. Потому что, как показывает хаос на Украине, глубокие финансовые кризисы нередко перерастают в еще худшие политические кризисы, и в грядущие годы мир, скорее всего, столкнется не с одним таким кризисом.

Успокоить Запад, уравновесить Восток
Новая стратегия России в Азии
Т.В. Бордачёв – кандидат политических наук, директор Центра комплексных международных и европейских исследований НИУ ВШЭ, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.
Е.А. Канаев – доктор исторических наук, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.
Резюме Россия, которая исторически является прежде всего военной державой, впервые имеет шанс выйти в Азиатско-Тихоокеанский регион как фактор мира. Это необходимо и для равновесия в АТР, и для ее собственного развития.
Статья подготовлена в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ 2014 г. на основе доклада авторов для встречи Консорциума научных и образовательных учреждений Китая, Норвегии, России, Сингапура, Южной Кореи и Японии.
Поворот России к Азии – это не возможность, которой страна вольна воспользоваться или нет, а объективная необходимость. Содержанием поворота должны стать ускоренное перераспределение торгово-экономических связей и потоков, дипломатических усилий и человеческих контактов в сторону государств Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Результатом – новая роль России в мире, соответствующая потребностям ее внутреннего развития и требованиям внешнего мира. Наиболее фундаментальный сдвиг можно ожидать в массовом сознании россиян и нужно способствовать ему – необходимо начать жить своим умом, открыться миру и, пользуясь выражением отца китайского экономического чуда Дэн Сяопина, «освободить свое мышление» об этом мире.
Этот поворот происходит в условиях постепенного изменения всей парадигмы развития азиатского региона. В одних случаях (Китай, Малайзия) оно уже началось, в других (большинство стран АСЕАН) – близится переход от модели «Азия – всемирная фабрика» к модели «Азия – гигантский рынок». Стремительно растут темпы внутрирегиональной и внутристрановой торговли, увеличиваются города и численность горожан-потребителей. Начинают размываться остатки колониальной системы эксплуатации производительных сил Азии. Более того, сами азиатские государства уже переносят производство и инвестируют в Африку и Латинскую Америку. Не исключено, что новый тип азиатского развития бросит вызов и регулятивной силе Запада – его монопольному пока праву сертифицировать качество товаров и услуг, развивать одни инновации и тормозить другие.
Поворот России на Восток и качественная интенсификация первоначально политических, а затем и торгово-экономических отношений со странами Азии уже стал одной из важнейших составляющих национальной стратегии. Смещение центра мировой экономики и политики в АТР происходит объективно, а потенциал сотрудничества со странами Азии для реализации национального проекта XXI века – подъема Сибири и Дальнего Востока – колоссален.
В ближайшие годы стратегия России в Азии будет формироваться и осуществляться под воздействием трех важнейших факторов международно-политического характера. Во-первых, достигнута – впервые с конца 1980-х гг. – относительная определенность намерений и практической политики России и Запада, в первую очередь США. Они вступили в достаточно продолжительный период «новой холодной войны». В ближайшие годы поведение сторон будет характеризоваться стремлением «отсекать щупальца» и «заполнять пустоты» на региональном – в Евразии, но отчасти и на глобальном уровне. При этом конфронтационная линия в отношении России с попытками всячески ограничивать ее возможности сохранится в Соединенных Штатах на 5–10 лет независимо от партийной принадлежности вашингтонской администрации.
В американской политике по отношению к России традиционно шла борьба между двумя стратегиями, которые условно можно назвать по именам наиболее ярких их представителей – Киссинджера и Бжезинского. Первая была основана на прагматичном понимании того, что после исчезновения в 1991 г. идеологической составляющей противостояния Восток–Запад отношения с Россией медленно, хотя и не без конфликтов, двигаются к сближению. Как на ценностном, так и на регулятивном и экономическом уровне. Вторая – «стратегия Бжезинского» – последовательно вела дело к тому, чтобы «дожать» Россию, окружить союзниками США и в конце концов добиться ее разоружения, а то и расчленения. В конце 2013 г. возобладали сторонники идей мыслителя польского происхождения, и Соединенные Штаты начали новый раунд холодной войны.
Результатом этого стратегически ошибочного решения станет в современных условиях не победа США, а их ослабление. Однако консенсус в отношении России, сформировавшийся в качестве реакции американской элиты на события вокруг Украины, не может быть пересмотрен в обозримом будущем. Вашингтон будет вновь и вновь провоцировать дипломатические и даже военные кризисы, вмешиваться в зоны российских интересов. Поворот к Азии необходим России для обретения достаточной степени уверенности и снижения собственной уязвимости перед этими агрессивными выпадами.
Вряд ли у нас появятся и возможности для качественного улучшения отношений с Европейским союзом. Хотя в данном случае России, скорее всего, удастся избежать деградации торгово-экономической составляющей взаимосвязей. Европейцы продолжат торговать с Россией, покупать ее энергоресурсы и продавать ей товары высокой степени переработки – вплоть до вооружений. Однако станут последовательно ограничивать российские международно-политические возможности и доступ к современным технологиям и инновациям.
Во-вторых, стратегическая деградация политических, а затем, возможно, и торгово-экономических отношений между Китаем и Соединенными Штатами приняла необратимый характер. Она ведет к конкуренции в сфере международной безопасности, выдвижению альтернативных и взаимоисключающих интеграционных проектов, производным от этого негативным последствиям для мира и стабильности в АТР.
Несмотря на сохраняющийся объем взаимозависимости между США и Китаем, основа для которого была заложена в «золотую эру» отношений между 1971 и 1989 гг., и широкую сеть контактов в бизнесе, науке и образовании, сторонам едва ли удастся преодолеть растущее недоверие. Соединенные Штаты будут в среднесрочной перспективе склоняться к защите своих интересов в АТР все более традиционными способами – путем укрепления отношений с союзниками и создания новых военных партнерств. Пока наиболее вероятно, что Вашингтон будет подталкивать к активизации военно-политического сотрудничества Вьетнам. Начался процесс милитаризации Японии.
Китаю, в свою очередь, придется искать способы если не прорыва стратегического окружения на востоке и юго-востоке, то компенсации его последствий. Не способствует региональной стабильности и давление КНР и США на средние и малые страны АТР, из-за чего они окажутся перед необходимостью выбора стратегического союзника. Они будут пытаться играть на противоречиях между гигантами, но с каждым новым обострением избежать эскалации труднее.
Все это неизбежно способствует росту взаимной заинтересованности Россией и КНР, стремлению к тому, чтобы совершенствовать умение достигать компромисса, расширять зону доверия и сотрудничества, в первую очередь в отношении региона Центральной Азии, Монголии и Северной Кореи. Появятся возможности по-новому структурировать отношения Москвы и Пекина в сфере торговли и инвестиций.
И, наконец, третьим фактором является то, что запрос на системную и комплексную государственную политику реализации национального проекта XXI века – подъема Сибири и Дальнего Востока – носит объективный характер.
Современный подъем Сибири и Дальнего Востока впервые за всю историю вхождения этих земель в состав России не связан с конъюнктурными соображениями или субъективными представлениями отдельных политических деятелей. Весь комплекс правительственных решений и мероприятий, направленный на качественное изменение к лучшему социально-экономической ситуации в Зауральской России, имеет целью становление всей страны в качестве полноценно и всесторонне развитого живого организма.
Развитие Сибири и Дальнего Востока сейчас – это повышение качества всего Российского государства, а не отдельной его географической составляющей. Оно невозможно без открытия для Азии, создания новых для российской практики условий работы зарубежных и отечественных инвесторов, повышения уровня доверия в политических взаимоотношениях России с азиатскими странами, качественного расширения возможностей для человеческих контактов. И оно необходимо, чтобы сохранить устойчивость на случай долгосрочного противостояния с Западом.
Подводя итог оценке нового стратегического контекста, необходимо подчеркнуть, что внешние и внутренние условия еще никогда не были настолько благоприятными для рывка к полноценному становлению России в качестве азиатско-тихоокеанской державы. Необходимо воспользоваться этими возможностями – выступить в качестве надежного балансира в сложной геостратегической ситуации АТР, снизить риски и угрозы из-за океана и реализовать уникальный инвестиционный потенциал Сибири и Дальнего Востока, ориентируя его на рынки стран Азии.
Что уже сделано и не сделано
Последние полтора-два года Россия постепенно, но последовательно перестраивалась на азиатский вектор. Знаковым стало заявление президента Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2013 г., что форсировать рост Россия сможет, лишь ориентировав свой экспорт на расширяющиеся азиатские рынки. Отношение к азиатскому вектору российской внешней политики и к развитию Сибири и Дальнего Востока среди российской политической и интеллектуальной элиты начало меняться.
Раньше возможный поворот на Восток нередко воспринимался как продукт авторитарного инстинкта российской власти, противоестественный для политической и культурной традиции страны. Но теперь практически общепринятым стало осознание того, что использование возможностей азиатского роста в интересах восточных регионов и России в целом необходимо. Обвальное ухудшение отношений России и стран Запада в первые месяцы 2014 г. будет, несомненно, способствовать повороту к Азии.
Важным символическим шагом стал саммит АТЭС 2012 г. во Владивостоке. Принимающая сторона предложила амбициозную повестку, предполагающую ускоренную интеграцию во многие экономико-политические процессы АТР. На саммите взят курс на либерализацию торговли в регионе и, в частности, разработан список из 54 наименований экологических товаров, которые будут торговаться в регионе практически беспошлинно. Россия готова взять на себя функции одного из ключевых игроков в обеспечении продовольственной безопасности этой части мира. Достигнуты договоренности в сфере развития транспорта и инновационного сотрудничества, построения единого образовательного и научного пространства.
Ряд инициатив получили развитие в 2013 году. Так, на следующем саммите АТЭС на Бали принято обязательство воздержаться от внедрения каких-либо протекционистских мер в отношении торговли и инвестиционного сотрудничества до 2016 года. Выработан механизм торговли экологическими товарами (тарифы по ним к концу 2015 г. должны быть снижены до 5% или более низкого уровня). На Восточноазиатском саммите в 2013 г. продолжилось обсуждение затронутой во Владивостоке темы продовольственной безопасности. Расширенная трактовка Россией сотрудничества в сфере инноваций, предложенная на АТЭС-2014, с акцентом на развитие человеческого капитала и рост образовательных обменов получила развитие во время Брунейской сессии Восточноазиатского саммита в 2013 году.
Однако дипломатические успехи пока не сопровождаются экономическими. Доля экономик АТЭС в товарообороте России достигла в 2013 г. рекордных 24,8%, хотя этот рост во многом компенсационный и обусловлен снижением доли ЕС, болезненно проходящего период восстановления после кризиса и снижающего спрос на импортные товары. Абсолютная величина торгового оборота России с экономиками АТЭС выросла на 9% по сравнению с 2012 г. (23,9%), это пока все еще слишком мало для того, чтобы можно было говорить о прорыве, и все еще более чем в два раза отстает от доли стран Европейского союза (49,7%).
Российский экспорт в экономики АТЭС в 2013 г. остался на уровне 2012 года. Эта доля медленно растет, но в основном за счет увеличения импорта товаров широкого потребления из этих стран. Российские производители промышленной продукции (за исключением ВПК) на азиатские рынки практически не вышли – основу экспорта составляет сырье. Заключенные в 2013–2014 гг. новые соглашения о поставке энергетических ресурсов в Японию и Китай лишь усугубят сырьевой перекос в российском участии. В инвестиционных отношениях России со странами Азии отсутствует пока и ярко выраженная положительная динамика, на общем фоне выделяется Южная Корея, которая только в 2012 г. нарастила объем инвестиций в российское машиностроение с 0,78 до 0,95 млрд долларов.
Непросто складывалась ситуация вокруг реализации политики развития Сибири и Дальнего Востока, которая была заявлена в послании президента Владимира Путина как «наш национальный приоритет на весь XXI век». Провал первого этапа был открыто признан осенью 2013 г., что стало поводом для серьезных кадровых решений. Пост министра по развитию Дальнего Востока занял молодой и талантливый управленец Александр Галушка. На должность заместителя председателя правительства и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) назначен Юрий Трутнев.
Новая модель развития восточных территорий России обозначена в октябре 2013 года. Наконец заявлено, что единственным перспективным способом развития данных территорий является поддержка производств, ориентированных на экспорт в АТР, а также открытие региона для иностранных инвестиций. Для стимулирования их притока предполагается организация территорий опережающего развития, предоставляющих инвесторам благоприятный инвестиционный, налоговый и административный режим.
Для оптимизации взаимодействия с инвесторами Минвостокразвития будет располагаться в нескольких городах: столице ДФО Хабаровске, крупнейшем городе округа Владивостоке, а также в Москве. Самый большой штат предполагается во Владивостоке, но ни один из офисов не будет обозначен как центральный. Кроме того, для облегчения работы министерства создается ряд новых ведомств – ОАО «Дальний Восток», занимающееся организацией территорий опережающего развития, Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Дальнего Востока, которое будет работать с инвесторами и экспортерами, а также Агентство по развитию человеческого капитала Дальнего Востока.
К лету 2014 г. правительству удалось определить, где конкретно будут организованы территории опережающего развития, а также выпустить все правовые нормативные акты. Прорабатывается возможность переноса на восток офисов некоторых госкомпаний (главный претендент на переезд – «Русгидро», но речь также идет о «Роснефти», «Транснефти» и «Росгеологии»). Решение нацелено на пополнение региональных бюджетов и будет иметь большое символическое значение – дать знак талантливой молодежи Сибири и Дальнего Востока, что карьеру можно сделать и на своей малой родине, не уезжая в Москву или за границу. На это же направлен и начавшийся перенос на Дальний Восток некоторых федеральных ведомств (первым из них стало Росрыболовство). На Дальнем Востоке в перспективе образуется де-факто третья федеральная столица.
Приоритеты и средства российской политики
Несмотря на описанные сложности, правительство активизировало и улучшило государственную политику по гармоничному социально-экономическому развитию востока России и построению там экспортно-ориентированной экономики. Стратегия в Азии в данном контексте должна быть сосредоточена на решении трех групп задач.
Во-первых, повысить уровень доверия и доверительности между Россией и странами Азии на государственном, корпоративном и человеческом уровне. Без доверия не будет инвестиций, а без инвестиций не будет развития.
Во-вторых, необходимо качественно, кратно, увеличить масштаб участия в региональных делах, ответив на сформировавшийся в последние годы «запрос на Россию». Пока Москва делает гораздо меньше, чем от нее ожидают региональные игроки, особенно из числа средних и малых государств.
В-третьих, планомерно снижать издержки – политические и экономические, включая технологии и финансы – от качественного ухудшения в отношениях России и Запада. Многие технологии и ресурсы, доступ к которым будет ограничен в ближайшие годы на Западе, Россия может получить на Востоке.
С целью реализации этих трех политик в новых стратегических условиях приоритетами должны стать практические шаги по целому ряду направлений и сюжетов.
В первую очередь в оптимизации нуждается вся сложившаяся система сотрудничества с Китаем. Это подразумевает еще более твердый курс на укрепление стратегического партнерства с КНР, разрешение существующих и потенциальных проблем и недопониманий – в сфере энергетики, вокруг Центральной Азии, по поводу реализации потенциала Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Необходимо наращивать сотрудничество в рамках региональных диалоговых площадок и форумов – таких как АРФ, СМО АСЕАН+8, ВАС и СВМДА. Более четкая позиция России по вопросам, которые вызывают обеспокоенность Китая на море, может помочь снять взаимную обеспокоенность на суше.
Государственный визит в Китай президента Путина уже ознаменовал новую эру. Фактически Россия переориентировала стратегию экспорта энергоносителей на АТР, и в перспективе тенденция будет лишь укрепляться. Можно ожидать, что объем российских поставок газа лишь в Китай будет через 10–12 лет сопоставим с поставками в Европу. Это не только выведет на новый уровень российско-китайское стратегическое партнерство, но и укрепит роль России и КНР в АТР и мире в целом.
Перспективным направлением станет дальнейшая разработка и детализация такой темы, как «наращивание взаимосвязей». Это – один из приоритетов китайского председательства в АТЭС, отражающий уже упоминавшийся в начале этой статьи «поворот Азии к Азии» – укрепление именно внутрирегиональных торгово-экономических связей. Со своей стороны, Россия уже приступила к разработке этого направления на экспертном уровне. Это откроет дополнительные возможности российско-китайского сотрудничества, в частности в Юго-Восточной Азии. «Десятка» стран АСЕАН с 2010 г. проводит реализацию мероприятий в рамках «Мастер-плана АСЕАН по наращиванию взаимосвязей», усматривая один из факторов успеха в расширении сотрудничества с внерегиональными партнерами. Развитие транспортной инфраструктуры – основная составляющая стратегии «взаимосвязей» – полностью отвечает долгосрочным российским интересам в отношении Сибири и Дальнего Востока. Необходимо серьезно отнестись и к идее «нового шелкового пути», которую продвигает Пекин.
Целесообразно максимально снизить негативные эффекты от вынужденного присоединения Японии и Южной Кореи к санкциям Запада в отношении России. Совместно с японскими и южнокорейскими партнерами необходимо в ходе формальных и неформальных консультаций искать способ того, как вывести набирающие темпы двусторонние отношения из-под удара «санкционной лихорадки» США. И хотя многое зависит от того, как будут складываться отношения Токио и Сеула с Вашингтоном, их взаимодействие с Москвой отмечено тенденцией к отделению политики от экономики.
Несмотря на присоединение Японии и Республики Корея к антироссийским санкциям, их бизнес-круги не только не снизили, но даже расширили и диверсифицировали сотрудничество с Россией. Возможно, для укрепления торгово-экономических отношений с Южной Кореей и Японией России стоит использовать институты и механизмы Таможенного союза, а с января 2015 г. – и Евразийского союза. Этому может способствовать и «евразийская стратегия» Сеула, выдвинутая осенью 2013 г., и, при творческом отношении со стороны России, инициатива «новый шелковый путь», продвигаемая сейчас Китаем.
Требуется системный подход к участию в региональных интеграционных объединениях и инициативах. Нужна серьезная работа по оценке потенциала всех интеграционных объединений и инициатив в АТР, имея в виду вероятность их использования, а при определенных условиях и подчинения задаче осуществления трех политик в Азии. Необходимо конкретизировать стратегические и тактические цели участия в заседаниях таких многосторонних форматов, как Региональный форум АСЕАН, Совещание министров обороны АСЕАН+8, Восточноазиатский саммит и Расширенный морской Форум АСЕАН+8.
Не менее важно уточнить целесообразность заключения Зоны свободной торговли с АСЕАН, а через нее – присоединения к Региональному всеобъемлющему экономическому партнерству с точки зрения экономических и геополитических последствий. Наконец, России стоит просчитать выгоды и издержки своего возможного присоединения к Соглашению о региональном сотрудничестве в борьбе с пиратством и нападением на суда в Азии.
Необходимо дальнейшее совершенствование дипломатического подхода России к Азии и, где возможно, повышение роли российского фактора в урегулировании региональных конфликтов и споров. Потенциалом обладает Механизм обеспечения мира и безопасности в Северо-Восточной Азии – рабочая группа, созданная участниками Шестисторонних переговоров. Ее заседания можно проводить и без участия КНДР. Потребность очевидна: отдельную проблему безопасности Северо-Восточной Азии невозможно решить без общего оздоровления обстановки в субрегионе, где обострились погранично-территориальные проблемы, китайско-американские противоречия по системе ПРО, будущему американских альянсов и пр. В таких условиях Механизм обеспечения мира и безопасности в СВА может стать форумом, где эти и иные проблемы получили бы освещение, укрепляя доверие между пятью ведущими государствами Северо-Восточной Азии. Повестку переговоров будет определять Россия как формальный председатель Рабочей группы.
Особенно важно обеспечить участие России в грядущем открытии Северной Кореи, что требует расширения торгово-экономических и инвестиционных связей между Россией и КНДР. В планах Москвы и Пхеньяна – довести ежегодный объем взаимной торговли до миллиарда долларов к 2020 г. с нынешних 80–120 млн долларов, перейти на расчеты в рублях, наладить межбанковское взаимодействие, а также реализовать ряд проектов по модернизации горнодобывающей промышленности, энергетики и гражданского автомобилестроения КНДР.
Россия должна внести вклад в снижение остроты противоречий, связанных с Южно-Китайским морем и свободой судоходства. Это можно сделать, нарастив поставки нефти и газа претендентам на спорные архипелаги Парасельский и Спратли, а также развивая собственные транспортные коридоры – Транссибирскую магистраль и Северный морской путь, тем самым снизив интенсивность грузопотока, проходящего через Малаккский пролив.
Россия способна предложить участникам Восточноазиатского саммита принять документ, регламентирующий поведение стран региона на морских пространствах АТР, в том числе в Южно-Китайском море. В качестве модели стоит обратить внимание на отдельные положения Соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним, заключенного между СССР и США в 1972 году.
Чтобы придать новой азиатской стратегии больший вес и содержательность, России нужно выдвинуть несколько крупных стратегических инициатив в экономической области.
Создание специализированной региональной площадки многостороннего сотрудничества по обеспечению энергетической безопасности АТР. Это стало бы логическим продолжением разворота российского экспорта энергоносителей. Перспективный проект – «Региональное энергетическое кольцо Северо-Восточной Азии» (Northeast Asia Regional Electric System Ties, NEAREST), нацеленный на строительство новых мощностей электроэнергетики в Сибири и на Дальнем Востоке и экспорт электроэнергии в страны АТР.Строительство на Дальнем Востоке нефтеналивного «хаба», сопоставимого по масштабам с сингапурскими или южнокорейскими мощностями.Совместно с участниками Восточноазиатского саммита – создание Восточноазиатского зернового фонда в рамках Восточноазиатского саммита (по аналогии с Восточноазиатским рисовым фондом в АСЕАН+3). Параллельное выстраивание в Сибири и на Дальнем Востоке инфраструктуры зернового экспорта в АТР.Выдвижение «Мастер-плана наращивания взаимосвязей между участниками Восточноазиатского саммита». В настоящее время тему «наращивания взаимосвязей» активно прорабатывают АСЕАН и АТЭС. Между тем Ассоциация является субрегиональной диалоговой площадкой с достаточно узким составом участников, а АТЭС – напротив, широким. В этой связи наращивание взаимосвязей между участниками Восточноазиатского саммита, куда входят ключевые субъекты региональной политики и безопасности, стало бы логичным и своевременным шагом, отвечающим духу предложенной Россией концепции «неделимой безопасности».Формирование региональной системы мониторинга продовольственной ситуации для сбора и анализа информации. Россия могла бы предложить партнерам в АТР свои возможности в сфере космических технологий – ГЛОНАСС и иные навигационные системы, дистанционный мониторинг объектов инфраструктуры и пр. Эта задача тем более актуальна, что АТР – регион повышенной сейсмической активности, и во время стихийных бедствий нужно своевременно обеспечить продовольствием большое количество людей.
Реализация новой стратегии России в Азии – дело непростое, оно столкнется с многочисленными препятствиями внутри страны и вовне. Однако есть и одно неоспоримое преимущество – хотя Россия остается великой военной державой, достижение целей и задач отечественной политики не предполагает вступления в гонку за региональное превосходство в Азии.
В свои лучшие времена СССР был готов конкурировать за военно-политическое доминирование и с Китаем, и с США. Москва поддерживала коммунистические партии и повстанцев, опиралась на верных союзников, среди которых центральное место занимал Вьетнам. В наши дни Вашингтон и Пекин, хотя и по-разному, но стремятся к расширению присутствия и усилению контроля над решениями и действиями средних и малых государств Азии.
Россия, со своей стороны, не нуждается в создании зоны военно-политического доминирования. Россия, которая исторически является военной державой, впервые имеет шанс выйти в Азиатско-Тихоокеанский регион как фактор мира. И именно поэтому она может стать уникальным, необходимым для региона игроком, который сможет сбалансировать Азию в XXI веке.
Не та демократия
Архаизация ценностей на Ближнем Востоке после распада СССР
В.В. Костенко – научный сотрудник Лаборатории сравнительных социальных исследований (ЛССИ) НИУ ВШЭ.
П.А. Кузьмичёв – исследователь-стажер ЛССИ.
Э.Д. Понарин – заведующий ЛССИ, профессор кафедры методов и технологий социологических исследований Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ.
Резюме Положительное отношение к демократии на Ближнем Востоке широко декларируется. Правда, при ближайшем рассмотрении выясняется, что в массе арабские народы понимают под этим термином совсем не то, что на Западе.
Влияние СССР на страны-сателлиты в арабском регионе имело выраженную модернизационную направленность. Уход Советского Союза с геополитической арены способствовал архаизации и укреплению радикальной повестки дня в тех арабо-мусульманских странах, которые ранее были от него зависимы или ориентированы на социалистическую систему. Этот поворот, несмотря на распространение высшего образования, особенно заметен среди молодого поколения, чьи взгляды на права человека и в первую очередь на положение женщин подверглись значительному влиянию фундаменталистов, поддерживаемых Саудовской Аравией и другими монархиями Персидского залива. Между тем положительное отношение к демократии в этом регионе широко декларируется. Правда, при ближайшем рассмотрении выясняется, что в массе арабские народы понимают под этим термином совсем не то, что на Западе. Ни одно из арабских обществ нельзя назвать электоральной демократией; кроме того, в арабских странах отсутствуют ценностные предпосылки для демократических преобразований. Очень вероятно, что в ближайшие годы все они сохранят авторитарный характер своих режимов.
Противоречивые ценности
После событий 11 сентября 2001 г. Арабский Восток привлекает внимание политиков и исследователей во всем мире. Благодаря средствам массовой информации этот регион воспринимается широкой публикой как центр сосредоточения мирового терроризма, а после событий «арабской весны», череды революций в регионе – еще и как фактор, дестабилизирующий мировую политическую ситуацию. Нередко знания участников дискуссии о регионе страдают значительными пробелами, что связано с закрытостью и недостатком объективной информации о происходящих там процессах.
Достоверные сравнительные данные опросов на Ближнем Востоке появились только в 2009 г., когда были опубликованы первые результаты проекта «Арабский барометр», начатого международной командой исследователей в семи странах региона в 2006 году. Эти данные мы, группа ученых НИУ ВШЭ, использовали, чтобы проверить, как жители арабских стран относятся к демократии.
Чтобы понять, как меняются ценности населения арабских стран в динамике, мы сопоставили различные возрастные когорты, применяя наиболее продуктивный метод при отсутствии более ранних данных. В социологической литературе принято считать, что период формирования политических установок приходится на молодежь 20–25 летнего возраста. В дальнейшем представления людей о политике и обществе трансформируются весьма незначительно, даже если окружающие придерживаются других взглядов. В связи с этим мы считаем, что взгляды пожилых людей приблизительно отражают общественное мнение страны во времена их молодости.
Поскольку термин «демократия» можно понимать по-разному, мы сопоставляем мнения респондентов о желательности демократии с их мнением по поводу прав женщин, а также по поводу того, являются ли демократиями такие страны, как, например, Саудовская Аравия.
На Рисунке 1 в графическом виде представлены средние значения по вопросу «Считаете ли вы, что данная страна является демократией?» со шкалой от 1 (тоталитарный режим) до 10 (демократия). Представители арабских обществ оценивали уровень демократии в собственной стране, Израиле, Китае, США, Японии, Саудовской Аравии, Турции и Иране.
Видно, что жители арабских стран нередко оценивают демократичность разных стран не по формальным признакам (свободные выборы, волеизъявление народа, разделение ветвей власти, опора на конституцию, соблюдение прав человека и т.д.), а по общему положительному или отрицательному восприятию, формируемому через СМИ. Например, население Марокко считает Саудовскую Аравию более демократическим обществом, чем Турция, Израиль и их собственная страна. Впрочем, многие тенденции соответствуют западному восприятию: так, Япония представляется вполне демократической страной во всех исследуемых арабских обществах, а Саудовская Аравия в основном получает относительно низкие оценки. Поэтому напрямую интерпретировать вопрос о поддержке демократии в данных обществах было бы неправильно, это привело бы к неверным оценкам ситуации в регионе.
Для корректировки результатов опросов о демократии мы используем мнение участников по другой теме, на первый взгляд не связанной с политическими взглядами, – отношение к положению женщин в обществе. Хотя, казалось бы, затрагивается совершенно иная сфера жизни, исследования показывают ее прямую связь с поддержкой демократии. Отношение к положению женщин помогает выявить, насколько декларируемая поддержка демократии в арабских обществах связана с пониманием основных прав человека, без которых концепт демократии оказывается выхолощенным. Мы анализируем отношение к гендерному равноправию в семи арабских обществах, используя такие факторы, как степень религиозности и поддержка демократии, а также контролируя результаты по полу, возрасту и образованию.
Как образование и религиозность влияют на поддержку гендерного равноправия
Чтобы учесть влияние демографических переменных, а также образования и религиозности на поддержку гендерного равноправия, мы используем множественную линейную регрессию.
Формальное моделирование подтверждает, что женщины на Арабском Востоке (как и во всем мире) значительно больше склонны поддерживать гендерное равноправие, чем мужчины. Эффект образования также предсказуем и линеен: более образованные люди значительно чаще поддерживают равноправие. Что касается различий между странами, население Ливана демонстрирует наиболее эгалитарные гендерные подходы, в то время как самой консервативной страной в выборке является Йемен (по реальным правам женщин он находится на последнем месте в мире). Относительно симпатий к демократии, Кувейт оказывается второй по уровню либеральности страной, оттесняя Марокко на третье место.
Частота чтения Корана, взятая в данном исследовании как мера религиозности, обратно пропорциональна поддержке гендерного равноправия, то есть наиболее религиозные мусульмане придерживаются самых консервативных представлений о положении женщин в обществе, что соответствует общемировым трендам.
Статистический анализ подтверждает, что старшие поколения на Арабском Востоке более склонны одобрять гендерное равноправие, чем молодежь, что противоречит тенденциям, которые наблюдаются в других странах мира в ходе модернизации. Когорта молодых людей в возрасте от 25 до 34 лет демонстрирует наиболее консервативные взгляды, а самая пожилая группа (те, кому больше 65 лет) – наиболее эгалитарные позиции в отношении гендерного равноправия.
Это неожиданный эффект с точки зрения теории модернизации Рональда Инглхарта и Кристиана Вельцеля. Анализ данных Всемирного исследования ценностей, которым занимаются сотни ученых во всем мире, показывает, что почти во всех обществах пожилые люди во всех смыслах более консервативны, а по мере возрастания уровня жизни новые поколения становятся более открытыми новому и перестают следовать старым консервативным нормам и ценностям во всех областях. Неожиданный тренд, обнаруженный на Ближнем Востоке, заслуживает отдельного изучения, однако мы можем предложить несколько объяснений этому феномену, используя исторические аргументы.
Одно из них связано с политической историей региона. Период формирования политических взглядов старшего поколения на Арабском Востоке пришелся на время антиколониальных войн 1950–1960-х годов. Борьба арабских народов за независимость от метрополий была скорее светским, чем религиозным движением, и господствующей идеологией в то время являлся панарабизм и национализм, а не панисламизм. Большая часть молодых арабских государств как финансово, так и идеологически поддерживалась Советским Союзом, который пропагандировал гендерное равенство (известный тезис об «освобожденной женщине Востока»), кроме того, имел собственный опыт борьбы с неравенством возможностей для женщин в Средней Азии и на Кавказе. Эти идеи усваивались молодыми людьми от 15 до 25 лет. Как предполагает теория социализации, социальные нормы, принятые в этом возрасте, остаются с человеком на всю жизнь и подвергаются лишь незначительным изменениям.
Говоря о самом консервативном поколении (людях конца 1970-х – начала 1980-х гг. рождения), в русле той же теории мы полагаем, что по меньшей мере два исторических события повлияли на их отношение к гендерному равноправию. Одно из них – окончание холодной войны, которое привело к архаизации некоторых обществ Ближнего Востока в связи с резким сокращением, а затем и прекращением финансовой поддержки от СССР, как, например, в Йемене. Одновременно международный престиж США и их геополитических союзников резко возрос, а на Ближнем Востоке партнерами Америки были консервативные нефтяные монархии Персидского залива. Эти страны, и без того обладавшие значительным символическим капиталом в мусульманском мире (в Саудовской Аравии находятся главные центры ислама – Мекка и Медина), получили возможность транслировать свои крайне консервативные позиции на весь Ближний Восток с помощью телевидения, а также сети религиозных школ и училищ.
Интересно выяснить, каким образом архаизация ценностей арабской молодежи связана с революционными процессами, начавшимися в регионе с 2012 г. под вывеской «арабской весны». На первый взгляд, эти две тенденции покажутся противоречащими друг другу, поскольку стремление к смене устаревшего, архаичного режима обычно коррелирует с ростом образования и формированием нового поколения молодых людей с более либеральными ценностными ориентациями. В то же время, как видно из результатов анализа данных, несмотря на рост уровня образования, молодежь на Арабском Востоке демонстрирует более консервативные взгляды, чем старшие поколения (чей средний уровень образования значительно ниже). Для анализа взаимной увязки этих феноменов были применены более сложные статистические техники (кластерный анализ и отрицательная биномиальная регрессия).
Поддержка демократии и гендерные подходы в арабо-мусульманских странах
Чтобы изучить связь поддержки демократии и гендерного равноправия, все респонденты были поделены на пять категорий по отношению к этим двум вопросам. Результаты этого анализа (распределение респондентов по предпочтениям в двухмерном пространстве) показаны в Таблице 1. Следует отметить, что характеристики представителей каждой категории носят вероятностный, а не абсолютный характер.
В кластер А объединены люди, одновременно поддерживающие демократию и либерально настроенные по отношению к гендерному равенству, таких в выборке около 17%. Это преимущественно женщины старше 45 лет, представителей поколения 25–34 лет в данном кластере очень мало. С большой вероятностью эти люди получили магистерскую степень и проживают в Ливане или в Марокко.
В кластере B представлены люди, для которых важно гендерное равноправие, но поддержка демократии у них низкая, их около 13%. Это люди разных возрастных групп, в основном женщины, без высшего образования. Больше всего представителей этой группы в Иордании, значимо меньше в Марокко, Ливане и Йемене.
Кластер C – это группа людей, отрицательно относящихся к равноправию полов, но поддерживающих демократию (18% от общей выборки). В этой группе значимо больше молодых (до 34 лет) мужчин с самым низким уровнем образования (вплоть до неграмотных). Граждан с такими взглядами значимо меньше в Ливане, Марокко, Палестине и Алжире.
Кластер D – группа противников демократии и гендерного равноправия, объединяющая 19% всех респондентов. В основном молодые (до 34 лет) мужчины, людей старше 55 в данной группе практически не встречается. Они обычно окончили среднюю школу или ПТУ, почти ни у кого из них нет высшего образования. Такие люди представлены во всех странах, кроме Марокко, Кувейта и Ливана.
Респонденты, объединенные в группы B и С, поддерживают гендерное равноправие и отрицательно относятся к демократии (В) или наоборот (С). Наличие двух больших групп, чьи взгляды неоднородны, может объяснить часть наблюдений, описанных в предыдущем разделе.
Кто поддерживает гендерное равноправие и демократию в арабских обществах?
Распределение стран между кластерами неравномерно. Население Ливана и Марокко, например, демонстрирует схожие тенденции. Так, многие жители этих стран сосредоточены в верхнем правом кластере А, то есть их представления о демократии и гендерном равноправии консистентны и либеральны, что приближает эту группу в ценностном отношении к жителям стран Западной Европы. Эти страны представлены и в других кластерах, кроме самого консервативного (D), но в значительно меньшей пропорции. Населения Ливана также практически нет в кластере C (поддержка демократии вкупе с отрицанием гендерного равноправия); похожие на Ливан результаты, однако с более слабыми коэффициентами, демонстрирует Кувейт.
Палестина и Йемен могут быть объединены в одну группу, противоположную Марокко и Ливану. Эти страны лучше всего представлены в нижнем левом (самом консервативном) кластере. Палестинское население также представлено в центральном кластере, а Йемен – в верхнем левом (C). Интересный феномен наблюдается в Алжире: он появляется в нижнем левом и верхнем правом кластерах, что говорит о значительной поляризации в обществе.
Поддержка демократии на Арабском Востоке связана с гендерным эгалитаризмом на очень низком уровне (коэффициент корреляции = 0,19), в некоторых странах связь положительная, в других – отрицательная. Статистический анализ показал, что в изучаемых обществах есть группы людей, поддерживающих либо демократию и гендерное равенство (таких около 17%), либо что-то одно, или ни то ни другое. Это наблюдение позволяет предположить, что понимание термина «демократия» в странах Арабского Востока может существенно отличаться от западных обществ (хотя и там дебаты на эту тему продолжаются по сей день).
Если респонденты не считают равноправие частью демократической системы, то следует с большой осторожностью относиться к заявлениям многих ученых о том, что большинство населения арабских стран пока безуспешно, но все же стремится к демократии. Мы полагаем, что лишь около 17% населения изученных обществ хотят жить в демократической стране (имея в виду либеральную демократию, права человека, эмансипативные ценности), а не 80%, как утверждает, например, Марк Тесслер и другие исследователи общественного мнения в этом регионе. Эти люди, в нашем исследовании входящие в кластер А, распределены по странам неравномерно: в основном это выходцы из Ливана и Марокко. Большинство из них женщины старше 45 лет с высшим образованием. Респонденты в возрасте 25–34 лет продемонстрировали необычно низкий уровень поддержки гендерного равноправия и практически отсутствуют в кластере А.
Это наблюдение показывает, что большинство в изученных обществах Ближнего Востока либо придерживается крайне консервативных взглядов по вопросам демократии и прав женщин, либо испытывает потребность в политических и общественных изменениях и называет свои стремления «демократией», но знает о сути такого устройства немного. Возможно, именно этим объясняется то, что «арабская весна», череда волнений и революций на Ближнем Востоке, начавшаяся в 2012 г., не привела к демократическому транзиту ни в одном из рассмотренных обществ. Поскольку эмансипативные ценности все еще разделяются меньшинством населения и в немногих странах региона, вряд ли стоит ожидать, что полноценные демократические режимы появятся там в ближайшее время.
Статистический анализ показал любопытную связь возраста, образования и политических установок. В частности, в каждой отдельно взятой возрастной группе более образованные люди демонстрируют более либеральные взгляды на положение женщин. Это говорит о том, что, с одной стороны, процесс модернизации на Арабском Востоке хотя и медленно, но происходит, идет урбанизация, молодежь значительно более образованна, чем старшие поколения. С другой стороны, в регионе существует и противоположная тенденция к архаизации. Мы видим, что молодые поколения, несмотря на более высокий уровень образования, консервативнее своих родителей, и особенно своих бабушек и дедушек. Этот тренд, противоречащий теоретическим ожиданиям, не наблюдается нигде в мире, кроме обществ этого региона. Особенно традиционалистских взглядов придерживаются люди, принадлежащие к когорте 1972–1982 годов рождения.


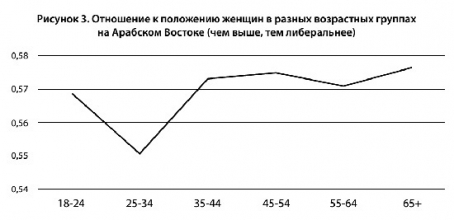
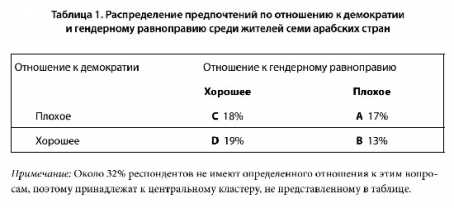

Слушать музыку революции?
Что несут социально-политические катаклизмы XXI века
А.Г. Аксенёнок – кандидат юридических наук, Чрезвычайный и Полномочный Посол, опытный дипломат, арабист, долго работавший во многих арабских странах, в том числе в качестве посла России в Алжире, а также спецпредставителем на Балканах и послом Российской Федерации в Словакии.
И.Д. Звягельская – доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН
Резюме Без понятных норм международного поведения в контексте «революционных вызовов» мир рискует скатиться к глобальному противостоянию не из-за системных противоречий, а из-за суетного игнорирования реальных общих угроз.
Конец прошлого – начало нынешнего столетия отмечены глубинными сдвигами в геополитике, мировой экономике и финансах. Парадигма международных отношений периода холодной войны, казалось, ушла в прошлое. Однако новые правила поведения государств, соответствующие изменившемуся миропорядку, так и не сложились.
Как показала практика, при всех идеологических и военно-политических издержках двухполюсная система все же была относительно устойчивой. Она обеспечивала баланс за счет довольно жестких ограничений, налагаемых на более слабые государства в регионах (союзников, партнеров великих держав). Существовала признанная всеми «красная черта», которую нельзя было переступать, а именно: провоцировать столкновение на глобальном уровне. Местные силы пытались добиться поддержки своего покровителя, порой не слишком обращая внимание на его собственные озабоченности, но в конечном итоге опасения неприемлемых рисков заставляли великие державы действовать сообща, оказывая давление на региональных союзников и вынуждая их к сдержанности.
Распад биполярной системы и невозможность соблюдать прежние правила игры в полицентричном мире сделали международные отношения более хаотичными. Региональные государственные и негосударственные субъекты стали вести себя активно, ориентируясь во многих случаях на поведение уже не сдерживаемых другим полюсом Соединенных Штатов. Вашингтон нередко проводил безответственную политику, не пытаясь просчитывать последствия собственных действий. Казалось, наступил период международного аутизма, когда, погрузившись в собственный мир и игнорируя интересы окружающих, международные игроки начали перекройку ялтинской системы.
Такие понятия, как суверенитет и территориальная целостность или национальное самоопределение, давно вступающие в коллизию друг с другом, размываются де-факто, превращаясь скорее в юридическую фикцию. Но нельзя рассматривать эти понятия и как взаимоисключающие. Право на самоопределение может быть реализовано в различных формах, в том числе в рамках федеративного государства или предоставления автономии отдельной этнической группе, что не нарушает территориальной целостности государства. Однако на практике рост этнонационализма, активность новых элит, заинтересованных в доступе к власти и собственности, приравняли понятие самоопределения к сецессии.
В сложившихся условиях могущественные государства все чаще используют принципы территориальной целостности и национального самоопределения для оправдания собственных «суверенных» решений, исходя из политической целесообразности. То есть так, как они видят ее на данный момент, в конкретно взятой ситуации или в порядке импульсивного реагирования на неправоправные, с их точки зрения, действия другой стороны.
Налицо столкновение двух разнонаправленных потоков: хаотизация мировой политики с применением военной силы «по выбору» и объективная потребность человечества в сохранении с таким трудом выстроенных интеграционных связей, которые предполагают определенную степень как финансово-экономической, так в каких-то вопросах и политической взаимозависимости.
Почему захлебывается «четвертая волна»?
Кризис вокруг Украины стал самым опасным эпизодом в череде конфликтов четверти века, хотя уже «арабская весна» послала крупным игрокам достаточно сигналов, чтобы те попытались неидеологизированно осмыслить объективные тренды, провели анализ допущенных просчетов и ошибок. И если до сих пор никто всерьез не воспринимал локальные конфликты современности, будь то югославский, иракский, ливийский и даже сирийский (воинственная риторика США в Совете Безопасности ООН в ответ на российские вето скорее была данью внутреннему и внешнему имиджу) как реальную угрозу международной безопасности, то противоборство на украинской почве заставило задуматься: а не скатывается ли мир вновь в пропасть холодной войны? Причем в ее худшем виде, когда теряется та степень взаимного доверия и способность слышать друг друга, которая в период системной конфронтации все-таки позволяла американским и советским руководителям находить развязки самых запутанных узлов напряженности напрямую.
Почему же отношения Россия–Запад дошли до крайнего предела? Скатывание от «стратегического партнерства» к новому витку противостояния предопределило количественное накопление взрывной массы раздражителей, непонимание или ложную интерпретацию мотивов друг друга. События, приведшие к столкновению вокруг Украины, развивались ползучим путем, но последовательно и с направленностью все дальше на восток, все ближе к границам России, к ее историческому культурно-национальному ареалу.
Если расширение НАТО на государства Восточной Европы, воспринимавшееся в России болезненно, со временем потеряло остроту конца 1990-х гг., то положение стало стремительно меняться с приближением амбиций Запада к границам постсоветского пространства. В то время как связи с Восточной и Центральной Европой в последнее десятилетие в целом были отмечены позитивной динамикой, под политической крышей так называемого «Восточного партнерства» велась работа по вовлечению бывших советских республик в орбиту Евросоюза. С учетом опыта трех предыдущих волн расширения Россия не могла рассматривать это иначе, как подготовку к их последующему вхождению в евроатлантический альянс (по сути, сложилось неписаное правило, по которому членом НАТО не может стать страна, не прошедшая через горнило сложнейших процедур вступления в Евросоюз).
Вслед за Грузией и Молдавией в эту очередь поставили и Украину. К политике сдерживания России Запад таким образом вернулся задолго до нынешнего украинского кризиса, прикрывая этот курс разговорами о партнерстве и недопустимости возврата борьбы за сферы влияния. В качестве одного из инструментов использовалась стратегия смены режимов, испытанная на Балканах, в Грузии, опробованная с тем или иным успехом в ряде других переходных стран. На Украине соблюсти демократические приличия не удалось. Когда там при откровенном вмешательстве Запада произошла силовая смена режима, в России, державшей до тех пор оборонительные позиции, сочли, что этот вызов не может остаться без ответа. Украина в российском общественном мнении и в официальной стратегии – это не только национальная безопасность и жизненно важные для экономик обеих стран кооперационные связи, но и многовековое духовное родство, культурная и языковая общность.
Важную роль в российской реакции сыграли соображения чисто охранительного свойства. В последние годы на Западе развернулась антироссийская кампания по самым различным поводам. Ужесточилась критика сложившихся здесь общественно-политических устоев, что, в свою очередь, вело к усилению консервативного уклона в самой России, в том числе и в качестве ответа на провал попыток сближения с Западом.
Во всей причинно-следственной цепочке действий и противодействий между Россией и Западом должно было существовать какое-то ключевое звено. Одним из таких звеньев стали принципиальные расхождения в восприятии революций современности и вызванных ими новых локальных или региональных угроз.
После завершения эпохи биполярного противостояния по Восточной и Центральной Европе, постсоветскому пространству и Ближнему Востоку прокатились три волны революций с совершенно разным балансом плюсов и минусов, потерь и приобретений. На рубеже 80-х –
90-х гг. прошлого века и Россия была вовлечена в движение обновления, полное внутренних противоречий, шагов вперед и откатов назад. Такие новые вызовы, как международный терроризм, всплеск этнических национализмов, наркотрафик, трансграничная преступность и иммиграционная активность вкупе с глобальным финансовым кризисом показали уязвимые места в функционировании политических систем и механизмов рыночной экономики даже в развитых государствах.
Если идеология коммунизма потерпела неудачу в мировом масштабе, а эволюционная модель постсоветской России не дала пока привлекательной альтернативы, то в системе либеральной демократии также вскрылись серьезные дефекты и дисфункции. Многие западные эксперты отмечают снижение качества демократии в США и Великобритании, участившиеся институциональные сбои, рост числа «дефектных демократий». Институт выборов, эта основная составляющая демократического правления, теряет в глазах избирателей, особенно молодежи, былую ценность (в Англии в парламентских выборах 2010 г. приняли участие лишь двое из пяти британцев в возрасте до 30 лет).
По прошествии четверти века стало окончательно понятно: «конца истории», предсказанного Фрэнсисом Фукуямой, не произошло. Позднее, анализируя «драматические перемены» в постиндустриальную эпоху в книге «Великий разрыв», он сам убедительно показал, что «история» в смысле победы либерализма как самой совершенной модели государственного устройства далеко не закончилась. На фоне «тяги к свободе выбора во всем» с конца второй половины XX века «глубокий упадок претерпевает доверие к общественно-политическим институтам». Демократия в том виде, как она исторически сложилась на Западе, раскрыла внутренние противоречия, что делает мессианские претензии большей части американского истеблишмента по меньшей мере наивным преувеличением.
Соединенным Штатам, внешняя политика которых скована идеологическими клише, не раз приходилось расплачиваться за свой «интервенционизм» или идеализацию революционной смены режимов сумбурными шагами на ближневосточном поле. Явные промахи допущены в оценках такого общественно-политического феномена, как «арабское пробуждение» XXI века. Революции в Египте и Тунисе как бы рефлекторно расценены как некое универсальное явление в победном шествии демократии. Проводились даже аналогии с «бархатными революциями» в странах Восточной и Центральной Европы. Вскоре для всех стало ясно – арабские революции не могут быть «бархатными».
Если европейские страны имели опыт буржуазно-демократического развития и строили свою идентичность во многом на отталкивании от коммунизма, видя Евросоюз как центр притяжения, то на Ближнем Востоке таких ориентиров не существовало. Нет их в достаточной степени и в большинстве республик бывшего Советского Союза. Украина здесь не исключение.
Национальное развитие территорий, на которых в силу особого исторического стечения обстоятельств образовалось нынешнее украинское государство, всегда проходило под влиянием двух тенденций – к самостийности и к государственно-культурной общности с Россией при явном преобладании последней. Искусственно слепленная из двух частей в результате военного рывка СССР на Запад в конце 1930-х гг., Украина так и осталась культурно и политически фрагментированной. Разные исторические нарративы и национальные герои, разная ментальность и специфика занятости, характерное для части жителей Западной Украины отторжение от России – все это выплеснулось наружу в эпоху самостоятельного национального существования. Украинская политическая элита, к сожалению, продемонстрировала неспособность к поискам общенационального сплочения, эксплуатируя украинский раскол и подменяя национальное служение жаждой обогащения и эгоистическими интересами. Самоуверенная политика нажима со стороны Евросоюза поставила Украину перед выбором, который она по определению была не способна сделать.
Бесцельное вмешательство
Говоря о нациестроительстве, имеющем много общего независимо от региональной специфики, нельзя не вспомнить провальный опыт первых попыток буржуазного реформаторства на Ближнем Востоке в конце XIX – начале XX веков. Политические системы Египта, Сирии и Ирака, скроенные тогда в основном по образцу западных, не привились на арабо-мусульманской почве. Как следствие, они были сметены чередой военных переворотов 50-х – 60-х годов прошлого века. Кардинальные перемены нынешнего столетия также разрушили миф о том, что развитие идет по магистральному пути от «авторитаризма» к «демократии», понимаемой большей частью политической элиты США как чисто американский продукт. Этакий «протестантский фундаментализм».
Новое поколение арабов, как и украинской молодежи, потрясло мир массовыми призывами к обновлению общественных устоев, к уважению человеческого достоинства и гражданских свобод, к социальной справедливости. Вскоре, однако, революционное переустройство Ближнего Востока перестало вписываться в демократический контекст. По мере нарастания неуправляемых процессов ближневосточная политика Соединенных Штатов и Европейского союза все чаще испытывала серьезные затруднения, становясь в целом ряде случаев заложницей традиционного мышления.
Мощный размах народных выступлений был вызван комплексом социально-экономических причин. Внешние факторы, конечно, работали, но на первых порах они играли скорее опосредованную роль. Вместе с тем по мере распространения «эффекта домино» Запад, как это бывало и в прошлых региональных конфликтах, априори взял курс на поддержку оппозиционных сил, не особенно считаясь с тем, насколько неоднороден их состав и сколь противоречивы политические установки. С этого момента внешнее вмешательство на стороне одной из конфликтующих сторон пошло по нарастающей, а расчеты приобрести политический капитал солидарностью с арабскими «демократическими революциями» все менее сообразовывались с тем, как разворачивались трансформационные процессы по региону в целом.
Судьба Ирака, оказавшегося на грани потери государственности и религиозной войны, явилась, теперь и на Западе, поводом для осмысления пагубных последствий американского вторжения в 2003 году. По признанию крупного специалиста в ближневосточных делах Ричарда Хааса, политика США в Ираке вела к «укреплению скорее конфессиональной, чем национальной идентичности». Подобно тому как Суэцкий кризис (1956) подстегнул подъем панарабского национализма, война западной коалиции против мусульманской страны спровоцировала небывалый взлет насилия со стороны радикального ислама и создала условия для расцвета «Аль-Каиды». Хрупкий баланс между правящим суннитским меньшинством и шиитским большинством, поддерживавшийся железной рукой Саддама Хусейна, в одночасье оказался нарушен в пользу шиитов. В итоге насаждение в Ираке парламентаризма западного типа обернулось образованием шиитского режима. Премьер-министр Нури аль-Малики проводил узкоконфессиональную политику, затруднявшую инклюзивное участие во власти других конфессиональных и этнических групп. Курды стали активно строить собственную автономию, а сунниты и христиане оказались лишены политического представительства. После роспуска армии и партии Баас, являвшейся стержнем политической системы, возникла мощная энергия внутреннего протеста.
Не меньший вред принесло активное, но беспорядочное американское участие в сложных переходных процессах в Египте. После недолгих колебаний Вашингтон бросил все свои политико-информационные ресурсы на поддержку египетской революции, вынудив Хосни Мубарака подать в отставку. Впоследствии, когда революционную волну оседлали исламисты, ставка была сделана на умеренное крыло «Братьев-мусульман», которые в новой обстановке сумели быстро стать влиятельной политической партией и одержать победу на парламентских и президентских выборах. Как и в ходе подъема исламизма в Алжире в 1990-е гг., вылившегося в десятилетнюю гражданскую войну, американцы оказывали постоянный нажим на возглавившую переходный процесс египетскую армию, вынуждая ее форсировать переход к гражданскому правлению, а по сути дела передачу власти исламистам. Поэтому «второе пришествие» армии в июле 2013 г. и отстранение демократически избранного президента-исламиста Мурси в результате событий, которые трудно назвать иначе как военный переворот, вновь поставили Белый дом в затруднительное положение.
Действия армии, пусть и по призыву вновь вышедших на улицы миллионных масс, не укладываются в антитезу – переворот против демократии или движение в защиту демократии от «исламской диктатуры». Просто потому, что демократии как таковой в Египте не было.
В мусульманском мире, где на почве отношения к политическому исламу произошел раскол, метаморфозы политики США вызвали отторжение как со стороны приверженцев нового военного режима, так и его противников, выступивших в поддержку «Братьев-мусульман».
Просчеты видны и в сирийском конфликте. Безоговорочная поддержка разношерстного оппозиционного движения в Сирии, в котором набирали силу «джихадистские» организации, связанные с «Аль-Каидой», и объявление априори нелегитимным правящего режима Асада предопределило не столько силу, сколько слабость американской дипломатии, лишило ее свободы маневра. Это сделало Вашингтон заложником непомерных амбициозных требований эмигрантских сирийских политиков и их региональных спонсоров, осложнило работу по подготовке Женевской конференции. Дело дошло до того, что политика Соединенных Штатов уже слишком явно стала играть на руку терроризму, которому американцы сами объявили войну. Это с особенной очевидностью проявилось летом 2014 г., когда военные успехи террористической организации «Исламское государство Сирии и Леванта» в Ираке поставили администрацию Обамы в еще более щепетильное положение.
В краткосрочном историческом плане баланс pro и con в смене режимов на Ближнем Востоке складывается не в пользу революций. Основная причина силового свержения власти кроется в неспособности удовлетворить базовые социально-экономические или политические запросы общества и выполнить данные обещания. Весь набор причин сконцентрировался в одно целое в арабском регионе, хотя за прошедшее десятилетие – и это нельзя не отметить – там шло развитие по пути модернизации и интеграции в мировую экономическую систему. Но эта эволюция, во-первых, значительно отставала от темпов развития в других регионах, например, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Во-вторых, она не затронула ключевые проблемы роста. Экономические реформы в Египте, Тунисе и Сирии создали прослойку среднего класса, но не смогли сузить пропасть имущественного неравенства. Плодами реформ воспользовалась узкая группа лиц, приближенных к власти. Представительные политические институты претерпели лишь имитационные изменения. При демократическом фасаде консервировались авторитарные методы правления, приобретавшие все более клановый непотический характер. Законы революционного хаоса заработали тогда, когда власть оказалась окончательно неспособна к регенерации политической системы, расширяющей участие граждан в выработке государственных решений, затрагивающих их жизненные интересы.
Революционные вызовы для всего мира
Переустройство обширного Арабского Востока протекает неравномерно, волнообразно, с попятными движениями. Тем не менее уже можно попытаться обобщить некоторые уроки, а также провести параллели с кризисами в других регионах.
Революции приходят не только в случаях консервации отживших форм государственно-политического устройства. Если в Сирии, например, монополия партии Баас на власть давно стала анахронизмом, а ее лозунг «Единство, свобода, социализм» потерял былую привлекательность, то десятилетняя гражданская война в Алжире во многом была следствием неподготовленных реформ и поспешных темпов демократизации, проведенной в конце 1980-х – начале 1990-х гг. под влиянием перемен в России, в Центральной и Восточной Европе.
Кризис унитарной модели государственности на Украине в сочетании с коррупционным и моральным разложением в верхах также показывает необходимость своевременного проведения реформ. Альтернативой этому стал революционный хаос, вооруженный конфликт на юго-востоке Украины и гуманитарный кризис.
За демократию в арабо-мусульманском регионе на Западе часто принимались существенные, но, как оказалось, формальные признаки, такие как организация избирательного процесса. При этом вне поля зрения оставались столь же, если не более, важные вопросы: способна ли политическая сила, победившая на выборах, строить общество в соответствии с надеждами революционных масс, можно ли продвигать демократию недемократическими методами. Выборы, конечно, важный инструмент демократии, но в отсутствии развитых институтов они не могут гарантировать перехода к демократическому правлению. В обществах, не разделяющих общедемократических ценностей, выигравшей оказывается сила, предлагающая наиболее простые рецепты переустройства, понятные и приемлемые для наиболее консервативной и многочисленной части электората. На палестинских выборах 2005 г. победило исламское движение ХАМАС (в считавшемся наиболее секулярном арабском обществе), а в ведущей арабской стране Египте с его «гибридным режимом» к власти пришли «Братья-мусульмане». Первое, что они сделали – внесли изменения в Конституцию, чтобы остаться у штурвала на неопределенно долгое время.
Означает ли такой опыт, что в политически незрелых обществах, не осознающих в своей массе собственного социального интереса, выборы проводить бесполезно? Очевидно, вопрос нужно ставить иначе. Не просто выборы, а гарантия сменяемости власти (в результате тех же выборов) может постепенно сделать ее более ответственной и национально ориентированной.
Развитие событий в Египте, где за три года произошли две «революции», заставляет задуматься и над тем, сможет ли военный переворот стать катализатором возвращения к стабильному эволюционному развитию. Исламисты, прибегающие к террору для восстановления «конституционной законности», и секуляристы, призвавшие военных к власти, глубоко ошибаются, надеясь построить новый Египет без достижения национального согласия.
Не все ветры перемен можно объяснить внешним вмешательством, но все же важную роль в том, насколько упорядоченно проходит переходный послереволюционный период, играет сам способ разрешения внутреннего конфликта – вооруженным путем или через мирный раздел власти. Как показывают конфликты в Ираке, Сирии и Ливии, насилие и гражданские войны, к тому же при интервенции или мощной поддержке извне, наносят колоссальный ущерб созидательным усилиям.
Опыт большинства мировых революций свидетельствует, что к власти приходят не те силы, которые их делали, а те, которым при внешней поддержке или по стечению обстоятельств удавалось «поймать волну». Смена режимов в арабском мире, прошедшая под демократическими лозунгами, еще раз явила эту историческую закономерность. С начала массовых выступлений исламские лозунги на улице отсутствовали, но со временем тунисские и египетские исламисты оседлали революционно-демократические выступления, используя опыт организационной работы в массах, проповеди в мечетях, разобщенность в рядах светской оппозиции. По сути дела, египетская революция прошла через два «Тахрира», как, впрочем, и украинская, где тоже было два «Майдана». Один «Майдан» умеренный, проевропейский, направленный против прогнившего правящего режима, другой – радикально-националистический «западэнческий», придавший смене власти характер вооруженного мятежа с враждебным настроем к России, к русскоговорящему населению востока.
На фоне затормозившегося переходного периода практически во всех арабских странах, затронутых революционными потрясениями, демократические иллюзии все больше уступают место поправкам на региональную, в том числе исламскую, специфику. Многие арабские политологи задаются вопросом, «готовы ли мы к демократии», какая модель развития приживется на Ближнем Востоке, где подорваны основы социального контракта между властью и обществом. Все известные варианты – египетский, турецкий, саудовский, иранский – оказались дискредитированными или теряют привлекательность. «Политический ислам» на нынешнем этапе потерпел фиаско. Дальнейшее продвижение по пути западного парламентаризма маловероятно.
В отличие от западного политического процесса, сформировавшегося в обществах, для которых свойственен структурирующий характер частнособственнических отношений, доминирование товарного производства, отсутствие централизованный власти, в восточных обществах политический процесс всегда оказывался результатом доминирования государственной и общинной собственности. Власть там была эквивалентна собственности, а общество занимало подчиненную позицию относительно государства. Абсолютизация государства означала, в частности, что его мощь не трансформировалась в благоденствие граждан, которые оставались подданными, подчиненными слившемуся с государственным общинному интересу.
Несбывшиеся надежды на быстрое улучшение жизни после свержения старых режимов оборачиваются тяготением к «сильной руке», к порядку. Этот феномен проявился в Египте, где победивший на президентских выборах фельдмаршал Абдель Фаттах Ас-Сиси воспринимается большинством египтян как «спаситель нации». В последнее время сильная личность появилась и в Ливии. Генерал Халифа Хафтар, с началом революции вернувшийся на родину из эмиграции, сумел бросить вызов переходной власти, объединив часть армии, племен и местных «милиций» под флагом борьбы с исламистами.
Формирование новых властных структур может идти по долгому пути достижения национального консенсуса под эгидой персонифицированной политической силы, взявшей верх во внутриполитической борьбе, что означает сохранение авторитаризма, и не обязательно в более просвещенных формах.
* * *
Современные революции стали важнейшими факторами, влияющими на систему международных отношений. Очевидно, что подход к ним ведущих мировых держав может быть разным, но при этом взвешенным и ответственным. Повторения кризисных ситуаций в отношениях России и Запада можно и нужно постараться избежать. В этом, собственно, и состоит их историческая ответственность. Позитивную роль, по нашему мнению, могло бы сыграть согласование общих принципов урегулирования внутригосударственных конфликтов, порождающих этнический, конфессиональный или чисто политический экстремизм.
Вопрос о характере революций современности давно стал предметом острых дискуссий. В каких случаях внутренние дела перестают быть внутренними? Являются ли критерием этого подавление гражданских свобод, несоразмерное применение силы при массовых оппозиционных выступлениях, акты насилия или другие нарушения прав человека и международного гуманитарного права? Не подвергая сомнению базовый принцип суверенности и невмешательства во внутренние дела, следует признать, что многие из таких вопросов уже де-факто вышли на уровень глобальной проблематики.
Если международное сообщество не сумеет установить приемлемые и понятные нормы международного поведения в контексте «революционных вызовов», мир имеет шансы скатиться к новому витку глобального противостояния, который будет вызван не системными противоречиями времен холодной войны, а суетным игнорированием реальных общих угроз.
Россия рассмотрит возможность принятия ответных мер на новый пакет австралийских экономических санкций в отношении РФ, о которых правительство Австралии сообщило в понедельник.
Санкции, пояснил премьер-министр Тони Эбботт, приняты после сообщений «о посягательствах России на восточные районы Украины». Также Эбботт снова раскритиковал Москву за причастность к катастрофе с самолетом малазийских авиалиний МН17, указывая, что Россия была вовлечена в дестабилизацию ситуации на Украине в течение многих месяцев. Принятие нового пакета санкций, включающих на этот раз ограничение доступа государственных банков РФ на австралийский рынок капитала, а также запрет на инвестиции в Крым или на торговлю с республикой, запрет на экспорт товаров и услуг для российского нефтяного бизнеса, а также запрет на поставку вооружения в Россию.
Также новый пакет санкций установил запрет на въезд в Австралию еще для 63 физических лиц, граждан России и Украины, ввел запретительные меры в отношении еще 21 российской компании. Таким образом, общее число физических лиц, для которых, в связи с санкциями, невозможен въезд в Австралию, теперь 113 человек, и число российских бизнесов, неугодных австралийской экономике — 32.
Австралийский экспорт вооружений в Россию, отмечет Sydney Morning Herald, имеет очень небольшие объемы, но это пункт по вооружениям необходимо было включить в число санкций, поскольку так поступили США и страны Европейского Союза, и это остановит желающих использовать Австралию как «лазейку» для поставки вооружений в Россию.
Представитель посольства России в Канберре, Александр Одоевский, сообщил, что в Москве будет обсуждаться принятие ответных мер, так же, как это случилось месяц назад, когда Россия ввела запрет на экспорт мяса и сельскохозяйственной продукции из Австралии в связи с предыдущими санкциями.
«Нарастание, по спирали, объема санкций, никому не приносит пользы,«- сказал Одоевский. " Вы видели, как испытывали наше терпение, но всему есть предел. Вы видели, что мы приняли ответные меры, введя запрет на продовольственную продукцию. Ясно, что новый пакет санкций является для нас сигналом к принятию ответных мер. Я не могу вам сказать, какими они будут, но реакция последует».
В августе т.г. Египет увеличил объем импорта зерновых на 49% по сравнению с июлем. Так, объем поставок зерновых в морские порты Египта в августе составил 1,67 млн. тонн, в т.ч. 1,24 млн. тонн пшеницы, 402,5 тыс. тонн кукурузы.
Стоит отметить, что, несмотря на заявление председателя Зерновой промышленной палаты Египта Хэшам Абу Эль-Дахаб о намерении импорта пшеницы исключительно российского происхождения, частные египетские трейдеры продолжают активно импортировать пшеницу из Украины и других стран. Так, доля украинской продукции в указанном объеме импорта в отчетный период составила 47% (0,79 млн. тонн), российской — 21,5% (0,36 млн. тонн).
С начала 2014/15 МГ Египет импортировал 2,83 млн. тонн зерна.
Новые правила подсчета туристов Росстата дали интересный результат. Так, объем выезда российских граждан в первом полугодии 2014 года сократился на 6,5%, а в первой тройке посещаемых российскими туристами стран оказались Финляндия, Турция и Египет. Напомним, что в новой методике к категории «туристы» добавились те, кто выезжал за границу с деловыми целями или в гости. В результате, общее количество туристов стало больше, чем в прошлом году.
Вероятно, «в честь» новых правил в списке лидеров оказалась Финляндия, которую действительно достаточно часто посещают жители Петербурга и Ленинградской области с краткосрочными визитами. Не всегда их можно назвать туристическими в традиционном понимании этого термина. Наибольшим спросом у отдыхающих Финляндия пользуется только в период новогодних и рождественских праздников. Иная ситуация наблюдается по Турции и Египту – эти страны популярны практически по всем регионам России. Средняя продолжительность отдыха туристов в Турции и Египте обычно составляет 7-14 дней.
Остальные страны еще «интереснее» - это Эстония, Китай и Польша. Скорей всего, «лидерство» как минимум Польше обеспечили транзитные туристы, в ситуации с Эстонией и Китаем «в счет идут» также деловые визиты. Также в первой десятке Таиланд, Германия, Италия и Испания.
Основные изменения на туристическом рынке в первом полугодии были связанны с тяжелой экономической ситуацией в стране и с нараставшим напряжением в соседней Украине. В результате, лишь четыре направления в первом полугодии 2014 года показали рост количества туристских прибытий из России. Это Турция (9,74%), Польша (17,11%), ОАЭ (0,05%) и Кипр (7,19%). Египет практически сохранил свои объемы (спад на 1%). Ожидаемо «выигрывают» долларовые и безвизовые страны, причина понятна – неспокойная ситуация.
«Участники рынка констатируют, что спрос на туры падает и, судя по итогам августа, во втором полугодии ситуация не улучшится. Кроме того, в этом сезоне наблюдается существенное проседание раннего бронирования. В среднем, по мнению ряда экспертов, цифра падения спроса на туры по акциям раннего бронирования уже приблизилась к 40%», - прокомментировали в АТОРе. Объем рынка путешествий растет, говорится в отчете Аналитической службы АТОР, но не за счет рынка продаж турпродуктов, а в основном за счет роста онлайн продаж ж/д и авиабилетов.
Кипр ввёл биометрические ВНЖ для иностранцев
Печать E-mail
25 августа Регистрационно-миграционная служба Кипра опубликовала решение о введении новой – более современной и упрощённой процедуры получения вида на жительство для нерезидентов – сотрудников международных компаний на Кипре.
Новые правила относятся к иностранцам, которые работают (или планируют работать) в зарегистрированных на острове компаниях, большинством акций которых владеют иностранные граждане.
Согласно новой редакции Закона об иностранцах и иммиграции, в новых ВНЖ, которые будут выдаваться таким иностранцам должны указываться, кроме всего прочего, и биометрические данные (отпечатки пальцев, фото).
Обновлённая процедура будет применяться и к тем претендентам на получение вида на жительства, которые уже отправили заявки на момент утверждения поправок к закону. Они должны подать дополнительное заявление до 25 октября и заплатить 10 евро. В противном случае заявка будет автоматически отклонена.
В то же время, выданные ранее ВНЖ остаются в силе до окончания срока их действия.
НБУ: новые ограничения на покупку валюты и другие антикризисные меры
Печать E-mail
2 сентября вступило в силу Постановление Национального банка Украины № 540 от 29 августа 2014 года, которым введены новые антикризисные меры, направленные на урегулирование ситуации на валютном рынке:
на три месяца продлено ограничение на продажу гражданам наличной валюты: не более суммы, эквивалентной 15 000 гривен под один паспорт в сутки;
выдача наличных средств в иностранной валюте с текущих и депозитных счетов ограничена суммой, эквивалентной 15000 гривен, на одного клиента в сутки;
до декабря продлено ограничение на снятие сумм в гривнах - не более 150 000 гривен на клиента в сутки в кассах банков или банкоматах;
банкам разрешено (в рамках установленных лимитов) выдавать средства с валютных вкладов раньше срока;
денежные переводы, отправленные в иностранной валюте (без открытия банковского счёта - через платёжные системы Western Union, MoneyGram и др.) можно будет получить только в гривне;
покупка безналичной иностранной валюты на межбанке возможна только при условии зачисления на специальный счёт эквивалентной суммы в гривнах за три дня до даты покупки;
установлено требование более тщательной проверки контрактов, под которые покупается иностранная валюта (в частности, формируется реестр по покупке валюты, который передаётся в НБУ вместе с документами, на основании которых осуществляется покупка);
запрещено досрочное погашение валютных кредитов и покупка иностранной валюты для этих целей;
операционный день у всех банковских учреждений продлён и зафиксирован на уровне 18.00
Постановление действует до 2 декабря 2014 года включительно.
Информация о ситуации с электроснабжением Республики Крым и г. Севастополя.
Минэнерго России информирует о возможных временных отключениях электроэнергии в энергосистеме Крыма и города федерального значения Севастополя.
Украинская госкомпания «Укрэнерго» направила уведомление главному диспетчеру Крымской Энергосистемы о возможном ограничении на поставки электроэнергии в Крым в течение сентября, утром и вечером в часы пиковых нагрузок. В связи с дефицитом мощности энергосистемы Украины переток мощности из объединенной энергосистемы Украины в Крымскую энергосистему может быть уменьшен до величины, не превышающей 300 МВт при необходимом объеме не менее 600 МВт.
Минэнерго России осуществляет мониторинг ситуации в режиме реального времени. В случае сокращения перетока при прохождении максимальных нагрузок в вечерние часы (19:00 – 23:00) и утренние часы (09:00 – 11:00) предусмотрены мероприятия по ограничению электроснабжения.
В настоящее время для обеспечения электроснабжения социально-значимых объектов Крымского федерального округа размещено 1453 резервных источников энергоснабжения общей мощностью 311,2 МВт.
Сторонники и противники североатлантической интеграции Грузии провели в среду, 3 сентября, две акции у посольства США в Тбилиси, сообщает агентство "Новости-Грузия".
В Великобритании 4-5 сентября состоится саммит НАТО, на котором будет представлена Грузия. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили проведет двухсторонние встречи с лидерами стран НАТО и руководителями международных организаций. Ранее генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что сближение Грузии с альянсом может касаться совместных учений на грузинской территории, а также создания там центра военного обучения.
"Сторонники сближения Грузии с НАТО и Европой собрались в среду непосредственно у здания посольства США. Акция "Нет НАТО", организованная коалицией неправительственных организаций "Евразийский выбор — Грузия" и приуроченная к предстоящему саммиту альянса, была анонсирована еще в середине августа", — сообщает агентство.
Около 50 человек пришли к зданию посольства за полчаса до назначенной акции, чтобы сорвать ее. Во избежание инцидентов представители "Евразийского выбора", также около 50 человека, перенесли акцию к торговому центру "Гудвил", который расположен в нескольких сотнях метров от американского посольства. На акцию, которая продлилась около 20 минут, они принесли плакаты с надписями "Нет НАТО! Нет войне!", а также фотографии большого формата с мест проведения операций НАТО — в Ираке, Сербии, Афганистане.
Участники контракции с флагами США и Грузии несколько раз пытались приблизиться к представителям "Евразийского выбора", но полиция помешала им.
Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось с 1994 года, когда Грузия стала участницей программы "Партнерство для мира" (PfP — Parntnership for Peace). После "революции роз" с 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите глав стран членов НАТО было подтверждено, что Грузия и Украина в будущем могут стать членами НАТО — при условии соответствия стандартам альянса.
Украина практически прекращает производство этилового спирта, следует из сообщения госкомпании "Укрспирт", монополиста на этом рынке, который производит более 95% спирта на Украине.
"Укрспирт" сообщает, что останавливает производство этилового спирта и прекращает отгрузку товара в связи с тем, что лицензия компании на оптовую торговлю истекла 2 сентября. В компании заверяют, что документы на продление лицензии были поданы заблаговременно, однако она не была продлена.
"Укрспирт" вынужден остановить производство и отгрузку спирта в связи с тем, что Департамент контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Государственной фискальной службы Украины не продлил срок действия лицензии на право оптовой торговли спиртом этиловым", — говорится в сообщении.
"Поскольку никаких предупреждений или замечаний государственное предприятие "Укрспирт" не получало, то действия департамента можно назвать противоправными", — заявляют в компании.
Комментариями Государственной фискальной службы Украины РИА Новости пока не располагает.
Конфликт на Украине руководство США и НАТО использовало для наращивания военной инфраструктуры у границ России, говорится в аналитическом обзоре Центра международной журналистики и исследований МИА "Россия сегодня" — "Украина, Грузия, Молдавия: путь в НАТО через Европейский союз". Авторы документа проследили развитие военного сотрудничества Украины и НАТО.
Эксперты Центра отмечают: продвижение НАТО на восток стартовало в 1990 году — после того, как государственный секретарь США Джеймс Бейкер обещал президенту СССР Михаилу Горбачеву, что при воссоединении Германии НАТО "не продвинется на Восток ни на дюйм". Нынешний конфликт на Украине руководство США и НАТО использовало как для наращивания военной инфраструктуры у границ России.
Первым документом, в котором документально зафиксирован курс Украины по сближению с НАТО, является Хартия об особом партнерстве между НАТО и Украиной, подписанная при президенте Леониде Кучме в 1997 году. Так, в пункте 3 хартии "Украина подтверждает свою решимость продолжать военные реформы, укреплять демократический и гражданский контроль над вооруженными силами и повышать свою оперативно-техническую совместимость с силами НАТО и странами-партнерами. НАТО подтверждает свою поддержку усилиям Украины в этих областях".
Эксперты обращают внимание, что Хартия также устанавливает степень проникновения НАТО в такие стратегически важные области, как военное сотрудничество между НАТО и Украиной и оперативно-техническая совместимость. "Особое партнерство", начатое с подписанием Хартии, вылилось в План действий между Украиной и НАТО, принятый 22 ноября 2002 года в разгар войны в Афганистане и в преддверии агрессии США против Ирака", — говорится в докладе Центра международной журналистики и исследований. В качестве "особого партнера" Украине предписывалось привести армию и силовые структуры в соответствие с "евроатлантической политикой страны".
"В конце 1990-х — начале 2000-х годов была заложена основа для дальнейшего втягивания украинского государства в орбиту блока. Стоит отметить, что подписанные Украиной документы отличаются глубиной и широтой охвата: НАТО получила доступ на все уровни военно-политической системы государства, от ВПК до получения секретной информации об оборонном планировании", — отмечается в аналитическом обзоре.
Подготовку Украины к вступлению в НАТО продолжил президент Виктор Ющенко. 13 марта 2006 года он подписал указ "О Национальной системе координации сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора". Следующий президент Виктор Янукович, основой политического курса определил "внеблоковую повестку". 2 июля 2010 года Верховная рада приняла закон "О принципах внутренней и внешней политики", по которому основным принципом внешней политики страны стало "соблюдение Украиной политики внеблоковости, что означает неучастие Украины в военно-политических союзах".
"Отказ Украины от вступления в НАТО на тот момент был компенсирован военно-политической интеграцией с Евросоюзом. Так, по сообщениям украинских СМИ, Киев и Брюссель завершили согласование текста Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС еще 19 декабря 2011 года, то есть в разгар президентства Виктора Януковича", — отмечается в докладе.
Однако российские эксперты отмечают: "практическое военное сотрудничество Украины с НАТО не прекращалось ни на минуту даже при "пророссийском" Викторе Януковиче".
По мнению авторов документа, Соглашение об ассоциации — это "непрямой путь по втягиванию страны в орбиту альянса". В разделе II Соглашения об ассоциации "одной из целей "политического диалога" — то есть перевода Украины в западное геополитическое пространство — является "развитие диалога и углубление сотрудничества между сторонами в сфере безопасности и обороны", — отмечается в обзоре.
"Завуалированную отсылку к блоку мы видим в пункте 3b статьи 5: Брюссель и Киев будут "в полной мере использовать все дипломатические и военные каналы между сторонами, включая соответствующие контакты в третьих странах и в рамках ООН, ОБСЕ и на других международных площадках", — говорится в докладе.
Соглашение делает основным механизмом кооперации "Общую внешнюю политику и политику безопасности", то есть механизм стратегического взаимодействия между военными структурами НАТО и ЕС.
Говоря о практическом военном сотрудничестве, эксперты отмечают проникновение НАТО в систему подготовки вооруженных сил Украины. Это, безусловно, способствует достижению оперативной совместимости наиболее боеспособных частей и подразделений с армиями НАТО. На практике же это означает, что подразделение ВС Украины будет следовать стандартам НАТО в вооружении, тактике, средствах связи и штабной работе. "Для "приручения" украинской армии НАТО использует два основных метода: проведение совместных учений и "обкатку" украинских военнослужащих в ходе боевых операций блока за рубежом. Военно-политическое руководство Украины рассматривает учения и участие в натовских войнах как один из элементов боевой подготовки", — говорится в обзоре.
"На самой Украине деятельность по достижению "оперативной совместимости" с НАТО прикрывается миротворчеством и подготовкой войск к операциям по поддержанию мира за рубежом. Однако внимательный анализ показывает: миротворчество, к которому готовят украинские войска, не имеет ничего общего с деятельностью "голубых касок" в нестабильных регионах планеты. Под маской миротворчества НАТО создает инфраструктуру для закрепления своего присутствия на украинской территории", — отмечают эксперты.
Другая тактика — участие украинских солдат и офицеров в боевых действиях за рубежом. Украинские войска принимали участие в операции коалиции в Ираке, пройдя путь от Кувейта до центральной иракской провинции Эрбиль. Инициатива об отправке украинских войск в Ирак исходила от приближенного Леонида Кучмы, председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины Евгения Марчука. "Политическое решение обуславливалось стремлением украинского руководства замять перед США факт продажи Ираку систем радиотехнической разведки "Кольчуга" и нормализировать непростые отношения с Вашингтоном", — считают авторы доклада.
Комментарий Председателя Правительства Дмитрия Медведева по вопросу поставки российского газа на Украину.
Д.Медведев: Сегодня появились предложения об использовании сезонных цен на поставки российского газа на Украину. Мы готовы обсуждать пути возобновления нашего сотрудничества с Украиной в газовой сфере как с государством-должником, но при соблюдении двух условий.
Первое. Погашение существующей задолженности, которая достигла астрономической цифры.
И второе. Даже при использовании сезонных цен средняя цена по году должна составить 385 долларов за 1 тыс. куб. м с учётом обсуждавшейся отмены существующей российской таможенной пошлины, о чём хорошо известно нашим партнёрам.
Если же им не нужны скидки, готовы вернуться к цене 485 долларов за 1 тыс. куб. м. Эта цена вполне нас устраивает.

Ответы на вопросы журналистов по итогам рабочего визита в Монголию.
ВОПРОС: Мы находимся в Монголии, поэтому хочется поинтересоваться об итогах визита и удалось ли преодолеть инерцию в торгово-экономических отношениях.
В.ПУТИН: Действительно, мы говорили много сегодня о торгово-экономических связях, хотя вы знаете, что визит был посвящен другой теме – 75-летию сражения на Халхин-Голе. Это наше общее большое событие.
Но нельзя было не воспользоваться этой встречей и не поговорить обо всём комплексе наших отношений. Мы так и сделали, и, я уже говорил в ходе сегодняшней работы, хорошо поработали наши коллеги – представители различных министерств, ведомств, компаний по основным направлениям нашего взаимодействия.
Имеется в виду транспорт. Очень важно и для Монголии, и для нас увеличивать транзитный потенциал этой страны. Она расположена между Россией и Китаем. Мы крупные торгово-экономические партнеры, у нас объем торговли с Китаем – 64, уже 65-67 миллиардов будет в этом году. Поэтому транспортные возможности Монголии могут и должны быть использованы в большей степени, чем сегодня. Металлургическая промышленность уже с советских времен нам досталась и развивается активно.
Но есть и очевидные проблемы. Они заключаются в том, что у нас большой дисбаланс в торговле образовался. В этой связи мы и сами работаем сейчас над расширением поставок продовольствия в Россию, но это тот случай, когда нас и партнеры просят это сделать. Есть определенные ограничения, которые были введены раньше, по поставкам животноводческой продукции. И мы договорились о том, что Правительство Российской Федерации проработает вопросы снятия этих ограничений, особенно связанных с квотами в поставках мяса.
Итак: транспорт, металлургическая промышленность, инфраструктура, сельское хозяйство – в общем, по всем этим направлениям мы поговорили достаточно подробно. Есть конкретный план действий, который еще пока не положен на бумагу. Нам нужно в ближайшее время завершить эту работу.
Продолжаются инвестиции, но совершенно очевидно, что их пока недостаточно. Инвестиционная работа – это отдельное направление нашего взаимодействия. И здесь тоже перспективы есть, и они хорошие.
Так что я в целом удовлетворен результатами нашей сегодняшней работы.
ВОПРОС: Владимир Владимирович, сегодня состоялся Ваш разговор с господином Порошенко. Сначала украинская сторона сообщила о том, что договорились о полном прекращении огня. Но естественно, потом последовали пояснения, что речь идет о конкретных шагах для урегулирования сложившейся ситуации, что понятно, потому что Россия не является стороной конфликта. Есть ли какая-то конкретика, что это за шаги и что будет дальше?
В.ПУТИН: Да, действительно, сегодня утром мы говорили по телефону с Президентом Порошенко, и наши взгляды – во всяком случае, мне так показалось – на пути урегулирования конфликта очень близки, как говорят дипломаты.
По дороге сюда, из Благовещенска в Улан-Батор, в самолете прямо набросал некоторые соображения, можно сказать, некоторый план действий. Он у меня пока, правда, от руки только изложен. Если вам интересно, я могу вас с ним познакомить.
В целях прекращения кровопролития и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины считаю, что противоборствующие стороны должны незамедлительно согласовать и скоординированно осуществить следующие действия:
Первое – прекратить активные наступательные операции вооружённых сил, вооружённых формирований, ополчения юго-востока Украины на донецком и луганском направлениях.
Второе – отвести вооружённые подразделения силовых структур Украины на расстояние, исключающее возможность обстрела населённых пунктов артиллерией и всеми видами систем залпового огня.
Третье – предусмотреть осуществление полноценного и объективного международного контроля за соблюдением условий прекращения огня и мониторингом обстановки в создаваемой таким образом зоне безопасности.
Четвертое – исключить применение боевой авиации против мирных граждан и населённых пунктов в зоне конфликта.
Далее. Организовать обмен насильственно удерживаемых лиц по формуле «всех на всех» без каких-либо предварительных условий.
Шестое – открыть гуманитарные коридоры для передвижения беженцев и доставки гуманитарных грузов в города и другие населённые пункты Донбасса – Донецкую и Луганскую области.
И, наконец, седьмое – обеспечить возможность направления в пострадавшие населённые пункты Донбасса ремонтных бригад для восстановления разрушенных объектов социальной и жизнеобеспечивающей инфраструктуры, оказания помощи им в подготовке к зиме.
Окончательные договоренности, полагаю, между властями Киева и юго-востоком Украины могли бы быть достигнуты и закреплены в ходе намеченной встречи контактной группы 5 сентября этого года.
Хотел бы отметить, что всё, что было сказано, и это заявление сделано в развитие сегодняшнего телефонного разговора, о котором Вы спросили, с Президентом Порошенко. Я очень рассчитываю, что руководство Украины поддержит наметившийся прогресс в двусторонних отношениях и использует позитив в работе контактной группы для окончательного и всестороннего урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, разумеется, при полном и безусловном обеспечении законных прав людей, которые там проживают.
Вот, пожалуй, и все, добавить нечего. Спасибо.
Глава администрации шахрестана Дизфуль провинции Хузестан Хабиболла Асефи на заседании рабочей группы по сельскому хозяйству шахрестана заявил, что на севере провинции Хузестан имеется возможность активно экспортировать сельскохозяйственную продукцию в соседние страны и страны Персидского залива и из шахрестана Дизфуль планируется поставить около 10 тыс. т названной продукции на российский рынок.
По словам Х.Асефи, в шахрестане Дизфуль производится садоводческая и земледельческая продукция, а также в больших количествах выращиваются овощные и бахчевые культуры. При этом в связи со снижением деловой активности в ряде соседних стран из-за происходящих там беспорядков реализуется программа по выходу на рынки стран Персидского залива, поскольку на севере провинции Хузестан по-прежнему производится большое количество сельскохозяйственной продукции.
Указав на то, что события на Украине и некоторое обострение политической обстановки привели к убыткам производителей сельскохозяйственной продукции шахрестана Дизфуль, Х.Асефи напомнил, что в шахрестане производится около 2 млн. т земледельческой и садоводческой продукции в год и местные крестьяне могут с успехом обеспечивать потребности стран Персидского залива в цветочной и сельскохозяйственной продукции.
Как подчеркнул Х.Асефи, сельскохозяйственное производство составляет основу экономической деятельности на севере провинции Хузестан, и в текущем году планируется примерно на 10% увеличить объем экспортных поставок сельскохозяйственной продукции.
Следует напомнить, что площадь сельскохозяйственных угодий в расположенном на севере провинции Хузестан шахрестане Дизфуль составляет около 82 тыс. га, и на этих землях ежегодно производится около 2 млн. т сельскохозяйственной продукции.
Президент США Барак Обама, находящийся с визитом в Таллине, заверил, что НАТО выполнит свои обязательства по обеспечению безопасности Эстонии и других членов альянса.
"У нас есть обязательства <…> эти обязательства вечны. Эстония никогда не окажется в одиночестве. Я уверен, что мы выполним эти обязательства", — сказал Обама, но не уточнил, от кого именно НАТО планирует защищать Эстонию. Свое заявление Обама сделал на совместной пресс-конференции после встречи с главой Эстонии Тоомасом Хендриком Ильвесом, которая прошла в здании Центробанка страны.
Обама утром в среду прибыл с однодневным визитом в Таллин, где встретится с главами Эстонии, Латвии и Литвы. Официальная часть визита президента США начналась встречей с Ильвесом во дворце парка Кадриорг. Обама также встретится с премьер-министром Эстонии Таави Рыйвасом.
После этого состоится общая встреча Обамы с президентами Эстонии, Латвии и Литвы Тоомасом Хендриком Ильвесом, Андрисом Берзиньшем и Далей Грибаускайте. Президенты выступят с совместным заявлением для прессы.
Барак Обама в ходе визита в Эстонию также произнесет речь в концертном зале Nordea. Перед отбытием из страны американский президент вместе с премьер-министром Рыйвасом встретятся с эстонскими и американскими военнослужащими 173 воздушно-десантной бригады США, рота которых в настоящее время расквартирована на авиабазе Эмари под Таллином. Во второй половине дня президент США вылетит в Уэльс на саммит НАТО, который пройдет 4-5 сентября.
Ранее в связи с ситуацией вокруг Украины НАТО приняла ряд мер, которые альянс объясняет необходимостью обеспечения безопасности союзников. Были усилены миссии воздушного патрулирования стран Прибалтики, самолеты с радиолокационным оборудованием совершают регулярные полеты над территорией Польши и Румынии, введены дополнительные корабли НАТО в Балтийское и Средиземное моря. Николай Адашкевич.
Президент Украины Петр Порошенко не согласовывал с самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) решение о прекращении огня в Донбассе, поэтому непризнанная республика считает себя вправе отказаться от его выполнения, заявил вице-премьер ДНР Андрей Пургин.
В среду пресс-служба украинского президента Петра Порошенко после его телефонной беседы с главой российского государства Владимиром Путиным сообщила, что результатом разговора стала "договоренность о постоянном прекращении огня в Донбассе".
"Это какая-то игра Киева. Для нас это полная неожиданность. Это решение принято без нас", — процитировал для РИА Новости слова Пургина его помощник.
Пургин также назвал это решение Киева "невыполнимым" для ДНР. "Оно невыполнимо, пока силовики находятся на территории республики. Условием для прекращения огня по-прежнему является вывод украинских войск с территории ДНР", — заявил Пургин через помощника.
Пургин является участником переговоров в Минске между ДНР и властями Украины, которые проходят при посредничестве ЕС и России. Предыдущий раунд переговоров состоялся 1 сентября, следующий намечен на 5 сентября. Помощник Пургина сообщил РИА Новости, что сейчас представители ДНР готовятся к продолжению переговоров. Одной из тем может стать прекращение огня.
Проведение на западе Украины учений стран НАТО "Быстрый трезубец" в середине сентября — это провокация в отношении России, считает известный российский военный эксперт генерал-полковник Леонид Ивашов.
По его мнению, после учений на Украине может остаться ограниченный контингент войск НАТО и могут вырасти поставки по военно-технической линии.
США продолжают подготовку к участию в запланированных на 16-26 сентября учениях "Быстрый трезубец" на западе Украины, в них должны принять участие до тысячи военнослужащих стран НАТО и других государств.
Изначально учения были запланированы на июль, но их отложили из-за проводимой украинскими войсками силовой операции на юго-востоке страны. "Быстрый трезубец" станет, предположительно, первым случаем присутствия американских войск на территории Украины с момента начала спецоперации киевских силовиков в апреле этого года.
Очевидная провокация
"Эти учения стран НАТО на территории Украины носят явно провокационный характер с целью давить на Россию. Украина пока даже не является кандидатом в НАТО. И НАТО по основополагающему акту Россия-НАТО обязывалась сохранять сдержанность и не проводить учения на территории стран, которые в альянс не входят. Это уже является нарушением", — сказал Ивашов РИА Новости.
По словам экс-начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, велика вероятность, что после проведения этих учений на Украине разместят ограниченный контингент натовских военных.
В настоящий момент Украину в альянс не принимают, но использование ее территории НАТО, действительно, возможно.
Разместят ли войска?
"После этих учений мы можем наблюдать размещение контингентов натовских — или после учений они останутся, или затем будут вести переговоры с Киевом о размещении временном или на постоянной основе. Тем более что еще в 2000-х годах Украина подписала с НАТО соглашение о предоставлении территории Украины для натовских войск. Видимо, опираясь на это соглашение, НАТО проводит там учения", — добавил эксперт.
Собеседник агентства обратил внимание на то, что в период, когда Украина фактически находится в состоянии гражданской войны, "демонстрировать военную поддержку НАТО киевскому режиму — это просто негуманно".
Он уверен, что альянс будет способствовать повышению военного потенциала Украины, в том числе поставкой вооружений и обучая украинских военнослужащих в военных учебных заведениях стран НАТО.
Россия уточнит доктрину
Между тем, как сообщалось ранее, Россия к концу года уточнит свою военную доктрину — как заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совбеза РФ Михаил Попов, этого требует развитие военно-политической обстановки в мире за последние годы, в том числе расширение НАТО и обстановка на Украине.
По словам экспертов, отношения между Россией и странами Запада за последние четыре года претерпели существенные изменения, поэтому никого не удивит, если вероятными противниками в доктрине будут названы США и НАТО, уже несколько месяцев ведущие активную антироссийскую риторику и инициировавшие введение санкций против РФ.
После обстрела колонны беженцев, в которой был фотокорреспондент агентства МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин, украинские военачальники забрали вещи из расстрелянных машин и обыскали тела погибших, сообщает в среду официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.
Как ранее сообщил гендиректор агентства МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев со ссылкой на экспертизу Следственного комитета, пропавший в начале августа на Украине фотокор Андрей Стенин погиб в районе Донецка около месяца назад — автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе.
"На следующий день к месту обстрела колонны прибыли военачальники украинской армии. Они не только осматривали уничтоженные машины и тела погибших, но и, по свидетельствам очевидцев, грузили вещи из уничтоженных машин в свой транспорт, обыскивали тела погибших", — говорится в сообщении.
Стенин был опытным военным фотокорреспондентом, работал в РИА Новости, на базе которого было создано МИА "Россия сегодня", с 2009 года. За это время побывал в Египте, Сирии и в других горячих точках.
Частные уроки от российских банкиров.
Признак умного человека – быть открытым к новым знаниям и никогда не бояться быть новичком и учеником. Накануне 1 сентября мы спросили у банкиров, чему новому они научились в последний учебный год, какие уроки преподавала им жизнь, чему они мечтают научиться и какие книги рекомендуют в качестве настольных.
Анатолий Аксаков, президент Ассоциации региональных банков России:
«Общайтесь с зарубежными партнерами без переводчика»
- Я осознал, что ничего невозможного нет, и справедливость всё равно побеждает – это главный урок. Я вырос в Крыму, каждый год бываю там. Во время встреч со своими одноклассниками всегда слышал упрек в том, что Россия бросила крымчан, что они хотят жить в России. Эти разговоры проходили в очень эмоциональной форме, у большинства было ощущение, что ничего исправить невозможно, что это данность, которую не изменить. Вдруг оказалось, что всё изменилось, пусть даже импульсом для этого послужили печальные события.
То же самое произойдет на Украине, все эти оболванивания, манипулирование извне закончатся тем, что Украина и Россия будут едины как два дружеских, братских народа. Жизнь к этому приведет, это справедливо, это естественно. Естественное состояние всё равно берет вверх над внешними, искусственными попытками это состояние раскачать.
Сейчас учу английский, в том числе на курсах делового английского языка. По работе постоянно приходится контактировать с зарубежными партнерами, и знание языка позволяет это сотрудничество сделать более эффективным. К тому же в нынешней геополитической ситуации знание языка – это еще один дополнительный инструмент воздействия на зарубежных партнеров. Чувствуется, что когда ты говоришь на понятном им языке, в лингвистическом смысле они лучше тебя воспринимают и легче поддаются твоим аргументам, нежели когда общение идет через переводчика. Это очень важно и для профессионального развития, и с политической точки зрения, и с человеческой. Язык позволяет чувствовать себя более комфортно в любой среде, в том числе зарубежной.
Книги-рекомендации – первая книга «Преступление и наказание» Достоевского. Главный ее смысл – за все нужно платить, ответственность обязательно наступит, поэтому каждый свой поступок необходимо соизмерять с совестью, принципами справедливости. Жизнь показала, что некоторые коллеги в банковской сфере, которые раньше вели себя достаточно легковесно, сегодня, в силу нынешней регуляторной практики, несут ответственность за прошлые поступки. Сейчас им приходится довольно жестко за эти поступки расплачиваться. Поэтому эту книгу надо держать на столе, перечитывать ее и понимать, что она не просто о преступлении и наказании, она о том, что за все свои действия нужно нести ответственность.
Вторая книга – «7 навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови. Это мощный инструмент развития личности. Главная идея книги, на мой взгляд: чтобы быть эффективным, надо понимать, ради чего ты это делаешь. Даже если ты занимаешься бизнесом, и прибыль является целью твоей работы, эта прибыль все равно является промежуточным результатом, а не конечным. Есть более высокие ценности, которых ты должен достигать. Общественные ценности, гуманитарные. И если нет понимания, ради чего ты все это делаешь, то чисто технократический подход в итоге не позволяет быть самым эффективным. Потому что – это мой вывод – на тот свет ты не унесешь все богатства. Если же ставить более высокие цели, можно оставить след, который сохранится в памяти людей, поколений, а самое главное будет обеспечивать внутреннее и внешнее соответствие.
Третья книга «Управление бизнес-процессом. Практическое руководство по успешной реализации проектов» Джона Джестона и Йохана Нелиса. Книга позволяет эффективно управлять бизнес-процессами в любой сфере. Она дает фундаментальные подходы к управлению, которые применимы везде: и в государственной работе на любом уровне, и в бизнесе.
Евгений Аксенов, член совета директоров Азиатско-Тихоокеанского банка:
«Кто выматывается за день и приезжает домой, только чтобы отоспаться, закладывает мину под свое деловое будущее»
- Еще раз подтвердил для себя известную истину: в деловой жизни всегда все договоренности должны подробно фиксироваться на бумаге. Так уж получается, что со временем часть деталей либо забывается, либо трактуется разными сторонами по-разному – иногда сознательно, а иногда бессознательно. Поэтому письменный договор нужен не только для того, чтобы получить выгоду, но и чтобы избежать недоразумений с клиентами. Прописывать позиции надо максимально полно, чтобы и по прошествии времени не было двоякого толкования. В деловых отношениях это чрезвычайно важно.
Уже начал воплощать свою мечту – готовлюсь пройти IRONMAN. Зачем? Это вызов самому себе, испытание: к сорока годам пройти половину, а потом и полностью! А еще буду учиться отдыхать – я достаточно долго работал в режиме 6/14 и еще немножко в воскресенье. Но сейчас понимаю, что, пока молод, кажется, что твои возможности безграничны. Но на самом деле затраченные ресурсы необходимо качественно восполнять. Иначе в конечном итоге это начинает сказываться на работе. Кто выматывается за день и приезжает домой, только чтобы отоспаться, закладывает мину под свое деловое будущее. Рано или поздно она сработает, и борьба с последствиями будет занимать гораздо больше времени и ресурсов, нежели «профилактика». Сейчас я учусь правильно отдыхать с тем, чтобы быть по-прежнему эффективным в работе.
Три книги, которые я рекомендую: Ким Чан, Рене Моборн «Стратегия голубого океана» – это актуально сейчас, как никогда, в условиях снижающейся маржи и возрастающей конкуренции. Джеффри Лайкер «Дао Toyota» – российская экономика в большинстве отраслей очень сильно отстает по производительности, а эта книга позволяет задуматься о процессах и их оптимизации. Ну и Уоррен Баффет «Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями».
Алексей Аларин, исполнительный вице-президент, директор дирекции розничного бизнеса Росевробанка:
«Если работа предполагает кардинальную «ломку», то надо менять работу, а не себя»
- В прошедшем году принципиально новым для меня было то, что полученные до этого момента знания, опыт, навыки в корпоративном, транзакционном (в контексте корпоративного) бизнесе достаточно универсальны и эффективно применимы в розничном бизнесе, который с января 2014 года возглавил в Росевробанке. Все – принципы управления командой и бизнесом, наработки, стратегическое планирование, расстановка приоритетов, умение анализировать рынок – с успехом применимо в любой части банковского бизнеса, если сформирована качественная команда. И от этого – огромное наслаждение в работе с командой, в бизнесе.
Урок, который мне преподнесла жизнь, таков: один из моих прошлых и очень уважаемых руководителей – Евгений Антифеев, за что ему огромное спасибо, как-то передал мудрость, что не стоит менять свой стиль, свои базовые ценности и основы при условии их эффективности во времени. А если текущая работа предполагает кардинальную «ломку», то надо менять работу, а не себя. При этом никто не забывает о важном умении быть гибким, развиваться. Так и произошло в моей карьере, чему очень и очень рад.
Мы хотим научиться быть лидерами российского рынка сервисов для клиентов – физических лиц, выстраивать работу от внутренней психологии лидерства в команде, через разработку идей, продуктов, процессов и сервисов до их успешного внедрения. Это предполагает дальнейшее экстенсивное развитие команды, подходов и технологий. Это огромная работа, которую мы делаем. Нам это необходимо для главного – для того, чтобы в российских реалиях быть лидером, и команде получать удовольствие от своей работы.
В плане каких-то личных увлечений в прошедшем году открыл для себя удовольствие от спиннинговой рыбалки на хищника. Это огромный азарт, умение войти в гармонию с природой, изучить особенности жизни твоего «противника». Разумеется, в самом гуманном смысле слова, отпуская обратно на волю всю некрупную рыбу. Это один из способов полностью переключиться. Научиться же здесь хочется быть настоящим чтецом природы, профессионалом с достойными результатами.
Три книги, которые я рекомендую:
Глеб Архангельский «Тайм-драйв». Это знание, которое действительно помогает эффективно управлять рабочим временем и жить вне пределов рабочего пространства. На практике применяю это ценное знание.
Ричард Брэнсон «Теряя невинность». Это наглядный пример того, как можно получать удовольствие от собственной работы, грамотно совмещать риск и успех, быть очень и очень клиентоориентированным.
Вадим Зеланд «Транссерфинг реальности». Это уже мое личное увлечение в части оптимистичных подходов к жизни, желания управлять ситуацией и прогнозировать свою судьбу, направлять ее на правильные пути, достигать высоких результатов.
Ирина Алушкина, президент Саровбизнесбанка:
«Нужна помощь – протяни руку первым»
- Во время путешествия по Африке мы остановились в одном отдаленном местечке на берегу реки. Люди там живут бедно – буквально на несколько долларов в месяц, и мы никогда не забывали оставлять чаевые. Было видно, что те, кто нас обслуживал, искренне благодарны и стараются помочь чем только можно. Однажды я выходила из лодки и оступилась. Но никто из сопровождающих, а все они были чернокожие, не помог мне подняться, хоть я и видела по лицам, что они расстроились и, как мне показалось, хотели бы помочь. Я была крайне раздражена, в этот день они остались без чаевых. Позже я рассказала о происшествии управляющему лоджем – англичанину. Он объяснил, что местные так воспитаны: они не могут дотронуться до белой женщины, например, первым подать руку, поддержать. Мне просто надо было протянуть руку, и мне бы с радостью помогли.
Я, конечно, и раньше знала, что нельзя с позиций только своих представлений о мире давать оценку людям совершенно другой культуры. Но жизнь еще раз преподнесла мне такой вот простой и наглядный урок. У этого урока есть и другая сторона: нужна помощь – протяни руку первым.
Я бы разделила понятия «мечта» и «цель». Хочешь чему-то научиться – вперед! Благо сейчас предостаточно возможностей для обучения чему угодно и на любом уровне. Я, например, планирую заняться верховой ездой. По-моему, это прекрасный спорт и отличный вид активного отдыха. Еще одно занятие, которое меня привлекает – художественная фотография. И в путешествиях, и дома столько красоты вокруг! Я буквально чувствую потребность это запечатлеть и обязательно научусь хорошо фотографировать.
А мечта – это другое, что-то недосягаемое, находящееся фактически за пределами возможностей. И что касается мечты, то я бы хотела научиться читать мысли. Полезная вещь для любого банкира! Например, приходит к тебе человек за кредитом, а ты уже видишь, что он и не собирается его возвращать. Представляете, скольких бы неприятных ситуаций можно было избежать.
Для многих людей полезно было бы главной настольной книгой иметь словарь русского языка. Умение грамотно излагать свои мысли, в том числе и на бумаге, как ничто характеризует общий культурный уровень человека. Сейчас масса возможностей для расширения кругозора и получения знаний! Хочешь – сам в любой музей поезжай, хочешь – посети его виртуально. Столько ресурсов для изучения языков, в том числе своего собственного. Но то ли избыток источников знаний обесценивает сами знания, то ли это смски и электронная почта убивают грамотность. А ведь в русском языке часть души народа. Забавно бывает читать рассуждения человека о какой-нибудь «диверсификации бренда», а при этом он путает «тся» и «ться».
Еще порекомендую книгу Константина Тарасова «Технология жизни. Книга для героев». Автора мне посчастливилось знать лично. Эта книга не о менеджменте, не о бизнесе, не о науке. Эта книга о жизни. Она для тех, кто хочет изменить что-то в этом мире, для тех, кому не все равно, для тех, кто задумывается над смыслом жизни. Возвращение к этой книге помогает не забывать о своей большой цели и не потерять свой путь.
Игорь Буланцев, председатель правления Нордеа банка:
«Игра в го очень полезна для банкиров»
- В этом году я начал учить шведский язык. Я часто езжу в Швецию, но изучать язык стал не только для работы, но и для себя. Иностранный язык во взрослом возрасте, конечно, дается сложнее, чем в детстве, но и успехи ценишь гораздо больше. Сейчас я уже не только немного говорю, но и читаю на шведском. Вот, например, недавно прочел «Карлсона», теперь хочу перейти на взрослые книги, в которых уже гораздо более сложный язык, чем в детских.
Также в этом году я научился играть в го и уже существенно поднял свой уровень. Это стратегическая игра, которая требует выработки стратегии и четкого следования ей. В течение игры необходимо постоянно держать максимальную концентрацию, все время просчитывать будущие ходы. При этом игровое поле 19 на 19, то есть количество возможных комбинаций огромно. Считаю, что игра в го очень полезна для бизнесменов и, тем более, для банкиров. Кстати, это единственная игра, в которой суперкомпьютеры до сих пор не научились обыгрывать людей. Хотя меня пока компьютер иногда обыгрывает... Но это пока.
Мечтаю научиться играть в го на профессиональном уровне и так хорошо знать шведский, чтобы иметь возможность прочесть лучших шведских писателей, таких как Лагерквист, Стриндберг, Ларссон, в оригинале, получая удовольствие не только от сюжета, но и от языка. А еще хочу научиться пользоваться телескопом, который мне подарили на день рождения.
Мои «книжные» рекомендации – не книги о бизнесе, а книги – учебники жизни, которые говорят о самом главном. Подобных книг, конечно, далеко не три, но мой персональный выбор – «Братья Карамазовы» Достоевского и «Доктор Живаго» Пастернака. Именно эти книги мне наиболее близки. Они обе меня в свое время потрясли, и я постоянно к ним возвращаюсь.
Третья рекомендация – стихотворения Маяковского. Для меня его творчество является эффективным средством эмоциональной подзарядки, от него исходит сумасшедшая энергетика и сила, и кроме этого – удивительная красота языка, рифмы, ритма, – мне это очень близко.
Елена Воронина, заместитель председателя правления МТС-банка:
«Преодолевайте свои страхи»
- Последний год был сложным для банковской системы. Банк России внес изменения в положение 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности». Банкам пришлось пересматривать кредитную политику, чтобы снизить давление кредитов на капитал. Это очень сложная задача, учитывая то, что отечественные банки последние 20 лет в основном зарабатывают на кредитной марже. В отличие от Европы, где банки получают доход за счет лояльности клиентов, которые размещают свои денежные средства.
Чтобы прийти к этой модели бизнеса, банкам в развитых странах потребовалось около трехсот лет. Российская банковская система пытается проделать этот путь за десятилетия. Жесткая политика Центробанка направлена на то, чтобы стабилизировать ставки по депозитам. Регулятор понимает, что высокая доходность депозитов съедает кредитную процентную маржу и пытается приучить банки повышать лояльность клиентов за счет расширения спектра финансовых продуктов и услуг.
Что касается деятельности МТС-банка, то в этом году мы полностью завершили формирование розничной команды, полностью укомплектовали штат специалистов. Банк готов решать все стратегические задачи. В частности, мы продолжаем работать над созданием совместной с МТС платежной системы. В ближайшее время у нас появится новый мобильный банк.
Лично для меня год выдался очень насыщенным событиями. И очень сильно поменялось отношение к жизни. Я стала философски относиться ко всему происходящему, понимая, что все сложности, препятствия только помогают расти и развиваться. Я стремлюсь следовать этому принципу в жизни и профессиональной деятельности.
Пытаюсь освоить дайвинг. Я хочу преодолеть свой страх перед погружением в воду. Это очень сложно. После того как освою дайвинг, буду учиться пилотировать самолеты. В свое время я принимала участие в гонках и думаю, что мой опыт вождения автомобиля пригодится. Но это проект уже на следующий год…
Еще у меня есть огромное желание выучить итальянский. Я считаю, что каждый современный образованный человек должен владеть минимум тремя языками. Не всегда на это хватает времени, к сожалению. Сейчас я очень много сил трачу на совершенствование делового английского.
Если брать последние книги, которые я прочитала, то советовала бы всем познакомиться с книгой Дейла Карнеги «Прихоти удачи». Это сборник малоизвестных фактов из жизни известных людей.
Еще мне показалась интересной книга Аси Казанцевой «Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости». Автор в популярной форме рассказывает о биологических ловушках, которые мешают нам жить счастливо и радоваться.
А всем руководителям я рекомендую книгу Дэна Кеннеди «Жесткий менеджмент». Автор рассказывает, как нужно выстраивать отношения с подчиненными, в каких случаях стоит держать твердый курс, а в каких ситуациях проявлять терпимость и лояльное отношение к сотрудникам.
Игорь Жигунов, первый заместитель председателя правления Банка жилищного финансирования:
«Меняйте себя, не изменяя себе»
- Я научился преодолевать ряд психологических ловушек и по-новому смотреть на время, а также менять себя, не изменяя себе. В текущем году пришлось многие вещи в рабочем процессе менять и вводить новые правила, что потребовало «переоценки» как факторов влияния, так и корректировки части собственных поведенческих моментов.
Из интересных книг для саморазвития: Марк Гоулстон «Ментальные ловушки на работе» – это интересный поведенческий материал человека-практика, тренирующего переговорщиков ФБР. Книга о том, как «не бояться заданий из-за страха не справиться», «как избегать ловушек, которые создает менеджер сам».
Ли Якокка «Карьера менеджера» – книга «от автора», вы прочитаете рассказ человека, который получил больше успехов, чем заслуживал. Хотя и он переживал тяжелые периоды жизни. Бестселлер повествует о жизни и карьере успешнейшего менеджера.
И еще несколько рекомендаций – книги для творчества и настроения: «Nine Centuries in the Heart of Burgundy» от издательства Assouline – материал посвящен истории виноделия в Бургундии, основанного еще в 1130 году монахами-цистерцианцами. Очень интересно, красиво и захватывающе. А также советую «National Geographic. Around the World in 125 Years» от издательства Taschen – материал с собранием лучших фотографий, опубликованных в журнале «National Geographic» к его 125-летию.
Ольга Монахова, вице-президент Финпромбанка:
«Не труд красит человека, а результат»
- Главный урок – нет ничего невозможного! Могу с уверенностью назвать себя счастливым человеком. В жизни важно оказаться в нужное время и в нужном месте, а главное, почувствовать этот момент! Три года назад я оказалась «в нужном месте». Судьба дала мне шанс стать частью нового успешного бизнеса банка – FPB Private Banking, работать в окружении профессионалов, развиваться под руководством настоящего лидера – Людмилы Маслиевой. Сплоченной командой добиваться впечатляющих результатов и в череде интересных событий создавать свою собственную, насыщенную ярчайшими впечатлениями жизнь, протекающую в атмосфере творчества и гармонии.
Счастье в том, чтобы жить здесь и сейчас. Необходимо ценить все происходящее, и особенно людей, возможности, которые открываются перед нами каждый день, и, конечно, солнце, которое встает каждое утро вовремя (!).
Как известно, не труд красит человека, а результат. В последний год я совершенно по-новому взглянула на многие окружающие события, процессы и на саму себя. Много времени уделяю работе, и мне действительно хочется проводить здесь свое время – это часть моей жизни, которая приносит удовольствие. Моменты, когда ощущаешь результаты своих усилий (а в этом году нам есть чем гордиться!), по-настоящему бесценны, появляются силы, вдохновение и открываются новые возможности, в том числе для социальной активности – для меня это важно.
Мечтаю научиться ценить время. У каждого человека есть свой банковский счет. Но на этом счету лежат не финансы, а время. Каждые сутки на этот счет зачисляются 24 часа времени. Человек их может потратить на что угодно, но неиспользованное время сгорает раз и навсегда. Нельзя вернуть неиспользованное время, нельзя его оставить на «черный день», нельзя кому-то подарить или продать. И так каждый день, в конце каждых суток остаток времени сгорает. Это время – ваш личный счет. Как им распорядиться – решать только вам. И время не прощает бесцеремонного с собой обращения.
Время невозможно купить, если его не хватает, и нельзя остановить, когда этого очень хочется. Управление временем в прямом смысле нереально. Что бы вы ни делали, оно будет идти всегда с определенной скоростью. Но можно начать больше его ценить, разумно тратить и относиться к нему с уважением, чему я и планирую научиться.
Мои книги-«учебники» – Диана Машкова «Главные правила жизни». Книга соединила в себе основные ценности и житейские принципы выдающихся современников – тех, за чьими успехами мы с интересом следим. Писатель Диана Машкова, автор-составитель книги, проделала колоссальную работу для того, чтобы собрать воедино высказывания людей, чье творчество вдохновляет, дела – мотивируют, а жизненный опыт впечатляет. Люблю эту книгу, потому что в ней всегда найдутся нужные слова.
«Атлант расправил плечи» Айн Рэнд – это книга, меняющая мировоззрение, она формирует целостное видение мира и дает ответы на вопросы о смысле жизни и общественном значении предпринимательства.
«Философические письма» Павла Чаадаева – наверное, это одно из самых мощных произведений русской философии. Я нахожу для себя две основные идеи, заложенные Чаадаевым: стремление реализовать утопию и поиск национальной идентичности. «Мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, – пишет он, – мы – народ исключительный». Смысл России – быть уроком всему человечеству.
И еще – все кодексы Российской Федерации в актуальных редакциях. Это должен знать каждый, ведь никто не знает, когда они пригодятся!
Максим Морозов, председатель правления Фиа-банка:
«Каждый человек, каждая книга, появляющиеся в нашей жизни, – наши учителя»
- В прошлом году моя дочь пошла в первый класс, и в процессе нечастого приготовления с ней домашних заданий по математике, русскому языку и других предметов я поймал себя на одной интересной мысли. Чем больше я делюсь с ней своим видением и информацией, тем больше получаю знаний взамен. И становится понятно, что этот маленький человечек, пропуская через свое собственное восприятие жизни эту информацию, дает мне новые знания и умения. Это очень интересно.
Большую часть своей трудовой жизни, а это почти 22 года, я руковожу людьми. И искренне убежден, что наш самый главный актив – это люди, клиенты, акционеры, сотрудники. Разумеется, и цифры, хорошие финансовые результаты для нас важны. Но все-таки важнее человек. Так вот, я периодически ловлю себя на мысли, хорошо бы научиться понимать и разбираться в людях так, чтобы правильно формировать отношения, чтобы совершать меньше ошибок. Чтобы быть, как говорил легенда банковского дела, швейцарский банкир Ханс Фонтобель, «жестким по сути, но осторожным в образе действия».
Три книги, которые бы я порекомендовал? Цикл романов Теодора Драйзера «Трилогия желания» – «Финансист», «Титан» и «Стоик». Я рекомендую эти книги всем, кто хочет понять мировоззрение людей, живущих в мире капитала, понять суть философии капитала. Они учат нас не смешивать личные и рабочие отношения. Говорят нам, как важно научиться в жизни с одной стороны быть стойким к невзгодам, а с другой стороны быть гибким к изменениям обстоятельств, поскольку жесткость, косность могут привести к гибели как человека, так и организации. Этому не учат в школе, не учат и в институтах как предмету, но этому учит жизнь, общение с опытными людьми. Ведь учителями можно назвать не только тех, кто стоит у доски и преподает какой-то предмет, каждый человек, каждая книга, появляющиеся в нашей жизни, – наши учителя.
Елена Стратьева, вице-президент Национального партнерства участников микрофинансового рынка, директор Российского микрофинансового центра:
«Нужно понимать, что у людей просто может не быть объективной возможности тебе помочь»
- Безусловно, практически каждый рабочий день – это что-то новое, последствия каждого управленческого решения – жизненный урок, независимо – победа это, большая или маленькая, отступление или поражение. А когда ты занимаешься делом, которое любишь, то находишься в вечном поиске – чему бы еще научиться, чтобы делать его еще лучше, и – в вечной шлифовке навыков.
Но если говорить о чем-то, не имеющем непосредственного отношения к работе, то за последний год одним из открытий для меня стал дайвинг. На туристическую глубину я погружалась и раньше, но за последний год, честно проучившись, получила пару сертификатов и использовала каждую возможность попрактиковаться. Очень важным, что пришло в процессе обучения, наряду с различными техническими навыками – как что застегивать и что к чему прикручивать, стало и ощущение своих новых возможностей, и большее понимание собственной ответственности за все происходящее. Ты можешь нырять без инструктора, глубже и дольше, ты действительно открываешь для себя совершенно другой мир, гигантский и всесильный, который пускает тебя к себе с разной степенью благосклонности и разрешает себя порассматривать. Ты чувствуешь себя посвященным, в отличие от многих других, кто этого не видел. Но вместе с тем острее понимаешь, как много зависит только от тебя самого. Ты изначально должен рассчитывать только на себя и не надеяться ни на партнера, ни на других членов группы. Не по злому умыслу, у них просто может не быть объективной возможности тебе помочь. Когда ты это понимаешь, то и твоя подготовка и твое поведение становятся более эффективными. Думаю, понимание этого ценно не только для дайвинга.
Я так много еще не умею. Чем старше становишься, тем больше ощущаешь, что «жизнь – только миг», и хочется успеть больше сделать, больше узнать, большему научиться. Вместе с тем присутствует понимание, что, начав учиться чему-то совсем новому, можешь не успеть достичь не то что совершенства или успеха, но даже просто состояния, когда то, чему ты научился, доставляет тебе удовольствие. А получать удовольствие – это важно. Поэтому, мне кажется, должен быть баланс: с одной стороны, в любом возрасте не нужно бояться начинать изучать что-то абсолютно новое, с другой – должна быть внутренняя готовность доведения приобретенных навыков до некоего достойного уровня. У меня сейчас «в процессе» – дайвинг, горные лыжи и изучение английского. Зачем надо? Для полнокровной жизни для эффективной работы и безграничного общения и для получения удовольствия!
Настольных книг у меня никогда не было. Чаще всего книги ситуативно отвечают на какое-то состояние, а оно всегда меняется. Но поскольку обычно я читаю несколько книг одновременно, но с разными задачами, то можно сказать, что на столе всегда присутствует книга из категории профессиональной литературы, бизнес-книги или что-то практическое на тему самореализации. Вполне могу это порекомендовать как подход. Для души чередую современную литературу, новинки которой мне подсказывает MyBook, с классикой, которую набираю там же. Если считать настольными книги, к которым время от времени обращаюсь периодически, то это – стихи Владимира Высоцкого и книги о Фаине Раневской. Но всё – очень субъективно, поэтому рекомендовать сложно.
Гарегин Тосунян, президент Ассоциации российских банков:
«Не обрастайте жиром, держите себя в тонусе»
- Главный урок, который я извлекаю из каждого года, можно сформулировать следующим образом: ничему не стоит удивляться, необходимо быть постоянно бдительным, не расслабляться, не «обрастать жиром», держать себя в тонусе. Этот год не исключение. Он продемонстрировал, какие совершенно непредсказуемые повороты нас могут ожидать в жизни.
Казалось бы, это очевидные вещи, но вместе с тем надо быть философски настроенным ко всем новым краскам жизни, готовиться жить, бороться и противостоять.
Всех нас коснулась ситуация на Украине, все в напряжении. У всех есть знакомые, которые либо сами переживают эту трагедию, либо их близкие родственники, так что мы все попали в этот трагический круг. В этой ситуации ты понимаешь, что мир настолько тесен и взаимосвязан, что спокойно жить, потреблять и находиться в довольстве от того, что у тебя непосредственно ничего в жизни не рушится, и в прямой близости нет войны, невозможно.
Мы каждый день черпаем личные уроки из жизни. Для меня, к примеру, выполненное «домашнее задание» – при любых обстоятельствах быть настроенным на позитив. Надо излучать позитив, генерить его, особенно когда вокруг много негатива. Нужно находить в себе смелость не отчаиваться и не быть удрученным. Позитив вернется. Этот подход накапливается годами, но у меня в этом году произошел именно качественный скачок. Я для себя однозначно решил, что в любой обстановке, в любой ситуации постараюсь сделать что-то позитивное, конструктивное, несущее добро.
Я хотел бы научиться еще большему терпению. Очень тяжело оттого, что эмоции иногда берут верх в нештатных ситуациях. Человек должен уметь терпеть и понимать, что если Господь посылает испытание, значит оно необходимо.
Учебников жизни у меня нет, жизнь по учебникам не формируется, поэтому ни одной книги учебником своей жизни я назвать не могу. Но на меня в свое время очень сильное впечатление произвели краткие и емкие «Максимы и моральные размышления» Франсуа де Ларошфуко – это был томик серии «Всемирная литература». Запомнился «Пигмалион» Бернарда Шоу – легли на душу и язык, и сама философия жизни, которая пронизывает это произведение. И в юности меня привлек «Наполеон» Евгения Тарле, запомнился как сильное произведение. Хотя потом, когда я пытался его перечитывать, став постарше, эффект уже был другой.
Павел Яблочкин, директор Института финансового планирования:
«Воспитывайте в детях понимание ценности денег и вложенного родителями труда»
- Этот год для меня был насыщен событиями. Одно из них – вступление в должность директора института. Это и большая ответственность, и очень важный шаг. Поскольку событие произошло совсем недавно, впереди еще масса открытий. Учиться продолжаю каждый день, в этом мне помогают мои коллеги и эксперты нашего института.
Кроме того, уже год, как я женат – 31 июля была годовщина нашей свадьбы. Мы с женой начали пересматривать ведение нашего общего семейного бюджета. Для примера, появился общий семейный счет. На семейном совете была выбрана Travel карта, привязанная к порталу IGlobe: путешествия – это наше совместное хобби. Это очень перекликается с тем, чему учит наш институт. Наши проекты направлены на повышение финансовой грамотности, формирование совершенно иных подходов к взаимосвязи «банк-клиент». Есть масса финансовых инструментов помимо кредитов и вкладов, которые могут сделать жизнь обычного человека проще. Каждый банк, каждая финансовая компания должна нести социальную ответственность перед населением. Важно помочь человеку стать «подкованным», не допускать простейших ошибок.
Сейчас, конечно, первоочередная цель – набраться опыта в управлении компанией. Для меня это во многом в новинку, я не могу себя на сто процентов классифицировать как управленца, но приходится это качество в себе вырабатывать, изучать различные материалы, в том числе бухгалтерию. Также, оценивая банковский рынок России, понимаешь необходимость повышения качества обслуживания клиентов. В ближайшее время Институт финансового планирования представит для рынка ряд проектов, направленных на улучшения взаимодействия банка и клиента. Вот сейчас над этим и думаем, и учимся, и работаем. Надеюсь, рынок поддержит эти инициативы.
Читаю много и с удовольствием, люблю как художественную литературу, так и уделяю время профессиональному чтению. Одна из книг, которая повлияла на мой выбор образования – книга Игоря Липсица «Удивительные приключения в стране экономика». Я получил ее в подарок в возрасте 13-ти лет. Сейчас вышло много замечательных книг по экономике для детей, в том числе выпущенных и нашим институтом. Например, книга «Дети и деньги», автор которой – мой предшественник на посту руководителя и мой наставник Евгения Блискавка. Что же касается книги Липсица, она написана простым языком о принципах и значении экономики, и я бы хотел рекомендовать ее для школьников и их родителей. Подобные книги нужно читать вместе – они воспитывают в детях понимание ценности денег и вложенного родителями труда. И конечно, воспитывают мыслящих членов общества.
Совсем недавно перечитывал и переосмысливал книги, которые прочел еще в детстве. Например, всем рекомендую «Убить пересмешника» американской писательницы Харпер Ли. Есть строки Высоцкого из популярной «Баллады о борьбе», которые очень четко характеризуют такие произведения: «…значит, нужные книги ты в детстве читал».
Рекомендую прочесть удивительное произведение, которое прочитал совсем недавно, – «Книжный вор», роман австралийского писателя Маркуса Зузака. Его можно охарактеризовать одной фразой: как в любое время оставаться человеком. Для меня это максимально важно и всегда служит выбором пути по жизни. А еще очень советую посмотреть вместе с детьми-подростками близкую к книге экранизацию романа «Воровка книг».
С самого детства увлекаюсь историей. Это одно из моих хобби наряду с путешествиями и фотографией. Недавно одна крайне занимательная книга открыла мне массу новых фактов из истории дореволюционной России – научный труд американского ученого Пола Грегори «Экономический рост Российской империи (конец XIX – начала XX веков)». В ней рассказывается о небывалом подъеме экономики Российской империи перед Первой мировой войной. Темпы роста и состояние экономики России тогда были сопоставимы с соответствующими показателями ведущих западных стран. Во время коммунистического прошлого было принято рассказывать об экономической отсталости Российской империи, но данная книга показывает совершенно обратное. Уверен: она будет интересна и специалистам, и всем любителям истории.
В условиях санкций Российско-китайский центр развития торговли (РКЦРТ) фиксирует ощутимый рост интереса российских компаний к поставкам из Китая взамен Европы. Переход на КНР требует и затрат, и пересмотра бизнес-стратегий, но прежде всего - прогноза ситуации в отношениях Россия - Запад в среднесрочной перспективе. С опорой на опыт европейских консультантов РКЦ приведем краткий анализ положения дел.
Итак, Европа расширяет санкции против РФ уже более полугода и, несмотря на полное отсутствие результатов, продолжает взятый курс.
В активе Евросоюза утрата российского импорта сельхозпродукции и технологий нефтедобычи, доли в госзакупках РФ, а также запрет на покупку ряда российских активов. В политической плоскости: разрыв отношений НАТО - Россия, дискредитация ФРГ и Франции после провала соглашения 21 февраля, крест на планах втянуть Москву в энергохартию, перспектива потерять влияние на Москву через ЕСПЧ, Совет Европы, Гаагский суд и т.д. На очереди - снижение зависимости РФ от евро и угроза срыва энергопоставок.
Выработанная за годы работы РКЦ с Китаем привычка оценивать деловые мотивации через особенности менталитета заставляет и здесь задуматься о внутренних мотивациях Запада с политико- психологической точки зрения.
Анализ заявлений западных политиков и чиновников показывает, что в их понимании санкции - это попытка вернуть Россию в рамки общепринятых «правил игры», адекватных объективному паритету сил в мире, в частности доминирующей роли Запада.
Многое указывает на то, что мнение Брюсселя, Берлина и Парижа об «исторической ошибке» РФ выходит за пределы логики «двойных стандартов» и отчасти продиктовано совершенно искренними убеждениями европейцев.
«Единая Европа», действительно, считает архаичным стремление РФ сохранить суверенитет, поскольку уверена в «истинности» пути интеграции мира вокруг Запада. Основой взаимоотношений в Европе считается соблюдение ВСЕМИ единых установленных правил, а суть игры сводится к тому, чтобы добиться своего любыми способами, кроме прямого нарушения правил. Обман, манипуляция и другие хитрости не только не порицаются, но и считаются достижениями ума и ловкости.
В этой парадигме, призывая вернуться конструктиву, Европа говорит, что Россия ломает правила. В понимании европейцев, работа ЕС через НПО и помощь украинским силовикам находится на грани, но не нарушает правил, а «скрытая», по словам генсека НАТО, военная операция РФ - нарушает.
По всей видимости, за десятилетия мирового доминирования Запад разучился жить за пределами этих правил и даже не рассматривает возможности их коррекции в новых условиях. Отсюда и их упорное нежелание реформировать МВФ, ООН, ОБСЕ и другие международные механизмы.
Китай же, напротив, чувствителен прежде всего к тектоническим изменениям, и стратегические изменения мирового масштаба влияют на взгляды отдельных предпринимателей значительно сильнее, чем тактические соображения выгоды от сотрудничества в предлагаемой Западом парадигме. В результате только первые признаки фундаментальных долгосрочных изменений в мире уже привели к конкретным договоренностям КНР с Россией и остальными странами БРИКС в коммерческой и военно-политической плоскостях.
В этих условиях можно предположить, что даже «пережив Украину» взаимодействие Европы и России будет деградировать. Игра по западным правилам будет все менее возможна, поэтому РФ постоянно будет«нарушителем», порождая все больше обвинений по каждому поводу.
Кроме того, неспособность уже длительное время встать на очередной виток технологического уклада вредит экономике Запада. Каждый финансовый кризис будет приближать Брюссель и Вашингтон к крайним средствам, таким как шантаж изоляцией, блокирование транзакций в долларах и евро и т.д. Кипрский прецедент, механизмы спасения европейских банков за счет средств «сомнительных» вкладчиков и FATCA указывают на то, что медленно, но верно дело движется именно в этом направлении.
По большому счету для крупных и средних компаний изменения будут ощутимы после того, как глобальные игроки заметно скорректируют направления и денежную номинацию ключевых финпотоков. Создаваемое таким образом «магнитное поле» постепенно будет ориентировать все больше «диполей» в виде предприятий среднего уровня.
Первые признаки уже есть. Это договоренности о крупных инфраструктурных проектах России со странами БРИКС, которые задают будущие магистральные линии финансовых потоков. В этом смысле нынешний интерес российских импортеров к переключению на Китай закономерен и, вероятно, будет расширяться со временем.
Илья Дмитриев
Новый вид туризма зарождается в Касторье благодаря туристической компании Музенидис Трэвел. После успешной организации свадебных туров в Халкидики, Санторини, Корфу и др., в ходе которых поженились около 200 пар, Музенидис Трэвел организовывает аналогичные туры в сказочную Касторью.
В рамках продвижения идеи, менеджер туроператора в Касторье Сакис Згафас в сотрудничестве с Владом Параскевопулосом и Леонидом Музенидисом встретился и обсудил концепцию с мэром Касторьи Анестисом Ангелисом и вице-мэром по культуре Такисом Петропулосом, а также с митрополитом Касторьи.
Согласно информации, туристическое агентство организует свадебные туры в Касторью для пар из России, Украины и других православных стран, намеревающихся связать себя узами брака (религиозного или гражданского) и супружеских пар, которые хотят обновить свой союз с помощью специального обряда.
Стоит отметить, что на минувших выходных Музенидис Трэвел совместно с Греческим православным паломническим центром Солунь принял в Касторье два автобуса с туристами из православных стран, прибывшими исключительно с целью религиозного туризма.
Шведское правительство решило купить 60 боевых самолетов усовершенствованной модели Jas Gripen E. Оппозиция разделилась: социал-демократы поддержали решение правительства, а "зеленые" и Левая партия - против.
Ранее предполагалось, что Швейцария разделит со Швецией финансирование нового поколения самолетов Грипен, которого окрестили "супер-Грипен". Однако после того, как во время майского (2014 г.) референдума в Швейцарии там победили противники покупки шведских самолетов, Швеции придется финансировать новые самолеты самой. Поэтому расходы будут на много миллиардов крон выше, чем при условии участия в этом проекте Швейцарии. Поэтому возник вопрос, стоит ли доводить до конца планы по закупке новых самолетом. 31 августа истекает срок договоренности с СААБом, производителем истребителей, поэтому решение должно было быть принято до наступления этой даты. Оно и было принято вчера, в четверг 28 августа. Что касается финансирования, то министр обороны Швеции Карин Энстрём/ Karin Enström обещает вернуться к нему при обсуждении проекта госбюджета этой осенью.
На решение шведского правительства повлияла обстановка в окружающем мире. Карин Энстрём сказала, что развитие событий в Украине подчеркивает необходимость покупки Швецией новых военных самолетов:
- Развитие событий в окружающем мире и действия России, которая, как мы видим, ввела свои регулярные войска в Украину, то есть, обострение ситуации, в том числе и в нашем ближайшем окружении, подчеркивают важность того, что нам следует довести до конца процесс приобретения боевых самолетов следующего поколения, - сказала министр обороны Шведскому телевидению/ SVT.
Лидер народных либералов Ян Бьёрклунд/ Jan Björklund тоже считает, что развитие в России является тревожным и что Швеция должна усилить свою оборону:
- Они значительно наращивают свою военную мощь, ведут себя агрессивно. Вчера до нас дошла новость о том, что они вводят войска в Украину, ранее они совершили аннексию Крыма. Такое развитие событий ведет к тому, что мы в Швеции должны укреплять нашу оборону, куда относится, конечно, и противовоздушная оборона, которая должна быть сильной и современной, сказал Ян Бьёрклунд в пятницу утром по Шведскому телевидению/SVT:s telefonväkteri.
Карин Энстрём обещает увеличение средств на нужды обороны, но точных цифр пока не называет:
- Правительство предложит усиление бюджета так, чтобы оборона могла приобрести новые самолеты, при этом это не должно вести к сокращению деятельности военных частей или сокращению других военных материалов, - пообещала министр обороны в интервью.
Возникает вопрос, что будет с этими планами, если после выборов 14 сентября произойдет смена власти, а с ней и смена правительства.
Социал-демократы были согласны на покупку новых самолетов, но если вместе с ними правительство войдут и "зеленые", которые против этого возражают, то к согласию прийти будет трудно. Левые тоже против инвестиций в новое поколение боевых самолетов.
Однако отказаться от уже заключенных договоров с концерном СААБ может стоить очень дорого. Если вообще возможно.
Независимо от того, какое правительство придет к власти после выборов, расходы на новый самолет будут "висеть" на госбюджете много лет вперед. Но и потребность в новых, современных, военных самолетах тоже сохранится в будущем. В этом вопросе согласны и правительство, и социал-демократы, и шведские военные.
Государственная политика и стратегия развития фармацевтической промышленности Республики Узбекистан направлена на стимулирование роста производственного потенциала, привлечение иностранных инвестиций путем предоставления системы льгот и преференций.
В частности, в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан УП-4434 от 10.04.2012 г. «О дополнительных мерах по стимулированию привлечения прямых иностранных инвестиций» предприятия отраслей экономики, в том числе в области производства лекарственных средств, привлекающие прямые частные иностранные инвестиции, освобождаются от уплаты налогов на прибыль, на имущество, на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд сроком на 3–7 лет в зависимости от объема вложений.
Более того, иностранные инвесторы, осуществляющие деятельность в Узбекистане, в том числе в сфере фармацевтического производства, освобождаются от таможенных платежей на ввозимое оборудование, а также на сырье и материалы, предназначенные для выпуска медикаментов и медицинских изделий.
Вместе с тем, национальное законодательство предоставляет отечественным фармацевтическим производителям огромные привилегии при участии в международных тендерных торгах для закупки лекарственных средств по государственным заказам. В связи с чем важным условием скорейшего освоения узбекского рынка лекарственных препаратов представляется создание в стране совместного производства.
За прошедший год в фармацевтическом секторе были освоены инвестиции в размере 76,53 млн дол. США, в том числе 34,83 млн дол. прямых зарубежных инвестиций. Объем узбекского фармацевтического рынка достиг отметки 1 млрд дол., 80% которого приходится на импортные препараты. При этом ежегодный прирост объема рынка в среднем составляет 25–30%. На рынке преобладают импортные препараты, поступающие в основном из Германии, Франции, Индии, США, России и других стран (по информации ГАК «Узфармсаноат»).
На сегодня в Узбекистане производством лекарственных средств и изделий медицинского назначения занимаются 138 предприятий, имеющих соответствующие лицензии. По объему производства за 2013 г. в первую тройку узбекских фармацевтических компаний попали «Jurabek Laboratories», «Nika Pharm» и «Nobel pharmsanoat». Объем производства предприятиями фарминдустрии за 2013 г. составил 420,5 млрд сум (темп роста — 120,3%). При этом лекарственной продукции произведено на сумму 318,2 млрд сум (темп роста — 109,5%), изделий медицинского назначения — на 58,1 млрд сум (темп роста — 124,7%), вспомогательных материалов — на 37,3 млрд сум (темп роста — 496,0%) и прочей продукции — на 6,9 млрд сум (темп роста — 103,6%). В натуральном выражении выпуск продукции составил 688 млн единиц (темп роста — 134,7%). Курс Центрального банка Республики Узбекистан на 19.08.2014 г.: 1 дол.=2344,38 сум.
Как показывает проведенный анализ структуры узбекского фармацевтического рынка, 30% составляют лекарственные средства в таблетированной форме, 28% — в форме растворов в ампулах и флаконах и 17% — сухих порошков. В настоящее время основной продукцией фармацевтических предприятий являются инъекции, инфузии, таблетки, капсулы, мази, изделия медицинского назначения, фармацевтическая посуда и др.
Согласно Государственному реестру лекарственных средств Республики Узбекистан по состоянию на 1 января 2013 г. на рынке было представлено 6599 наименований лекарственных средств и изделий медицинского назначения, только 20% которого производится на внутреннем рынке.
В то же время лидерами по освоению и внедрению новых препаратов за последние 2 года являются «Novopharma Plus», «Nika Pharm», «DentaFill Plus», «Nobel Pharmsanoat» и «Remedy group». Также необходимо отметить, что 22 фармацевтических предприятий, входящих в состав ГАК «Узфармсаноат», обладают международным сертификатом качества ISO: «Novopharma Plus», «Nika Pharm», «Radiks», «Jurabek Laboratories», «DentaFillPlus», «Zamona Rano», «NASA», «Remedy», «Remedy group», «Uzgermed Pharm», «Samsun-Tashkent-Pharm», «Gufik-Аvicenna», «Asia Trade», «Reka-Med Farm», «SAMO», «Elastikum», «Merrymed Farm, «Nobel Pharmsanoat», «Galenika, «Makrofarm-Optima», «Immunomed» и «Pharmed».
География экспорта продукции узбекских фармацевтических производителей включает такие страны, как Афганистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Туркменистан, Украина, Молдова, Монголия и другие страны. По итогам 2013 г. объем экспорта составил 5,935 млн дол.
Производители лекарственных средств Узбекистана успешно сотрудничают с ведущими фармацевтическими компаниями Германии, России, Турции, Индии, Китая, Южной Кореи, Польши, Болгарии, Чехии и других стран. Инвестиционная привлекательность фармацевтического сектора республики обеспечивается достаточным рынком сбыта, упрощенным механизмом экспорта произведенной здесь продукции, а также возможностью выхода на рынки сопредельных государств.
Несмотря на достигнутые высокие темпы роста, представляется необходимым дальнейшее развитие национальной фармацевтической отрасли. При этом к числу приоритетных задач относится разработка лекарственных средств на основе собственных разработок и местного сырья.
Следует обратить внимание на тот факт, что в Узбекистане представлена богатая флора, включающая 138 семейств, 1023 рода и 4500 видов растений, в том числе около 1150 лекарственных растений, что в перспективе может позволить производить оригинальные лекарственные средства и диетические добавки на базе местного сырья и обеспечить население качественными и доступными препаратами.
В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 24.07.2008 г. № ПП-927 «О мерах по совершенствованию процесса привлечения и освоения иностранных инвестиции и кредитов» разработано и утверждено 14 инвестиционных проектов (сводный перечень) с целью осуществления производства лекарственных средств и изделий медицинского назначения в 2014 г. Общая сумма инвестиций, предусмотренных к реализации за 2014 г. по всем источникам финансирования, составляет 155,7 млн дол.
Вместе с тем программа модернизации, технического и технологического переоснащения предприятий фармацевтической отрасли Республики Узбекистан на период до 2015 г. нацелена на обновление промышленных производств, оснащение их современным высокотехнологичным оборудованием, внедрение современных научных достижений и прогрессивных инновационных технологий путем привлечения прямых инвестиций.
В заключение необходимо подчеркнуть, что фармацевтическая отрасль Узбекистана довольно перспективна в плане развития как одного из инновационных направлений национальной экономики. При этом важной составляющей остается привлечение ведущих мировых производителей для реализации инвестиционных проектов, направленных на создание современных высокотехнологичных производств лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
Совещание с вице-премьерами.
Об энергоснабжении Республики Крым и города Севастополя.
И два слова по ситуации, которая в Крыму сложилась с энергопоставками, с электроэнергией. Вчера там был инцидент с отключениями.
Как обстоят дела сейчас, Дмитрий Николаевич (обращаясь к Д.Козаку), и какие меры принимаются?
Д.Козак: В настоящее время энергоснабжение за счёт традиционной энергосистемы Украины полностью восстановлено, все дизельно-генераторные установки и газотурбинные станции выведены обратно в резерв, проблем в настоящее время нет. Благодаря тому, что начиная с апреля в Министерстве энергетики и органах исполнительной власти Республики Крым и Севастополя упорно работали, тренировались, для того чтобы удалось организовать новые генерирующие мощности общей мощностью почти 600 МВт, они были готовы к работе в таких условиях. Благодаря тренировкам оперативно 31 августа в 21.00 по трём из четырёх линий энергоснабжения с Украиной было подключено энергообеспечение, уже в 23.30 все социально значимые объекты, все объекты жизнеобеспечения были подключены к временному энергоснабжению, а к двум часам ночи было восстановлено энергоснабжение за счёт Украины.
Д.Медведев: Значит, мы сотрудничество в этой сфере продолжаем с нашими партнёрами. Естественно, это всё делается не бесплатно, это совершенно нормальные коммерческие отношения. Но у нас есть общая установка на то, чтобы добиться полной энергетической независимости. Естественно, это не делается ни за день, ни за месяц, это довольно сложный процесс, но на это выделяются специальные деньги, это вошло в ФЦП развития Крыма и Севастополя. Надо продолжить работу на этом направлении тоже.
Гидроэлектростанция "Санься" ("Три ущелья") на реке Янцзы вышла на полную мощность. Объем выработки электричества на энергоблоках ГЭС достиг 22,5 млн кВт-ч. Об этом сообщила Китайская акционерная электроэнергетическая компания "Чанцзян" ("Янцзы").
Режим полной рабочей нагрузки станции стал возможным благодаря увеличению объема осадков в районах верхнего течения Янцзы. Это вызвало значительное увеличение поступления воды на ГЭС.
В настоящее время на "Санься" сданы в эксплуатацию 32 энергоблока мощностью 700 000 кВт каждый. На левом берегу реки расположены 14 энергоблоков, на правом – 12, под землей – 6. Кроме того, на ГЭС установлены два генератора мощностью50 000 кВт каждый, которые вырабатывают энергию для самой станции.
Ранее сообщалось, что по итогам первой половины 2014 г., объем потребления электроэнергии в Китае превысил 2,62 трлн кВт-ч. Это на 5,3% больше, чем за первую половину 2013 г. Так, за январь-июнь текущего года в сельском хозяйстве Поднебесной было использовано 43,5 млрд кВт-ч электроэнергии. Это на 4,6% меньше, чем годом ранее. В промышленности страны понадобилось более 1,93 трлн кВт-ч с приростом на 5,1% в годовом выражении, в сфере услуг – 313,8 млрд кВт-ч с увеличением на 6,9%. В быту городского и сельского населения Китая электропотребление составило 337,8 млрд кВт-ч. Это на 6,6% больше, чем за январь-июнь 2013 г.
Вице-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики Андрей Пургин заявил, что ДНР не видит себя в едином политическом пространстве с Украиной и выборы в украинский парламент на территории непризнанной республики проводиться не будут.
"О пространствах и их видах мы можем говорить до бесконечности. Но у нас не будет выборов в Верховную раду. То есть мы с ними в одном политическом пространстве? Нет, конечно", — заявил Пургин журналистам в Москве.
Представители Донецкой и Луганской народных республик в понедельник обнародовали свою переговорную позицию к минской встрече контактной группы по урегулированию украинского кризиса. В состав контактной группы, которая собралась после месячного перерыва, входят представители РФ, Киева, ОБСЕ, а также юго-востока Украины.
Как уточнил премьер Донецкой народной республики Александр Захарченко, ДНР и ЛНР не хотят "оставаться в пределах Украины ни территориально, ни в политическом, ни в финансовом векторе, только как равноправные партнеры".
Президент Украины Петр Порошенко 27 августа подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады седьмого созыва и назначении на 26 октября внеочередных выборов.
Заявленный объем реверсных поставок с территории Словакии на Украину в 27 миллионов кубометров в сутки, или приблизительно 10 миллиардов кубометров в год, выглядит завышенным, считают аналитики, опрошенные РИА Новости.
Ранее во вторник был дан официальный старт коммерческим поставкам газа на Украину в реверсном режиме по трубопроводу Вояны-Ужгород. По данным украинских СМИ, стоимость газа по реверсным поставкам составит около 360 долларов за один кубический метр.
"Не думаю, что будут достигнуты такие объемы. Технически там возможно прокачать до двух миллиардов кубометров в год", — считает портфельный управляющий ИК "Анкор инвест" Сергей Вахрамеев. Препятствием для такого объема реверса, по мнению эксперта, является договоренность Словакии с "Газпромом". Высказываемые относительно реверса заявления представителей Украины эксперт назвал популистскими.
Сомневается в реальном объеме реверса и заместитель заведующего кафедрой госрегулирования экономики Института государственной службы и управления РАНХиГС Иван Капитонов. "Это завышенные цифры. Такой объем Словакия не сможет поставить. Чтобы был реверс надо, чтобы был избыточный объем газа на территории Словакии. Газ Словакии тоже нужен. Определенное количество газа, скажем, пять миллиардов, она сможет поставить, но не больше. Ни о каких десяти миллиардах тут речи идти не может. Они (Украина — ред.) занимаются оптимистичными прогнозами, чтобы иметь аргументацию в газовом споре с Россией", — полагает эксперт.
Кроме того, Капитонов сомневается в способности реверсных поставок решить проблемы Украины с энергообеспечением. Глава "Нафтогаза" Украины Андрей Коболев ранее заявил, что поставки по газопроводу Вояны-Ужгород могут обеспечить до 40% всех потребностей Украины в импортном газе.
"Даже заявляемые цифры в 40% не позволяют быть оптимистичными по поводу приближающего отопительного сезона, когда потребности страны в газе вырастут. И фактически в этом отопительном сезоне без дополнительных поставках газа из России Украина замерзнет", — считает Капитонов.
Коммерческие поставки газа на Украину из Словакии в реверсном режиме по реконструированному трубопроводу Вояны-Ужгород начались во вторник 2 сентября, запланированный объем поставок — 27 миллионов кубометров газа в сутки, сообщил РИА Новости представитель оператора газотранспортной системы Словакии — компании Eustream Ваграм Чугурян.
"Официальный старт коммерческим поставкам газа на Украину в реверсном режиме по трубопроводу Вояны-Ужгород был дан в 12.55 2 сентября. Объем поставок должен составлять около 27 миллионов кубометров газа в сутки и будет осуществляться в контрольном режиме, поскольку одновременно будут продолжаться работы по технической проверке и доводке всех компонентов системы до необходимых параметров. С 1 марта 2015 года газопровод должен функционировать в нормальном рабочем режиме",- сказал Чугурян.
В процедуре запуска коммерческих поставок газа на Украину в реверсном режиме на приграничной словацкой компрессорной станции Вельке Капушаны приняли участие премьер Словакии Роберт Фицо, премьер Украины Арсений Яценюк и представитель энергетического департамента Еврокомиссии Клаус-Дитер Борхард, а также министры экономики и руководители компаний нефтегазового комплекса Словакии и Украины.
По данным украинских СМИ, стоимость газа по реверсным поставкам составит около 360 долларов за одну тысячу кубометров.
Представитель компании Eustream напомнил, что в ходе процедуры Open Season несколько европейских фирм предоставили обязывающие заявки на прокачку газа по этой трубе, но назвать эти фирмы отказался, сославшись на коммерческую тайну и сообщив лишь их примерное число — от 5 до 10.
Ранее глава "Нафтогаза" Украины Андрей Коболев заявил, что поставки по газопроводу Вояны-Ужгород могут обеспечить до 40% всех потребностей Украины в импортном газе. По данным "Нафтогаза", поставки по газопроводу из Словакии могут превысить реверсные поставки газа из Польши в 6 раз, и реверсные поставки из Венгрии — почти в 2 раза. Александр Куранов.
Украинские саперы подорвали взлетно-посадочную полосу аэропорта в Луганске после отступления оттуда военных, заявил во вторник на брифинге спикер информационного центра Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Лысенко.
Накануне Лысенко сообщил, что украинские военные получили приказ и отошли от поселка Георгиевка и аэропорта "Луганск".
"После организованного отступа от Луганского аэропорта наши саперы подорвали взлетно-посадочную полосу, чем исключили ее дальнейшее использование", — сказал Лысенко.
Авиации у ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик нет.
Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщал, что стоимость восстановительных работ поврежденной в результате боевых действий инфраструктуры и предприятий на Украине может достигнуть 8 миллиардов долларов.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


























