Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
Продолжение санкционного давления на Россию не поможет урегулировать внутриукраинский кризис и лишь приведет к его углублению, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете El Pais.
"Очевидно, что продолжение санкционного давления на Россию не поможет урегулировать внутриукраинский кризис, а лишь приведет к углублению противостояния, усложнит диалог. Рассматриваем новый пакет санкций ЕС в отношении нашей страны, который вступил в силу 12 сентября, как абсолютно не учитывающий реалии ответ Брюсселя на результаты встречи в Минске контактной группы по урегулированию ситуации на Украине", — заявил Лавров в испанскому изданию.
Такое "политическое зазеркалье" Евросоюза, по мнению министра, "фактически посылает сигнал прямой поддержки "партии войны" в Киеве, которая не заинтересована в реализации положений минского протокола и переводе ситуации в стране в мирное русло.
Говоря о политике санкций в отношении России, министр напомнил, что РФ оставляет за собой право предпринимать меры для защиты законных интересов страны, в том числе интересов национальной безопасности. "Вместе с тем рассчитываем, что прагматизм и здравый смысл в подходах партнеров в конечном итоге возобладают. США, Евросоюзу и другим странам надо, наконец, прислушаться к голосу разума и прервать этот бессмысленный порочный круг действий по принципу "око за око", начало которому они сами и положили", — подчеркнул Лавров.
Закон об особом статусе Донбасса не окажет влияния на политические амбиции ДНР и ее стремление к обретению полной независимости, заявил в среду в интервью телерадиокорпорации Би-би-си первый вице-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пургин.
"В борьбе за право русскоязычного населения, за право являться частью русского мира, за право быть русскими погибли тысячи человек", — сказал Пургин, слова которого приводит Би-би-си. По мнению политика, принятый Верховной радой во вторник закон об особом статусе ряда районов Донбасса может ознаменовать собой "приглашение ополченцам сесть за стол переговоров (с Киевом)".
"Первым позитивным результатом стало то, что они больше не именуют нас "террористами". Во-вторых, в соответствии с законом мы получаем право развивать политические и экономические отношения с зарубежными странами", — прокомментировал Пургин.
Закон об особом статусе некоторых районов Донбасса, внесенный президентом Украины Петром Порошенко, предполагает, что кабинет министров и другие центральные органы исполнительной власти могут заключать с соответствующими органами местного самоуправления соглашения по экономическому, социальному и культурному развитию отдельных районов. Также, согласно документу, государство должно гарантировать право использования русского или любого другого языка в общественной и частной жизни, изучение и поддержку русского и любого другого языка, их свободное развитие и равноправие. Кроме того, проектом закона предлагается назначить на 7 декабря внеочередные местные выборы в отдельных районах Донбасса.
Законом об амнистии участников событий на территории Донецкой и Луганской областей "запрещается дискриминация, преследование и привлечение к ответственности лиц по поводу событий, имевших место в Донецкой, Луганской областях".
Киевские власти в апреле начали на востоке Украины силовую операцию против недовольных февральским госпереворотом жителей региона. По данным ООН на 11 сентября, жертвами конфликта стали уже почти 3,2 тысячи мирных жителей, более 8 тысяч были ранены. После встречи в Минске контактной группы по урегулированию кризиса на Украине киевские власти и ополченцы Донбасса договорились о перемирии, которое вступило в силу вечером 5 сентября. Силовики и ополченцы периодически заявляют о нарушении режима прекращения огня, однако обе стороны, а также международные наблюдатели констатируют, что он в целом соблюдается.
США и европейские страны, которые ввели санкции против России в связи с ситуацией на Украине, не должны надеяться на поддержку России в других сложных международных вопросах, заявил председатель комитета по международным делам Алексей Пушков, выступая в Госдуме в среду.
"У Вашингтона странная логика, выходит, что администрация Обамы будет принимать все новые и новые санкции против нашей страны и членов ее руководства, будет ожесточенно добиваться изоляции России на мировой сцене, будет навязывать антироссийские санкции странам Евросоюза, будет угрожать размещением военных баз в странах Восточной Европы, будет поддерживать партию войны на Украине и при этом считать возможным обращаться к Москве тогда, когда будет считать это необходимым. Полагаю, что это глубокое заблуждение", — сказал Пушков.
В США, в Брюсселе, в европейских столицах должны сделать выбор и определиться, что есть для них Россия — "страна, которую они вопреки здравому смыслу и своим объективным возможностям пытаются сделать изгоем или же страна, с которой им необходимо взаимодействовать, чтобы крайне сложные процессы, идущие в разных районах земного шара, не вырвались из-под контроля", сказал Пушков.
По его словам, политики в Вашингтоне и Брюсселе пытаются вывести украинский кризис на уровень открытой долгосрочной конфронтации между Западом и Россией. "При этом в Вашингтоне и Брюсселе считают, что почему-то, по-прежнему, могут опираться на Россию тогда, когда они будут нуждаться в ее поддержке", — сказал Пушков.
Он отметил, что представитель Белого дома сделал странное заявление о том, что будто бы, несмотря на разногласия по Украине, отношения между Москвой и Вашингтоном развиваются в конструктивном русле. По его словам, причина такого заявления понятна — США нуждается в поддержке России в борьбе с Исламским государством, появившимся на Ближнем Востоке, в том числе на поддержку в рамках Совета Безопасности.
При этом Пушков отметил, что у России всегда была позиция, что терроризм это угроза для всех и бороться с ней нужно сообща.
Новый раунд санкций США против России может вынудить «Exxon» свернуть бурение скважины в Карском море к 26 сентября
Совместный проект «Exxon» и Роснефти по проходке скважины «Университетская-1» на участке шельфе к востоку от Новой Земли был запущен в августе, когда санкции ЕС и США в ответ на российскую интервенцию на востоке Украины ещё не касались уже заключённых на тот момент контрактов.
Буровая операция с бюджетом 600 млн. долл., на которой задействована норвежская платформа «West Alpha», дала старт долгосрочному партнёрству «Exxon» и Роснефти по нефтяной разведке на российском арктическом шельфе. По имеющейся информации, в районе бурения море свободно ото льда с августа по середину октября, поэтому с закрытием этого окна платформу планировалось отбуксировать обратно в Европу.
В связи с новым раундом санкций, о котором стало известно в минувшую пятницу, платформу могут вывести уже к 26 сентября, то есть задолго до завершения бурения.
Минфин США объявил о вводе санкций, ставящих под запрет экспорт товаров, услуг или технологий, необходимых для глубоководной геологоразведки или добычи на российском арктическом шельфе, а также добычи нефти из сланцевых пород. В чёрный список попала Роснефть, партнёр «Exxon». До 26 сентября всем лицам США предписывается прекратить сделки с неугодными компаниями и организациями.
Новые санкции заходят гораздо дальше прежних, касавшихся только будущих контрактов, и могут вынудить прекратить бурение в Карском море меньше чем через две недели.
В интервью «New York Times» представитель «Exxon» Алан Джефферс сказал, что компании ещё предстоит изучить обнародованные документы и сделать выводы, как это может на ней отразиться.
«Университетская-1», проходка которой ведётся в настоящее время, – только начало реализации более широкого соглашения между Роснефтью и «Exxon» на сумму 3,2 млрд. долл. по разведке на ряде лицензионных участков в Карском море, которое, как считается, по объёму ресурсов может превосходить Мексиканский залив.
Значение разведочного бурения в Карском море для России было подчёркнуто президентом Владимиром Путиным во время спутниковой видеоконференции с президентом Роснефти Игорем Сечиным, находившимся на платформе в Карском море: «Всё это стало возможным при объединении усилий Роснефти и наших американских партнёров – «Эксон Мобил». Практика показывает, что в одиночку реализовать такие крупные высокотехнологичные, масштабные проекты мирового уровня, мирового класса практически невозможно или, во всяком случае, очень сложно».
Энергетику продадут оптом
Государство покидает электроэнергетический бизнес, провоцируя очередную волну слияний и поглощений
На позапрошлой неделе началась ликвидация крупнейшего игрока на рынке энергетической дистрибуции — НАК «Энергетическая компания Украины» (НАК ЭКУ). Этот процесс даст старт приватизации подчиненных ей компаний, в результате чего рынок полностью перейдет в частные руки. Линия кино О том, что НАК ЭКУ доживает последние дни, стало известно 3 сентября, когда Кабмин своим постановлением №398 распорядился ее ликвидировать. На выполнение этого решения отведено полгода, но процесс может завершиться и раньше. Это предприятие было создано в 2004 году, и тогда в его состав вошли 32 предприятия (облэнерго, ТЭС, ТЭЦ и ГЭС), сейчас их осталось 19. Остальные были приватизированы. Старожилов рынка эта новость не удивила, так как многие из них с первых же дней существования ЭКУ называли ее мертворожденной. Скепсис объяснялся тем, что НАК фактически создавалась для удовлетворения амбиций ее первого руководителя Олега Дубины. Незадолго до этого Олег Викторович проиграл Андрею Клюеву в борьбе за должность вицепремьера по ТЭК, однако компенсировать неудачу в полной мере ему так и не удалось, потому что в последний момент у НАК ЭКУ отобрали функции по диспетчеризации энергосистемы, которая является ее наиболее важным элементом. В результате получилось, что снаружи НАК выглядела как полноценная управляющая структура, а на самом деле это был холдинг с ограниченными полномочиями, через который государство централизованно проводило свою политику в электроэнергетике. На определенных этапах это казалось оправданным. К примеру, когда в 2009 году нужно было выводить из кризиса отечественную угольную промышленность, правительство в ручном режиме обязало входящую в ЭКУ тепловую генерацию заняться накоплением сверхнормативных запасов угля. Хотя на самом деле это было административным нарушением, так как закупка ресурсов велась за счет дорогих кредитных средств, а сам уголь после длительного хранения на складах ТЭС терял свои свойства и превращался в пустую породу. Пакетное решение Опыт прошлых лет говорит о том, что ликвидация ЭКУ не вызовет у участников рынка сожалений. Тем более еще свежи в памяти примеры, когда у руля этой компании стояли представители крупного капитала, использовавшие ее потенциал в интересах собственных бизнесгрупп. Другой вопрос, что олигархи смогут поэксплуатировать НАК даже сейчас, когда она доживает последние дни. Ведь практически все пакеты акций энергокомпаний, которыми она управляла, планируется передать Фонду госимущества с целью их последующей приватизации. По данным «k:», речь идет о шестнадцати объектах из оставшихся девятнадцати. Исключениями будут «Луганскоблэнерго» (компанияпустышка, находящаяся в процессе банкротства), Днестровская ГАЭС (управляет гидроэнергетикой, не подлежащей приватизации), а также «Центрэнерго» (единственное крупное теплоэлектроэнергетическое предприятие, оставшееся в собственности государства), акции которых НАК передаст Министерству энергетики и угольной промышленности. Передача ФГИ ценных бумаг энергокомпаний станет стартом процесса подготовки к их приватизации. В условиях вооруженного конфликта на украинской территории ожидать хорошей выручки от продажи этих активов не приходится. Впрочем, конкурсы по продаже энергетических предприятий никогда приятно не удивляли ценами. Сейчас резонанс от грядущих сделок может быть особенно сильным, так как на торги будут выставлены акции ключевых энергокомпаний страны. И если фаворит грядущих торгов — группа «Приват» выкупит у государства так называемые малые блокпакеты (25% + 1 акция) тепловой генерации, мажоритарий этих предприятий — ДТЭК Рината Ахметова — уже не сможет вести свой бизнес без Игоря Коломойского.Дмитрий Рясной, "Комментарии"
Истинные итоги антитеррористического совещания в Джидде
Погос Анастасов, политолог, востоковед
11 сентября 2014 года, в «историческую» тринадцатую годовщину атаки террористов-смертников на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, в Джидде состоялось созванное «на скорую руку» совещание министров иностранных дел шести стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также Египта, Ливана, Иордании, Ирака, Турции и США. На нем обсуждались вопросы противодействия террористическим организациям на Ближнем Востоке и, прежде всего, тергруппировке «Исламское государство».
США, как фактические застрельщики этого мероприятия, хотя формально оно созывалось Эр-Риядом, поспешили объявить о его успехе и создании международной коалиции для борьбы с «абсолютным злом», как теперь называют ИГ. Действительно, участники встречи, за исключением мининдел Турции М. Чавушоглу практически полностью подписались под продиктованными США целями создания коалиции (на самом деле ложными, как мы покажем ниже) — борьба с ИГ, а также предложенными Вашингтоном методами: бомбардировками позиций боевиков с воздуха, как на территории Ирака, так и Сирии, перекрытием источников финансирования террористов, недопущением проникновения боевиков на территорию Сирии и Ирака, оказанием военного содействия курдам и иракскому правительству, а также предоставлением гуманитарной помощи тем, кто оказался на захваченной боевиками территории. В целом – за принятие мер, которые снизили бы приток террористов в захваченные ими зоны.
Вашингтон доволен не только тем, что удалось создать вышеупомянутую коалицию при активной поддержке Эр-Рияда, но и полученной свободой действий. США не только смогли уйти от непосредственного участия в уничтожении ИГ своими наземными силами (т.е есть формально соблюсти декларации Б.Обамы о том, что он не будет втягивать Америку в ближневосточные конфликты), но и получить молчаливое согласие региональных держав на то, что предпринимаемые создаваемой коалицией действия будут фактически проходить вне рамок Устава ООН, в обход его требований об уважении суверенитета и территориальной целостности независимых государств, в первую очередь Сирии. Налицо повторение сценария 2003 года.
От критики со стороны России такого рода замыслов Дж.Керри сразу отгородился тезисом, что, дескать, Москва сама якобы нарушает международное право на Украине и поэтому ее критика американских действий «смехотворна», она не может-де требовать уважения норм ООН от США на Ближнем Востоке. Отговорка детская – мол, будем нарушать, потому что другие это делают. Другими словами, США, кивая на других (причем бездоказательно), будут и далее разрушать систему международного права, впрочем, как они это успешно делали все последние десятилетия, особенно после развала биполярной системы международных отношений.
Любопытно, что вслед за Дж.Керри эти же аргументы воспроизвели 13 сентября две саудовские газеты – издаваемый в Джидде официоз «Оказ» и выходящая в Лондоне на саудовские деньги «Аль-Хаят». Российскую позицию комментатор «Аль-Хаят» Дж.Хашиджи назвал «безнравственной», а журналист «Оказа» М. Али Аль-Харби, слово в слово повторив аргументы госсекретаря США, еще и упрекнул российское руководство в нелогичности критики международной коалиции, поскольку оно якобы игнорирует угрозы ИГ в адрес самой России.
С чего это вдруг начались выпады Эр-Рияда в российскую сторону после успешного, как казалось совсем недавно, визита С.В.Лаврова в ту же самую Джидду 20-21 июня с.г. и начавшегося процесса улучшения двусторонних отношений?
Думается, что ларчик открывается просто. Нужда в России у КСА теперь, по крайней мере отчасти (если не говорить о сотрудничестве по предотвращению возвращения «братьев-мусульман» к власти в Египте), отпала. Призрак улучшения отношений с Москвой был нужен, как теперь видится, в основном для того, чтобы в очередной раз напугать Вашингтон дружбой с Россией, если он не учтет озабоченности Эр-Рияда (сближение Вашингтона с Тегераном и отказ от свержения режима Б.Асада).
Теперь же саудовская королевская семья получила от Белого дома если не все, что она желала, то по крайней мере — устраивающий ее компромисс:
- бомбежки ставшей угрозой для царствующего клана саудов террористической группировки ИГ, которая выполнила главную для ваххабитов задачу – отстранение от власти проиранского премьера Н. аль-Малики и «зачистку» чуть ли не половины Ирака от «несуннистских элементов» (езидов, христиан, ассирийцев и других меньшинств);
- отход США от линии на сближение с Ираном, возврат американской администрации к политике свержения режима Б.Асада «не мытьем, так катаньем» — путем бомбежек северо-востока страны и передачи освобождаемых от ИГ территорий так называемой «умеренной» сирийской оппозиции (под это дело Эр-Рияд создает на своей территории лагеря подготовки сирийских боевиков, как это подтверждает тот же Дж.Хашиджи, ссылаясь на американские источники).
Создается впечатление, что саудовцы правы. Они в гораздо более выигрышной ситуации, тогда как Белый дом по сути дела проиграл: он вынужден распылять свои силы и, вместо того, чтобы сосредоточиться на борьбе с Россией и Китаем, вновь залезает в ближневосточное болото, выполняя заказы саудовских принцев по нейтрализации Ирана и созданию зачищенного от меньшинств суннитского пространства под давно лелеемый саудами собственный халифат.
Однако в Вашингтоне этот проигрыш считают тактическим. На деле же предстоящая военная кампания, как там полагают, обещает ему стратегические дивиденды. Если удастся очистить территорию Ирака от боевиков ИГ, то новое правительство Ирака будет больше обязано США, чем Ирану в части обеспечения стабильности, да и российское влияние будет сведено на нет. Согнанные с иракских территорий боевики окажутся в Сирии, что даст великолепный предлог для удара по ним силами т.н. международной коалиции. В ходе второй фазы операции, имеется в виду не только уничтожить террористов ИГ, но окончательно вывести северо-восток из-под власти сирийского режима, чтобы передать его американским и саудовским ставленникам из числа «умеренной» сирийской оппозиции, в которой, кстати, полно исламистов.
Судя по сообщениям из Израиля, как пишет та же газета «Аль-Хаят» за 9 сентября, ЦАХАЛ планирует нанести удар по позициям Хизбаллы в Ливане, чтобы вынудить ее оттянуть свои силы из Сирии, где они успешно противостоят финансируемым монархиями стран Персидского Залива «умеренным» исламистским боевикам.
Этот удар (или реальная угроза его реализации) должен будет также ослабить политические позиции Хизбаллы и обеспечить продвижение западного ставленника на пост президента Ливана. Вот тут свое слово и должен сказать Эр-Рияд, который, что называется, с другого фланга будет осуществлять — и уже это делает — силами приемного сына саудовского короля С.Харири «финансовый натиск» на ливанские политические силы, не согласные с диктатом Запада, чтобы добиться искомого результата.
Истинная цель всей операции по якобы борьбе с ИГ таким образом состоит для США в том, чтобы кардинально ослабить «шиитскую дугу» и вынудить Тегеран капитулировать еще до 20 ноября, когда должны быть либо сняты, либо возобновлены санкции против Ирана, заставить его принять условия Вашингтона по снятию эмбарго. Они наверняка будут в себя включать отказ не только от амбиций иранского руководства в ядерных делах, но и от сближения с Россией. Добивание же режима Б.Асада после этого, считают в Вашингтоне, станет уже технической задачей. Заодно будет восстановлена пошатнувшаяся было американо-саудовская дружба.
Выбивание Ирана из числа потенциальных стратегических союзников России и станет главным геополитическим призом США в разыгрываемой им по шаблонам З.Бжезинского мировой игре. Затем уже можно будет делать все, что угодно: сбивать цены на углеводороды, строить любые нефте- и газопроводы. Это позволит снизить зависимость Европы от российского газа и лишить Москву ресурсов как для собственного развития, так и для укрепления только что народившегося Евразийского союза, в котором хочет быть и Ереван, но его от этого активно отговаривают.
Что делать в этой ситуации России? Во-первых, энергично разъяснять арабам, что американцы их хотят разыграть «втёмную», подписать под реализацию собственных геополитических задач. Несмотря на все попытки «поднять Россию на смех» надо энергично добиваться в ООН разъяснений от США, как их операция сочетается с Уставом ООН, где согласие Совета Безопасности на подобного рода действия все еще необходимо. Кстати, Париж, где должна пройти следующая «антитеррористическая конференция», сегодня формально заявляет о том, что все должно быть в рамках международной законности. Было бы неплохо выдвинуть собственную антитеррористическую инициативу, чтобы избежать упреков, что мы-де из-за антиамериканизма и любви к «диктатору Б.Асаду» тормозим благородное дело.
Во-вторых, надо защитить ближневосточные меньшинства, прежде всего христиан, которые подвергаются мощному натиску со стороны салафитских боевиков-джихадистов. В этой связи в Москве можно было бы организовать (под эгидой НПО и научных институтов) встречу представителей основных меньшинств Ближнего Востока (Ирака и Леванта). Вопрос, который надо начать обсуждать – где находится или должно находиться безопасное место для ближневосточных этнокофессиональных меньшинств в условиях рушащегося геополитического проекта, созданного сто лет назад соглашениями Сайкс-Пико. Не следует отдавать эту карту Вашингтону, который уже начинает ее активно разыгрывать.
В-третьих, надо дать понять Дамаску, что ему следует напрячь все силы и разгромить остающиеся очаги повстанцев в Думе, Джобаре, Ярмуке, на Голанских высотах и других местах, чтобы получить возможность похода на Дейр-Эз-Зор и Ракку для выбивания оттуда боевиков ИГ и восстановления власти центрального правительства своими силами. Сирийским властям следует также плотнее начать взаимодействовать с курдами северо-востока страны, которых под предлогом антитеррористической операции активно переманивают на свою сторону западники. Россия же могла бы оперативно поставить Дамаску современные системы ПВО, чтобы предотвратить создание западниками «бесполетной зоны» над освобождаемыми от ИГ районами. Мы все помним, чем закончилась «бесполетная зона» в Ливии…
И, в-четвертых, продолжить начатую работу по развитию отношений с Ираном. Иначе будет поздно…
Американские ученые установили прямую зависимость увеличения частоты землетрясений от технологии по добыче сланцевого газа при помощи гидроразрыва подземных пластов под высоким давлением. В Геологической службе США подсчитали, что после того, как энергетические компании США стали по этой технологии добывать газ в таких сейсмически спокойных районах, как штаты Колорадо и Нью-Мексико, там произошло 16 довольно сильных землетрясений с магнитудой более 3,8, сообщает Русская служба ВВС.
Исследователи утверждают, что доказательства связи бурения с землетрясениями налицо, поскольку их эпицентры во всех случаях находились в местах закачки воды под землю. Метод гидроразрыва пласта представляет собой бурение горизонтальной скважины в пределах сланцевого комплекса на глубине от 500 до 3000 метров с применением высокотоксичного химического раствора.
Примечательно, что два года назад по заказу британского правительства было проведено исследование, авторы которого доказывали, что гидроразрыв пласта безопасен при соблюдении мер безопасности и грамотной организации процесса. Годом ранее правительство Великобритании приостановило добычу газа этим способом после двух незначительных землетрясений на северо-западе Англии.
Сланцевый газ - это природный газ, добываемый из горючих сланцев и состоящий преимущественно из метана. Добыча этого газа привела к настоящей сланцевой революции в США. Большие надежды на такой газ возлагают на Украине, где мечтают избавиться от зависимости от российского газа.
Многие эксперты считают, что сланцевый газ может серьезно подорвать позиции нефтегазового сектора российской экономики. Эксперты и официальные власти РФ всячески подчеркивают как неактуальность добычи сланцевого газа для страны, так и ее опасность для экологии. С этой точки зрения новое исследование американских ученых может стать еще одним аргументом для противников развития этой отрасли.
В январе, еще до начала активной фазы противостояния Киева и Москвы и обострения газовой проблемы, Министерство природы РФ выступило с официальным заявлением, в котором выражало опасения, что грядущая добыча сланцевого газа на Украине повредит прилегающим российским территориям и загрязнит подземные воды. Претензии появились на фоне заявлений тогдашнего украинского премьера Николая Азарова о том, что страна планирует развивать добычу сланцевого газа, чтобы в итоге стать независимой от газовых ресурсов России.
В Минприроды РФ тогда указывали, что половина химического раствора во время процесса обратного притока после применения гидроразрыва подземных пластов возвращается на поверхность земли вместе с газом и требует технологически сложной дорогостоящей утилизации либо захоронения, другая половина остается в недрах, "фактически образовывая полигон подземного захоронения жидких токсичных промышленных отходов". В министерстве также отмечали, что из-за использования гидроразрыва пласта могут быть загрязнены поверхностные и подземные воды, увеличивается и риск негативного воздействия на окружающую среду.
Однако Киев не стал отвечать на претензии, а вел переговоры с крупнейшими компаниями США по поводу сланцевого газа. Сообщалось, что добычей на Украине будут заниматься концерны Shell и Chevron, причем с помощью все той же технологии гидроразрыва пласта. Однако в связи с дальнейшим обострением кризиса и боевыми действиями как раз в районе залежей сланцевого газа - на Донбассе - киевские власти до сих пор так и не приступили к реализации этих планов.
Несмотря на то что Россия является вторым по размеру рынком сланцевого газа в мире после США, Москва по-прежнему настроена негативно относительно развития этой отрасли. Еще два года назад президент Владимир Путин предупреждал об опасности сланцевой революции и объяснял "Газпрому", как отражать "газовые" атаки.
После того как Путин поручил "Газпрому" разработать основные принципы экспортной газовой политики, учитывающие развитие рынков сланцевого газа по всему миру, глава газового концерна Алексей Миллер заявил, что "Газпром" считает неактуальной добычу в России сланцевого газа и собирается
Bank of America в еженедельном энергетическом исследовании выразил мнение, что Саудовская Аравия могла бы снизить цену на нефть до 85 долларов за баррель путем увеличения объемов добычи по ряду экономических и политических причин, сообщает РБК.
В качестве одного из аргументов Bank of America привел усиление давления на Россию, в бюджет которой имеет существенную зависимость от экспорта нефти, и заставит «пойти на деэскалацию кризиса на Украине».
Также эксперты отмечают угрозу для Саудовской Аравии со стороны «Исламского государства» и создание США коалиции западных и арабских государств для борьбы с террористами.
«Вывод войск США из горячих точек по всему миру в последние годы привел к вакууму власти. Его и заполнит «Исламское государство». Мы полагаем, что Саудовская Аравия и другие страны региона могут прибегнуть к помощи США, чтобы защитить свои границы от халифата. Что в обмен на помощь Соединенных Штатов могут предложить арабские государства? Снижение нефтяных цен», — отмечается в исследовании.
Поведение США в ходе кризиса на Украине напоминает их действия в ходе гражданской войны в Боснии, считает британский политолог, профессор философии Джон Локленд.
"К своему ужасу, оценивая ситуацию на Украине, я вижу параллели с тем, что произошло в Боснии", — заявил Локленд, выступая в Высшей школе экономики.
"Важно помнить, что в феврале 1992 года три стороны боснийского конфликта договорились о политическом урегулировании для независимой Боснии. Это политическое урегулирование включало федерализацию и децентрализацию власти. Три стороны конфликта — мусульмане, сербы, хорваты — подписали соглашение. Но спустя 10 дней посол США послал телеграмму (в то время лидеру мусульманской общины — Алии) Изетбеговичу и "посоветовал" ему отозвать свою подпись под документом. И тот выполнил этот "совет" со всеми вытекающими последствиями", — заявил Локленд.
Он отметил, что "неслучайно" упомянул об этом в контексте событий на Украине.
"Для меня федерализация Украины так же, как и в начале 90-х в Боснии, может стать разрешением кризиса, учитывая проблемы этой страны со столь разными регионами. Это же решение (федерализация) было на переговорном столе в Югославии в 1992 году, но оно было уничтожено по инициативе США, для того, чтобы спустя три года американцы могли заявить, что именно и только они спасли ситуацию. Это логика пироманьяка. Когда ты сам поджигаешь что-то, чтобы затем потушить", — заявил эксперт, упомянув в этой связи подписанные ранее в сентябре на Украине соглашения по прекращению огня и оценку Вашингтоном этих договоренностей.
В рамках заседания трехсторонней контактной группы (Россия — Украина — ОБСЕ) по урегулированию украинского кризиса 5 сентября в Минске киевские власти и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики достигли ряда договоренностей, прежде всего о прекращении огня на востоке Украины. Основные положения перемирия устанавливают прекращение боевых действий и обмен пленными. При этом противоборствующие стороны, в соответствии с подписанными соглашениями, остаются на позициях, которые занимали на момент объявления о прекращении огня. В последующие дни обе стороны неоднократно заявляли о нарушениях режима перемирия.
Принятые Верховной радой во вторник законы об особом статусе Донбасса и амнистии могут стать первым шагом к достижению мира в регионе; однако Киев должен предпринять конкретные шаги для действительной деэскалации, отправив в отставку одиозных губернаторов, например, Сергея Таруту, считает британский политолог Джон Локленд.
Рада одобрила во вторник предложенный президентом Украины закон об особом статусе районов Донбасса. Он предполагает, что кабинет министров и другие центральные органы исполнительной власти могут заключать с соответствующими органами местного самоуправления соглашения по экономическому, социальному и культурному развитию отдельных районов. Также, согласно документу, государство должно гарантировать право использования русского или любого другого языка в общественной и частной жизни, изучение и поддержку русского и любого другого языка, их свободное развитие и равноправие. Кроме того, предлагается назначить на 7 декабря внеочередные местные выборы в отдельных районах Донбасса.
"Это может быть первым шагом (к деэскалации — ред.). Есть обнадеживающие свидетельства. Но если Киев говорит о самоуправлении (юго-востока — ред.), то в отставку должны уйти такие губернаторы, которые были назначены сразу после революции на Майдане: например, Сергей Тарута в Донецке. Такие люди должны быть уволены", — сказал политолог.
По его словам, другие шаги, которые могут привести к возможной деэскалации, предпринимаются европейской стороной, в том числе решение отложить имплементацию экономической части соглашения об ассоциации Украины и ЕС.
"Последнее, что нужно было Украине — это революция. Страна должна была пройти через продолжительный период реформ. И именно насильственная революция привела к возникновению стольких проблем, в том числе к тому, каким неустойчивым сейчас является положение нынешнего президента Порошенко", — считает эксперт.
Вашингтон считает снижение курса рубля по отношению к иностранным валютам "ценой" действий Москвы на Украине, заявил представитель Белого дома Джош Эрнест. При этом он объяснил, что американская политика в этой связи нацелена на то, чтобы Россия понесла расходы и оказалась в изоляции.
США и Евросоюз ввели ряд ограничений в отношении ряда российских политиков, нескольких бизнесменов и их активов, а также крупнейших банков, сырьевых и оборонных предприятий. Во вторник курс евро превысил отметку в 50 рублей, курс доллара нацелился на 39 рублей, стоимость бивалютной корзины, на которую Центробанк пока ориентируется в своей курсовой политике, пробила уровень в 44 рубля. Курс рубля после снижения в течение всего дня вечером перешел к росту на новости о том, что Банк России начинает операции по предоставлению банкам валютной ликвидности.
"Это свидетельство того, что Россия платит цену за свои действия по дестабилизации обстановки на Украине", — заявил Эрнест, чье заявление распространила во вторник пресс-служба Белого дома.
США и другие западные страны на протяжении нескольких месяцев возлагают на Россию значительную долю ответственности за украинский кризис, в Москве эти обвинения отвергают как бездоказательные.
Эрнест добавил, что у США "с самого начала была цель" столкнуть Россию с экономическими расходами и изолировать.
Украинское правительство просит Евросоюз предоставить дополнительно 2 миллиарда евро макрофинансовой помощи, заявила во вторник во время заседания комитета Верховной рады по вопросам европейской интеграции директор департамента долговой и международной финансовой поддержки Минфина Галина Пахарчук.
В июне Еврокомиссия перечислила Украине очередную порцию макрофинансовой помощи в размере 500 миллионов евро. Первый транш на 100 миллионов евро из первой макрофинансовой помощи был выдан 20 мая. Ранее президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу 12 сентября поднял вопрос об ускорении предоставления Украине следующего транша макрофинансовой помощи Евросоюза на 1 миллиард евро.
"Мы обратились к ЕС за макрофинансовой помощью в объеме 2 миллиарда евро", — цитирует Пахарчука газета "Европейская правда". Источники издания в структурах ЕС подтвердили существование такого запроса и объяснили, что эту сумму формируют два разных обращения от украинской стороны.
Украина сейчас находится на грани дефолта. Власти надеются спасти экономику страны с помощью внешних заимствований, в том числе из МВФ. Первый транш на 3,2 миллиарда долларов Киев получил в мае, второй — на 1,4 миллиарда долларов — в начале сентября. В общей сложности МВФ одобрил выделение Украине 17 миллиардов долларов на стабилизацию бюджета в условиях политического и экономического кризиса.
Народный артист СССР Иосиф Кобзон подал иск в Европейский суд на правительство Латвии из-за того, что власти страны сорвали выступление артиста в Юрмале в июле, и требует возместить ущерб.
Ранее МИД Латвии запретил въезд в страну Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии из-за их позиции по воссоединению Крыма с Россией и по поводу событий на Украине. Артисты должны были выступать на конкурсе "Новая волна", который проходил в Юрмале с 22 по 27 июля.
"Я вам докладываю: я обратился вместе с адвокатом (Михаилом — ред.) Барщевским в Европейский суд, оплатил процедуру и подаю в суд на правительство Латвии за нанесение морального и материального ущерба", — заявил Кобзон на заседании комитета Госдумы по культуре.
"Потому что я оплатил гостиницу, 11,5 тысячи евро, на все время пребывания в Юрмале, гостиница мне не вернула эти деньги", — добавил артист.
Кобзон пытался объяснить, что это непредвиденный случай, "форс-мажор", который от певца не зависел. "Они (администрация гостиницы) говорят, от нас это тоже не зависело. Кто это сделал? Правительство Латвии, вот вы к ним и предъявляйте претензии, вот я и предъявил к ним претензии", — добавил артист.
Западу нужно прекратить "военные игры на Украине" и объединить свои усилия с Россией в борьбе с исламским терроризмом, заявил лидер Партии независимости Великобритании (UKIP) Найджел Фараж. Его слова цитирует The Telegraph.
По мнению Фаража, можно как угодно относиться к личности Владимира Путина, однако в вопросах противостояния угрозе исламского экстремизма российский президент разделяет позицию Запада.
Выступая на заседании Европарламента, Фараж отметил, что европейские государства "напрямую спровоцировали" восстание на Украине, которое, по его словам, и привело к реакции Москвы.
Фараж назвал это одной из главных внешнеполитических неудач последних лет, наряду с планами отправить оружие сирийским повстанцам и бомбардировкой Сирии.
The Telegraph отмечает, что ранее Найджел Фараж был подвержен критике за то, что назвал Владимира Путина политиком, который вызывает у него наибольшее восхищение.
США готовы отменить последний раунд санкций против России в случае соблюдения Минских соглашений по прекращению огня на Украине, заявила журналистам в понедельник представитель Госдепартамента Мари Харф.
"Если Россия полностью реализует соглашения в Минске от 5 сентября, будет путь вперед для того, чтобы отозвать последний раунд санкций. Мы должны посмотреть, будет ли реализовано Минское соглашение и 12 шагов, описанных в соглашении по прекращению огня", — сказала Харф. "Если будут дополнительные действия по эскалации на Украине, будут дополнительные санкции", — добавила представитель Госдепартамента.
По ее словам, режим прекращения огня оказался под угрозой в последние дни в связи с обстрелом наблюдателей ОБСЕ и боем в районе Донецкого аэропорта, в которых США винят ополченцев. "Мы видели неоднократные нарушения (соглашения) со стороны сепаратистов, и мы хотели бы, чтобы ситуация поменялась", — сказала Харф. "Нужно, чтобы все стороны отошли от края пропасти и пошли другим путем", — заключила представитель Госдепартамента.
Правительство Украины предлагает запретить въезд на территорию страны около 200 российским гражданам, заявил премьер Арсений Яценюк в понедельник в эфире программы "Свобода слова" украинского телеканала ICTV.
"На рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны предложены следующие санкции — это запрет въезда гражданам РФ, ряду политических деятелей. В предыдущем списке — около 200 человек. Второе — заморозка активов. Третье — запрет на участие в приватизации всех украинских объектов. Четвертое — запрет на вывод капитала с Украины", — сказал Яценюк. По его словам, подготовлены списки всех компаний, где Россия как государство и частные российские инвесторы имеют соответствующую собственность.
"Все материалы переданы, ожидаем окончательного решения СНБО, которое, я надеюсь, будет принято в самые короткие сроки", — добавил премьер.
В минувшую пятницу на Украине вступил в силу закон о санкциях против России. В свою очередь кабмин Украины на заседании 11 сентября одобрил перечень предложений по введению санкционных мер. Теперь Совет нацбезопасности и обороны Украины должен принять решение, вводить их или нет. Решение СНБО вводится в действие президентским указом. Если санкции вводятся в отношении иностранных государств, президентский указ будет утверждаться Верховной радой.
НАТО потеряло часть возможностей для партнерства с Россией и адаптируется под новые условия, заявил в командующий Объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав.
"Я не думаю, что НАТО когда-нибудь сможет появиться в Европе всецело, свободно и мирно, не имея партнера в лице России. Мы пытались сделать РФ партнером в течение 12 лет", — заявил Бридлав на встрече Североатлантического Совета НАТО. "Структура сил НАТО была хорошо адаптирована для прошлого, когда мы видели хорошую возможность для партнерства (с РФ). Сейчас мы потеряли часть этих способностей и согласились адаптировать альянс, чтобы лучше реагировать на ситуацию, где у нас нет партнерских отношений с одним из основных игроков", — добавил он.
Также Бридлав заявил, что альянс подготовит страны-партнеры с проживающим там большим числом русскоговорящего населения противостоять "гибридной войне", участие в которой могут принимать военные без опознавательных знаков, которых альянс ранее назвал "зелеными человечками". По его мнению, "в случае отнесения таких "зеленых человечков" к стране-агрессору, в действие вступает 5-я статья устава НАТО, и альянс может задействовать необходимые средства".
Согласно 5-й статье североатлантического договора от 1949 года стороны соглашаются, что нападение на одну из стран-участниц рассматривается как нападение на них всех, и каждая страна в порядке осуществления права на коллективную оборону или на индивидуальную оборону поможет жертве агрессии, включая применение вооруженной силы.
Эпитет "зеленые человечки" весной закрепился за российскими военными в камуфляже без опознавательных знаков. Они обеспечивали безопасность референдума в Крыму. США и ЕС не признают присоединения Крыма к России и обвиняют Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми.
Бандеровцы, как исламские фанатики, начали готовить детей к боевым действиям на востоке Украины, написал в своем блоге на интернет-портале польской радиостанции RMF24.PL известный польский католический деятель, публицист, участник антикоммунистической оппозиции в Польше ксендз Тадеуш Исакович-Залесский.
"В окрестностях Ивано-Франковска — бывшего польского Станиславова — в Западной Украине один из местных националистических деятелей Володимир Головчак, исполняющий обязанности местного солтыса (главы местного самоуправления — ред.), решил создать новый "батальон" добровольцев для войны с сепаратистами на Донбассе. Не было бы в этом ничего удивительного, если бы в этот отряд под названием "Сокол" начали вербовать взрослых, а не детей — внимание! — в возрасте от 2 до 10 лет", — пишет Исакович-Залесский.
Ксендз подчеркивает, что новые украинские "солдаты" "разогреваются для ведения боевых действий, маршируют по окрестным деревням под красно-черными флагами Украинской повстанческой армии, используют при этом символы "Правого сектора" и других националистических организаций".
"После падения немецкого третьего рейха не было, похоже, такого случая в Европе, чтобы детей использовали для таких вещей. Деятельность "Гитлерюгенд" начиналась сначала с маршей, а заканчивалась отправкой детей с автоматами на верную смерть на фронте", — напоминает Исакович-Залесский.
Польский католический деятель призвал поляков "однозначно осудить такое сумасшествие".
"Быть может кто-то из союзников бандеровцев, которые делают в Польше, что хотят, организует сбор средств на закупку соответствующим образом сшитых детских бронежилетов?", — спрашивает публицист.
"На Украине проживает 45 миллионов человек, в том числе, несколько миллионов мужчин, которые могут воевать. Так почему же они сами не хотят воевать, а толкают малых детей в объятия войны? Нужно искать ответы на такие вопросы. Тем более что уже слышны призывы политиков к тому, чтобы Польша ангажировалась в вооруженный конфликт на Украине", — предупреждает Исакович-Залесский. Леонид Свиридов.
Президент Украины Петр Порошенко во вторник подписал закон об ассоциации Украины и ЕС сразу после ратификации документа Верховной радой, передает корреспондент РИА Новости.
Украина окончательно подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом 27 июня. Документ предусматривает усиление сотрудничества в различных сферах, приведение национального законодательства в соответствие с европейским, доступ украинской продукции на европейский рынок.
По итогам завершившейся 12 сентября министерской встречи РФ-ЕК-Украина в Брюсселе стороны договорились отложить временное применение договора о свободной торговле ЕС-Украина до 31 декабря 2015 года.
Таким образом, с 1 ноября 2014 года ЕС продлевает привилегированный и автономный доступ на свой рынок для украинских товаров, но откладывает до 31 декабря 2015 года применение соглашения о создании зоны свободной торговли, в частности беспошлинный ввоз своих товаров на Украину.

"Быстро разрядка не наступит"
Алексей Арбатов – академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Российской Академии наук, в прошлом участник переговоров по Договору СНВ-1 (1990 г.), заместитель председателя Комитета по обороне Государственной думы (1994–2003 гг.).
Резюме Российско-американские отношения опять — и сильно — лихорадит. Виновата ли в этом история и почему так получается
Российско-американские отношения опять — и сильно — лихорадит. Виновата ли в этом история и почему так получается, "Огонек" расспрашивал об этом академика Алексея Арбатова
— Алексей Георгиевич, вы сторонник теории цикличности в истории?
— В российско-американских отношениях определенная синусоида явно просматривается.
— И на каком ее отрезке мы ныне находимся?
— Надо понимать, что некая цикличность в отношениях появилась уже после Второй мировой. До этого США были третьеразрядной державой, а еще ранее Россия даже помогала Штатам в войне за независимость. Есть интересные исторические совпадения и одно из них в том, что в 1812 году были сожжены и Москва, и Вашингтон. После Второй мировой мир изменился. Появились две сверхдержавы, которые стали бороться за лидерство. Конечно, сегодня отношения между Россией и США иные, чем во времена Никиты Хрущева. У них другие негативные и позитивные черты. Тогда — в эпоху биполярности — российско-американские отношения составляли стержень мировой политики. Две сверхдержавы вели глобальное соперничество под идеологическими лозунгами, беспрецедентную гонку вооружений. Окончание холодной войны прекратило конфронтацию и дало импульс сотрудничеству, но одновременно отношения между Москвой и Вашингтоном перестали быть главными в мире, а в самих отношениях неглавными стали вопросы предотвращения войны и разоружения. Правда, конфликт на Украине возродил конфронтацию и вывел отношения России и США снова на первый план, но ядерным оружием никто друг другу не грозит. А во времена холодной войны при любом случае начинали хвататься за ядерный меч. Как тот же Хрущев в ходе Суэцкого кризиса 1956 года, например. И ведь было дело Советскому Союзу до Суэцкого канала, чтобы грозить ядерным ударом! США сразу ответили теми же угрозами. А ныне? На Украине обе стороны столкнулись чуть ли не лбами, но никто таких угроз пока не выдал в эфир, разве что иносказательно, как президент Путин успокоил молодежь на Селигере, что "мы укрепляем наши силы ядерного сдерживания... чтобы чувствовать себя в безопасности"...
— Власти — нет, но эксперты говорили о возможности разрастания конфликта до применения ядерного оружия...
— Дуракам закон не писан, тем более в эту сторону сохраняется полная "свобода слова". Почему бы некоторым экспертам не покрасоваться и не продемонстрировать свою крутизну, если на деле не им решение принимать? Я лично считаю такие "экспертизы" безответственными и глупыми. Другое дело — предупреждать об этой опасности, чтобы ее избежать. Понятно, что если ядерное оружие имеется, то это подразумевает и наличие за кулисами потенциальной угрозы обмена ударами. Но в оперативной политике ответственные деятели не размахивают ядерными кистенями под носом у оппонента, понимая, что обмен ударами стал бы гибелью для своих народов и всего остального мира. Другое дело, что если оценивать не дипломатические подсечки и тычки, которыми обмениваются Россия и США сегодня, а атмосферу в обоих обществах — у нас и за океаном,— то такой напряженности, подозрительности, переходящей порой в ненависть, паранойи, пожалуй, не наблюдалось со времен Карибского кризиса 1962 года.
— То есть сейчас мы на стадии Карибского кризиса?
— Мы стоим или до него — дело еще не дошло до грани прямого вооруженного столкновения, которого тогда чудом удалось избежать,— или сразу после него. Все зависит от того, продержится ли перемирие на Украине. Если оно сорвется, то мы из состояния "до" переместимся в "во время", то есть непосредственно в кризис, который создаст угрозу эскалации конфликта, хотя ни одна сторона преднамеренно на другую не нападет. Если, скажем, ополченцы с нашей помощью, в чем бы она ни выражалась, будут с боями продвигаться к Приднестровью и далее к Румынии, то вполне вероятно, что политическое давление на руководство США и НАТО станет настолько сильным, что они станут поставлять Киеву ударное оружие, а потом введут в Украину войска, несмотря на все ранее сделанные заявления Обамы и Расмуссена о военном невмешательстве.
— Значит, вы считаете, что война России и НАТО возможна?
— В мировой истории поровну случаев, когда войны возникали в соответствии с четким планом, как нападение Гитлера на Польшу или СССР, и когда они случались в силу неуправляемой эскалации противостояния и конфликта, когда каждая из сторон считала, что не она — зачинщица войны, а только отвечает на агрессивные действия других. Классический пример — Первая мировая война, которой никто не хотел, но цепная реакция эскалации взаимных угроз и относительно высокая технизация вооруженных сил (в частности, скрупулезные и неизменяемые графики перевозок войск по железным дорогам Германии) навязали политикам свою логику поведения. В нынешний ядерный век технизация и автоматизация на много порядков выше, и она диктует свою логику действий или впадает в хаос. Это значит, что политики в ситуации кризиса на определенной стадии эскалации могут услышать от военных: "Или начинаем, или проигрываем!" Но, конечно, сейчас никто не планирует нападения на другую сторону. России это совершенно не нужно, она добивается целей другими способами, а власти США и НАТО тоже не раз заявляли, что вооруженного участия в украинском конфликте принимать не намерены.
— И увеличили контингент быстрого реагирования НАТО...
— К концу года и смехотворное по объему увеличение — на 3,5 тысячи человек, примерно одна бригада. Россия по плану военной реформы будет иметь более 80 таких бригад, преобладающая часть которых размещена в Западном и Южном военных округах. У нас только "отпускных" военных на территории Украины, как признал Захарченко по нашему телевидению, было до 4 тысяч. Причем речь же не о рядовых солдатах-срочниках — те служат год и им отпуск не положен, а о контрактниках и офицерах. Ополчение из бывших гражданских и военных с трофейным оружием вряд ли способно долго отбивать атаки регулярных войск и тем более окружать их в "котлы", не говоря уже о марш-броске к югу и захвате чуть ли не всего азовского берега Донецкой области в считанные дни. Для этого требуются профессиональное планирование операций и хорошая их организация плюс техническое оснащение и тыловое обеспечение. Да, российские боеготовые части и соединения на Украину официально не введены, карт-бланш на это президентом у Совета Федерации не запрошен. Но каким-то образом ополчение и "отпускники-военные" нанесли такой силы локальный удар, что после этого Порошенко был вынужден пойти на перемирие. На этом фоне контингент быстрого развертывания НАТО, который разместят в Польше, выглядит не так солидно, скорее как символический акт. Ситуация с Крымом и юго-востоком Украины сильно напугала наших ближайших соседей на Западе, они потеряли к России доверие и теперь подозревают самое страшное. К тому же некоторые наши политики из Думы, общественные деятели и военные эксперты прямо угрожают им военным походом до Румынии и массированным ядерным ударом, причем их угрозы, за редким исключением, не дезавуируются со стороны исполнительной власти.
— Они и раньше не сильно доверяли. Что-то изменилось в представлении россиян и американцев друг о друге за полвека?
— И мы, и они стали в прошлом больше знать друг о друге. Прежде всего россияне. Оно и понятно: советский человек по традиции больше интересовался тем, "как у них там". Американцы мало любопытны к тому, что происходит за океаном. Советский железный занавес и оглушительная пропаганда тех лет, в которую мало кто верил, приводили к тому, что граждане СССР идеалистически относились к американцам исходя из того, что раз власть их клеймит, то, значит, все наоборот. Сейчас этот миф пропал, причем с обеих сторон. В начале 2000-х взгляды россиян и американцев друг на друга стали гораздо более трезвыми. Немало россиян побывало в США, посмотрели, пообщались. Многим в России, по их собственному признанию, оказалась ближе Европа. У американцев аналогично: радость от знакомства с "освободившимися от коммунистического ига" сменилась образами "новых русских", русской мафии и т.д. Иллюзии растаяли, и наступил третий этап в отношениях — растущего отчуждения. Это последние годы. Такой взаимной неприязни и враждебности не было никогда. Даже в эпоху Карибского кризиса отношение общества к обществу было иным.
— Что случилось?
— Появилось чувство унижения, оскорбленного достоинства, американцы разочаровали россиян за последние четверть века. Тут надеялись на равные отношения, а оказалось, что они пользуются нашей слабостью, свысока относятся, за равных не признают. Как же так?! А для американцев все очевидно: за что уважать, если россияне не могут себе устроить приличную жизнь, учитывая имеющиеся у страны ресурсы, культуру, науку, историю... В сознании американца Россия могла бы стать почти такой же передовой, как Штаты! А вместо этого русские все живут от продажи нефти и газа, прославились на весь мир уровнем коррупции и по многим социальным показателям стоят в разряде развивающихся стран, причем не вверху списка. Равноправное отношение и взаимное уважение сегодня сохранились разве что в профессиональных кругах.
— Изменение отношения — следствие пропаганды?
— Пропаганда, конечно, и там и тут тоже работает, но само отношение имеет и объективную составляющую, выработанную самим обществом. Своего рода интуиция. Американцы теперь думают, что в россиянах "что-то такое" есть: ведь сняли железный занавес, освободили от диктатуры идеологии, дали полную свободу — живите, зарабатывайте, станьте цивилизованной страной, а вот нет! Есть, значит, в этих русских что-то такое генетическое, что толкает их обратно на традиционный путь,— и вот опять у них государство прессует все и вся, опять полновластный лидер у кормила, опять послушный парламент и пресса, опять народ зовут патриотически служить государству и жертвовать ради его великих замыслов. Американцам этого не понять: они воспитаны в том духе, что государство, то есть чиновники и депутаты, должны служить народу, причем за ними нужно все время присматривать, чтобы не воровали и выполняли свои обязанности. Для этого выборы, сменяемость власти, независимые суды, агрессивная пресса и активные гражданские организации. Они считают все это источником своей силы. А большинство русских видят силу в единстве лидера, государства и народа не ради мещанского комфорта, а для достижения великих целей, скажем, воссоединения "русского мира". В отличие от времен холодной войны американцы предъявляют счет не российской власти, а изменили отношение к нашему населению.
У россиян, в свою очередь, появилась убежденность в том, что американцы тупы, прямолинейны, не понимают глубины нашей славянской души, особого ее богоискательства, мистической природы. Им бы съесть гамбургер, сесть в машину и рвануть в Майами. А мы же вместе воевали, наши деды на Эльбе обнимались, а они нас теперь не уважают, не слушают, чинят по всему миру произвол, бомбят, кого хотят, не признают ничьих взглядов и интересов, кроме своих...
Беда в том, что если коммунистическая идеология была придумана сверху и вброшена в российские массы, а антикоммунизм стал ответом на Западе, то нынешнее отношение одного общества к другому произросло изнутри и в нем немало обоснованных негативов с обеих сторон. А значит, и менять его будет гораздо более трудно и долго.
— В Карибский кризис вражду поменяли мгновенно — письмом Никиты Сергеевича Джону Кеннеди...
— Двумя письмами. Сейчас в этом нет нужды, потому как есть кабельный "красный телефон" и спутниковая связь. Что зря время терять? Прямой контакт в острых ситуациях незаменим. Ведь в кризисных ситуациях лидеры получают советы и информацию от узкого круга доверенных лиц. А те заботятся о своей карьере и не хотят показаться слишком мягкотелыми и, не дай бог, понимающими (то есть сочувствующими) позицию противника. Они, как правило, трактуют действия другой стороны в самом негативном виде и советуют патронам действовать жестче. Так что прямой контакт лидеров может оказаться единственным способом получить информацию и разъяснение мотивов оппонента непосредственно, не через "испорченный телефон", и тем самым избежать войны из-за предвзятости позиций. Владимир Путин с Бараком Обамой не раз переговаривался по телефону во время украинского кризиса, но не могу судить, насколько это помогло. Существует мнение, что им мешает какая-то взаимная личная неприязнь.
— У Хрущева тоже не было любви к Кеннеди...
— Он вообще поначалу считал его мальчишкой и думал, что уж Кеннеди он в два счета обштопает, как зеленого. Только потом, в ходе Карибского кризиса, Хрущев проникся к этому молодому человеку огромным уважением. Кеннеди, к слову, воевал, причем на передовой. Никита Сергеевич тоже был на фронте, но занимал высокий пост и не бросался на амбразуру, а Кеннеди был тяжело травмирован в бою, когда служил на флоте младшим офицером.
— В России сегодня уже стал привычным рефрен, что с Обамой говорить бесполезно, надо ждать его сменщика...
— Я с этим категорически не согласен. Как показывает история, когда в Кремле ждут прихода новой администрации, то теряют время и к тому же получают плохой фон отношений с новой администрацией. Да, у Обамы сегодня слабые позиции внутри страны, но ему еще находиться у власти два года. За это время может произойти что угодно — от новой разрядки до полноценного Карибского кризиса. Если сидеть и ждать, можно не сомневаться — дождемся тех, кто придет в Белый дом на оглушительной антироссийской волне. И закрутят гайки внешней политики так, как Обаме и не снилось. Он пришел в Белый дом с самыми благими намерениями: хотел наладить сотрудничество с Россией, дважды отменял систему ПРО в тех элементах, которые больше всего беспокоили Кремль, призывал к безъядерному миру и, хотя после короткой "перезагрузки" российская власть отказывалась уступать по любому пункту, ждал почти до самого украинского кризиса. За что теперь подвергается нападкам правой оппозиции за "мягкотелость". В прошлую избирательную кампанию республиканский кандидат Митт Ромни во всеуслышание заявил, что главный враг США — Россия. И что ответил Обама? Не согласился, сказал: "Аль-Каида". Если взглянуть на то, что происходит сегодня в Ираке, он был прав. Но западное общественное мнение на 99 процентов считает, что Обама промахнулся: если Россия пока еще не 100-процентный враг, то уже точно главная проблема и угроза. И сейчас Обама вынужден реагировать втройне жестко, хотя и тут он почти не выходит за рамки экономических санкций.
— Почему российским (советским) лидерам всегда было проще вести диалог с республиканцами, чем с демократами?
— Не всегда: в 1990-е годы, когда у власти в США были демократы, отношения с Россией были прекрасными. Правда, они строились не на равноправной основе, Москва шла в фарватере Вашингтона.
— Россия была слаба. А когда она не слаба?
— Тогда — проще с республиканцами. На мой взгляд, по двум причинам. Во-первых, республиканцы всегда изначально занимают более твердую внешнеполитическую позицию: у них меньше либеральных сантиментов, никакого "вместе к прогрессу и демократии", все прагматично и жестко. И с таким визави Россия (СССР) ведет себя более осторожно. С Эйзенхауэром Хрущев несмотря на все свои эскапады, ботинок и прочее вел себя осторожно, но стоило появиться в Белом доме Кеннеди, генсек послал ракеты на Кубу, считая нового президента США слабаком и либералом, которого можно "обштопать". И тут же нарвался на кризис, который чуть не закончился глобальной ядерной войной. Есть такое и теперь: у нас многие думали, что Обама — либерал, значит, слабак и такого можно попинать — ничего особенного не случится. И не случилось! До украинского кризиса. Но присоединение Крыма и помощь повстанцам вызвали более жесткую реакцию демократов. Она сейчас зачастую нерациональна — только возмущение, стремление наказать, заставить отступить и признать поражение. А между тем понятно, что без конструктивного участия Вашингтона кризис основательно не урегулировать. Хотя США не приезжают на встречи по Украине, на них оглядываются и Киев, и Евросоюз, и ОБСЕ, не говоря уже о НАТО.
Во-вторых, республиканцев, как консерваторов, прагматиков и даже циников, всегда меньше волновали вопросы прав человека. Как и вообще вопросы развития демократии в других странах. Иногда они об этом вспоминали, но, что называется, "для протокола". В СССР права человека всегда были самым болезненным вопросом. И на него всегда реагировали острее и болезненнее, чем на развертывание авианосного соединения у советских берегов или очередную силовую акцию за рубежом. Потому что эта тема била под корень саму систему. С военной угрозой можно справиться и даже извлечь из этого выгоду, а вот вопросы о правах человека — это удар ниже пояса. В 1990-е годы на Западе этот вопрос и не поднимали, считали, что Россия идет трудным путем построения демократии, сравнивали со своей историей, которая тоже изобилует разного рода перегибами. Республиканцев эти правозащитные темы особо не волновали. Не удивительно, что Владимир Путин и Джордж Буш друг другу симпатизировали, а российский президент первый позвонил 11 сентября. Демократы тоже попытались начать с перезагрузки, но вопросы прав человека для них были в приоритете, и по ходу времени отношение к консолидации российского государства на традиционной основе стало все больше омрачать отношения двух держав, поскольку ставило под сомнение нашу политическую систему "управляемой, суверенной, демократии". А это настораживает больше, чем удар по Ираку или Сирии...
Впрочем, если мы и не полюбим друг друга снова, то мы не обречены на вечную конфронтацию. Если перемирие на Украине продлится, то и американо-российские отношения расслабятся. После Карибского кризиса это удалось сделать быстро, уже в следующем году был заключен первый масштабный договор по ядерному разоружению — о запрещении ядерных испытаний в космосе, под водой и в атмосфере. Но если после холодной войны все шло по нарастающей с надеждой на то, что отношения будут все ближе, то сейчас слишком велик негативный опыт и разочарование друг в друге. Так быстро разрядка не наступит.
— На нынешнем историческом витке что можно считать разрядкой? Эту стадию мы должны были миновать, по логике, не так давно...
— Приход Дмитрия Медведева, его попытки наладить отношения с Западом, которые до грузинского кризиса 2008 года сильно ухудшились, причем в основном по вине США и ЕС. Ведь там продолжали не считаться с Россией, как привыкли в 1990-е годы. А Россия уже, как принято говорить, "вставала с колен" и требовала к себе должного уважения, заявляя о своих интересах... Вспомним знаменитую речь Владимира Путина в Мюнхене в 2007 году, которую Запад воспринял как необоснованный вызов. С приходом Дмитрия Медведева забрезжила надежда на перемены: "свобода лучше, чем несвобода" (на Западе эта фраза очень понравилась), "партнерство ради модернизации", что предполагало привлечение Запада для перевооружения российской промышленности и перехода с экспортно-сырьевой на высокотехнологичную модель. Это тоже понравилось. Но дальше разговора дело не пошло. После Грузии Запад еще выжидал: да, Россия отхватила территории, объявила их независимыми, но Саакашвили сам первый начал. Это и был второй "Кэмп-Дэвид". А после этого, так как главная проблема осталась нерешенной, несмотря ни на какую перезагрузку, возникла Украина, и мир стал приближаться к порогу "Карибского кризиса-2".
— И в чем главная проблема?
— Вопрос о будущем постсоветского пространства: что это — сфера законных особых интересов России или регион, куда Запад должен проникать, чтобы не дать России снова в той или иной форме возродить свое доминирование? Каждая из сторон нашла свое решение, они не совпали. Это привело сначала к Грузии — обмен первыми тычками, а теперь — Украина, тут уже борьба идет по полной программе. В итоге оказались там, где не были четверть века, опять всерьез задумались о возможности вооруженного столкновения России с Западом.
— Россия и США обречены на эту синусоиду?
— Наличие синусоиды объяснялось тем, что в холодную войну сверхдержавы при переделе мира доходили до лобового столкновения, но не переступали последний порог, поскольку боялись третьей мировой. От пропасти отступали, начиналась разрядка, а потом снова здорово... Хрущев стучал ботинком и обещал Запад "закопать" (как потом в Москве оправдывались — в хорошем смысле слова), Белый дом не уступал в бойкости риторики... А когда СССР распался и Россия ослабела, цикл был нарушен, но, как показала история, ненадолго.

Как разобрать китайскую грамоту
Александр Габуев - руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги.
Юрий Барсуков - Корреспондент «Коммерсантъ»
Резюме Усиливающиеся западные санкции заставляют власти и бизнес в России демонстративно разворачиваться в сторону Юго-Восточной Азии и, в частности, Китая
Усиливающиеся западные санкции заставляют власти и бизнес в России демонстративно разворачиваться в сторону Юго-Восточной Азии и, в частности, Китая. Неформальные ограничения, которые до сих пор действовали в отношении китайских инвесторов, сняты. Визиты, деловые советы и комиссии настойчиво предлагают им проекты в самых разных отраслях. Однако власти КНР, хотя и не против воспользоваться окном возможностей, явно не намерены делать бесплатные подарки, и ожидания Москвы относительно потенциала сотрудничества рискуют оказаться завышенными.
Не советую — съедят
Несмотря на бурный рост экономики Китая, его протяженную границу с Россией и активно используемую в международных отношениях "сырьевую дипломатию", еще в начале 2000-х годов крупные совместные проекты были единичны. Первой масштабной сделкой стал контракт "Роснефти" с CNPC от 2004 года о поставке 48 млн тонн нефти. "Роснефть" получила $6 млрд предоплаты, использованной затем для покупки активов ЮКОСа. Тогда же договорились о строительстве нефтепровода Восточная Сибирь--Тихий океан (ВСТО; заработал в 2010 году) и заложили базу для роста поставок нефти. "Роснефть" надолго захватила лидерство в развитии отношений с Китаем, а нынешний глава компании Игорь Сечин считался куратором этого направления. В 2006 году Sinopec разрешили стать партнером "Роснефти" по "Удмуртнефти", несмотря на крайне жесткий подход властей РФ к допуску иностранцев на стратегические месторождения. В 2007 году Sinopec также вместе с "Роснефтью" стала участником освоения Венинского блока на шельфе Сахалина.
Однако за пределами партнерств с "Роснефтью" увеличение участия китайских инвесторов в крупных проектах шло медленно. В целом уровень деловых контактов характеризует факт, что до осени 2007 года единственным китайским банком с дочерней структурой в России был Bank of China, затем к нему присоединился ICBC, и только в 2013 году — China Construction Bank. Все они до сих пор входят лишь во вторую-третью сотню в РФ по размеру капитала.
Следующий этап сближения произошел после финансового кризиса. На фоне нестабильности западных экономик российские чиновники впервые заговорили о возможности перехода на рубли и юани в расчетах, об использовании юаня в качестве одной из резервных валют. Но и в 2009-2012 годах для китайских инвесторов действовали блоки, их возможности были гораздо меньше, чем, например, у инвесторов из ЕС. Так, китайцам долго не удавалось получить доли ни в одном крупном газовом месторождении на суше. Теневые запреты на СП были в машиностроении, станкостроении, автопроме. Источники "Ъ" говорят, что чиновники прямо "не советовали" АвтоВАЗу, ГАЗу и КамАЗу соглашаться на проекты с китайцами, опасаясь, что они быстро захватят внутренний рынок. В горнодобывающих проектах, особенно на Дальнем Востоке, на первом месте был риск засилья китайских рабочих. Некоторые проекты буксовали из-за переговоров о распределении долей.
Давайте лучше развернемся
Первые признаки смены концепции появились весной 2013 года: "Роснефть" подписала с CNPC контракт на поставку нефти на 25 лет за $270 млрд. Затем НОВАТЭК продал CNPC 20% в "Ямале СПГ". Год назад по мере нарастания напряженности вокруг Украины тенденция усилилась. "Европа от нас отворачивается, мы не можем договориться почти ни по какому вопросу,— говорил "Ъ" в октябре 2013 года совладелец НОВАТЭКа Геннадий Тимченко, позже возглавивший Российско-китайский деловой совет.— Но если не получается, то зачем биться лбом в закрытую дверь? Давайте развернемся и посмотрим на наши возможности сотрудничества с китайскими коллегами". Перед этим Chengdong Investment Corporation получила 12,5% "Уралкалия", в конце года Shenhua и En+ создали СП "Разрез уголь" с лицензией на Зашуланское месторождение в Забайкалье (более 250 млн тонн энергоугля).
Поворотной точкой стал майский визит Владимира Путина в Китай уже после второй волны санкций Запада. По словам собеседников "Ъ", это был сигнал активизации работы с КНР почти во всех сферах. Главным событием стал контракт на поставку газа объемом $400 млрд, переговоры о котором шли почти десять лет. Источники "Ъ" говорят, что на "Газпром" сильно давили: нужно было показать ЕС перспективу сокращения поставок газа. Чиновник правительства уточняет: тогда речь шла в первую очередь о демонстрации, а не реальном развороте. Но по мере ужесточения санкций задача обеспечить в лице КНР альтернативу ЕС встала всерьез. Речь идет о перенаправлении экспорта нефти и газа, поиске новых источников инвестиций и получении технологий, доступ к которым ограничен санкциями.
Уже реализуется проект расширения ВСТО до 80 млн тонн к 2020 году, что теоретически позволит отказаться от трубопроводных поставок нефти в Европу. "Газпром" ускоряет переговоры по западному маршруту поставок газа в Китай, что при расширении восточного маршрута и с учетом СПГ может заместить поставки в Западную Европу по выручке. Для замещения инвестиций планируется привлекать китайцев в крупные проекты в РФ и расширять возможности по займам в КНР. Ключевым механизмом должна стать новая межправкомиссия по инвестпроектам, которую возглавили первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов и первый вице-премьер КНР Чжан Гаоли (постоянный член политбюро и седьмой человек в китайской иерархии). Она будет работать наряду с обычной межправкомиссией и стратегическим энергетическим диалогом. По словам источников "Ъ", о создании новой комиссии договорились Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в мае в Шанхае. На первом заседании 9 сентября в Пекине стороны согласовали перечень из 32 инвестпроектов на $20 млрд.
Но решение самой острой проблемы — привлечения финансирования — не найдено. Собеседники "Ъ" в банках скептически оценивают перспективы замещения западного капитала азиатским. Игорь Шувалов также признавал: не стоит ждать, что "один рынок закрылся, а другой немедленно открылся". Но РФ готова создавать общую финансовую инфраструктуру: речь идет о масштабном выходе на российский рынок китайской платежной системы UnionPay, создании аналога системы межбанковских расчетов SWIFT, росте расчетов в национальных валютах. Заместитель главы Минфина Алексей Моисеев говорил о возможности перевода половины товарооборота в рубли и юани, если снять ограничения по долгосрочным торговым операциям с оншорным юанем.
Самая неопределенная ситуация — в области технологий. До сих пор Россия, наоборот, рассматривала себя в качестве их поставщика в КНР, пионерами были готовы стать "Росатом" и Объединенная авиастроительная корпорация. Но теперь из-за санкций РФ перекрыт доступ к западным технологиям двойного назначения, добыче сланцевой нефти и работе на шельфе. И уже китайские разработки выглядят вариантом замены. По словам источников "Ъ", у китайцев есть неплохой опыт освоения сланцев и трудноизвлекаемой нефти, но по шельфу, особенно в Арктике, готовых решений нет. "Мы даже боимся думать, что будет, если ЕС и Япония займут такую же жесткую позицию, как США",— говорит источник "Ъ", знакомый с ходом работ на шельфе. "Если в Арктику придут китайцы, это будет совсем другая история, другая экономика и риски",— согласен собеседник "Ъ" в одной из крупнейших западных консалтинговых компаний.
России придется много поработать
Впрочем, ожидания РФ относительно планов КНР воспользоваться украинским кризисом и войти в российские сырьевые активы, заплатив хорошую цену, могут оказаться завышенными. По словам источников "Ъ" в Пекине, инвесторы и госбанки КНР будут подходить к проектам с чрезвычайной осторожностью. Главная причина — серия внутренних преобразований в самом Китае.
Как отмечает Эрика Даунс из Brookings (бывший главный аналитик ЦРУ по китайскому энергосектору), за последний год китайские энергокомпании стали крайне консервативны в зарубежных вложениях, а госбанки жестко проверяют потенциальные проекты. Причина — в масштабной антикоррупционной чистке, которую начал в 2013 году Си Цзиньпин. Главной мишенью стал его внутрипартийный оппонент, бывший постоянный член политбюро Чжоу Юнкан, курировавший энергетику и силовиков. По приказу Си Цзиньпина была организована масштабная проверка энергетических госкомпаний. Сотни сотрудников, начиная с топ-менеджеров, были осуждены за коррупцию, многие приговорены к длительным срокам и смертной казни (в числе арестованных оказался экс-глава CNPC Цзян Цземинь, который подписывал контракт с "Роснефтью" в 2009 году). Начата и масштабная проверка эффективности банковского кредитования госкомпаний. "Десятки человек за решеткой, те, кто мог, бежали. Оставшиеся менеджеры трясутся над каждой подписью, документы и условия перепроверяются десятки раз",— говорит сотрудник одного из китайских госбанков. Вторым фактором стали начавшиеся в Китае осенью 2013 года после третьего пленума ЦК амбициозные экономические реформы, одна из целей которых — повысить эффективность госкомпаний. В решении пленума впервые указано, что они должны заботиться о максимизации стоимости доли государства как акционера.
Эрика Даунс формулирует новые принципы Пекина так: нельзя переплачивать, сделки должны быть проверены независимыми оценщиками, ответственные за невыгодные инвестиции будут наказаны. По мнению Даунс, этот же подход будет применяться ко всем сырьевым инвестициям, в том числе к России. "То, что вы заключаете сделку для обеспечения Китая сырьем, уже не может оправдать переплату. Условия должны быть максимально жесткими",— говорит она. По словам нескольких глав российских компаний, они уже столкнулись с гораздо более жестким подходом китайских госбанкиров. "Рассчитывать на то, что будут давать деньги на трудные проекты, не очень приходится",— резюмирует один из собеседников "Ъ".
Консервативны в отношении России и китайские частные инвесторы. По словам собеседников "Ъ" в Пекине, еще весной, перед первыми западными санкциями, представители нескольких российских фондов и госбанков приезжали в Китай, чтобы убедить частных инвесторов вкладывать в подешевевшие российские активы. Банкиры общались как с представителями китайских олигархов, например главой Wanda Ван Цзяньлинем (с личным состоянием $16,5 млрд Forbes ставит его на 53-е место среди самых богатых людей мира), который в 2011 году во время форума в Иркутске говорил о готовности вкладывать в Россию до $2 млрд, так и с богатыми потомками ушедших на покой экс-руководителей КНР, как Винсент Вэнь (сын экс-премьера Вэнь Цзябао). Но предложения вкладываться в Россию были встречены крайне прохладно.
"Непонятная юрисдикция, много рисков, ухудшающийся прогноз",— резюмирует один из китайских участников встреч. Похожие настроения царят и среди частных инвесторов в Гонконге, говорит управляющий партнер гонконгского инвестбутика Eurasia Capital Серджио Мэн. "До сих пор опыт с вложениями в Россию оценивается как не слишком удачный. Кто-то потерял деньги на IPO "Русала". Многие недовольны, что российские чиновники приезжают, а потом ничего не происходит, как было с визитом Дмитрия Медведева в 2011 году, или вообще отменяют поездки в последний момент",— говорит он. Конечно, интерес есть, семейным фондам нужна диверсификация активов, и сырьевые богатства России теоретически "звучат неплохо", добавляет господин Мэн, но на практике РФ придется "много поработать, чтоб доказать свою надежность, понятность и прогнозируемость".
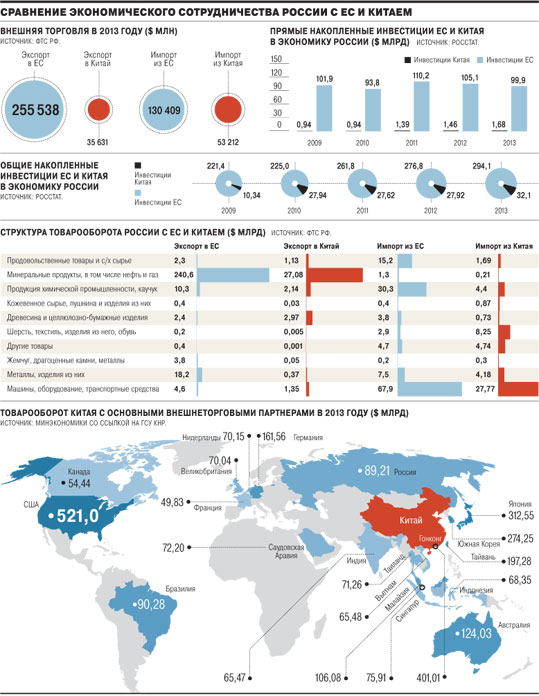
Уникальная услуга
Новые технологии погрузки на рейде, применяемые группой «Метинвест»
/Rusmet.ru, Ольга Фомина/ Известно, что вероятность повреждения как груза, так и судна при догрузке на рейде достаточно высока. Тем не менее, группа «Метинвест» продолжает применять новые технологии погрузки на рейде, беря на себя ответственность за возможные риски. При этом, группе компаний даже удается расширять номенклатуру грузов рейдовой перевалки: если ранее это был лишь железорудный концентрат, то в этом году к нему добавились чугун и стальной лист – грузы, которые до Метинвеста» никто в мире не отгружал данным способом.
Группа «Метинвест» совместно с компанией «Трансшип», входящей в состав крупной международной группы морских компаний, и холдингом «ПОРТИНВЕСТ», который осуществляет управление портовыми активами компании «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), в апреле текущего года впервые осуществили догрузку чугуна на рейде Керчи. Тогда на теплоход Common Calipso, следовавший из Украины (порт Мариуполь) в США (порт Мобил), было догружено 23 тыс. т чугуна. При этом, общий объем партии чугуна производства ММК им. Ильича составил 50 тыс. т.
Чугун считается сложным для перевалки грузом: он тяжелый и требует деликатного обращения. А учитывая, что при погрузке на рейде существует сложность в швартовке догрузочного флота, и работать зачастую приходится при плохих погодных условиях, рейдовая догрузка чугуна является уникальной на сегодняшний день услугой, которую не предоставляет никто на рынке.
Используемая «Метинвестом» технология догрузки реализовывалась под рынок США, который является крупнейшим рынком сбыта чугуна, производимого предприятиями группы. Новая технология позволяет повысить конкурентоспособность продукции «Метинвеста» и, что немаловажно, обеспечивает регулярность поставок в адрес американских потребителей.
Для облегчения задачи перевалки чугуна на рейде использовалась специальная техника – перегрузочный комплекс грузоподъемностью 35 тыс. т, оборудованный двумя грейферными кранами грузоподъемностью 35 т каждый. Специальные лепестковые грейферы, которые наилучшим образом подходят для работы с чугуном, были произведены на голландском заводе Verstegen. Новая техника позволила значительно оптимизировать сквозные логистические затраты компании при поставках чугуна.
В августе этого года командой специалистов аналогичного состава: компаний «Метинвест», «Трансшип» и «ПОРТИНВЕСТ» был реализован уже новый проект погрузки: на этот раз на рейде догружали стальной лист. На теплоход BeiHai, следовавший из Мариупольского порта в порты Евросоюза, в открытом море в оффшорной зоне Черного моря впервые было догружено 8 тыс. т стального листа. Общий объем судовой партии металлопродукции составил 33 тыс. т.
Погрузка проката и, особенно, листа – достаточно сложный и ответственный технологический процесс, который осуществляется докерами в порту. В условиях же открытого моря осуществлять перевалку такого груза намного сложнее из-за ряда естественных и технологических ограничений: ветер, волнения моря, ограниченное размерами трюмов пространство, необходимость применения вспомогательной техники и приспособлений для грузовых операций и крепления груза. Тем не менее, первый проект догрузки стального листа на рейде благодаря слаженной команде специалистов, был также сдан «на отлично».
Успешному осуществлению проекта способствовал и уникальный перегрузочный комплекс компании «Трансшип» под названием Afina. Он располагает тяжелыми кранами и практически не подвержен качке в силу своих внушающих размеров. Ранее эта техника уже отлично зарекомендовала себя на рейдовой догрузке судов Capesize железорудным концентратом и судов Panamax и Supramax чугуном в оффшорной зоне Черного моря.
Несмотря на сложность технологического процесса увеличение судовых партий за счет рейдовой перевалки позволяет значительно сократить затраты на транспортировку и снизить ставки фрахта: экономический эффект составляет порядка $2,5 за т. Благодаря этому повышается конкурентоспособность продукции группы «Метинвест» и появляется возможность осваивать новые рынки сбыта.
Сегодня в блогах: Андрей Нечаев, Андрей Нальгин, Сергей Журавлев, Яков Миркин, Сергей Алексашенко, Николай Кащеев, Константин Сонин, Пол Кругман, Каллен Роше, Тайлер Дерден, Элисон Грисуолд, Марк Чандлер
ндрей Нечаев:
Цена на нефть падает. Будем затягивать пояса или менять политику?
Цена на нефть впервые за 14 месяцев упала ниже $100 за баррель. Рынок устал реагировать на геополитическую напряженность, и заработали факторы спроса и предложения. А спрос стагнирует при увеличивающемся предложении, в том числе за счет сланцевой нефти США. Для нас падение цены еще на 5–10% станет тяжелым испытанием для бюджета. А может оно и к лучшему. Что-то должно заставить российские власти поменять экономическую политику, а может и внешнюю тоже.
Андрей Нальгин:
О втором раунде антисанкций
Игра в «бей своих, чтобы чужие боялись» вступает во второй тайм. Предвижу массовые стоны на тему были «мы голодны, стали же голы и босы»...
Как сообщает РБК, российские власти подготовили второй пакет ответных мер на санкции Запада. Вторым пакетом Россия может ограничить импорт автомобилей и некоторых товаров легкой промышленности. «У нас есть целый ряд несельскохозяйственных продуктов, где наши, прежде всего европейские, партнеры больше зависят от России, чем Россия от них. Это касается, например, завоза автомобилей, прежде всего подержанных автомобилей, это касается некоторых видов товаров легкой промышленности, где мы уже сами можем производить. Не всех, некоторых видов одежды», цитирует агентство помощника президента РФ Андрея Белоусова.
Как представляется, провластная экономическая мысль двинулась в контрпродуктивном направлении. В общем-то, уже по внедрению пакета продовольственных антисанкций стало понятно, что такого рода меры, поспешные и непродуманные, стимулируют не столько собственный выпуск, сколько рост цен. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. В отличие, скажем, от 1998 года, когда производственные мощности были в избытке и страдали от недозагрузки (благодаря чему и стал возможен быстрый рост импортозамещения в условиях кратной девальвации рубля), сейчас такого и близко не наблюдается. Следовательно, без масштабных инвестиций в расширение производства собственный выпуск не наладить в необходимых масштабах.
Но тут во весь рост поднимается проблема избыточно высокой стоимости заемных ресурсов, которую новые западные санкции лишь обострят и к решению которой наши власти, похоже, не знают, как подступиться. На это накладывается жесткость монетарной и фискальной политики. И, до кучи, даже политика власти в области антисанкций остается непоследовательной: с учетом задекларированного намерения пересмотреть ограничения на импорт через пару-тройку месяцев, вкладываться в постройку в России новых производственных мощностей (даже если найти, где взять деньги и оборудование) совершенно не резон.
Кажется, более правильным было бы подумать о том, как поддержать развитие своего товаропроизводителя, а не как запретить чужого. Но пока о такого рода инициативах слышно до крайности мало, если не сказать почти ничего. И это довольно странно...
Сергей Журавлев:
ЦБ начал считать деньги. Плохой признак?
Мотивируя свое несколько неожиданное решение оставить ключевую ставку без изменения, ЦБ прибег, в частности, к крайне редко используемой денежными властями в мире отсылке к динамике денежной массы. Темпы расширения ее действительно резко ужались после мартовского валютного кризиса. Даже по «широкой» денежной массе, с учетом валютных депозитов в банках (которые очень выросли в этом году из-за слабого желания экспортеров продавать валюту в условиях непредсказуемого поведения властей), они снизились за несколько месяцев почти вдвое – с 16,7% в годовом сопоставлении на начало валютного кризиса в марте, до 9% к началу августа (по «национальным» деньгам М2 сжатие еще сильнее). Более низкое желание иметь деньги в России наблюдалось лишь в кризисном 2009 году (до октября).
Необычность этого аргумента в том, что динамика денежной массы краткосрочно (в интервале до полутора лет) является крайне неподходящим опережающим индикатором движения к конечным целям денежно-кредитной политики (то есть инфляции и, возможно, безработицы). Долгосрочная корреляция довольно устойчива, конечно (см. график), но это не имеет большого значения как операционный ориентир политики – за время запаздывания влияния денежной массы на целевые показатели «спрос на денежные остатки» может довольно сильно поменяться.
Аргументы в пользу повышения ставки, которые часто приводились в последние дни, можно свести к следующим трем:
Инфляция. Продуктовые санкции вряд ли дадут опуститься росту ИПЦ ниже 8,0% год. в течение следующих трех кварталов, и Банк России, вероятно, должен будет пересмотреть свой недавний прогноз в 6,0–6,5%. В последнем релизе в июле ЦБ РФ заявил, что «если высокие инфляционные риски сохраняются, [он] продолжит повышать ключевую ставку».
Но теперь, исходя из представления, что уже произошедшего в этом году ужесточения денежно-кредитной политики достаточно для движения к среднесрочной цели по инфляции, ЦБ описал нынешний новый всплеск инфляции как результат более продолжительного, чем предполагалось ранее, переноса на цены ослабления рубля, произошедшего в результате паники начала года, а также внешнеторговых санкций. Эти ограниченные во времени (то есть немонетарные) факторы, по мнению регулятора, хотя и оставят инфляцию на уровне выше 7% до конца года, но не повлияют на ее среднесрочный тренд (замедление до 4% – оно ранее ожидалось в 2016 году, теперь ЦБ предпочитает не указывать год, ожидая, что замедление цен начнется в первом полугодии 2015 года).
В отношении «разрыва выпуска» (то есть недоиспользования потенциала рабсилы и производственных мощностей) и возможности с помощью ставок стимулировать деловую активность, Банк России подтвердил свои прежние оценки, что ни того, не другого нет, и нынешнее замедление роста ВВП практически до нуля является структурным.
Рубль. Ослабив контроль над обменным курсом с помощью интервенций, ЦБ мог бы использовать ставки против потенциального давления на рубль. Особенно в свете сегодняшних новых санкций на привлечение капитала госбанками, в совокупности со старыми усиливающими чистый отток капитала из РФ на 1-2% ВВП (при прочих равных условиях).
Фондирование банков и смягчение разрыва ликвидности. Повышая ставки предоставления ликвидности, ЦБ РФ, возможно, мог бы ускорить сходимость между рублевым фондированием банков (в условиях сжатия валютного) и ростом кредитования. Однако, учитывая, что сохраняющаяся неопределенность и так будет подавлять кредитную активность, по крайней мере, в течение нескольких следующих месяцев, желание ЦБ не форсировать сжатие возникших «ножниц ликвидности» понятно.
Яков Миркин:
Осенняя элегия
Падают золотые листья. Два ведомства тихо добивают российскую экономику в 2014 году. Минфин – попыткой увеличения налоговой нагрузки, и без того сверхтяжелой, и отказом вводить ударные налоговые льготы за рост и модернизацию. И Банк России – повышением ключевой ставки (процента в хозяйстве) и жесткой денежной политикой (сдерживание денежной массы и уменьшение монетизации экономики).
Спасает обесценение рубля. От него лучше экспортерам и бюджету, но хуже импортерам и тем, кто вывозит капитал. Это единственный луч света в темном царстве при падающих ценах на нефть и газ (уже показались $97 за баррель).
Но этот «луч света» опасен, как никогда. Это тяжелый наркотик, толкающий к гиперинфляции. Наша экономика постепенно запутывается – в санкциях, в утрате бизнеса на Украине, в военных расходах, в политических рисках, в бегстве капитала, во взрывном росте регулятивных издержек.
Слишком много ограничений, слишком мало послаблений и хороших новостей.
Прогноз – пока по-прежнему к зиме. До двух-трех лет относительной устойчивости, и дальше, если не изменится экономическая политика, может начаться сильная нестабильность. Наш самолет пока летит, находится в сильной турбулентности, но может свалиться в штопор.
Что делать? Менять финансовую политику, но не только. Начать политику ослабления ограничений для российского бизнеса и среднего класса, мешающих им расти. «Умная либерализация» в экономике. Не в политике – во внутренней экономике.
Но это уже политическое решение. Ау! Ноябрь уж скоро на дворе, а за ним – трескучие морозы и тяжелая зима российского хозяйства, шаткого, плохо утепленного, с дырами во всех щелях
Сергей Алексашенко:
Коррупция «в законе»
Лет 12 назад, когда я работал в «Интерросе», одним из активов, с которыми я работал, был 25%-ный пакет в «Верхнечонскнефтегазе». Поскольку контрольный пакет этой компании тогда формировался за счет объединения пакетов ТНК и ВР (которые еще не соединились), то шансов на управленческий контроль у «Интерроса» не было. И поэтому в соответствии со стратегией этот пакет был выставлен на продажу. Сказать, что он вызвал ажиотаж – будет неправдой. Мало кому, мало-мальски знакомому с российской практикой корпоративного управления, хотелось становиться миноритарием в такой компании. Но покупатели все-таки нашлись, и самые привлекательные условия были предложены китайской CNPC.
Уже в самом начале правления Владимира Путина (до дела ЮКОСа) российские олигархи престали быть полноценными собственниками и не могли без «разрешения» Кремля продать свои активы кому решат. Поэтому о возможной сделке были проинформированы кто нужно, и … раздался резкий окрик: «Не сметь!» В достаточно понятной и категоричной форме было заявлено, что никакие сырьевые активы продаже китайцам не подлежат. Ни 100%, ни 10%.
Однако постепенно ситуация начала меняться, и уже редкая неделя проходит без того, чтобы мы не услышали об очередном проекте выкапывания чего-нибудь из российских недр для поставки в Китай. Нефть, газ, железная руда, медь и так далее. В эту гонку включились энергетики, которые хотят строить электростанции на территории нашей страны для поставок энергии в Китай. И, как правило, эти проекты предполагают получение финансирования для своего развития из Китая.
Недавно произошла еще одна знаменательная сделка – продажа 10% Ванкорского месторождения, важнейшего для «Роснефти». (Похоже, совсем плохи дела у нашего монстра, и для обслуживания долга приходится продавать бриллианты из своей короны. Бриллианты, впрочем «краденые», но это выходит за рамки сегодняшнего сюжета). Понятно, что этот пакет никакого менеджерского контроля китайцам не дает, но, ведь, если коготок увяз, то всей птичке пропасть…
Но все-таки сделку «Роснефти» понять можно – бизнес есть бизнес и по долгам надо платить. А вот сделка, объявленная «Ростехом», – создание совместного инвестиционного фонда с китайской компанией Sinomach – меня потрясла. Дело даже не в том, что фонд будет ориентироваться на «реализации крупных транспортных и инвестиционных проектов» в разных странах, в первую очередь, в России. В конце концов, и ежику понятно, что с технологиями у нас плохо, а с крупными проектами – хорошо. Меня потрясло то, что все (!) деньги в этот фонд вложат китайцы, но поскольку «китайские инвесторы консервативны и с учетом российских рисков крупные инвестиции дают неохотно, а Ростех их риски может хеджировать».
Вы хорошо поняли сказанное? Похоже, что отныне «Ростех» становится тем самым единым окном, через которое китайская компания будет получать доступ к крупным проектам на территории нашей страны, которые, как правило, щедро финансируются бюджетом. В деловом посредничестве ничего зазорного нет. Это нормальный бизнес. В мире им, как правило, занимаются инвестбанкиры и консультанты. И неплохо зарабатывают на этом. В России они тоже на этом зарабатывают, но помимо них на посредничестве при продаже доступа к бюджетным заказам зарабатывают и многие другие – от жуликов до высокопоставленных чиновников. И вот, похоже, заработкам последних приходит конец – какой смысл платить жуликам и чиновникам, если все, что они делали теперь будет делать «Ростех»?
Вы знаете, я готов согласиться с такой монополией – ведь, по сути дела, речь идет о вытеснении коррупции. Более того, готов даже поддержать эту монополию, но при одном «но» – если уж российские власти согласились на то, чтобы заменить взятки официальными платежами, то правильнее будет полученные деньги направлять в бюджет. А не отдавать «Ростеху», который даже и отчетности нормальной не публикует.
И последнее. А почему бы «Ростеху» не распространить эту технологию и на других инвесторов? И не только иностранных? И по всей стране? Может, это и будет та единственная успешная технология, которую он сможет продемонстрировать налогоплательщикам?
Николай Кащеев:
Очень простая мысль
Даже (даже!) если ты живешь в замкнутой системе. Напечатай денег – дай их в оборонку – оборонка заплатит их своим работникам – работники придут с ними в магазин – а там... мобилизационная экономика и контрсанкции. «Ты кто? – Я – Инфляция, чмоки! А ты кто? – А я... Ну, это... мог бы быть инвестицией в основной капитал. Но теперь не буду – спасибо тебе, Инфляция! Кстати, тут Инвестиционный Климат не проходил? – Нет, давно не было. – Ну, привет от Венесуэлы! Мы пошли в доллар». Занавес.
Константин Сонин:
Немного солнца в холодной воде
Судьба Украины решается сейчас не в экономической сфере, но за реформы они взялись серьезно. (Как и требовали академические коллеги). Это те самые структурные реформы, которые на бумаге выглядят очень просто – отменять-не-строить, а в реальности проводятся исключительно тяжело. Но пока дело Кахи Бендукидзе, выдающегося экономического реформатора, живет и побеждает. Не без его участия, конечно.
Надо сказать, что «академически» мысль о том, что реформы нужно проводить быстро и сразу, живет давно – как минимум со знаменитой статьи Джоела Хеллмана (с притягательным, но не имеющим особого отношения к делу названием) 1997 года. Бальцерович и Клаус соглашаются.
Интересно, что Каха бы сказал, про частичное откладывание исполнения соглашения ЕС-Украина. Там, насколько я понимаю, «откладывание» – это целиком в пользу Украины (то есть они получают выгоды сейчас и откладывают издержки на потом), но, с точки зрения политики реформ (а снижение тарифов – это очевидная и радикальная реформа) всегда лучше прыгать в холодную воду, чем входить в нее потихоньку.
Пол Кругман:
Структурный фетиш
На FT вышла интересная статья о формирующейся доктрине «Драгономика», которая очень похожа на Бланхардономика, которая, в свою очередь, очень похожа на Кругманомику. Ну, дело в том, что мы все изучали макроэкономику вМмассачусетском технологическом институте в середине 1970-х годов. Но меня поразил этот пассаж:
Один из европейских политиков, присутствовавший на форуме еврозоны, сказал: «Структурные реформы являются ключевыми. Те страны, которые предприняли усилия в этом направлении, имеют лучшие показатели. Это Ирландия, Испания и Португалия. Италия и Франция должны хоть чуть-чуть думать об этом».
Да уж, Испания даст полезный урок Франции:
ля тех, кто не является приверженцем культа структурных реформ, поясню. Испания пережила полномасштабную депрессию, когда лопнул пузырь недвижимости. Эта депрессия привела к постепенной болезненной «внутренней девальвации», стоимость труда снизилась, сделав Испании более конкурентоспособной в Европе. Как следствие, экономика Испании начала в последние кварталы понемногу восстанавливаться, и темпы ее роста в последние кварталы (но только в последние кварталы) выше, чем во Франции. Но очень сложно увидеть в столь печальных показателях торжество структурных реформ.
Каллен Роше:
Почему большинство американцев до сих пор не ощутило, что экономика восстанавливается
Я хотел бы поблагодарить ФРС за крушение моих планов на день. Я ждал обзора потребительского рынка за 2013 год, чтобы рассказать счастливую историю, но свежий отчет оказался совершенно удручающим. Хотя фондовый рынок и вырос, а экономика, как представляется, выходит из кризиса 2009 года, данные ФРС делают эту радужную картину более мрачной.
Эту удручающую истории можно суммировать в трех простых графиках. Первый показывает реальный средний доход домашних хозяйств начиная с 1989 года. Он не растет:
Тайлер Дерден:
Что происходит в американской экономике?
Изо дня в день мы ждем экономического роста, но ипотечные ставки растут. Активность на ипотечном рынке замерла:
Элисон Грисуолд:
Американская концепция престижных профессий за 37 лет изменилась
Какую работу американцы считают престижной? На этот вопрос отвечали респонденты Harris. На первом месте – профессия врача. Затем офицер, пожарный, ученый и медсестра. Оставшаяся часть списка включает в себя другие «сервисные» профессии, например, полицейский, священник и учитель.
В этом году Harris впервые провел опрос в онлайн-режиме (слегка изменив методологию). Но такую статистику компания собирает, начиная с 1977 года. Тогда список должностей был короче, и 60% на первое место поставили ученого. Врачи заняли второе место. В 1997 году ученые и врачи также считались самыми уважаемыми людьми.
Harris не делится с общественностью определением «престижности», которое поступает в основание исследования. Наверное, каждый респондент имеет в виду что-то свое, но в целом результаты вот такие. Исходя из ответов получается, что, по мнению среднестатистического американца, престижная работа – это либо достаточно высокий уровень образования и хорошая должность на государственной службе. Американцы, в частности, не приравниваю престиж к славе: актеры и артисты падают в нижнюю половину списка. Деньги, кажется, тоже не имеет большого значения, потому что юристы, бизнесмены и банкиры также не на самых верхних позициях этого рейтинга.
Наверное, люди ориентируются на понятие о престижности профессии, когда стремятся направить своих детей на тот или иной факультет университета. Но «самая престижная профессия» далеко не всегда оказывается самой востребованной на рынке труда.
Марк Чандлер:
Сколько стоит колледж?
Начало нового учебного года усиливает беспокойство по поводу роста стоимости высшего образования. Стоимость обучения в колледже все больше бьет по карману средней семьи. Цена образования выросла быстрее, чем инфляция, долги по таким целевым кредитам резко выросли, а молодежи сложно найти работу после вуза.
В то же время, кажется, что все больше людей задаются вопросом о стоимости колледж. New York Federal Reserve’s Current Issues опубликовал статью, в которой рассматривается значение высшего образования. Конкретно речь идет о профессиях юриста и получении степени бакалавра. Авторы статьи приходят к выводу, что выгоды от наличия высшего образование все еще перевешивают издержки на университет. В то время как затраты выросли, заработная плата у работников без оконченного высшего образования упала.
Эти два графика иллюстрируют выводы, приведенные в статье.
Стоимость четырех лет обучения на бакалавра снизилась с $120 тыс. в начале 1970-х годов до $80 тыс. в начале 1980-х годов. Но к концу 1990-х она резко выросла до почти $300 тыс. и держалась на этом уровне, причем снижение в кризис не было столь заметным.
Второй график показывает, сколько лет придется работать, чтобы окупить затраты на колледж. Авторы используют метод дисконтированных денежных потоков, которые были использованы для расчета чистой стоимости и определить, через сколько лет человек начнет получать прибыль от наличия высшего образования.
Оказывается, что время, необходимое на то, чтобы окупить расходы на бакалавриат, существенно сократилось в 1980-х годах. В конце 1970-х годов потребовалось бы почти два десятилетия, чтобы высшее образование окупилось. Теперь на это уходит 10 лет.
Авторы делают вывод, что значение высшее образование остается вблизи своих исторических максимумов, а сроки выхода на доходность – вблизи исторических минимумов. Это исследование является частью более крупной работы, в которой рассматриваются случаи, когда высшее образование не окупилось для конкретных людей. Колледж может оказаться и отрицательной инвестицией.
Spydell:
Наука и технологии. Затраты на R&D
С патентами, безусловно, много нюансов, так как пока нет единого стандартизованного критерия автоматического и бесспорного определения иерархии в технологическом насыщении и наукоемкости патентов на продукты и исследования. Есть так называемые патентные тролли, патентующие воздух для последующих юридических склок и подавления конкурентов. А есть патенты, призванные защитить уникальные интеллектуальные и достаточно сложные разработки.
Патенты на технические решения в функционировании ядерных реакторов, космических аппаратов или систем противоракетной обороны не равнозначны патентам в степени закругления иконок и их расположении на экране iPhone, цветовую гамму меню или отступы рамки экрана от краев смартфона. То есть, патентный портфель, например Apple (в котором на 90% троллинг патентование для рычагов ограничения конкуренции на рынке) не равнозначен реальной интеллектуальной собственности в какой-нибудь аэрокосмической корпорации.
Кроме того, на конечном результате сказывается так называемая патентная культура. Одни компании или ученые могут патентовать малейшую малозначительную итерацию, другие же, наоборот, придерживаются концепции открытости на научные изобретения, даже если исследование достаточно масштабное.
Критериями определения технологического прогресса могут быть:
Затраты на исследования и разработки, количество людей занятых в R&D, количество научно-исследовательских центров, институтов, лабораторий.
Некий реальный выхлоп от деятельности – международно-признанные патенты, верифицируемые научные статьи в авторитетных научных изданиях.
Практический эффект от деятельности. Произведенная высокотехнологичная продукция и что особо важно – международное признание, нужность этой продукции в других странах, что выражается в величине экспорта хайтек-продукции.
Про экспорт и патенты писал. Но какие затраты на исследования и разработки?
В данные будут включены расходы государства, бизнеса и венчурных фондов в фундаментальные и прикладные исследования, как в высших учебных заведениях, НИИ, научно-конструкторских центрах, так и в недрах самих компаний. Вся информация из OECD из отчетов Research and development (R&D). Сортировка стран от большей к меньшей по размеру экономики среди тех, по каким есть данные.
Инвестиции Китая в науку, исследования и разработки поражают воображение. В 2000 году было около $30 млрд. (чуть меньше Франции на тот момент), теперь под $300 млрд. (на 2012 год), что уже сравнимо с 15 самыми крупными странами ЕС (все вместе в сумме). По всей видимости, сейчас Китай уже превосходит ЕС из 28 стран. Абсолютный лидер в R&D являются США – $453 млрд. инвестиций. С такими темпами развития Китай уже в 2016 году сможет нагнать США. Китай с 2008 по 2014 годы, то есть за четыре года, удвоил расходы на R&D. В 1999 году разрыв Китая от США был десятикратный, сейчас уже сходится в ноль.
В таблице видно, что ведущие страны, такие как США, Япония, Франция, Германия, Великобритания за пять лет увеличили инвестиции на 5–20%, что в рамках приращения инфляции за соответствующий период. Наиболее мощный прирост расходов на R&D идет в Китае и Корее.
Если сравнивать 10–15-летний период, то разрывы еще более фантастические. То есть из этой информации выходит, что основной импульс в науке в Азии был получен после 1995 года, где стремительный взлет произошел после 2002 года. По сути, наука и технологии там создаются на глазах почти с нуля.
Тут интересно вот что. Когда критическая масса научного потенциала и разработок будет достаточной, чтобы влиять на мировой баланс? В принципе, известно, что долгое время технологическими трендами двигали компании из США, Японии, Англии, Германии, Франции, Италии, немного Швеции и Швейцарии. У всех на слуху западные компании. Но для мирового сообщества не так известны китайские компании, бренды. Много ли вы сможете назвать китайских брендов с мировым именем?
Но по ряду объективных признаков видно сверхагрессивное развитие научного и технологического потенциала в Китае – по темпам строительства высших учебных заведений, по количеству созданных НИИ, количеству патентов, научных статей и затрат на R&D. А ведь следует учесть, что $300 млрд. (на 2012 год) расходов на R&D в Китае – это не тоже самое, что $300 млрд. в США, так как цены и зарплаты в Китае совершенно другие, чем в США и ЕС. Например, в 28 странах ЕС трудится около 2,6 млн. человек в сфере R&D, а в Китае под 3,3 млн. Если для ЕС количество занятых последние 10 лет практически не меняется, то в Китае растут в разы. Следует ожидать мощного прорыва Китая во внешний мир.
В России $38 млрд. идет на R&D, где на государство приходится около $12 млрд., но не все идет на науку из этой суммы, а в государство еще включено R&D в госкомпаниях в сфере ОПК и космоса. $38 млрд. – это выше, чем в Италии и Канаде, примерно на уровне Великобритании, но значительно меньше, чем в Германии. Хотя стоит отметить положительную динамику, так как еще в 2003 году были позади Италии и Канады.
Вообще лидеры в R&D следующие – США, Китай, Япония, Германия, Корея и Франция. Именно в таком порядке и с подозрительной точностью эта группа лидеров совпадает с лидерством в экспорте высокотехнологической продукции и в количество патентов. То есть создать технологии мирового уровня без супермасштабных инвестиций на голом энтузиазме невозможно.
По внутренним госинвестициям в R&D Россия рядом с ТОП-3 после США и Китая на уровне с Японией и Германией, но это связано с тем, что у нас большое количество компаний с государственным участием, особенно в сфере оборонки и космоса.
По источникам финансирования совокупного R&D доля государства у России очень высокая. Выше только в Аргентине. Дело в том, что помимо внутренних расходов (например на науку или государственного предприятия) в России много средств идет формально частным компаниям, но так или иначе аффилированным с государством.
По миру среди ведущих стран доля государства колеблется от 20% до 35%. В России под 70% Отмечу, что доля выросла с 1999 года. Частных денег все меньше...
Отношение всех расходов на R&D к ВВП.
В России 1,3%. За 15 лет доля почти не выросла. Сейчас на уровне Великобритании, но там есть значительный накопленный технологический базис на высоком уровне. Мы же сильно отстали по технологическим отраслям. А Китая и Корея активно наращивают вложения как в абсолютном выражении, так и в относительном.
Видно, что технологические страны имеют расходы на R&D от 3% и выше. Помимо уже указанных стран можно отметить Швейцарию, Швецию, Финляндию, где наука и технологии имеют высокий вес в экономике.
Чтобы компенсировать отставание от ведущих стран, России необходимо увеличить инвестиции на R&D до $100–120 млрд. в год (как раз 3% к ВВП), что в течение пяти-семи лет хотя бы несколько выровнять диспропорции. Из группы крупнейших развивающихся стран (Китай, Россия, Бразилия, Индия, Мексика, Турция, Южная Африка, Индонезия, Аргентина, Чили). Расходы на науку выше, чем в России только у Китая. В этом аспекте нельзя сказать, что совсем все плохо с наукой в России. Если же сравнивать с безусловными лидерами – США, Китая, Япония, Германия, Корея, Франция – то да, плохо. Но зато даже после лихих 1990-х Россия все еще может конкурировать с мировыми лидерами в сфере ОПК и космоса, а это в чистом виде технологическое производство. Так что потенциал есть.
Совокупные R&D на душу населения в динамике.
Низкое соотношение в Китае обусловлено слишком большим количеством населения (более 1,3 млрд.), тогда как абсолютные показатели и потенциал высоки в мировом масштабе. Кстати, группу развивающихся стран, помимо целого ряда известных признаков, еще отличает малое количество R&D на душу населения.
Инфляцию славлю, которая есть. Но трижды – которая будет.
Средь «шумного бала» политических страстей вокруг Украины, Крыма, Донецка, санкций, контрсанкций, борьбы с Макдональдсом и осуждения бородатой певички как-то незаметны финансовые новости. Даже если они, как говорилось четверть века назад, – судьбоносны.
Российский Центробанк завершает долгую эпоху поддержки рубля. Курс рубля будет определять рынок. Санитары могут отойти от больного и отключить аппарат искусственного дыхания. Дальше – сам.
Начинается новая эпоха в сфере денежно-кредитной политики России. И, естественно, возникают традиционные системные вопросы. Нет, не «кто виноват?». А – что делать? Что будет?
Радует в этой истории то, что, похоже, наконец у властей проходит извечная девальвацебоязнь. Ну, или уже не хватает ресурсов для постоянной поддержки рубля. Надеюсь, что первое, особенно, если учесть, что нынешний глава Центробанка достаточно умна, чтобы воспринимать девальвацию не как ругательное слово, а как нормальный процесс.
Куда важнее иное – потенциал инфляции. И вот тут начинаются чудеса. Во всяком случае, автор этих строк логики не понял.
Центробанк в минувшую пятницу отказался от повышения ключевой ставки и сохранил ее на уровне 8%. Ставка рефинансирования находится рядом и предполагается (что более, чем логично) их уравнять. Как свидетельствует продолжающийся сейчас опрос Bankir.Ru, многие банкиры хотели бы увидеть снижение ставки, но и отсутствие повышения – позитивный сигнал. Логика здесь упрощенно выглядит так: ставка повышается – сдерживает инфляцию, но замораживает рынок. И наоборот.
Итак, от сдерживания инфляции ценой замораживания рынка отказались. Центробанк пересмотрел инфляционный прогноз на этот год с 6,5% до «уровня, превышающего 7%».
Однако, как выясняется далее, Центробанк предполагает уровень инфляции в 2015 году на уровне 4,5%, а далее – снижение до 4%.
Вот эти цифры – откуда? Кто может назвать хоть один фактор, позволяющий на снижение темпов инфляции уже в совсем близком 2015 году де-факто в два раза? Или все это – из той же серии, что извечно оптимистичные прогнозы финансовых властей относительно снижения оттока капитала из России? Помнится, в августе 2013 года Центробанк заявлял, что отток капитала в 2014-м составит $20 млрд. Сейчас же Центробанк говорит: отток капитала будет снижаться с $90 млрд. в 2014 году до $18 млрд. в 2017 году. От конкретного прогноза по оттоку капитала на 2015 год, слава богу, отказались. От оптимистичного прогноза по инфляции – нет. Почему? Политика?
Скорее всего – политика. В ЦБ – явно не дураки. В частности, констатировали, что обсуждаемое введение 3-процентного налога с продаж подстегнет инфляцию. Правда, тут же оговорились, что налог с продаж ускорит рост цен только на 1–1,5%. Опять – непонятный оптимизм. Обычный житейский здравый смысл подсказывает: если российским торговцам включили новую подать на 3%, то они заложат в цену 6%. Чтобы два раза не ходить.
Впрочем, тут же еще одна оговорка от ЦБ. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина добавила: «Многое зависит от того, какая будет конструкция этого налога, как его будут применять, какой охват товаров будет. Введение налога с продаж может вызвать достаточно большую краткосрочную реакцию, а потом, наоборот, эта реакция будет замедляться… Банк России проводит гибкую политику и готов оперативно реагировать на возникающие вызовы». «В то же время ЦБ не будет пытаться достичь цели по инфляции любой ценой», – говорится в отчете с пятничного заседания совета директоров ЦБ.
Кстати, там же было констатировано, что на инфляцию оказывают влияние и геополитические проблемы, и ограничения на импорт продуктов в Россию. Забыли упомянуть про тарифы РЖД, которые будут повышены с нового года. То ли тема нехорошая, то ли о сильных мира сего – либо хорошо, либо ничего.
Новый министр экономического развития Алексей Улюкаев, весьма критично последнее время отзывающийся о решениях ЦБ, все эти темы полностью поддержал.
Напрашиваются два вывода.
Первый – оптимистическая риторика пока еще обязательна для чиновников. Второй – в отличие от многих других российских ведомств, готовящихся к колонизации русскими Луны или воюющих с Макдональдсами, в ЦБ никак не могут заставить выказывать себя полными идиотами. Профессионализм мешает. Посему – говорят реальные вещи. Только цифры немного уменьшают. Чтобы не сердили. Любопытно, что Герман Греф тоже не «ура, мы ломим» декларирует, а говорит о вполне реальных вещах. Не было бы счастья, да несчастье помогло – кажется, мы имеем мегарегулятор, который видит экономику, а не политику и, тем паче, не идеологический угар.
Второй – куда более актуальный. Инфляция. На обывательском уровне я складываю:
- ограничение на импорт продуктов, которое отечественного производителя не поднимет (срок ограничения слишком маленький, да и нет у нас производителей пармезана и устриц), а вот цены ему поднять позволит;
- удорожание цены на бензин – не то, которое в статистике, а то, которое в моем бензобаке;
- налог с продаж – даже еще не само его введение, а тот импульс, который придан рынку самим фактом обсуждения;
- борьбу с Макдональдсами и ИКЕА и последующее влияние на цены в этих сегментах в случае «победы»;
- предстоящее повышение тарифов РЖД
…и получаю… не знаю, как вы, а по моим ощущениям, не менее 10% в этом году и виды на как минимум такой же уровень в будущем. Это – в лучшем случае. В худшем, как говорит ЦБ, – «не любой ценой».
А значит – мы за ценой не постоим. Опять.
Солдаты НАТО в Украине. Начались учения Rapid Trident
Во Львовской области начались учения Rapid Trident-2014 («Быстрый трезубец-2014») с участием более 1300 военнослужащих из 15 стран, сообщает defence24.pl. Среди участников вооруженные силы стран НАТО, в т.ч. Польши и США, а также Украины, Грузии, Молдовы и Азербайджана. Учения пройдут до 26 сентября и являются цикличным элементом в рамках программы «Партнерство ради мира».
Совместные учения Rapid Trident со странами-участницами НАТО в рамках этой программы проводятся в Украине с 2006 года. В этом году маневры были отложены с июля на сентябрь в связи с ситуацией на Донбассе. И это несмотря на то, что учебный центр и полигон Яворово под Львовом находится в 1200 км от района боевых действий.
В этом году в учениях примут участие около 1300 военнослужащих из Украины, Польши, США, Азербайджана, Великобритании, Канады, Грузии, Германии, Латвии, Литвы, Молдовы, Болгарии, Румынии, Норвегии и Испании. В их числе 200 американских военнослужащих 173-й воздушно-десантной бригады и 35 польских военнослужащих 25-й воздушно-кавалерийской бригады. Больше всех, разумеется, украинских военных – почти тысяча человек.
Цель учений, кроме отработки навыков совместных действий между вооруженными силами стран программы «Партнерство ради мира» - выражение поддержки Киеву в продолжающемся конфликте.
Учения в Яворове разделены на две фазы. В первой, продолжительностью около недели, будут отрабатываться, в частности, медицинская эвакуация, обнаружение и обезвреживание самодельных взрывных устройств, обеспечение операций по поиску и спасению.
Вторая часть учений будет состоять в основном из совместных действий с использованием комплексной лазерной системы имитации боя MILES (Multiple Integrated Laser Engagement System), которая обеспечивает высокую реалистичность обучения.
В поисках самости: Изучение еврейской идентичности
Елена Носенко-Штейн
ВВЕДЕНИЕ
Проблема еврейской идентичности и тесно связанные с ней вопросы еврейской культурной памяти давно находятся в фокусе разнообразных научных, околонаучных и паранаучных дискуссий, выплескиваясь время от времени на страницы газет и журналов. Очевидно, что достигнуть консенсуса в том, что такое (хотя бы в общих чертах) еврейская самость, в обозримом будущем не удастся.
За рубежом написано огромное число работ на эту тему: социологами, психологами, антропологами и другими специалистами. По выражению известных американских исследователей, проблема еврейской идентичности стала своего рода навязчивой идеей американских ученых1; это было сказано почти четверть века назад, но сохранило свою актуальность. За последние полтора- два десятилетия свою лепту в дискуссии по данному поводу внесли и российские ученые. В одной статье невозможно охарактеризовать все даже наиболее интересные работы (тем более, что существуют специальные обзоры и главы в книгах на эту тему2), поэтому я постараюсь рассмотреть лишь некоторые, на мой взгляд, наиболее важные направления изучения еврейской идентичности.
Сразу оговорю, что не буду касаться исследований израильской идентичности — еврейской и не только, ибо это отдельная тема, заслуживающая специального обзора.
ЕВРЕЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В СТРАНАХ ЗАПАДА: ОСМЫСЛЕНИЕ КРИЗИСА
В многочисленных книгах, статьях и брошюрах, преимущественно публицистического характера, издающихся в разных странах, прежде всего в США (где проживает самая многочисленная еврейская община мира за пределами Израиля), подчеркивается необходимость определенного набора ценностей и ритуалов для того, чтобы считаться евреем. С 1990-х гг. подобные книги, по большей части переводные, издаются и в России. Среди них выдержавшая множество переизданий книга Х. Дониша под характерным названием «Быть евреем», а также энциклопедический справочник «Еврейский мир», также не раз переизданный3. В них основное внимание уделено скорее ритуальным практикам: соблюдению Субботы, праздников, кашрута (диетарных законов в иудаизме), обрядов жизненного цикла и т.д. Это не удивительно, ибо за рубежом понятие «еврей» неотделимо от религиозной составляющей — иудаизма (в английском языке, собственно говоря, нет понятия «иудей»).
Ответ на вопрос «кого считать евреем?» в зарубежной, главным образом англо-американской, научной литературе, также достаточно широко освещен. Если человек заявляет о своем еврейском происхождении, то это, как правило, служит достаточным критерием для его участия в жизни еврейской общины4(подразумевается, общины религиозной). Это во многом связано с тем, что в Европе, начиная с эпохи Просвещения, у евреев многих стран стала доминировать именно общинная идентичность. В XX—XXI вв. в Европе и США к тому же наблюдается высокий процент смешанных браков, быстро идущие ассимиляционные процессы, в Европе нередки антисионистские настроения, разделяемые лидерами некоторых еврейских общин, особенно ультраортодоксальных. В этих странах существуют также умеренно ортодоксальные группы, лидеры которых поощряют светское образование и активное участие членов своих общин в жизни страны.
В других странах преобладает религиозно-общинная идентичность, в них иногда существуют еврейские партии или организации, добивающиеся культурной автономии для евреев, реформистское направление в них, как правило, отсутствует или слабо представлено. Среди лидеров еврейских организаций заметна сионистская ориентация, нередок низкий уровень смешанных браков и менее интенсивные ассимиляционные процессы, а также приверженность традиционному иудаизму, который противится светскому образованию и не поощряет участие членов общины в политической жизни страны5. Подобная идентичность была широко представлена в странах ислама до массовой иммиграции евреев в Израиль; она сохраняется там, где еврейские общины еще остались.
Неоднократно отмечалось, что еврейская идентичность на протяжении истории не оставалась неизменной: ее культурные границы менялись в результате миграций, преследований, изменений социальных и экономических условий. Но факт осознания своей принадлежности к одной общности оставался; на него постоянно влияло отношение к евреям со стороны нееврейского мира, столь точно охарактеризованное Ж.-П. Сартром («Еврей — это тот человек, которого другие люди считают евреем»6). Сейчас, по мнению ряда исследователей, не существует единой еврейской идентичности. Известный британский ученый Дж. Вебер, например, подчеркивал, что в настоящее время можно говорить не просто о глубоком кризисе еврейской идентичности в современном западном мире, но о череде кризисных состояний7. Традиционная еврейская идентичность, как подчеркивал Дж. Вебер, размыта в результате массовых миграций, огромных людских потерь во время Холокоста, ассимиляции, возникновения сионистской идеологии, краха традиционной религиозности как основного критерия еврейской идентичности и ее замены этничностью (к последнему тезису я еще вернусь). Наконец, факторы современной социальной и политической истории европейских евреев также оказывают решающее влияние на еврейскую идентичность. Иудаизм стал восприниматься как «частная религия», личное дело индивида, евреи-атеисты считаются нормой. Кроме того, многие современные европейские евреи в дополнение к еврейской идентичности обладают идентичностью страны проживания: английской, польской, французской, венгерской и т.д. Вдобавок в каждой стране еврейская идентичность имеет свою специфику, хотя и меняется, быстрее или медленнее, в одном направлении. В этой новой идентичности место иудаизма заняла идентичность этническая (Jewishness). Дж. Вебер подчеркивает и значимость антисемитизма, усиливающего осознание своего еврейства, особенно у секулярных евреев8.
Тезис об упадке и даже глубоком кризисе еврейской идентичности стал общим для многих зарубежных (и не только) работ. Так, ряд американских исследователей озабочен тем, что евреи Америки все менее следуют еврейской традиции (соблюдение кашрута, зажигание субботних свечей, посещение синагоги), а это вкупе с ростом числа разводов, увеличением возраста вступления в первый брак и ростом числа людей, никогда не вступавших в брак, свидетельствует об упадке этнической идентичности9.
Еврейской идентичности в США посвящено множество работ; как правило, они рассматривают вопросы соблюдения религиозных заповедей, поддержки Израиля, готовности вступать в смешанные браки и пр. Например, в книге Митчела Б. Харта много говорится о причинах падения рождаемости среди евреев США и влиянии этого фактора на еврейскую идентичность10.
Для большинства американских евреев быть евреем очень значимо. Так, в конце 1990-х гг. на вопрос: «Как важно для вас быть евреем?» — 55% опрошенных ответили «очень важно», 34% — «довольно важно» и 11% — «не очень важно»11. При этом 3/4 матерей-евреек и лишь // отцов-евреев воспитывали своих детей «как евреев»12. В США 1/5 евреев глубоко привержены иудаизму, традициям и сохраняют связь с еврейскими организациями; около 2/5 лишь номинально сохраняют связь с еврейством и около 1/3 относятся к своему еврейству индифферентно13. Большинство исследователей считают это следствием ассимиляции и низкой рождаемости14.
По мнению Дж. Сарны, отчасти совпадающим со взглядами другого известного исследователя, Дж. Вучера, американские евреи сохранились как группа благодаря заботе о выживании. При этом Сарна отмечает упадок традиционных для Америки конфессий, включая иудаизм, и распространение новых, в особенности ислама, а также восточных религий и культов. Он объясняет это явление крахом модели «плавильного котла» и тем, что иудео-христианские ценности утратили привлекательность для части населения США15. Здесь мы наблюдаем полемику с изданной еще в 1955 г. и выдержавшей ряд переизданий работой У. Херберга о протестантско-католическо-иудейских ценностях, лежащих в основе американской культуры16. Сарна видит дальнейшую угрозу выживанию евреев именно в упадке этой триединой (протестантско-католическо-иудейской) общности, но усматривает надежду для евреев как для группы в сохранении приверженности традиционным религиозным ценностям17. Правда, не все согласны с такой точкой зрения; одни указывают, что упадок религиозности в послевоенной Америке может служить предвестником начала формирования более плюралистичной модели американской еврейской идентичности, другие обращают внимание на медленный, но явный тренд: эволюцию еврейской идентичности от религиозной к этнической. Последняя точка зрения последовательно развивается в работах Цви Гительмана, одна из вышедших под его редакцией книг носит характерное название: «Религиозность или этничность? Эволюция еврейской идентичности». За последние полтора десятилетия проблеме происхождения («крови») за рубежом стали придавать гораздо больше значения, чем прежде. Ученые задаются вопросом: что же составляет основу еврейской идентичности «в отсутствие» языка и религии, и приходят к выводу — происхождение («кровь»)18.
Дж. Вучер в концептуальной работе под броским названием «Священное выживание. Гражданская религия американских евреев» подчеркивает, что еврейская община США выработала определенный набор ценностей, мифов и ритуалов, которые узаконивают ее деятельность. По его мнению, американские евреи создали свою квазирелигию, которую можно назвать «гражданским (или светским) иудаизмом» (civil Judaism). Сам термин, введенный еще Жан-Жаком Руссо в «Общественном договоре», был в 1967 г. применен американским социологом Робертом Беллой для обозначения квазирелигиозности в США19. Впоследствии он получил широкое распространение за рубежом, но в нашей стране обозначаемое им явление пока изучено мало20. Например, исследователи указывают, что светская религия — это система символов, а также форма светского мировоззрения, которая обеспечивает сакральную легитимизацию данного социального устройства21. Впоследствии в молодежной еврейской среде светский иудаизм трансформировался в «самопальный иудаизм» (DIY-Judaism, от Do-it-yourself), в котором такой набор ценностей и практик одобряет уже не данное сообщество, его устанавливает каждый для себя лично22.
Дж. Вучер отмечает, что светский иудаизм в США базируется на нескольких основных принципах: принимаемом как данность единстве еврейского народа; взаимной ответственности всех евреев друг за друга; выживании еврейства в ситуациях различных угроз; центральной роли Израиля для евреев Америки; поддержании еврейской традиции; широкой благотворительности и социальной справедливости; необходимости признания себя американцем23. Хотя немногие американские евреи соблюдают религиозную традицию в значительном объеме, большинство поддерживает некий набор традиционных практик и определяет себя евреями24. Видимо, традиция потеряла свой авторитет для значительной части американского еврейства и стала скорее резервуаром определенных символов25. Замечу, что, таким образом, светская религия и «обычный» иудаизм предстают перед нами как оппозиция мирского и сакрального и в то же время как их синтез. В числе ценностей светского иудаизма в США Дж. Вучер называет собственно иудаизм (как бы задающий основную модель еврейской идентичности, с одной стороны, соединяющий этничность и религиозность, а с другой — вписывающийся в концепцию американского культурного плюрализма)26. Исследователь пишет, что иудаизм в Америке подвергся серьезной секуляризации: путем селекции выбрав свод определенных правил и предписаний, он смог предложить американским евреям современную веру, основанную как на ностальгических чувствах, так и на еврейской традиции. Как и Дж. Сарна, автор подчеркивает огромную важность «выживания» для американского (как, впрочем, в еще больше степени и для европейского) еврейства в 1930-е гг. и особенно после Холокоста27. В отличие от израильской модели светский иудаизм в США не так уверен во враждебности окружающего мира («весь мир против нас», или «Исав всегда ненавидит Иакова» — один из постулатов светского иудаизма в Израиле28). На протяжении всей своей книги Дж. Вучер прямо полемизирует с известным социологом Ч. Либманом, который уже давно подчеркивал, что в США традиционные еврейские ценности находятся под угрозой, прежде всего со стороны космополитических и универсалистских ценностей: ведь изучение священных текстов абсурдно в обществе, которое поддерживает примат индивидуальной и социальной свободы. Американские реалии, по мнению Ч. Либмана, разрушают иудаизм и основанную на нем традицию29. Более того, американский еврей всегда амбивалентен: он стоит перед выбором между полноценным участием в жизни современного американского общества и сосредоточением только на еврейской жизни, между интеграцией в американское общество и выживанием своей группы30. Для Ч. Либмана еврейская идентичность религиозна по своей сути, хотя в США довольно своеобразно американизирована31. Дж. Вучер, напротив, стремится доказать, что именно светская религия призвана помочь снять это противоречие.
Многие зарубежные исследователи подчеркивают важность соблюдения традиции для поддержания еврейской идентичности в диаспоре. И такое соблюдение — хотя бы некоего условного «набора» предписаний — действительно широко распространено среди евреев за рубежом, даже светских.
Иными словами, иудаизм (в той или иной форме) является одним из «столпов» еврейской самости за рубежом, несмотря на преобладание светской модели идентичности. Исследователи включают в представляющий его набор (частичное) соблюдение Субботы, произнесение благословений до и после еды, посещение синагоги (хотя бы раз в году), празднование некоторых еврейских праздников, в особенности Песаха и Хануки, устройство бар- или бат-мицвы[1]. Иными словами, даже секуляризованные евреи за рубежом обычно не относятся враждебно к религиозной традиции; скорее они несколько дистанцированы от нее32.
Еще М. Вебер указывал, что для буржуазного общества идеология играет примерно такую же роль, как для традиционного — религия33 (это верно и для современного постиндустриального общества). Если встать на эту точку зрения, то для современных евреев приоритетным является не исповедание иудаизма, а следование какому-либо идеологическому течению.
Дискуссия об иудаизме и светских формах идентичности продолжается до сих пор. Это в очередной раз свидетельствует, что еврейская идентичность переживает прогрессирующий серьезный кризис. Ученые расходятся в оценке его глубины, но практически все признают наличие самого явления.
Есть также сторонники светской точки зрения, согласно которой можно быть евреем, исповедуя не иудаизм, а иную религию34. Правда, за рубежом сторонников такой точки зрения немного. Для американского еврейства характерно, скорее, обращение к консервативному и прогрессивному (реформистскому) иудаизму, которые уже давно не являются, как полагал известный семитолог А.Ю. Милитарёв, временным заменителем иудаизма более традиционного35. Многие авторы как раз отмечают, что иудаизм в США сильно адаптируется к американскому окружению, в результате чего упрощается. Вновь и вновь фиксируется неуклонный упадок религиозности среди евреев диаспоры. Так, 32% евреев США никогда не посещают синагогу или посещают ее очень редко (в основном по случаю бар-мицвы или бат-мицвы своих детей или детей друзей). Тех, кто посещает синагогу ежемесячно или еженедельно, насчитывается соответственно 19% и 16%36.
Ученые все чаще отмечают, что в наше время вполне возможна еврейская идентичность, не опирающаяся на иудаизм, иными словами, светская. Место иудаизма может занять, например, поддержка Израиля37, а его создание и существование играют огромную роль в сохранении идентичности прежде всего американских евреев — как на индивидуальном, так и на общинном уровнях. На важность этого фактора исследователи указывали в 1970— 1980-е гг., подчеркивая, что до Шестидневной войны (1967) Израиль не занимал в сознании американских евреев столь важного места, какое тогда занимала община и — с 1945 по 1967 г. — Холокост38. И в настоящее время ряд исследователей полагают, что еврейская идентичность в Израиле более аутентична, нежели в диаспоре39. Частота поездок в Израиль — один из показателей еврейской идентичности в США. Они, за очень редкими исключениями, не имеют отношения к эмиграции, но отражают определенную степень личностной еврейской самоидентификации через идентификацию с Израилем. В 1990-е гг. примерно / часть взрослых американских евреев посещала Израиль по меньшей мере однажды, а почти половина — более одного раза40; после так называемой Второй интифады частота поездок несколько снизилась.
Израиль стал одним из центральных символов светского иудаизма в США, где евреи нередко воспринимают его в качестве духовной родины, хотя с этим согласны далеко не все41. Успехи Израиля также поддерживают гордость не только за эту страну, но и за еврейство в целом. Хотя практически все исследователи сходятся в том, что отношение к Израилю весьма значимо для сохранения еврейской идентичности в Америке42, но иногда указывается, что оно не всегда однозначно. Некоторые авторы подчеркивают, что чувство привязанности к Израилю нередко носит во многом декларативный характер и что, хотя большинство американских евреев занимают произраильскую позицию во внешнеполитических вопросах, как правило, они не разделяют сионистских убеждений. Израиль скорее доминирует в публичной сфере еврейской жизни, нежели в частной; думая о будущем этой страны, многие американцы выражают скорее опасение и тревогу, чем оптимизм43.
В последние годы во все большей мере опорой еврейской идентичности становится вера в общность происхождения (этнический принцип), то есть для людей важно быть рожденным родителями евреями (или одним из них), чем исповедовать иудаизм в любой его форме44.
Немало зарубежных работ посвящено взаимосвязи еврейской идентичности и ассимиляции. М. Гордон в своей ставшей классической работе об ассимиляционных процессах в Америке выделял культурный и структурный аспекты ассимиляции. Культурная ассимиляция, по мнению ученого, — это процесс адаптации того или иного меньшинства к культуре доминирующей группы. Структурная ассимиляция — это продвижение меньшинства в социальную структуру общества45. Стоящий на такой же позиции Брюс Филипс подчеркивает, что продвижение евреев в США на высокие ступени профессиональной и социальной иерархии можно рассматривать как структурную ассимиляцию46.
Как уже говорилось, не существует единой еврейской идентичности даже в одной стране. Поэтому большинство исследователей рассматривают разные круги американского еврейства (ортодоксальные, «соблюдающие», нерелигиозные и пр.) и присущие каждому кругу типы идентичности. Несмотря на определенный сдвиг в конструировании еврейской идентичности в сторону ее этнической составляющей, основными опорами еврейской идентичности в США большинство исследователей считают иудаизм, еврейскую культуру, Холокост, образование и еврейские институты, а также связь между еврейской общиной США и Израилем, иногда антисемитизм47.
Однако, говоря о еврейском образовании, ряд авторов отмечает, что в США для большинства оно обычно завершается прохождением бар- или бат-мицвы, в лучшем случае окончанием еврейской школы (что нередко зависит от наличия такой поблизости)48. Такая озабоченность понятна: на протяжении многих веков именно образование было одним из тех механизмов, через которые осуществлялась передача культурной информации в еврейской среде, т.е. поддерживалась еврейская культурная память.
Говоря о важнейшем факторе, который, с одной стороны, мобилизует еврейскую самоидентификацию, а с другой, может способствовать ее упадку, — об антисемитизме, исследователи в США и Западной Европе нередко подходят к нему с иных позиций, нежели российские. Так, в сионистских кругах антисемитизм воспринимается как нечто имманентное человеческой природе. Не все разделяют такую точку зрения, но подавляющее большинство ученых согласны с тем, что антисемитизм сильно влияет на еврейскую самоидентификацию и поведение. Однако некоторые полагают, что сами евреи, стремящиеся интегрироваться в современное западное общество, нередко воспринимают антисемитизм иначе, допуская, что с ними иногда обращаются как с чужаками. Но сами себя чужаками они не считают, полагая, что антисемиты — это просто неудачники или злые люди. Некоторые американские евреи уверены, что определенный уровень антисемитизма неизбежен и не опасен. Однако, по данным опроса, проведенного в начале 2000-х гг. по заказу Американского еврейского объединенного распределительного комитета («Джойнта»), большинство респондентов считают антисемитизм гораздо большей угрозой для выживания евреев в Америке, нежели смешанные браки49.
В Европе настроения гораздо более тревожные, и это неудивительно, учитывая позицию правительств ряда стран. Дж. Вебер, например, подчеркивает, что евреи в Европе по-прежнему воспринимают антисемитизм как опасное явление и он является угрозой еврейской идентичности, так как многие во избежание различных неприятностей предпочитают путь ассимиляции50.
Блестящий анализ причин усиления антисемитизма и его различных форм во Франции дан в работе М. Вьевьорка51. И, хотя книга написана на французском материале, многие ее положения и выводы (с соответствующими поправками на местные реалии) вполне применимы к ряду стран Запада и даже к России52. Исследователь не просто классифицирует формы французского антисемитизма («правый», «левый», голлистский, католический и пр.), не просто описывает изменение отношения к евреям во Франции в связи с миграцией из мусульманских стран, продолжающимся палестино-израильским конфликтом и т.п., но и показывает, как это явление, ставшее фоном общественно-политической жизни этой страны, воздействует на идентичность ее еврейских граждан. В целом же вывод, напрашивающийся после прочтения множества разнообразных работ на эту тему, таков: антисемитизм еще долго будет этномобилизующим фактором, способствующим пробуждению даже крепко спящей еврейской идентичности (sleeping identity).
Значение общины и общинных институтов также оценивается несколько различно, хотя большинство исследователей за рубежом признают, что общинные институты играли и продолжают играть очень важную роль для сохранения еврейской идентичности. Основой общины нередко считают благотворительные учреждения, возникшие на базе религиозного предписания (цедака), а принадлежность к той или иной общинной структуре может быть оценена как открытое проявление «еврейскости». Такая принадлежность может проявляться в посещении синагоги, участии в деятельности еврейских организаций разного уровня, в работе волонтеров и т.п. Община, таким образом, является своего рода «мостом» между личностной еврейской идентичностью и еврейской общинной жизнью53.
Одновременно многие исследователи отмечают, что для еврейской идентичности в США важно признание полной лояльности американских евреев Америке: «Америка была добра к евреям, поэтому они обязаны не просто проявлять лояльность по отношению к ней, но принимать активное участие в самореализации американского общества». В массовом сознании евреев США глубоко укоренилось представление о том, что нет ничего несовместимого в том, чтобы одновременно быть «хорошим евреем» и «хорошим американцем»54.
Многие общинные деятели в США обеспокоены быстро идущей ассимиляцией. По мнению Д. Гордиса, одним из показателей кризиса еврейской идентичности в Америке является не только то, что многие евреи не участвуют в общинной жизни, но и то, что они не понимают, зачем это нужно55.
Д. Гордис принадлежит к тем авторам, которые смотрят на будущее еврейства и еврейской идентичности крайне пессимистично. Его книга носит «говорящее» название: «Нужны ли миру евреи?», в ней автор задается вопросом, что случится, если однажды в мире не останется евреев (причем они исчезнут в результате не геноцида, а постоянного упадка еврейской жизни и угасания еврейской идентичности)? По мнению Д. Гордиса, большая часть американских евреев уже утратили или находятся в процессе утраты еврейской самости56. Он остроумно сравнивает американское еврейство с андерсеновской русалочкой, влюбившейся в мир, совершенно не похожий на тот, который она до сих пор знала и который ей отныне кажется непривлекательным. Для того чтобы войти в новый мир, она приносит огромные жертвы, отрезая себя от прошлого навсегда, хотя и новый мир никогда не примет ее. В результате русалочка превращается в пену морскую и исчезает навеки. Автор с грустью замечает, что американское еврейство, похоже, ждет такой же конец57.
Его пессимизм разделяют многие. За двадцать с лишним лет до выхода в свет книги Гордиса Ч. Либман писал, что его, да и многих других американских евреев мало устроит такое будущее, в котором они будут просто «чувствовать себя» евреями, кое-что знающими о еврейской истории и гордящимися «уникальным вкладом» евреев в мировую культуру. Исследователи, стоящие на таких позициях, видят будущее еврейства как относительно немногочисленной группы, идентичность которой опирается на традиционный иудаизм58.
Таким образом, по ряду вопросов высказываются весьма несходные точки зрения. В их числе — о будущем еврейской диаспоры и еврейства как такового. Например, Б. Вассерстейн в своей блистательной работе «Исчезающая диаспора» писал о постепенном упадке еврейской идентичности вследствие углубляющейся ассимиляции и демографического кризиса, охватившего еврейство всего мира (за исключением ортодоксальных кругов). Он в основном анализирует ситуацию с евреями Европы и приходит к грустному выводу о постепенном растворении евреев диаспоры среди окружающего их населения подобно тому, как это было в свое время с евреями Китая59.
Один из ведущих специалистов по еврейской идентичности, Ц. Гительман, в статье, носящей невеселое название «Закат еврейской нации в диаспоре», писал: «...мы движемся к глобальному штетлу», т.е. некоему унифицированному «набору блюд», поддерживающих еврейскую идентичность. «Современные средства коммуникации; увеличение числа разнообразных поездок, вызванных новыми технологиями и ростом достатка; чувство взаимной ответственности, стимулированное Холокостом и продемонстрированное в кампаниях по защите советского, сирийского и эфиопского еврейства; значительно больший доступ в бывший СССР и Восточную Европу; центральная роль Израиля как общего знаменателя для мирового еврейства — все это вовлекает евреев в более тесные и частые контакты друг с другом. Все это ведет к конфронтации различных концепций еврейской идентичности»60.
Есть и другие точки зрения на этот счет, не столь мрачные. Например, Д. Пинто писала, что в наши дни европейское еврейство находится в поисках новой идентичности, не похожей на ту, которая существовала на европейском континенте до Холокоста. По ее мнению, европейское еврейство должно сконструировать эту новую идентичность и стать «третьей опорой» триединого американо-израильско-европейского еврейства61. Замечу, что реализации этого плана могут помешать неблагоприятные демографические показатели, а также процессы глобализации и космополитизации, создающие новую глобализованную личность, чувствующую себя свободной от прежних коллективных связей и обязательств (и часто просто не понимающую, для чего эти связи и обязательства нужны).
В последние два десятилетия появилось множество работ о еврейской диаспоре, ее проблемах и идентичности. Интересу к этой проблеме, безусловно, способствовала массовая эмиграция бывших советских евреев не только в Израиль, но и в страны Запада. И хотя в науке существует множество определений и характеристик диаспоры (что именно считать диаспорой и почему), еврейская диаспора до сих пор считается классической, или парадигматической. Дискуссия на эту тему постоянно ведется на страницах многих изданий, в том числе отечественного журнала «Диаспоры» (мне также неоднократно приходилось писать об этом62). Однако большинство исследователей, не вдаваясь в тонкости диаспорального дискурса, просто определяют любые группы евреев, проживающие за пределами Израиля, как «еврейскую диаспору», а изучение русскоязычных евреев, проживающих в разных странах (в том числе в Израиле), превратилось в отдельное исследовательское направление63.
Замечу, что разница в оценках состояния еврейской идентичности и еврейства как группы зависит от того, какой набор ценностей рассматривают те или иные авторы: ортодоксального еврейства, реформистских кругов, светских и т.д. Существуют и попытки вывести нечто среднее. Например, согласно С. Коэну, среднестатистический американский еврей празднует Песах, Хануку и Грозные дни[2], посылает своих детей в еврейские школы, иногда посещает синагогу, имеет в основном друзей-евреев и обычно вступает в брак с еврейкой (евреем). Он гордится своим еврейским происхождением, для него огромную ценность представляет семья. Ему нравятся еврейские традиции и наследие, но он негативно относится к ортодоксальным евреям64.
Подобные «разброд и шатание» среди исследователей весьма показательны и тоже свидетельствуют о глубоком системном кризисе еврейской идентичности. Даже в США, несмотря на существование многочисленной и сильной общины, заметную роль иудаизма и наличие видимого еврейского образования, трудно выделить ядро этой идентичности.
Отдельное направление представляют собой работы, написанные в рамках социальной психологии65, в которых особое внимание обращается на роль воспитания и семьи в формировании еврейской самоидентификации. В частности, по мнению Д. Арнуи, еврейская идентичность — это внутренний опыт личности, развивающийся в ее отношении к религиозным, политическим, этническим и культурным составляющим иудаизма, еврейского народа и Израиля. Нередко еврейская идентичность может стать своего рода «самоподдерживающимся» основным элементом личностной самоидентификации66.
Некоторые исследователи, проводя более тонкое различие, пишут, что еврейская идентификация — это процесс осмысления и действия, который предусматривает вовлеченность в еврейскую жизнь. А еврейская идентичность — это чувство самости и отождествления себя с еврейством67.
ЕВРЕЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В СМЕШАННЫХ БРАКАХ
Я особо выделяю исследования, посвященные этнической идентичности в смешанных браках или союзах, в которых один из партнеров является евреем, и делаю это по нескольким причинам. Смешанные браки, которых в еврейской среде становится все больше, представляют собой серьезную проблему для сохранения как еврейства в целом, так и еврейской самоидентификации в частности. Стало почти общим местом утверждение, что смешанные браки размывают еврейскую идентичность. При этом априори полагают, что эта идентичность должна быть еврейской (выделено мной. — Е.Н.-Ш.). Не вдаваясь сейчас в подробности спора о том, что должно быть, отмечу, что практически все ученые признают важность самой проблемы.
Отношение к ней тоже менялось. Так, в начале XX в. многие исследователи видели в смешанных браках средство скорейшей абсорбции евреев в христианском обществе, хотя полного согласия по этому вопросу, естественно, не было. Ученые, стоявшие на сионистских позициях, рассматривали падение рождаемости и рост числа смешанных браков как показатель серьезного кризиса, с которым столкнулся еврейский народ, причем некоторые даже предсказывали исчезновение западноевропейского еврейства68.
Так, Л. Берман еще в начале 1970-х гг. отмечал, что мужчины-евреи в США чаще склонны вступать в смешанные браки, чем женщины (тенденция сохранилась и поныне), а лица, вступающие в такие браки, часто делают это в более позднем возрасте, чем люди, вступающие в моноэтнический брак. Исследователь также указывал, что получение высшего образования и достижение успехов в социальной и экономической сферах способствуют росту числа смешанных браков69. Он утверждал, что смешанные браки являются разрушительными для еврейской жизни, а люди, вступившие в них, через некоторое время обнаруживают изменение своей идентичности. Рожденные в них дети, по далеко не бесспорному мнению ученого, нередко уже не чувствуют себя даже «полуевреями»; у них нередко возникает протест против еврейских ценностей70.
Большая часть ортодоксальных европейских и американских раввинов вполне естественно считают такие браки недопустимыми, а их негалахических потомков — исключенными из еврейского мира71. Другие занимают более умеренную позицию, допуская смешанные браки с теми, кто собирается примкнуть к еврейству, и положительно относятся к тому, чтобы дети, рожденные в таких браках матерью-нееврейкой, принимали иудаизм72. Впрочем, и некоторые ученые, стоящие на светских позициях, подчеркивают сильную негативную корреляцию между смешанными браками и еврейской идентичностью; следовательно, такие браки рассматриваются как препятствие к достижению высокого уровня еврейской идентификации. Подчеркивается, что в смешанных семьях супруг-еврей нередко настаивал на своей еврейской идентичности, но мало делал для подкрепления этого утверждения73.
Большинство исследователей также указывают, что семья представляет собой одну из опор этнической самоидентификации многих народов, но у евреев в силу исторических причин она приобрела значение своего рода символа. Кроме того, именно в рамках семьи в значительной мере осуществлялась передача культурного опыта следующим поколениям74. Правда, в настоящее время еврейские семьи тоже подвергаются эрозии: люди позднее вступают в брак или не вступают в него вообще, разводы становятся все более частыми; наконец, растет число смешанных браков. Как однажды было верно замечено, вероятность вступления в моноэтнический брак часто зависит от теоретической возможности встретить брачного партнера — еврея, т.е. от удельного веса евреев в том социальном круге, в котором вращается человек. Доля смешанных браков в диаспоре, в частности в США, достигает 50%, и 78% детей, родившихся в этих браках, не считают себя евреями75. К тому же, по данным некоторых исследователей, смешанные браки менее прочны, чем моноэтнические еврейские браки76. Только треть потомков смешанных браков выражают желание вступить в брак с евреем/еврейкой, хотя реакция их родителей на вступление в смешанный брак, как правило, бывает очень негативной, и в США даже создаются специальные центры по оказанию психологической помощи вступившим в смешанные браки77.
Согласно данным опроса, проведенного среди американских евреев в 2001 г., 80% респондентов считают смешанные браки в открытых обществах неизбежными. При этом 39% опрошенных ответили, что будут болезненно реагировать, если их дети вступят в брак с неевреями. 50% опрошенных видят в сопротивлении смешанным бракам проявление расизма, а 69% согласны с тем, что еврейская община должна побуждать евреев вступать в моноэтнические браки78.
Времена меняются, и в более новых работах уже отмечается, что меньше половины американских евреев выступает против смешанных браков79. Известный социолог С. Барак-Фишман, посвятившая не одну работу конструированию еврейской идентичности в смешанных семьях, выделяет несколько факторов, способствующих, по ее мнению, заключению моноэтнических и смешанных браков в еврейской среде. В первом случае это еврейское образование, еврейски ориентированная семья, еврейские дружеские круги. Отсутствие этих факторов делает более вероятным вступление в смешанный брак80.
Особого упоминания заслуживает ценная работа Пола Спикарда «Смешанная кровь. Смешанные браки и этническая идентичность в Америке XX столетия», написанная в 1989 г., но до сих пор читающаяся с большим интересом. В ней рассматривается несколько расово и/или этнически смешанных групп (в том числе евреи) в США: динамика миграций и рост числа смешанных браков в XIX—XX вв., изменения идентичности вступивших в них людей и их потомков, а также история возникновения обоюдных этнических и расовых стереотипов (включая стереотипы сексуальные, которые в ряде случаев могли способствовать или, напротив, препятствовать заключению смешанных браков, в том числе в еврейской среде)81. П. Спикард использует не только данные социологических опросов, но и материалы прессы прошлых лет, устные воспоминания (записанные им самим и другими исследователями в разное время).
В связи с проблемами смешанных браков возникает и проблема негалахических евреев, которых сторонники ортодоксального и консервативного направлений не считают евреями[3]. Она отчасти решается в рамках реформистского течения в иудаизме, последователи которого в отдельных случаях признают евреями людей, у которых отец еврей. Эта проблема затронута и в книге Э. Клейн с выразительным названием «Потерянные евреи. Борьба за идентичность в наши дни», построенной в основном на английском материале. В ней значительное внимание уделяется проблемам религиозной идентификации как основе «еврейскости» (Jewishness). По данным, приведенным Э. Клейн, в Англии для большинства евреев самоопределение и воспитание представляются более важными, чем происхождение, однако еврейская традиция более прочно сохраняется в тех семьях, где мать еврейка, которая передает и хранит эту традицию82. Таким образом, в Великобритании у людей частично еврейского происхождения на первом месте стоит отношение к своему еврейству, а не факт рождения, что коренным образом отличает ситуацию от положения в России.
ЕВРЕЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПОПЫТКИ ОСМЫСЛЕНИЯ
В России, несмотря на резкое уменьшение численности евреев (сейчас их, по данным переписи 2010 г., менее 157 тысяч чел.), существует одна из самых значительных еврейских общин Европы. Численность же потомков смешанных браков в переписях учесть крайне сложно (существуют лишь приблизительные подсчеты), а тенденция к заключению таких браков в России усиливается83. Массовая эмиграция евреев из бывшего СССР в 1990—2000-е гг. привела к тому, что они теперь разбросаны по всему миру и составляют большую транснациональную общину84.
В СССР еврейская проблематика была, по существу, табуирована, поэтому исследования в области еврейской идентичности, коллективной памяти и пр. проводились зарубежными учеными, из которых следует особо выделить М. Альтшулера, Ц. Гительмана и Я. Рои85. Они не просто заложили основы изучения советского еврейства, но и в дальнейшем весьма способствовали изучению евреев СНГ. Кроме того, в 1990-е гг. появились совместные и чисто отечественные исследования на эту тему.
Вполне естественно, что ученых в первую очередь занимали демографические перспективы российских евреев. Один из ведущих израильских демографов, М. Тольц, неоднократно указывал на неблагоприятные факторы — массовую эмиграцию евреев из бывшего СССР, снижение рождаемости, увеличение доли людей пожилого возраста и др. — как на причины довольно быстрого, по его мнению, исчезновения российского еврейства86. Более оптимистичен был М.С. Куповецкий, оценивавший численность тех, кого он причислял к «этническому ядру» (имеющих обоих родителей — евреев или мать-еврейку) в 302 тысячи чел. на 1999 г.87 Израильский исследователь Владимир (Зеэв) Ханин представил разные точки зрения на численность еврейского населения на постсоветском пространстве88.
Результаты российских переписей 2002 и 2010 гг. оказались шокирующими даже для пессимистов: было учтено соответственно 232 и менее 157 тысяч евреев. При том, что процедуры переписей справедливо подвергались критике (М. Тольц полагает, что в настоящее время в России можно насчитать около 200 тыс. евреев), сокращение общей численности еврейского населения России и других постсоветских стран — факт непреложный. Если же учесть, что доля лиц, родившихся в смешанных браках, существенно больше доли тех, кто рожден в браках моноэтнических89 (и добавлю, они далеко не всегда ощущают себя евреями, так что для их обозначения приходится изобретать канцеляризмы вроде «люди еврейского происхождения»), картина становится еще более выразительной.
М. Альтшулер справедливо указывал, что советские евреи — и добавим, постсоветские — совершенно не похожи на большинство евреев диаспоры, отличаясь от последних слабостью общинной организации и религиозно- культурной жизни90. Его книга была написана в самом начале «перестройки», но сказанное в определенной степени верно и в наши дни, хотя в постсоветской России еврейский «ренессанс» (возрождение, а в ряде случаев строительство заново общинных и религиозных структур) происходит довольно интенсивно. По мнению М. Альтшулера, рост числа смешанных браков, потомки которых зарегистрированы как неевреи, приводит к тому, что они, очевидно, и считают себя неевреями91.
Социологи нередко прослеживают четкую взаимозависимость между уровнем развития национальной культуры и уровнем национальной идентичности (многие отечественные социологи до сих пор не делают различия между национальным и этническим). Поэтому упадок национальной еврейской культуры ведет к ослаблению еврейской идентичности. Так, Ц. Гительман предлагает различать активную и пассивную культуру, с одной стороны, а также активную и пассивную идентичность — с другой. По его мнению, активная культура включает создание и потребление культурных артефактов (художественной и научной литературы, произведений искусства, одежды, пищи, праздников и пр.). Пассивная же культура включает в себя модели мышления и поведения, они не обязательно проявляются сознательно, но характерны для представителей данной этнической группы. По мнению ученого, активная этническая идентичность предполагает позитивное, сознательное подтверждение своей идентичности, которую люди рассматривают как желательную, иногда гордятся ею и даже демонстрируют ее (публичное отправление религиозных ритуалов, активное употребление родного языка и др.). Пассивная же идентичность воспринимается как данность, и отношение к ней может быть разным — нейтральным, смешанным и даже враждебным. Пассивная этническая идентичность, пишет далее исследователь, зависит как от факта рождения, так и от исторических обстоятельств. В Советском Союзе требовалась обязательная этническая идентификация всех граждан (запись в паспортах), поэтому у советских евреев не было полной ассимиляции, хотя процесс аккультурации зашел очень далеко. Ассимилированы же, по мнению Ц. Гительмана, были лишь очень немногие евреи, в основном потомки смешанных браков, сменившие первоначальную идентичность на другую92.
В 1990-х гг. был осуществлен ряд интересных исследований, посвященных конкретным аспектам еврейской идентичности в России. Первые масштабные социологические опросы такого рода были российско-американскими: в 1994 г. Ц. Гительман и его российские коллеги В. Шапиро и В. Червяков провели исследование иудаизма как фактора еврейской идентичности в России на примере крупнейшей на тот момент еврейской организации в нашей стране — ВААД93; впоследствии они осуществили еще более масштабные исследования94. Эти опросы проводились с помощью анкет, в немалой степени копировавших американские образцы и не всегда удачно приложимых к российским реалиям. Кроме того, не учитывались особенности культуры и идентичности людей, рожденных в смешанных браках. В дальнейшем эти исследования были продолжены и на украинском материале, а затем — усилиями только российских ученых под руководством В. Шапиро — в 2005 г. в Петербурге; в этом опросе был учтен ряд критических замечаний, высказанных по поводу предшествующих работ95. Во всех этих исследованиях изучалась связь еврейской идентичности (национального самосознания) с иудаизмом, знанием традиции, отношением к Израилю, антисемитизмом и другими факторами.
Другой пример социологического исследования такого рода: работы Р. Рывкиной, написанные по материалам социологических опросов, проведенных в ряде крупных городов. В них изучалось соотношение еврейской идентичности с религией, традицией, ролью Израиля и др.96
Идентичность евреев Петербурга первой половины 1990-х гг. стала предметом изучения М. Коган и Б.Е. Винера (последний рассматривал межпоколенную передачу этнической идентичности у некоторых этнических меньшинств Петербурга, включая потомков смешанных браков, в том числе русско-еврейских), а Москвы — С.Я. Козлова97.
В 1990-е — начале 2000-х гг. в России не только были проведены масштабные исследования еврейской идентичности, но и написан ряд концептуальных работ на эту тему. Так, известный этнолог М.А. Членов, развивая идеи Н. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби, М. Каплана и др., определил еврейство как цивилизацию и выделил ряд характерных для нее черт98. Н.В. Юхнёва, начавшая заниматься еврейской проблематикой еще в советские годы (что, замечу, требовало немалого гражданского мужества), выдвинула тезис о русских евреях (потомках русско-еврейских браков) как субэтнической группе русских. Для этой группы, по мнению исследовательницы, характерен русский язык как родной и принадлежность одновременно к русской и еврейской культуре99.
Практически все ученые, так или иначе занимавшиеся проблемами еврейской идентичности, отмечают кризис еврейской идентичности в России, как, впрочем, и во всем мире. Например, указывают, что для большинства евреев бывшего СССР еврейство — это национальность, а не религия100, т.е. подчеркивается важность этнического, а не религиозного компонента в их идентичности. Вернее было бы говорить о значимости происхождения и факте «при- писанности» к той или иной национальности, существовавшей в паспортах в СССР и в постсоветской России до недавних пор (знаменитый «пятый пункт»). Ц. Гительман даже ввел для людей, которых именно этот самый пункт и связывал с еврейством, обозначение «паспортные евреи», а также выделял антисемитизм в Советском Союзе (как и навязывание государством этнической самоидентификации) как фактор, способствовавший сохранению еврейской идентичности101.
М.А. Членов, говоря о формировании идентичности у евреев диаспоры, в том числе в России, тоже отмечал, что эти идентичности различны; в России, по его мнению, сложилась специфическая модель еврейской идентификации с преобладанием в ней этнического компонента, почти вытеснившая идентификацию конфессиональную102.
А.Ю. Милитарёв выделял три причины, вызвавшие, по его мнению, кризис еврейской идентичности в мире: слабость личностной мотивации; взаимонепонимание между традиционалистскими и нетрадиционалистскими кругами (автор подчеркивал, что это обстоятельство в основном актуально для Израиля); демографический кризис, выражающийся в основном в низкой рождаемости103.
Израильская исследовательница Ф. Марковиц, рассматривая ситуацию, сложившуюся в начале 1990-х гг. на постсоветском пространстве, отмечала, что в это время «советская еврейская идентичность» перестала существовать. Бывшие советские евреи могут свободно делать свой выбор и эмигрировать или оставаться, зная, что можно «быть евреем» в новых России, Украине и других государствах104. Заметим, что это верно по преимуществу для молодежи; люди средних и старших возрастных групп обычно сохраняют еврейскую идентичность в ее советской, хотя и несколько видоизмененной форме.
В начале 2000-х гг. я тоже начала свои исследования самоидентификации у людей, рожденных в смешанных браках, так как именно эта категория становится все более многочисленной и во многом определяет поведение, жизненные стили и идентичность российского еврейства. Анализ собранных материалов позволил выделить несколько типов их самоидентификации и ее соотношение с различными факторами: религией, Израилем, Холокостом, антисемитизмом и т.п.105
Тогда же начали появляться любопытные работы о еврейской идентичности, выполненные в рамках этнопсихологии. Здесь нужно отметить работы В.С. Собкина и его младших коллег, в той или иной мере занимавшихся этой проблематикой. Основное внимание в рамках этого подхода уделялось изучению идентичности еврейских подростков и студентов, отношения к евреям в России и т.п.106 Надо сказать, что последняя проблема, а также этнические стереотипы в отношении евреев с тех пор многократно привлекали внимание отечественных авторов107.
Если 1990-е — начало 2000-х гг. — это время появления первых концептуальных и масштабных социологических исследований, то последнее десятилетие ознаменовалось изучением более конкретных аспектов: различных проблем потомков смешанных браков, религиозного выбора российских евреев, еврейской молодежи, еврейского образования и др.
Как ни странно, но проблемы еврейской идентичности у потомков смешанных браков в России изучаются мало, и мои работы — едва ли не единственные, где такое изучение проводится комплексно, позднее исследователи все же стали выделять потомков смешанных браков в отдельную категорию108.
Одна из очень немногих работ на эту тему — уже довольно давняя статья А.Б Синельникова о негалахических евреях (т.е. тех, у кого отец — еврей). Ученый пишет, что галахические постановления на этот счет принимались в определенных исторических условиях, теперь же они превратились в серьезное препятствие для людей смешанного происхождения, у которых мать не еврейка, но которые считают себя евреями109.
Эволюцию советской еврейской идентичности продолжают изучать за рубежом. Я уже говорила о работах Ц. Гительмана (его ценная книга «Беспокойный век», написанная еще в конце 1980-х гг., но впоследствии сильно доработанная, была переведена на русский язык). Исследователь все более подчеркивает дрейф «еврейскости», особенно в России, от религиозности к этничности110. О значимости происхождения для советских евреев, во многом заменившего в их самоидентификации иудаизм, пишет также А. Штерншис, изучавшая советскую еврейскую идентичность в период до начала Второй мировой войны111.
Продолжаются и масштабные социологические опросы: кроме уже упомянутого исследования В. Шапиро и его коллег в Петербурге, следует назвать книгу А. Осовцова и И. Яковенко, в которой делается попытка поставить ряд ключевых для еврейской идентичности проблем и осмыслить, что представляет собой еврейский народ112.
Говоря об изучении российского и постсоветского еврейства, невозможно не сказать о деятельности известного израильского социолога А. Эпштейна — человека двух культур (русской и израильской), написавшего множество оригинальных работ и выпустившего под своей редакцией ряд коллективных трудов, в том числе о разных проблемах еврейской идентичности, особенно у молодежи и подростков. Именно об этом идет речь в книге, написанной Д. Писаревской, В. Ханиным и А. Эпштейном, в которой — одной из немногих — удачно анализируется идентичность еврейской молодежи ряда постсоветских стран, вовлеченной в деятельность израильских организаций: молодежные лагеря, разнообразные программы и пр.113
За последние годы появилось немало работ о роли еврейского образования в конструировании «нужной» еврейской идентичности в постсоветских странах114. Д. Писаревская в своих работах рассматривает жизненные стили, особенности идентичности и поведения еврейской молодежи в России — преимущественно той ее части, которая так или иначе охвачена деятельностью разнообразных еврейских организаций115.
Под новым углом стали проводиться исследования еврейской религиозности: не просто роли иудаизма, как в более ранних работах, а его отдельных направлений и других форм религиозности. Среди них надо упомянуть работы А. Синельникова о евреях-реформистах116, а также мои исследования российского варианта «светского иудаизма»117. Я обращалась к своеобразной и парадоксальной «православной еврейской самоидентификации» (о нем применительно к позднесоветскому времени писала американская исследовательница Дж. Дейч Корблат)118. Сходное исследование было проведено и А. Штерншис на примере пожилых евреев Москвы119.
Практически во всех работах о еврейской самости в России исследователи касаются и роли Израиля. Оценки бывают различными, хотя большинство признает его значение, добавлю, усиленное не только наличием родственников и друзей в этой стране у многих людей еврейского происхождения, но и возможностью бесплатных или недорогих поездок туда по различным программам, участия в разнообразных израильских программах и т.п.120
Выше отмечалось, что исследователи по-разному оценивают фактор антисемитизма, но так или иначе признают его роль в конструировании еврейской идентичности. Несколько иначе обстояло дело с восприятием антисемитизма в Советском Союзе. Так, Н.В. Юхнёва указывала, что в СССР он имел давние и прочные корни; она обращала особое внимание на искаженность русского самосознания, формировавшегося по формуле «старшего брата» и отягощенного поисками врага, и на наметившуюся в конце 1980-х гг. тенденцию противопоставлять христианство как религию добра и всеобщего равенства перед Богом и иудаизм как религию возмездия и зла121.
Мне приходилось писать о том, что люди, воспринимающие себя как евреев только из-за антисемитизма, обладают негативной еврейской самоидентификацией, т.е. воспринимают свое еврейство исключительно сквозь призму отрицательного личного опыта122. А.Ю. Милитарёв тоже отмечал, что в России довольно обычна ситуация, когда люди вспоминают о своем еврействе «благодаря» соседям, сослуживцам и пр., а то и экстремистам-юдофобам123. Сходным образом высказывается и Б.Е. Винер, справедливо подчеркивая, что непосредственное столкновение с проявлениями антисемитизма активизирует еврейскую самоидентификацию124.
В.А. Шнирельман, посвятивший проблемам ксенофобии и антисемитизма немало работ, писал о проблеме отношения к евреям в контексте евразийства, «арийской теории», а также неоязычества125. Ученый убедительно доказывает, что многие антисемитские мифы конструировались и изобретаются сейчас именно представителями интеллектуальной элиты.
Мои исследования показали, что в последние годы большинство российских евреев в своей повседневной жизни редко сталкиваются с открытыми проявлениями антисемитизма, но в силу исторической памяти он сохраняет исключительно большое значение для поддержания еврейской идентичности, особенно у людей старше сорока лет126.
Особая и по понятным причинам болезненная тема — изучение памяти о Холокосте и ее роли в сохранении еврейской идентичности. Выше я уже отмечала, что большинство зарубежных ученых называют память о Холокосте одной из важных опор еврейской идентичности. Целый ряд исследований показывает, что в России, несмотря на усилия И. Альтмана и возглавляемого им Центра «Холокост», несмотря на многочисленные публикации, конференции, фильмы и т.п., память об этой трагедии все менее значима для постсоветских евреев127. Причины этого объясняют по-разному: пробелами в программах российского (а также еврейского) образования; «отходом» Катастрофы в глубь времен; сменой поколений и т.п., но факт признают практически все.
За последние годы появилось много работ, посвященных проблемам коллективной и исторической памяти; тема стала не просто актуальной, но даже модной. Так, известный историк Йосеф Иерушалми в своих исследованиях обращает особое внимание на историческую память как один из основных механизмов сохранения еврейской идентичности. Исследуя этот феномен на протяжении разных исторических эпох, ученый отмечает глубокий кризис еврейской идентичности, вызванный во многом эрозией исторической памяти128.
Мне тоже приходилось писать, что именно историческая — и шире — культурная еврейская память является едва ли не единственной опорой еврейской самости в России, а также о том, что в силу исторических причин эта память нередко окрашена в мрачные тона129. Но и культурная еврейская память в России и не только, несмотря на все усилия специалистов по ее конструированию и поддержанию, тоже испытывает глубокий кризис. Й. Иерушалми писал, что в настоящее время распад еврейской культурной памяти зашел настолько далеко, что современные исследователи не могут даже договориться, что же составляет истинное или хотя бы идеальное ее содержание130.
Я пыталась на этих страницах осветить основные подходы, а также наиболее интересные, на мой взгляд, работы, так или иначе связанные с еврейской идентичностью. И тут необходимо сказать, что ряд проблем современного российского еврейства не изучены или изучены слабо, поскольку иудаика на постсоветском пространстве начала развиваться совсем недавно, чуть более двух десятилетий назад. Другая причина состоит в том, что за два десятилетия так и не произошел симбиоз иудаики и социальных дисциплин. Это, в свою очередь, является результатом кризиса, в котором продолжает пребывать российская гуманитарная наука — и шире — наука вообще131.
ПРИМЕЧАНИЯ
1) London P., Chazan B. Psychology and Jewish Identity Education. N.Y.: American Jewish Committee, 1990. P. I.
2) Среди них обзоры в следующих работах: Винер Б.Е. Межпоколенная передача этнической идентичности у этнодисперсных меньшинств (на примере современного Петербурга). Дис. ... канд. социол. наук. СПб., 1998; Собкин В.С, Грачева А.М. К психологии еврейской идентичности // Этнос, идентичность, образование. М.: Российская академия образования, 1998. С. 105—141; Мутерперель С. Проблемы еврейской идентичности в современной американской науке // Материалы Девятой ежегодной междисциплинарной конференции по иудаике. М.: Сэфер, 2002. Ч. 2. С. 135—154; Носенко Е. «Быть или чувствовать?»: Основные аспекты формирования еврейской самоидентификации у потомков смешанных браков в современной России. М.: ИВ РАН; Крафт+, 2004; Носенко-ШтейнЕ. «Передайте об этом детям вашим, а их дети следующему роду»: Культурная память у российских евреев в наши дни. М.: МБА, 2013.
3) Дониш Х. Быть евреем. М.: Феникс, 1999; Телушкин Й. Еврейский мир. Важнейшие знания о еврейском народе, его истории и религии. М.; Иерусалим: Лехаим; Гешарим, 1997.
4) Rosen E.J., Weltman S.F. Jewish Families: An Overview // Ethnicity and Family Therapy. N.Y.: Cuilford Press, 1996. P. 611.
5) Liebman Ch.S. The Ambivalent American Jew. Politics, Religion and Family in American Jewish Life. Philadelphia: The Jewish Publication Society of America, 1973. P. 21—23.
6) Цит. по: Modern Jewish Identities // Jewish Identities in the New Europe / Ed. J.L. Webber. Washington: Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies; Littman Library of Jewish Civilization, 1994. P. 74—75.
7) Ibid. P. 75.
8) Ibid. P. 83, 85.
9) Geffen R.M. Intermarriages and the Premise of American Jewish Life // American Jewish Congress Monthly. 2001. March/April. P. 6.
10) Hart M.B. Science and the Politics of Modern Jewish Identity. Stanford (CA): Stanford University Press, 2000.
11) Эти данные были опубликованы на страницах англоязычной версии еврейской газеты «Форвертс»: Fein L. Outside the Synagogue Door // Forward. 1997. June 27. P. 7—8.
12) Нитобург ЭЛ. США: «исчезающий еврей»? Интеграция или ассимиляция // Этнографическое обозрение. 1995. № 4. С. 127.
13) Там же. С. 124.
14) Goldstein S. Profile of American Jewry: Inscripts from the 1990 National Jewish Population Survey // American Jewish Year Book. N.Y.; Philadelphia: American Jewish Committee and Jewish Publication Society, 1992. № 2. P. 77; Hart M.B. Op. cit.
15) Sarna J.D. Jewish Identity in the Challenging World of American Religion // Jewish Identitiy in America / Eds. D.M. Gordis, Y. Ben-Horin. Los Angeles: The Susan and David Wikstein Institute of Jewish Policy Studies. University of Judaism, 1991. P. 93—95.
16) Herberg W. Protestant, Catholic, Jew. N.Y.; Garden City: Anchor Books, 1960.
17) SarnaJ.D. Op. cit. P. 100—101.
18) Ellenson D. Response to Jonathan Sarna // Jewish Identitiy in America. P. 106, 109— 110; Religion or ethnicity? Jewish identities in evolution / Ed. Z. Gitelman. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 2009; WhitfieldJ.S. Enigmas of Modern Jewish Identity // Jewish Social Studies. 2002. Vol. 2. № 2/3. P. 162—167; Glenn S.A. In the Blood? Conssent, Descent and the Ironies of Jewish Identity // Ibid. 2002. Vol. 8. №2(3). P. 139—152.
19) Bellah R. Civil Religion in America // Deadalus. 1967. Vol. 96. № 1. P. 1—21.
20) Подробнее об этом явлении см.: Носенко Е. Иудаизм, христианство или «светская религия»? Выбор современных российских евреев // Диаспоры. 2009. № 2. С. 6— 40; Носенко-Штейн Е. «Светский иудаизм» в России: изобретенная реальность? // Научные труды по иудаике. Материалы XVII Международной конференции по иудаике. М., 2010. Т. 1. С. 244—253.
21) Liebman Ch.S, Don Yehiya F. Civil Religion in Israel: Traditional Judaism and Political Culture in Jewish State. Berkeley: University of California Press, 1983. P. 5; Киммер- линг Б. Светское еврейское израильское мировоззрение и его корни //http://www.oranim.ac.il/Site/ru/General.aspx?l=4&id=2100.
22) Shain M, Fishman Sj, Wright G, Hecht Sh, Saxe L. DIY Judaism: How Contemporary Jewish Young Adults Express Their Jewish Identity // The Jewish Journal of Sociology. 2013. Vol. 55 (1). P. 2—25.
23) Woocher J.S. Sacred Survival. Religion of American Jews. Indianopolis: Indiana University Press, 1986. P. 67—68.
24) Ibid. P. 95.
25) Подробнее см.: Мутерперель С. Указ. соч. С. 137.
26) Woocher J. Op. cit. Р. 20.
27) Ibid. Р. 43.
28) Ibid. Р. 73.
29) Liebman Ch.S. Op. cit. P. 197.
30) Ibid. Р. VII, 26.
31) Ibid. Р. 42, 87.
32) Feingold H. The American Components of Jewish Identity // Jewish Identitiy in America. P. 69—80.; Cohen S.M. Israel in the Jewish Identity of American Jews: A Study in Dualities and Contrasts // Jewish Identitiy in America. P. 69—80.
33) Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные труды. М.: Прогресс, 1990. С. 61—272.
34) Friedman H. Response to Henri Feingold // Jewish Identity in America. P. 13.
35) Милитарёв А.Ю. Идентичность и судьбы еврейской диаспоры в России // Диаспоры. 2002. № 4. C. 140.
36) Fein L. Op. cit. P. 7.
37) Ibry D. Exodus to Humanism. Jewish Identity without Religion. N.Y.: Prometheus Books, 2000. Р. 16.
38) Liebman Ch.S. Op. cit. P. 100; WoocherJ. Op. cit. P. 57.
39) Charme S.Z. Varieties of Authencity in Contemporary Jewish Identity // Jewish Social Studies: History, Culture and Society. 2000. Vol. 6. № 2. P. 135.
40) Jews on the Move / Eds. S. Goldstein, A. Goldstein. Albany: State University of New York Press, 1996. P. 203.
41) Подробнее см.: Мутерперель С. Указ. соч. С. 136.
42) Feingold H. Op. cit. P. 119—135; Friedman H. Op. cit.
43) Cohen S.M. Op. cit. Р. 119—120.
44) См., например: Religion or ethnicity?
45) Gordon M. Assimilation in American Life. N.Y.: Oxford University Press, 1964.
46) Philips B.A. Sociological Analysis of Jewish Identity // Jewish Identity in America. P. 3; Jews on the Move. P. 319.
47) Meyer M.A. Jewish Identity in the Modern World. Seattle: University of Washington Press, 1990. Р. 8; Goldstein S. Op. cit. Р. 77—78; Cohen S.M. Op. cit. P. 27; London P., Hirshfeld A. The Psychology of Identity Formation // Jewish Identitiy in America. P. 46; White I. Response to Perry London and Alissa Hirshfeld // Ibid. P. 57; Seidler- FellerCh. Response to Perry London and Alissa Hirshfeld // Ibid. P. 61—65; Charme S.Z. Op. cit.
48) Jews on the Move. P. 197.
49) Geffen R.M. Op. cit. P. 6.
50) Modern Jewish Identities. P. 83, 85.
51) Вьевьорка М. Соблазн антисемитизма. Ненависть к евреям в сегодняшней Франции. М.: ИВ РАН, 2006.
52) Я попыталась «приложить» многие положения М. Вевьорка к российской действительности, см.: Носенко-Штейн Е. «Передайте об этом детям вашим.». С. 201 — 250.
53) Woocher J. Op. cit. P. 22—28; Jews on the Move. P. 211.
54) Woocher J. Op. cit. P. 87, 95.
55) Gordis D. Does World Need the Jews? Rethinkining, Chosenness and American Jewish Identity. N.Y.: Scribner, 1997. P. 17—18.
56) Ibid. Р. 17.
57) Ibid. P. 19—20.
58) Liebman Ch.S. Op. cit. P. VIII.
59) Wasserstein B. Vanishing Diaspora. The Jews in Europe since 1945. L.: Penguin Books, 1997. P. 290.
60) Gitelman Z. The Reconstruction of Community and Jewish Identity in Russia // East European Jewish Affairs. 1994. Vol. 24 (2). P. 35—56; Idem. The Decline of the Diaspora Jewish Nation: Boundaries, Content and Jewish Identity // Jewish Social Studies. 1998. Vol. 4. P. 112—132.
61) Pinto D. The Third Pillar? Towards an European Jewish Identitiy //http://web.ceu.hu/jewishstudies /pdf/01 _pinto .pdf.
62) Носенко-Штейн Е. «Передайте об этом детям вашим…» С. 159—200.
63) См. также: Building a Diaspora. Russian Jews in Israel, Germany and the USA. Leiden; Boston: Brill, 2006; Remennick L. Russian Jews on Three Continents. Identity, Integration and Conflict. New Brunswick; L.: Transaction Publishers, 2007.
64) Cohen S.M. Op. cit. P. 28—29.
65) Характеристику этого направления см. в: Винер Б. Указ. соч.; Носенко Е. «Быть или чувствовать?»; Носенко-Штейн Е. «Передайте об этом детям вашим.».
66) Arnow D. Toward a Psychology of Jewish Identity. A Multidimensional Approach // Journal of Jewish Communal Service. 1994. Fall. Р. 30, 35. См. также более раннюю работу: Herz F., Rosen E. Jewish Families // Ethnicity and Family Therapy / Ed. M. McGoldrick et al. N.Y.: The Guilford Press, 1982. P. 364—392.
67) Himmelfarb H.S. Research on American Jewish Identity and Identification: Progress, Pitfalls and Prospects // Understanding American Jewry / Ed. M. Sklare. New Brunswick; L.: Transition Book, 1982. P. 57. В этой работе содержится также интересный обзор работ 1970-х — начала 1980-х гг.
68) Подробный обзор гипотез см.: Hart M.B. Op. cit. P. 75.
69) Berman L.A. Jews and Intermarriage. Summary, Conclusions, Discussions // The Blending American. Patterns of intermarriage / Ed. M.L. Barron. Chicago; N.Y.: Quadrangle Books, 1972. P. 245.
70) Ibid. P. 255, 285.
71) См., например: Hyams A.S. Toward a One-World Jewry. An Essay in Jewish Identity. Hicksville; N.Y.: Exposition Press, 1980.
72) Tradititon in Trassition. Orthodoxy, Halakhah and the Boundaries of the Modern Jewish Identity / Ed. D. Ellenson. N.Y.; L.; Lanham: University Press of America, 1989.
73) Mayer E, Sheingold C. Intermarriage and the Jewish Future: A National Study in Summary. N.Y.: American Jewish Committee, 1979. P. 29; Medding P. et al. Jewish Identity in the Conversionary and Mixed Marriages // American Jewish Yearbook / Ed. D. Singer. N.Y.: The American Jewish Committee and the Jewish Publication Society, 1992. P. 3—76.
74) Rosen. E.J, Weltman S.F. Op. cit. P. 613.
75) Gordis D. Op. cit. P. 21.
76) Jews on the Move. P. 189; Intermarriage, Divorce and Remarriage among American Jews. 1982—1987. N.Y.: North American Jewish Data Bank, 1989.
77) Sirkin M.I. Clinical Issues in Intermarriage: A Family System Approach // Journal of Jewish Communal Service. 1994. Vol. 71. № 1. P. 272—276; Rosen EJ, Weltman S.F. Op. cit. P. 614—615.
78) Geffen R.M. Op. cit. P. 7—8.
79) Fishman S.B. Relatively Speaking: Constructing Identity // Jewish and Mixed Married Families. Ann Arbor, 2002. P. 7.
80) Ibid. P. 20. Более подробную статистику и результаты опросов, проводившихся в смешанных браках, см. в: Fishman S.B. Double or Nothing?: Jewish Families and Mixed Marriage. Waltham: Brandeis University Press, 2004.
81) Spickard P.R. Mixed Blood: Intermarriage and Ethnic Identity in Twentieth Century America. Madison; L.: The University of Wisconsin Press, 1989. P. 173—179.
82) Klein E. Lost Jews. The Struggle for Identity Today. L.: Macmillan Press. 1996. P. 234.
83) Нитобург ЭЛ. Указ. соч. С. 132.
84) Markowitz F. Emigration, Immigration and Culture Changes: Towards a Transnational Russian Jewish Community // Jews and the Jewish Life in Russia and the Soviet Union / Ed. Y. Ro'i. L.: Frank Cass., 1995. P. 411; Remennick L. Op. cit. (эта проблема исследуется ими и во многих других работах).
85) Перечислю лишь некоторые: Altshuler M. Soviet Jewry Since the Second World War: Population and Social Structure. Westport: Greenwood Press, 1987; Idem. Soviet Jewry on the Eve of the Holocaust: A Social and Demographic Profile. Jerusalem: Center for Research on East European Jewry, The Hebrew University of Jerusalem, and Yad va-Shem Museum of the Holocaust, 1998; Jewish Culture and Identity in the Soviet Union / Eds. Ro'I, A. Beher. N.Y.: New York University Press, 1991; Jews and Jewish Life in Russia and the Soviet Union; Gitelman Z. The Reconstruction of Community and Jewish Identity in Russia // East European Jewish Affairs. 1994. Vol. 24 (2). P. 35—56; Idem. A Century of Ambivalence. The Jews of Russia and the Soviet Union. 1881 to the Present. Bloomington: Indiana University Press. 1988 (2-е, расширенное изд.: Bloo- mington: Indiana University Press, 2001); Revolution, Repression and Revival: The Soviet Jewish Experience / Eds. Z. Gitelman, Y. Ro'i. Lanham: Rowman and Littlefield Publishers, 2007.
86) Tolts M. The Jewish Population of Russia. 1989—1995 // Jews of Eastern Europe. 1996. № 3 (31). P. 5—19; Idem. Jews in Russia: А Century of Demographic Changes // Диаспоры. 1999. № 1. С. 180—198; Idem. Population Trends in the Russian Federation: Reflections on the Legacy of Soviet Censorship and Distortions of Demographic Statistics // Eurasian Geography and Economics. 2008. Vol. 49. № 1. P. 87—98.
87) Куповецкий М. Еврейское население бывшего СССР после семи лет массовой эмиграции // Вестник Еврейского университета в Москве. 1997. № 1 (14); Он же. Евреи бывшего СССР: численность и расселение // Евреи Советского Союза на перепутье. Иерусалим, 2000. Т. 4 (19). С. 132 (иврит).
88) Khanin V. Between Eurasia and Europe: Jewish Community and Identities in Contemporary Russia and Ukraine // A Road to Nowhere? Jewish Experiences in the Unifying Europe / Eds. J.H. Schoeps, O. Glockner. Leiden: Brill, 2011. Р. 63—89.
89) Синельников А. Некоторые демографические последствия ассимиляции евреев в СССР // Вестник Еврейского университета в Москве. 1994. № 1 (15). С. 91—95.
90) Altshuler M. Soviet Jewry Since the Second World War. P. 231.
91) Ibid. P. 236.
92) Gitelman Z. The Evolution of Jewish Culture and Identity in the Soviet Union // Jewish Culture and Identity in the Soviet Union. P. 4—5.
93) Гительман Ц, Червяков В., Шапиро В. Иудаизм в национальном самосознании российских евреев // Вестник Еврейского университета в Москве. 1994. № 3 (7). С. 121 — 144.
94) Гительман Ц, Червяков В., Шапиро В. Национальное самосознание российских евреев. Материалы социологического исследования 1997—1998 гг. // Диаспоры. 2000. № 3. С. 52—86; 2001. № 1. С. 210—244; № 2/3. С. 224—262.
95) Chervyakov V, Gitelman Z, Shapiro V. Thinking about Being Jewish in Russia and Ukraine // Jewish Life after the USSR / Eds. Z. Gitelman, M. Giants, M.I. Goldman. Blooming- ton: University of Indiana Press, 2003. Р. 49—60; Шапиро В., Герасимова М, Низовцева И., Сьянова Н. Евреи Санкт- Петербурга: этническая самоидентификация и участие в общинной жизни // Диаспоры. 2006. № 3. С. 95—149; № 4. С. 169—216.
96) Рывкина Р. Евреи в постсоветской России — кто они? М.: УРСС, 1996; Она же. Как живут евреи в России? Социологический анализ перемен. М., 2005.
97) Kogan M. The Identity of St. Petersburg Jews in the Early 1990s. A Time of Mass Emigration // Jews in Eastern Europe. 1995. Winter. P. 5—15; Винер Б. Этническая идентичность у крупнейших меньшинств современного Санкт-Петербурга // Мир России. 1999. № 1/2. С. 227—280; Козлов С.Я. Евреи Москвы в 90-е годы XX века: действительно ли происходит религиозный ренессанс? М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 1999; Он же. Российские евреи: конфессиональная ситуация в конце XX в. // Этнографическое обозрение. 2000. № 5. С. 143—155.
98) Членов М.А. Еврейство в системе цивилизаций (постановка вопроса) // Диаспоры. 1999. № 1. С. 34—56.
99) Гипотезу Н.В. Юхнёвой и мои соображения по этому поводу см. в: Юхнёва Н.В. Русские евреи как новый субэтнос // Ab Imperio. 2003. № 4. С. 475—496; Носенко Е.Э. «Русские евреи»: «реальное» или «изобретенное» сообщество? // Ab Imperio. 2003. № 4. С. 497—517.
100) Милитарёв А.Ю. Воплощенный миф. «Еврейская идея» в цивилизации. М.: Наталис, 2003. С. 25—32; Он же. Идентичность и судьбы еврейской диаспоры в России // Диаспоры. 2002. № 4. С. 142; Членов М. Особенности этнической и конфессиональной идентификации русских евреев // Евреи бывшего СССР в Израиле и диаспоре. Т. 20/21 / Под ред. Л. Дымерской-Цигельман. Иерусалим, 2002. С. 254—273 (иврит); Носенко Е. «Быть или чувствовать?».
101) Gitelman Z. The Reconstruction of Community and Jewish Identity in Russia; Idem. The Evolution of Jewish Culture and Identity in the Soviet Union. P. 7.
102) Членов М. Особенности этнической и конфессиональной идентификации русских евреев.
103) Милитарёв А.Ю. Идентичность и судьбы еврейской диаспоры в России. С. 139— 142.
104) Markowitz F. Op. cit. P. 409—410.
105) Например: Носенко Е. Еврейская идентичность у потомков смешанных браков (предварительные наблюдения) // Материалы Седьмой международной конференции «Сэфер». М., 2000. С. 408—418; Она же. Что значит быть евреем? Некоторые проблемы формирования этнической идентичности у потомков смешанных браков в России // Евреи бывшего СССР в Израиле и диаспоре. Т. 20/21. С. 287—306 (иврит); Она же. «Быть или чувствовать?».
106) Вот лишь некоторые работы: Собкин В.С. Национальная политика России глазами старшеклассников // Этнос, идентичность, образование. С. 174—205; Он же. Отношение россиян к евреям в России // Миграционные процессы и их влияние на израильское общество / Под ред. А.Д. Эпштейна, А.В. Федорченко. М.: Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, 2000. С. 293—301; Румянцева П. Особенности этнической идентичности у подростков смешанного русско-еврейского происхождения // Материалы Девятой ежегодной междисциплинарной конференции по иудаике. Ч. 2. М.: Сэфер, 2002. С. 155—171.
107) Герасимова М. Этнические стереотипы московских школьников // Диаспоры. 2002. № 2. С. 83—108; Красько Н. Влияние этнических стереотипов на формирование национального самосознания // Материалы Девятой ежегодной междисциплинарной конференции по иудаике. М.: Сэфер, 2002. Ч. 2. С. 126—134.
108) Носенко Е. «Быть или чувствовать?»; Она же. «Хотели ли они уехать? Почему остаются?»: Еврейская эмиграция из России на рубеже XX—XXI вв. и еврейская самоидентификация у потомков смешанных браков // Материалы Международной конференции «Еврейская эмиграция из России (1881—2005)». М., 2007; No- senko E. «Lost Jews», «Chimeras» or the «Hope of the Nation»? Jews, Russia, Mixed Marriages and Historical Memory Revised // Anrthropology and Archaeology of Eurasia. 2009. Vol. 48. № 1. P. 39—66.
109) Синельников А. Еврейство только по матери — путь в тупик. Где выход? // Диаспоры. 2004. № 3. С. 101 — 124.
110) Гительман Ц. Беспокойный век. Евреи России и Советского Союза с 1881 г. до наших дней. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 2—8.
111) Shternshis A. Soviet and Kosher. Jewish Popular Culture in the Soviet Union, 1923— 1939. Bloomington: Indiana University Press, 2006.
112) Осовцов А., Яковенко И. Еврейский народ в России: кто, как и зачем к нему принадлежит? М.: Дом еврейской книги, 2011.
113) Ханин В., Писаревская Д., Эпштейн А. Еврейская молодежь в постсоветских странах: национальное самосознание, общинная жизнь и связи с Израилем. М.: МБА, 2013.
114) Рохлин З. Еврейские средние школы на постсоветском пространстве // Евреи Евразии. 2003. № 2 (3). С. 51—53; Львов А. Наше время и его место в истории. Размышления о стратегии развития еврейского образования в российских школах // Евреи в постсоветских странах: самосознание и образование. Иерусалим: Еврейское агентство; Открытый университет Израиля, 2008. С. 87—88; Ханин В. Парадоксы идентичности: социокультурные перспективы развития системы еврейского образования в странах бывшего СССР // Там же. С. 57—82; Эпштейн А., Хеймец Н, Кенигштейн М. «В тоске по мировой культуре»: образовательные программы и национальная идентичность русскоязычного еврейства // Между мифом и реальностью: Проблемы еврейской идентичности и цивилизации в истории и современности. М.: ВГШ им. С. Дубнова, 2005. С. 277, 281.
115) Писаревская Д. Еврейские ценности и самоидентификация у еврейской молодежи в Москве // Материалы XIX Международной ежегодной научной конференции по иудаике. М., 2014. Т. 2. С. 453—468.
116) Синельников А.Б. Евреи «по отцу» и «по деду»: некоторые результаты социологического опроса в летних еврейских лагерях НеЦеР // Материалы XVII Международной ежегодной научной конференции по иудаике. М., 2010. Т. 1. С. 280—293.
117) Носенко Е. Иудаизм, христианство или «светская религия»? Выбор современных российских евреев // Диаспоры. 2009. № 2. С. 6—40; Она же. «Светский иудаизм» в России: изобретенная реальность? // Материалы XVII Международной ежегодной научной конференции по иудаике. М., 2010. Т. 1. С. 244—253; Носенко- Штейн Е. «Передайте об этом детям вашим...».
118) Deutsch Kornblatt J. Jewish Converts to Orthodoxy in Russia in Recent Decades // Jewish Life after the USSR. Р. 209—223; Nosenko E. Aliens in an alien world: paradoxes of Jewish Christian Identity in contemporary Russia // East European Jewish Affairs. 2010. Vol. 40. № 1. P. 19—41; Носенко Е. Чужие среди чужих: Православие и еврейская самоидентификация в современной России // Этнографическое обозрение. 2009. № 3. С. 20—35. Я также анализировала различные формы еврейской религиозности в своей последней книге.
119) Shternshis A. Kaddish in a Church: Perception of Orthodox Christianity among Moscow Jews in the Early Twenty-First Century // The Russian Review. 2006. Vol. 66. April. P. 273—294.
120) Подробнее см.: Ханин В., Писаревская Д, Эпштейн А. Указ. соч., а также: Коэн Л. Сионизм, Израиль и мировое еврейство // Общество и политика современного Израиля. М.; Иерусалим: Мосты культуры, 2002. С. 70—71; Носенко Е.Э. Израиль и сионизм в восприятии российских евреев // Государство Израиль: политика, экономика, общество. М.: ИВ РАН, 2006. С. 155—170.
121) Iukhneva N. Urgent Issues of Inter- Ethnic Relations in Leningrad. On the Growth of Aggressive-Chauvinistic and anti-Semitic Attitudes in Contemporary Russian Society // Jews and the Jewish Topics in the Soviet Union and Eastern Europe / Eds. L. Dymerskaya-Tsigelman, Y. Cohen. Jerusalem: The Hebrew University in Jerusalem, 1989. № 1 (18). P. 53.
122) Носенко Е. «Быть или чувствовать?». С. 50—52; Носенко-Штейн Е. «Передайте об этом детям вашим.». С. 66; Она же. Еще раз о еврейской исторической памяти и антисемитизме // Диаспоры. 2011. № 2. С. 40—63.
123) Милитарёв А.Ю. Идентичность и судьбы еврейской диаспоры в России. С. 146.
124) Винер Б. Возвращение к вере предков. Конструирование современной этноконфессиональной идентичности (на примере Санкт-Петербурга) // Диаспоры. 2002. № 4. С. 208.
125) Шнирельман В. Интеллектуальные лабиринты: очерки идеологий в современной России. М.: Academia, 2004. См. также его работу, специально посвященную антисемитизму: Шнирельман В. Лица ненависти. Антисемиты на марше. М.: Academia, 2005.
126) Носенко-Штейн Е. Еще раз о еврейской исторической памяти и антисемитизме; Она же. «Передайте об этом детям вашим...».
127) Ханин З., Эпштейн А., Лихачев В. Проект «МАСА Шорашим»: содержательные и педагогические аспекты (социологический анализ). Рукопись статьи любезно предоставлена мне авторами проекта; Лихачев В. Антисемитизм на постсоветском пространстве: обзор (2007—2008 годы) // Евроазиатский еврейский ежегодник. 5768 (2007 / 2008) год. М.: Паллада, С. 294—318; Эпштейн А., Ханин В, ЛихачевВ. Между бабушкой и учительницей: значим ли диалог поколений в формировании памяти о Холокосте еврейской молодежи современной России и Украины? // Диалог поколений в славянской и еврейской культурной традиции. М.: Сэфер; Институт славяноведения РАН, 2010. C. 188—206. В настоящее время готовится к печати коллективная монография «Помнить о прошлом ради будущего: Еврейская идентичность и коллективная память», в которой блок статей посвящен памяти о Холокосте (там же и литература по этому вопросу).
128) Иерушалми Й. Еврейская история и еврейская память. М.; Иерусалим: Гешарим; Мосты культуры, 2004. С. 88—114.
129) Носенко Е. «Быть или чувствовать?».
130) Иерушалми Й. Указ. соч. С. 88—114.
131) Носенко Е. Найдет ли антропология свое место в российской иудаике (размышления о роли некоторых социальных и гуманитарных наук) // Диаспоры. 2006. № 4. С. 218—233; Она же. Антропология и иудаика: возможен ли симбиоз? // Этнографическое обозрение. 2009. № 6. С. 3—7.
[1] Бар- и бат-мицва — в иудаизме религиозное совершеннолетие соответственно юноши и девушки.
[2] Рош а-Шана (еврейский Новый год), Йом Кипур (Судный день) и десять дней покаяния между этими праздниками.
[3] Галаха — нормативное право в иудаизме. Согласно ей, евреем считается человек, рожденный матерью-еврейкой или исповедующий иудаизм.
Опубликовано в журнале:
«НЛО» 2014, №3(127)
Диаспоры и «Диаспоры»
(Обзор журнала «Диаспоры»)
А. И. Рейтблат
В 1990-х в науке обострился интерес к проблеме диаспоры. Во многом это было связано с ростом числа и значимости различных диаспор — и порожденных трудовой миграцией, как турки в Германии, арабы и негры во Франции, индусы в Великобритании, и возникших по политическим причинам — в ходе распада СССР и Югославии. Рост числа публикаций на эту тему повлек за собой складывание если не научной дисциплины, то, по крайней мере, общего проблемного поля и, соответственно, возникновение специальных научных изданий. В 1991 г. начал выходить англоязычный журнал «Diaspora», а со сравнительно небольшим опозданием (в 1999 г.) и российский — «Диаспоры».
Тогдашний главный редактор издания (ныне — его заместитель) В.И. Дятлов писал в обращении «К читателям», открывавшем первый номер журнала, что «он призван заполнить пробел в комплексном междисциплинарном изучении процесса формирования диаспор, логики их внутреннего развития, сложнейших проблем их взаимоотношений с принимающим обществом. Необходимо также обсуждение самого термина и понятия "диаспоры". Назрела потребность строже определиться в самом предмете изучения, а, следовательно, привести в некую систему уже имеющиеся критерии, подвергнуть их критике, возможно, сформулировать новые» (с. 5). При этом он предупреждал, что «при составлении выпусков журнала предполагается идти путем не узкого априорного очерчивания понятия "диаспоры" с соответствующей селекцией материалов, а путем широкого определения поля исследований, анализа и сопоставления конкретных ситуаций с последующей концептуализацией» (там же).
Издание не связано ни с какой организационной структурой и в подзаголовке позиционируется как «независимый научный журнал». Вначале он выходил два раза в год, с 2002-го — четырежды, но с 2007 г. вернулся к первоначальному графику. Обычно в номере бывает ключевая тема, с которой связана значительная часть входящих в него статей. Как правило, такой темой становится либо народ, диаспора которого рассматривается: евреи (2002. № 4; 2009. № 2; 2011. № 2); армяне (2000. № 1/2; 2004. № 1); татары (2005. № 2); поляки (2005. № 4); корейцы и китайцы (2001. № 2/3); «кавказцы» (2001. № 3; 2008. № 2); русские (2002. № 3; 2003. № 4; 2010. № 1), либо регион, в котором находятся те или иные диаспоры (преимущественно на территории бывшего СССР): Москва (2007. № 3), Юг России (2004. № 4), Сибирь и Дальний Восток (2003. № 2; 2006. № 1), Прибалтика (2011. № 1), Центральная Азия (2012. № 1) и др. Но есть и номера, составленные по проблемному принципу: язык в диаспоре (2003. № 1; 2007. № 1/2), диаспоральная идентичность (2002. № 2; 2009. № 1), гендер и диаспора (2005. № 1), молодежь в диаспоре (2004. № 2), диаспоры в литературе (2008. № 1/2) и др.
Значительная часть статей основывается на эмпирическом материале; многие авторы применяют в работе социологические методы: опросы населения и экспертов, фокус-группы, контент-анализ и т.д.
С первого номера в журнале была введена теоретическая рубрика «Диаспора как исследовательская проблема». В.И. Дятлов в статье «Диаспора: попытка определиться в понятиях» (1999. № 1) указывал, что термин этот употребляется в самых различных значениях и нередко трактуется предельно широко, как синоним «эмиграции» или «национального меньшинства». Попытавшись дать более четкую трактовку данного термина, основное внимание он уделил специфическим чертам диаспоральной ситуации, предполагающей как заботу о сохранении собственной идентичности, так и умение интегрироваться в окружающий жизненный уклад. Он подчеркивал, что для диаспоры «сохранение собственной идентичности становится <...> насущной, повседневной задачей и работой, постоянным фактором рефлексии и жесткого внутриобщинного регулирования. Этому подчинялись все остальные стороны жизни социума» (с. 10—11). Интересным и продуктивным представляется положение, что жители империй, оказавшись в колониях или иных государствах, «не испытывали тревоги по поводу сохранения своей идентичности» и «не смогли образовать устойчивого, развивающегося на собственной основе социума» (с. 12). Например, русские эмигранты в ХХ в. в первом поколении рассматривали себя как беженцев, а во втором и третьем поколениях ассимилировались и «растворились» в окружающем обществе.
Как и Дятлов, другие авторы, статьи которых помещены в этой рубрике, не столько анализируют само ключевое понятие, сколько пытаются определить его, исходя из рассмотрения конкретных случаев и ситуаций. Так, видный американский социолог Р. Брубейкер в статье «"Диаспоры катаклизма" в Центральной и Восточной Европе и их отношения с родинами (на примере Веймарской Германии и постсоветской России)» (2000. № 3) рассматривает аспект, который исследователи диаспор либо игнорируют, либо не считают значимым, — влияние «метрополий» на положение «своих» диаспор (защита их прав и интересов, оказание помощи и т.п.). Взяв два указанных в подзаголовке статьи примера, автор исследует судьбы диаспор в связи с развитием различных типов «постмногонационального» национализма:
1. «национализирующий» национализм, когда титульная нация рассматривается как «владелец» страны, а государство — как призванное служить этой нации (например, в Эстонии, Латвии, Словакии, Хорватии и т.п.);
2. «национализм родины» — когда граждане других стран воспринимаются в качестве этнокультурно родственных, по отношению к которым «родина» считает своей обязанностью защищать их права и интересы. Он «рождается в прямой оппозиции и в динамичном взаимодействии с национализмом национализирующегося государства» (с. 11) (Сербия, Хорватия, Румыния, Россия); 3) национализм диаспор, возникших после распада полиэтнических государств. Они требуют от властей признать их как особую национальную общность и дать им основанные на этом коллективные права. Исследователь показывает, насколько опасным может быть столкновение выделенных им типов национализма.
Ряд авторов рассматривают феномен диаспоры на основе «модельной» диаспоры — еврейской (Милитарев А. О содержании термина «диаспора» (К разработке дефиниции) (1999. № 1); Членов М. Еврейство в системе цивилизаций (постановка вопроса) (там же); Милитарев А. К проблеме уникальности еврейского исторического феномена (2000. № 3); Попков В. «Классические» диаспоры. К вопросу о дефиниции термина (2002. № 1)). Во многом по этому же пути идет американский политолог У. Сафран в статье «Сравнительный анализ диаспор. Размышления о книге Робина Коэна "Мировые диаспоры"» (2004. № 4; 2005. № 1), переведенной из канадского журнала «Diaspora».
О политических аспектах диаспор идет речь в статье израильского ученого Г. Шеффера «Диаспоры в мировой политике» (2003. № 1), а о политических контекстах использования этого слова — в статье В. Тишкова «Увлечение диаспорой (о политических смыслах диаспорального дискурса)» (2003. № 2).
При всей неравноценности работ, помещавшихся в теоретической рубрике (были там, например, и довольно декларативные и схоластичные статьи, например «Диаспоры: этнокультурная идентичность национальных меньшинств (возможные теоретические модели)» М. Аствацатуровой (2003. № 2) и «Диаспора и состояния этнического индивида» М. Фадеичевой (2004. № 2)), она играла в журнале важную роль, создавая теоретическую «рамку» для многочисленных чисто эмпирических статей. Но с 2006 г. эта рубрика в журнале, к сожалению, исчезла.
Один из ключевых сюжетов журнала — диаспоральная идентичность, этой теме посвящена львиная доля статей, особенно касающихся положения российской диаспоры за рубежом и различных диаспор в России.
Представленные в журнале работы показывают всю сложность диаспоральной идентичности, характерным примером является статья К. Мокина «Диаспорная идентичность в динамике: конвергенция и энтропия (изучая армян Саратовской области)» (2006. № 4). Автор рассматривает идентичность как продукт сложного социального взаимодействия, основу которого представляет «процесс идентификации, при котором индивид позиционирует себя по отношению к известным ему людям, определяет свое место в обществе» (с. 152). Исследователи установили, что «территория исхода и миграционные устремления являются существенным фактором размежевания в рамках армянской общины» (с. 159), члены которой в Саратовской области выделяют внутри общины пять групп: «армянские армяне» (из самой Армении, которые всячески подчеркивают свою связь с Арменией и знают язык), «азербайджанские армяне» (из Баку, Нагорного Карабаха и т.д.), идентичность которых не столь определенна, они хорошо владеют русским языком; «среднеазиатские армяне», у которых очень размытое понятие о том, что такое «армянин»; «русские армяне», то есть армяне, уже несколько поколений живущие в России; «трудовые мигранты». Оказалось, что «для диаспоры важным является не проблема выбора альтернативного направления в формировании идентичности и самоопределения, а проблема синтеза выбранных культурных ориентиров и создания особого типа диаспорной идентичности» (с. 163).
Любопытный пример «плавающей идентичности» дает поведение живущих на юге России хемшилов — армян, принявших мусульманство. В зависимости от ситуации они позиционируют себя то как армян, то как турок (см. статью Н. Шахназаряна «Дрейфующая идентичность: Случай хемшилов (хемшинов)» в № 4 за 2004 г.).
Исследования показали, что в разных частях диаспоры или в диаспоре и метрополии основу диаспоральной идентичности лиц, которых принято относить к одной и той же национальности, могут составлять во многом различные факторы. Так, например, в США, по данным социологических исследований, ключевыми для формирования еврейской идентичности являются принадлежность к еврейской общине, иудаизм, поддержка государства Израиль и Холокост (см. статью Е. Носенко «Факторы формирования еврейской идентичности у потомков смешанных браков» (2003. № 3)). В России же ключевым фактором является современный антисемитизм, в число других важных факторов вошли еврейская литература и музыка, праздники и кухня.
При этом опрошенные чаще определяли себя как «русских евреев» или «россиян», что дало основание исследователям говорить об их «двойственной этничности» (Гительман Ц., Червяков В., Шапиро В. Национальное самосознание российских евреев. (2000. № 3; 2001. № 1, 2/3)).
Об условном, чисто конструктивном характере этничности свидетельствуют многочисленные примеры «реэмиграции» представителей ряда проживавших в СССР народов на свои исторические родины. Так, в статье И. Ясинской-Лахти, Т.А. Мяхёнен и др. авторов «Идентичность и интеграция в контексте этнической миграции (на примере ингерманландских финнов)» (2012. № 1) идет речь о финнах, уехавших из России в Финляндию в 2008— 2011 гг. Многие из них являются потомками финнов, переселившихся в Россию несколько веков назад, ассимилировавшимися и забывшими финский язык. Тем не менее они считали себя финнами, видя в себе «финские» черты характера, например честность. Они надеялись успешно интегрироваться в финское общество, не утратив свою культуру и установив контакты с финским окружением. Однако в Финляндии их считали русскими и относились к ним соответственно. В результате произошла «(финская) национальная деидентификация, а также актуализация русской идентификации в связи с этим негативным опытом» (с. 189).
Подобное отторжение — не исключение. Точно такая же судьба, когда «свои» не принимают и называют приехавших «русскими», а приезду сопутствуют не только снижение профессионального статуса, но и культурное отчуждение от новой среды, социальная маргинализация, ждала переехавших из России немцев в Германии, греков в Греции, евреев в Израиле (см.: Менг К., Протасова Е., Энкель А. Русская составляющая идентичности российских немцев в Германии (2010. № 2); Кауринкоски К. Восприятие родины в литературном творчестве бывших советских греков-«репатриантов» (2009. № 1); Рубинчик В. Русскоязычные иммигранты в Израиле 90-х гг.: иллюзии, действительность, протест (2002. № 2); Ременник Л. Между старой и новой родиной. Русская алия 90-х гг. в Израиле (2000. № 3)).
Любопытно, что с аналогичными проблемами столкнулись и русские, приехавшие в Россию после распада СССР, о чем пишут английские исследователи Х. Пилкингтон и М. Флинн («Чужие на родине? Исследование "диаспоральной идентичности" русских вынужденных переселенцев» (2001. № 2/3)): «Переезд оказался для них не идиллическим "возвращением домой", а тяжелым испытанием, связанным с конфронтацией и необходимостью отстаивать свои права» (с. 17). Исследователи в 1994—1999 гг. провели в ряде областей России опросы русскоязычных переселенцев из других стран. Оказалось, что у них нет четко выраженной диаспоральной идентичности. Их отношение к бывшей стране проживания в значительной степени определялось имперским сознанием, трактовкой себя как цивилизаторов. При этом, наряду с невысокой оценкой квалификации и трудолюбия местного населения, они положительно отзывались об атмосфере межнационального общения, о местной культуре и местных традициях. В языке опрошенных отсутствовали «русскость», ощущение общности языка и родины с россиянами, исследователи фиксируют «странную искаженность представлений о том, что "дом там" ("у нас там"), а "они здесь", в России ("они — тут")» (с. 17). Авторы приходят к важному выводу, что «классические модели диаспоры вряд ли приложимы к опыту выживания русскоязычных имперских меньшинств в новых независимых государствах — из-за особенностей заселения ими бывшей союзной периферии и их объективной, но отнюдь не субъективной, "диаспоризации" в постсоветский период» (с. 28). Родина для них разделилась на два воплощения — «дом» (место, где они жили) и «родину» (как воображаемое сообщество).
Другой вывод, который следует из представленных в журнале статей, — это различия в диаспоральном поведении лиц, приехавших в Россию из стран бывшего СССР, и русских, оказавшихся в странах бывшего СССР. Первые налаживают между собой социальные связи, создают механизмы поддержания национальной идентичности. Хороший пример этого дает армянская община в небольшом городе Кольчугино во Владимирской области, имеющая общий денежный фонд, в который вносят деньги все члены общины и на основе которого существуют воскресная школа, газета на армянском языке, оказывается помощь членам общины, испытывающим финансовые трудности, и т.д. (см.: Фирсов Е., Кривушина В. К изучению коммуникационной среды российской армянской диаспоры (по материалам полевых исследований локальных групп Владимирской области) (2004. № 1)).
Иначе ведут себя русские, оказавшиеся в других государствах после распада СССР. Они, как показывает норвежский исследователь Поль Колсто в статье «Укореняющиеся диаспоры: русские в бывших советских республиках» (2001. № 1), так или иначе приспосабливаются к жизни там и не очень склонны (если судить по данным социологических опросов, см. с. 29) считать Россию своей родиной.
Н. Космарская в статье «"Русские диаспоры": политические мифологии и реалии массового сознания» (2002. № 2) отмечает, что во многом «диаспоризация» русских за границами России — это миф, создаваемый СМИ, которые утверждают, что эти люди воспринимают Россию как родину и стремятся вернуться в ее пределы. Русскоязычным сообществам приписываются характеристики «настоящих» диаспор: «1) этническая однородность; 2) обостренное переживание своей этничности, причем именно как общности с материнским народом; 3) высокая степень сплоченности (имеющей к тому же хорошо развитую институциональную основу — в виде "институтов русских общин"), а также управляемости, доверия к лидерам и, наконец, социальной гомогенности, собственно, и делающей возможным подобное единодушие (как в "общине"); 4) ориентация на этническую (историческую) родину в качестве базового элемента идентичности; стремление с ней воссоединиться» (с. 114—115).
В реальности, как пишет Н. Космарская, опираясь на данные социологических исследований в Киргизии, ситуация носит гораздо более неоднозначный и многовариантный характер. Во-первых, там живет немало людей, не являющихся этническими русскими, для которых русский язык и русская культура являются родными; во-вторых, подобные русскоязычные сообщества быстро дифференцируются, в том числе и в отношении к России; в-третьих, самосознание этой группы — «сложная и динамически развивающаяся структура», в которой соперничают разные идентичности, а «русскость» — лишь одна из них; в-четвертых, консолидация их может происходить на разной основе.
Среди русских в Киргизии Россию назвали своей родиной 18,0%, а Киргизию — 57,8%; в Казахстане назвали Казахстан своей родиной 57,7%, а Россию — 18,2%, в Украине назвали ее родиной 42,5% опрошенных русских, а Россию — 18,4% (с. 134).
Существует и другой уровень идентичности — среднеазиатское сообщество, то есть идентичность локальная (например, солидарность с народами этого региона). Русские Киргизии осознают себя несколько отличающимися от русских в России.
И. Савин в статье «Русская идентичность как социальный ресурс в современном Казахстане (по материалам исследования представителей русской элиты)» (2003. № 4) пишет, что у русских в Казахстане «нет родственных или соседских структур взаимопомощи, скрепляемых символическими атрибутами общеразделяемой этничности» (с. 101), «в каждом русском другой русский не видит автоматически потенциального социального партнера» (с. 92). При этом большинство не знает казахского языка, т.е. не собирается ассимилироваться. Таким образом, по мнению исследователя, язык (и отношение государства к языку) — это основа идентичности русских в Казахстане. Аналогичную картину неспособности к сплочению и достижению общих целей у русских Узбекистана рисует Е. Абдуллаев («Русские в Узбекистане 2000-х гг.: идентичность в условиях демодернизации» (2006. № 2)).
В Прибалтике же у русских довольно интенсивно идут процессы ассимиляции, идентификации себя с «коренным населением». Так, Е. Бразаускене и А. Лихачева в статье «Русские в современной Литве: языковые практики и самоидентификация» (2011. № 1) на основе исследования, проведенного в 2007—2009 гг., приходят к выводу, что русские Литвы «ощущают себя непохожими на русских России и полагают, что и в России их не считают своими. 20% русских Литвы не возражают, если их будут считать литовцами, 46% заявили в ходе опроса, что им все равно, как их будут называть — русскими или литовцами, 10% воздержались от определенного ответа и лишь около 14% не согласны на то, чтобы их считали литовцами» (с. 71). В то же время русские Литвы отмечают и свое отличие от литовцев. Основа такой самоидентификации — русский язык.
Любопытную ситуацию рассмотрел М. Рябчук в статье «Кто самая крупная рыба в украинском пруду? Новый взгляд на отношения меньшинства и большинства в постсоветском государстве» (2002. № 2). В отличие от других государств постсоветского пространства в Украине оказалось два многочисленных коренных для этой территории народа. Автор характеризует социокультурное и политическое противостояние двух частей населения — с украинской идентичностью и с русской идентичностью, между которыми находится довольно многочисленная группа «обрусевших украинцев, отличающихся смешанной, размытой идентичностью» (с. 26) и определяющих себя через регион проживания («одесситы», «жители Донбасса» и т.п.). Первые стремятся создать национальное украинское государство с одним государственным языком — украинским, вторые не хотят утрачивать принадлежавшую им в прошлом, а во многом и сейчас позицию культурного доминирования, а промежуточная группа не имеет, по мнению автора, четкой позиции, и за нее борются обе крайние группы. Правительство же не проводит в этом аспекте никакой последовательной политики, что создает очень неустойчивую ситуацию.
Автор не верит, что существующее статус-кво можно сохранить надолго. Он видит два возможных варианта развития событий: либо маргинализация украинцев (т.е. Украина станет «второй Белоруссией»), либо маргинализация русских. Второй вариант он считает предпочтительным, поскольку «"убежденные" украинцы, сумевшие защитить свою языковую идентичность даже под мощным давлением российской и советской империй, никогда не примут маргинальный статус меньшинства в своей стране, в независимой Украине» (с. 27). По данным социологических опросов, на которые ссылается М. Рябчук, лишь 10% русских Украины считают Россию родиной, почти треть этой группы не возражают против того, что их дети (внуки) будут учиться в школе на украинском языке (с. 21), за десять постсоветских лет почти половина русских Украины стала идентифицировать себя с украинцами (с. 22).
Приведенные данные о ситуации русских, оказавшихся после распада СССР за пределами России, когда возникают самые разные варианты диаспоральной идентичности, ярко демонстрируют сложность как научного изучения проблемы диаспоры, так и практической деятельности России по оказанию им помощи и поддержки.
Оценивая проделанную редакцией журнала (и отечественным «диаспороведением»?) работу, следует констатировать, что в ходе ряда исследований были собраны разнообразные эмпирические данные о ситуации проживания одних народов (главным образом бывшего СССР) среди других, о их самосознании и идентификации. Однако обещанная в первом номере журнала «последующая концептуализация» пока не осуществлена. На наш взгляд. это связано с тем, что, охотно используя социологические методы сбора информации, исследователи не практикуют социологическое видение материала. Это выражается в том, что, изучая идентичность диаспор, они обычно игнорируют социальные институты, «отвечающие» за создание и поддержание диаспоральной идентичности. Так, в журнале очень редко встречаются работы, в которых бы исследовалась роль школы, церкви, литературы, кино, средств массовой коммуникации, особенно Интернета, в этом процессе.
Любопытно, что социальные причины возникновения организаций, претендующих на выражение интересов реально не существующих или существующих вне связи с ними диаспор (своего рода «псевдодиаспор»), и их дальнейшее функционирование были подвергнуты в журнале обстоятельному исследованию в статье С. Румянцева и Р. Барамидзе «Азербайджанцы и грузины в Ленинграде и Петербурге: как конструируются "диаспоры"» (2008. № 2; 2009. № 1). Авторы продемонстрировали, что «азербайджанская и грузинская "диаспоры" (вос)производятся через институционализацию бюрократических структур и дискурсивные практики, в пространстве которых этнические активисты (интеллектуалы и бизнесмены) и "статистические" азербайджанцы и грузины объединяются в многочисленные сплоченные сообщества, наделяются общими целями и выстраивают, в качестве коллективных политических авторов, отношения с политическими режимами стран пребывания и исхода» (2009. № 1. С. 35).
Но социальными механизмами, с помощью которых формируется реальная диаспора (то есть церковью, партиями, культурными организациями, прессой, телевидением и радио, Интернетом и т.д.), мало кто занимается. Нередко СМИ и литература рассматриваются в их «отражательной» роли — «зеркала» (пусть зачастую и весьма кривого) диаспор, например в блоке статей «Жизнь диаспор в зеркале СМИ» (2006. № 4), а также в работах М. Крутикова «Опыт российской еврейской эмиграции и его отражение в прозе 90-х гг.» (2000. № 3), С. Прожогиной «Литература франкоязычных магрибинцев о драме североафриканской диаспоры» (2005. № 4); Д. Тимошкина «Образ "кавказца" в пантеоне злодеев современного российского криминального романа (на примере произведений Владимира Колычёва)» (2013. № 1). А вот их созидательная роль, участие в создании и сохранении диаспор почти не изучается. Так, роли Интернета для диаспор посвящены лишь четыре работы. В статье М. Шорер-Зельцер и Н. Элиас «"Мой адрес не дом и не улица.": Русскоязычная диаспора в Интернете» (2008. № 2) на материале анализа русскоязычных эмигрантских сайтов не очень убедительно обосновывается тезис о транснациональности русскоязычной диаспоры, а в статье Н. Элиас «Роль СМИ в культурной и социальной адаптации репатриантов из СНГ в Израиле» на основе интервью с эмигрантами из СНГ делается вывод, что «СМИ на русском языке, с одной стороны, укрепляют культурные рамки русскоязычной общины, с другой — способствуют интеграции иммигрантов на основе формирования нового самосознания, включающего актуальную общественную проблематику» (с. 103).
Гораздо больший интерес представляют две работы О. Моргуновой. Первая — статья «"Европейцы живут в Европе!": Поиски идентичности в интернет-сообществе русскоязычных иммигрантов в Великобритании» (2010. № 1), в которой анализируется интернет-дискурс русскоязычных мигрантов в Великобритании. Основываясь на материалах веб-форумов «Браток» и «Рупойнт», автор показывает, как там складывается идея «европейскости», которая затем используется для формулирования собственной идентичности. «Европейскость» выступает как синоним «культурности» и «цивилизованности» (такая трактовка распространена в самой Европе в течение трех последних веков), причем «культура» в основном ограничивается XVIII— XIX вв., современные искусство и литература не включаются в нее, это «культура, созданная в прошлом и практически не изменившаяся» (с. 135). Автор приходит к выводу, что система групповых солидарностей мигрантов включает в себя два типа положительного Другого (внешний — британец и внутренний — мигрант из Украины) и два таких же типа отрицательного Другого (внешний — мигранты-«неевропейцы» и внутренний — «совок»), причем в основе этой типологии лежит идея «европейскости».
Во второй статье — «Интернет-сообщество постсоветских мусульманок в Британии: религиозные практики и поиски идентичности» (2013. № 1) — речь идет не столько о национальной, сколько о религиозной идентичности в диаспоре. На основе интервью и анализа соответствующих сайтов автор приходит к выводу, что в силу различных причин мусульманки, приехавшие с территории бывшего СССР, «переносят религиозные практики в Интернет, где следуют исламу в кругу подруг и родственников, оставаясь не замеченными британским обществом» (с. 213). Именно Интернет становится сферой конструирования и проявления их религиозности.
На наш взгляд, наблюдающаяся в журнале при выборе тем недооценка СМИ неоправданна, поскольку они кардинально изменили сам характер современных диаспор. Все, пишущие о диаспоре, согласны, что ее составляют представители какого-либо народа, живущие за пределами родной страны, осознающие свою связь с ней и стремящиеся сохранить свою культурную (религиозную) специфичность. При этом историки знают, что, оказавшись в подобной ситуации, одни народы создают диаспоральное сообщество, а другие через одно-два поколения ассимилируются. Понятно, что предпосылкой создания диаспоры является «сильный» культурный «багаж» (принадлежность к древней и богатой культуре, вера в миссию своего народа и т.д.), но для того, чтобы реализовать эту предпосылку, нужны особые социальные институты, обеспечивающие как поддержание чисто социальных связей (институты взаимопомощи, благотворительности и т.п.), так и сохранение, трансляцию национальной культуры (церковь, школа, издание книг и периодики и т.д.).
В традиционной диаспоре возникающая в силу территориальной удаленности от родины культурная оторванность компенсируется бережным сохранением (в определенной степени — консервацией) унесенного с родины культурного багажа. Если для метрополии маркеры национальной идентичности не так важны, то диаспора, в силу ее существования в инокультурном контексте, нуждается в четких границах, поэтому она культурно консервативнее по сравнению с метрополией. Тут всегда подчеркивается верность прошлому, ключевым символам, и поддержанию традиции уделяется гораздо больше внимания, чем новаторству.
Процесс глобализации во многом меняет характер диаспор. Во-первых, развивается транспорт, и самолеты, скоростные поезда, автомобили и т.п. обеспечивают быстрое перемещение, в том числе возможность частых поездок на родину для иммигрантов. Во-вторых, телевидение и Интернет создали возможность для синхронной, «онлайновой» коммуникации, для повседневного коммуникационного (в том числе делового, политического, художественного) участия в жизни родины.
Меняется и характер «национальной» идентичности. Если раньше она была «двухслойной» («малая родина» и страна), то теперь возникают гибридные образования (например, «немецкие турки», у которых тройная идентичность — «турок», «немцев» и «немецких турок»), не говоря уже о транснациональной идентичности («житель Европы»).
Теперь нет такой оторванности диаспоры от метрополии, какая была ранее. Всегда можно вернуться домой, можно часть времени работать (жить) за рубежом и т.д.
Но, с другой стороны, с развитием СМИ и Интернета поддержание социальных и культурных связей облегчается, что создает предпосылки для более простого формирования и поддержания диаспоральной идентичности (особенно это касается народов, которые изгнаны с родных мест).
Все эти процессы ставят под вопрос традиционную трактовку феномена диаспоры, поэтому исследователям придется искать для него новые термины и новые теоретические модели.
Опубликовано в журнале:
«НЛО» 2014, №3(127)
Интервью с Хачиком Тололяном
(пер. с англ. А. Зубова и А. Логутова)
«НЛО»: Как бы вы могли вкратце обрисовать современное состояние диаспоральных исследований?
ХАЧИК ТОЛОЛЯН: Это поле исследований представляется достаточно интересным и активным, но в то же время неоднородным. Во-первых, эта категория сама по себе весьма инклюзивна и сейчас включает в себя ряд конфликтующих рабочих определений, что отличает современную ситуацию от ситуации, скажем, 1990 года, когда только лишь еврейские, армянские и греческие диаспоры опознавались как таковые. Во-вторых, в diaspora studies оказываются вовлеченными многие другие научные дисциплины: от антропологии, социологии и политологии до исследований в области постколониальной литературы, религиоведения, социально-экономической географии и т.д. В-третьих, это поле поистине интернационально. Журнал «Diaspora: A Journal of Transnational Studies», который я издаю, является типичным в этом отношении, так как в нем печатаются статьи авторов из Англии и США, Малайзии и Южной Африки, Индии и Франции и т.д. Каждый из авторов по-своему использует те же понятийные категории и привносит что- то новое в методологию.
«НЛО»: У стороннего наблюдателя, оценивающего ситуацию из российского контекста, складывается впечатление, будто концептуальное поле diaspora studies как таковое уже сложилось, но понятийный аппарат для его осмысления еще находится на стадии становления, внутренние границы между различными аспектами изучения диаспор до сих пор не определены. Насколько верно такое впечатление или, наоборот, оно не соответствует истине?
Х.Т.: И да, и нет. Да — в том смысле, что в diaspora studies нет одного авторитетного лица, которое диктовало бы, что такое diaspora studies, как следует определять эту дисциплину и как ее изучать. Ученые постигают традиции своей дисциплины в своей стране, они изучают подходы, появляющиеся в других странах и других дисциплинах, затем пишут сами и учат других. Если их работа принимается, то сперва она расширяет все поле исследований, а затем с течением времени те или иные подходы принимаются другими последователями дисциплины и становятся доминирующими. Но здесь нет полного согласия, и ни у кого нет достаточного авторитета, чтобы насильно утвердить его. В каком-то смысле взгляды, убеждающие большее количество ученых, побеждают.
К примеру, многие влиятельные ученые верят, что для диаспоры необходимо сохранять ориентацию на покинутую в свое время родину. Этого мнения придерживаются многие диаспоральные группы. Сионисты, например, подтверждают, что стремятся к тому, чтобы как можно большее число евреев вернулось в Израиль, но ведь к тому же стремятся и Государственный департамент США, и представители Всемирного банка, поскольку они бы хотели, чтобы диаспоры, появившиеся на Западе и ведущие происхождение из экономически малоразвитых стран, инвестировали в свои родные страны и способствовали их развитию. Эти представления обладают как концептуальными, так и политическими компонентами. Напротив, ряд других ученых полагает, что диаспоры должны обладать только двумя качествами: дисперсией и стремлением поддержать единую идентичность, т.е. сопротивление ассимиляции. В таком случае романи, или цыгане, которые не помнят родину и не заинтересованы в возвращении в родную северо-западную Индию, которую они оставили около 800 года н.э., составляют диаспору во втором смысле, а согласно первому определению — нет.
Более того, существуют категории, которые ученые принимают в теории, но на которых никто не фокусируется на практике. Диаспора, изучаемая с точки зрения количества денег, которые транснациональные эмигранты посылают домой («римесса»), и та же диаспора, рассмотренная с позиции обмена культурной продукцией, к примеру музыкой, циркулирующей между метрополией и различными диаспоральными сообществами, в результате может показаться двумя разными диаспорами. В том случае, если ученый не концентрируется на транснациональном, кросскультурном обмене, но, напротив, изучает функционирование институций диаспоры, таких как школы, места религиозного почитания и политические органы, то та же диаспора вновь будет выглядеть иначе. В теории, эти и другие подходы должны быть синтезированы, что в итоге позволило бы увидеть полную картину той или иной диаспоры, но на практике это малодостижимо.
«НЛО»: Насколько сильно — или, наоборот, слабо — понимание диаспоры в современных теориях отличается от традиционного представления? Я имею в виду такие определения, как предложенное в английском разделе «Вики- педии»: «Диаспора — это рассеянное население с общим происхождением на небольшой географической территории. Диаспора также может означать миграцию населения с исторической родины».
Х.Т.: Трудно сказать, поскольку даже традиционные определения могут отличаться друг от друга. Рассмотрим несколько наиболее существенных пунктов, ставших объектами споров в ранних определениях понятия. Во-первых, это причины миграции с родины: еврейские и американские мыслители делают акцент на насильственной высылке как причине возникновения диаспоры. Но это далеко не единственная причина. Первая волна евреев, несомненно, была сослана в Вавилонское изгнание силой, но в Египте к тому моменту уже существовали еврейские общины, и уже после окончания Вавилонского изгнания многие евреи «добровольно» продолжали эмигрировать по экономическим причинам. Первая волна дисперсии армян была спровоцирована жестокой политикой тюркских правителей Сельджукидов, однако причинами последующих волн эмиграции были уже экономическая бедность и поиск более благоприятных возможностей в жизни. Рассмотрим и другой пункт, особенно ценный для ряда еврейских ученых: цель любой диаспоры — возвращение в метрополию. В то же время большинство людей — представителей одной диаспоры, раз обосновавшись в новой стране, предпочитают там и остаться. Так, в настоящее время многие евреи возвращаются в Израиль, многие, наоборот, уезжают, но многие же продолжают оставаться на своих местах, в Англии или Бразилии. Такие разные типы поведения характеризуют большие, наиболее развитые диаспоры.
Мне кажется, такое усложнение частично связано с тем, как по-разному можно понимать «принудительную высылку». Миграция киргизских и армянских рабочих в Россию с 1991 года связана не с тем, что они подвергались преследованию на родине, а, в первую очередь, с отсутствием там рабочих мест или с заработной платой ниже прожиточного минимума. Можно ли описать эту ситуацию как экономическое насилие? Является ли диаспора, возникшая в результате экономической нищеты, в той же степени диаспорой, как и та, которую составляют пережившие резню или геноцид? Очевидно, эти две диаспоры во многом отличаются: к примеру, механизмы коллективной памяти диаспоры, скрепляющей ее в единое сообщество, в обоих случаях функционируют по-разному. В то же время обе они представляют собой сообщества рассеянных по миру людей, сохраняющих транснациональные связи и общее желание сопротивляться ассимиляции и сохранять собственную идентичность. Моя позиция и позиция многих моих коллег состоит в том, что все это примеры диаспор, однако они не поддаются единой концептуализации.
«НЛО»: Обычно считается, что диаспоральное сообщество — это сообщество с твердой и последовательной установкой на закрытость, но насколько закрытыми можно считать реальные диаспоры? Можно ли приблизительно выстроить какую-либо «градацию» этой закрытости? Насколько вообще диа- споральное сообщество закрыто или открыто для соседних культур и этносов?
Х.Т.: Опять же, ответ зависит от места и времени. Раньше было проще сохранять закрытость диаспоральных сообществ, когда доминировали такие факторы, как религиозная самоидентификация, этнические и расовые предрассудки, затрудненная и ограниченная мобильность, сокращенный уровень коммуникации, закрытое хозяйствование с определенными экономическими нишами только для представителей диаспор, недоступность высшего образования, необязательность несения военной службы для всех. При таких условиях, которые до недавнего времени были превалирующими для всего мира, лидерам диаспоральных сообществ было проще разрабатывать стратегии убеждения своих членов в необходимости сохранения и поддержания границ сообщества закрытыми, а также успешно добиваться определенной модели поведения — запрета на междиаспоральные браки, ограниченных и формализованных контактов между членами диаспоры и представителями сообщества принимающей страны и полного отсутствия ассимиляции. Однако и в этой ситуации многое зависело от поведения именно принимающей стороны: если общество оказывается нетерпимым, то оно не позволяет интеграцию меньшинств, включающих и диаспоральные меньшинства, она для него оказывается нежелательной. Ни одно общество Европы, кажется, не пожелало интегрировать цыган; американское общество было более открыто интеграции поляков и евреев, чем афроамериканцев. Некоторые общества и страны практиковали религиозные преследования и попытки обращения в определенную веру — к примеру, в Византии армяне массово принимали православие, с одной стороны, из-за давления правительства, с другой — стремясь использовать карьерные возможности, открытые для обращенных в православие.
Сегодня правительства многих стран меньше демонстрируют националистическое и пуританское отношение к сообществам и, наоборот, более открыты для культурной гибридизации, не практикуют жесткого и принудительного приобщения к социальным, культурным и экономическим нормам. Они все чаще позволяют социальное, культурное и экономическое самоопределение, возможности и способы интеграции в сообщество принимающей страны и получения гражданства. (Я знаю, что до сих пор существует ряд государств, где подобное отношение не в ходу, однако в глобализированных странах это доминирующая линия поведения.) Мы наблюдали примеры такого прогрессивного движения в сообществах, ориентированных на открытость и инклюзивность, что ведет к облегченному контакту с обычаями другой культуры, как это происходит сейчас в Америке. На настоящий момент подавляющее большинство японо-американских браков совершаются за пределами одной группы. Это заметное изменение по сравнению с ситуацией 1970-х годов. Значительный процент браков евреев и армян в Америке заключается не с членами их диаспоральных групп. Снижение роли религии, распространение университетского образования, телевидение, музыка и Интернет — все это способствует становлению единой глобальной молодежной культуры, более сильной, чем культура диаспоры. Однако это движение может быть замедлено или даже обращено вспять при изменении поведения принимающей стороны. Может казаться, что история неумолимо движется в одном направлении, но затем она внезапно меняет курс.
«НЛО»: Какова реальная или воображаемая связь диаспоры с метрополией? Каково взаимоотношение культур диаспоры и метрополии? Х.Т.: На этот вопрос не может быть единого ответа ни с точки зрения исторической перспективы, ни в настоящем. Древнейшая и в каком-то смысле показательная диаспора — еврейская — не могла иметь контактов с метрополией, поскольку в 66—134 годах н.э. войны с Римской империей привели не только к разрушению священного города Иерусалима, но и буквально к разорению всей страны. В течение нескольких веков продолжали существовать маленькие религиозные сообщества, и они же создали первый Иерусалимский Талмуд. Однако уже к 500 году н.э. первенство получили вавилонские евреи и их Талмуд. С трудом верится, что между 500 и 1880 годами н.э. в Палестине / Израиле могло быть больше 3—4 тысяч евреев одновременно. Схожим образом, африканские рабы в США не имели возможности устанавливать контакты с родиной, однако диаспора имела четкие границы, так как американское правительство препятствовало ассимиляции, а такие факторы, как жестокость извне и создание внутри сообщества сильной религиозной, устной и музыкальной культуры, унаследованной потомками рабов, помогли становлению особой идентичности. Другие диаспоры, к примеру армяне, никогда не теряли контакта с метрополией, однако количество и качество контактов могли сильно различаться.
Отчасти отличительной чертой диаспор в ситуации после 1960-х годов является легкость, с которой можно путешествовать на родину, и постоянная циркуляция видео-, телефонных и электронных сообщений между странами. Даже в тех случаях, когда метрополия располагается далеко, как, к примеру, Индия от Америки, большое количество состоятельных индусов ежегодно посещают родину. Для сравнения вспомним, что в 1910 году письмо из Чикаго в Одессу могло идти около трех недель, и столько же обратно. В год таких контактов могло совершаться не более семи-восьми. Сейчас я знаю мигрантов, которые ежедневно общаются со своими семьями, живущими на расстоянии семи тысяч километров. Они могут пересылать деньги, подарки, видео и «селфи». Сейчас упрощение контактов с родиной продолжает усиливаться.
Разумеется, формы культурных и других видов взаимодействий имеют куда более комплексный характер. Связи с литературной традицией метрополии исчезают быстро, поскольку многие мигранты либо малообразованны, либо слишком заняты зарабатыванием денег, либо утрачивают язык метрополии за одно поколение. Если правительство принимающей страны практикует политику подавления, то возможности контакта еще более усложняются. При экономическом подавлении контакты полностью прекращаются. Между 1979 и 1989 годами, после того как Дэн Сяопин открыл экономику Китая, 85% всех иностранных инвестиций в Китай поступило от китайцев из Южной Азии. Последние повели себя стремительно и эффективно, как только для них стало очевидно, что они могут свободно инвестировать средства в свою страну и получать от этого выгоду.
«НЛО»: С позиции живущих в диаспоре людей, она выступает как депозитарий культурных кодов, идеологем и ценностей, которые были присущи метрополии и теперь должны быть сохранены. Насколько это правдиво с точки зрения внешнего наблюдателя-антрополога?
Х.Т.: И да, и нет. Распространенная проблема состоит в том, что открытые диаспоры, т.е. те, которые не загоняются в гетто, стремительно теряют многие из этих кодов и ценностей. В то же время многие меньшие фракции, наоборот, придерживаются их. О диаспоральных социальных формациях (таких, как в национальных сообществах) лучше думать как о массе населения, занятой работой или отдыхом и вовлеченной в прочие рутинные практики, маркирующие ее идентичность. Однако всегда существует маленькая группа людей, более преданных и активных, посвятивших себя общей идее. Они и составляют ядро сообщества, работающее на сохранение угасающих традиций, некоторые из которых время от времени могут возрождаться.
В качестве иллюстрации приведу пример. Некоторое время назад израильское правительство решило документировать все еврейские танцы в каждой диаспоре, начиная с исполняемых в Йемене и Марокко и заканчивая теми, что существовали в Восточной Европе до становления Израиля. Обнаружилось, что никто в Израиле не имел ни малейшего представления, как исполнять определенные танцы, скажем, из Восточной Польши, хотя название танца в памяти диаспоры продолжало жить. В то же время проживающие в Бруклине хасиды до сих пор сохраняют традицию исполнения этого танца. Этот пример показывает возможность сохранения старых традиций в диаспоре и говорит о важности того факта, что сообщества метрополий могут меняться очень быстро. И в процессе изменений эти сообщества, будучи уверенными в своей идентичности, уходящей корнями в их родину, отбрасывают старые традиции с большей легкостью, нежели более мелкие диаспоральные группы. Но в целом следует сказать, что в диаспорах традиции исчезают стремительно.
Важно отметить, что это не всегда является следствием ассимиляции. Те диаспоры, которые придерживаются старых культурных практик, определяющих их идентичность, продолжают существовать. Однако когда эти практики исчезают, сообщество просто-напросто изобретает новые с целью поддержания определения себя как особой диаспоральной группы, отличной от окружающего общества принимающей страны. Механизм выживания диаспоры — непрерывное производство маркеров различия. В конце концов они оказываются отличающимися не только от принимающей страны, но и от культуры предков их родной метрополии. Такая двунаправленная дифференциация является основной особенностью диаспор. Конечно, связь с утраченными традициями может быть более или менее выраженной. Так, в 1970-е годы в молодежных клубах Лондона группа молодых пенджабцев, иммигрантов из Индии, вдохновившись древним земледельческим танцем из их родного региона и усовершенствовав его танцевальными стилями черных иммигрантов с Карибских островов, изобрели танец «бхангра». Этот танец, будучи продуктом этой диаспоры, также получил широкое распространение и популярность в среде молодежи в Индии. В настоящее время дифференциация нередко становится следствием транснациональной циркуляции практик и смыслов.
«НЛО»: Каким образом сообщество, в основе которого уже не лежат привычные категории территории / гражданства / национальной идентичности, выстраивает свою культурную идентичность и какие компенсаторные механизмы оказываются вовлечены в это производство идентичности?
Х.Т.: Для начала к этим трем категориям я бы хотел добавить еще две: экономическую и религиозную идентичность. Не думаю, что здесь стоит распространяться о религиозной идентичности. Эта категория говорит сама за себя. Но позвольте мне подробнее остановиться на экономической идентичности. Единственное, в чем полностью соглашаются и убежденные марксисты, и «махровые» капиталисты, — это то, что экономика является базовой категорией человеческой жизни. Сегодня под воздействием глобализации народы, живущие на своей территории как граждане своего национального, независимого государства, говорящие на родном языке, обнаруживают, что условия их жизни изменились кардинально из-за того, что экономика больше не является национальной. По определению, это всегда было верно для диаспор — они всегда живут в «чьей-то еще» (народной или государственной) экономической среде. Диаспоры изначально занимают определенную экономическую нишу. Существует старый термин — «меньшинство комиссионеров», описывающий преимущественно евреев, армян, китайцев и диаспоры индийцев в Британской Восточной Африке. Эти диаспоральные меньшинства выработали не только свои собственные коммерческие практики, но и коллективную идентичность в экономической нише в качестве посредников между превалирующим земледельческим населением и полуфеодальной аристократией. Евреи и армяне в Польше между 1340 и 1650 годами были ювелирами, ростовщиками, искусными ремесленниками, но не крестьянами. Китайцы играли схожую роль в Индонезии и Таиланде, однако этот пример немного сложнее, так как в некоторых случаях они также выступали и в роли «рабочих-кули» (наемных землепашцев). Путешествуя по Европе и Северной Америке, нельзя не заметить, что менялы, владельцы газетных киосков, заправочных станций и мотелей и мелкие лавочники в большинстве случаев — индийцы. Все эти нишевые экономики позволяют определить культурную ориентацию и идентичность диаспоральной мелкой буржуазии, тем не менее обладающей сильными транснациональными связями.
Уместным будет добавить, что вопрос об «идентичности» сам по себе крайне сложный и практически нерешаемый. Два уважаемых американских исследователя, Роджерс Брубейкер и Фредерик Купер, в длинной статье «За гранью идентичности» пишут, что хотя мы и используем термин «идентичность», но по-настоящему в нем не нуждаемся, а его использование часто приводит к путанице. В рамках академического дискурса, утверждают авторы, исследование, проводимое через призму понятия «идентичность», может стать более продуктивным, если использовать комбинацию других, менее абстрактных терминов. Насколько я могу судить, хотя и не существует общепринятой и наглядной теории идентичности, многие из нас тем не менее продолжают до сих пор использовать термины «идентичность» и «культурная идентичность» в повседневном общении, в академических дебатах и научных исследованиях. Очевидно, если и существуют русская или американская коллективные идентичности, которые продолжали бы работать на протяжении длительного времени, то в таком случае нам необходим анализ того, как общество и культура, работающие через семью и институциональные структуры, воспроизводят эту идентичность внутри индивидуумов, обеспечивая ею каждого новорожденного внутри сообщества. Сейчас у нас накопилось много наблюдений и идей, но никакой адекватной общей теории. Конечно, мы знаем, что родительские институциональные практики имеют значение. Но в то же время мы не можем объяснить, почему, когда в диаспоре в одной семье рождаются два сына, скажем, с разницей в два года, один из них наследует диаспоральную идентичность, а второй — наоборот, максимально отдаляется от «породившего» его сообщества. И в этом нет ничего удивительного, ведь точно так же мы не можем ответить на вопрос, почему, в то время как один из двух братьев, выросших в одной семье, становится трудолюбивым и порядочным человеком, другой превращается в грабителя-наркомана. Вопрос, что является решающим фактором в становлении человеческой личности — биология, семья, более крупная родовая группа или сообщество, — большая загадка для ученых, чем они готовы признать. И эта загадка тесно связана с вопросом о диаспоральной идентичности.
«НЛО»: Существует конструктивистское представление, что диаспора, как инация, — это конструкт, «воображаемое сообщество». Насколько это представление можно считать работающим? Является ли диаспора сообществом, сконструированным только изнутри, или окружающий контекст тоже ее конструирует? И если да, то как?
Х.Т.: Когда Бенедикт Андерсон ввел представление о том, что нации — это непременно воображаемые сообщества, он имел в виду то, что — в отличие, например, от жителей деревни — члены нации не вовлечены в повседневное личное взаимодействие друг с другом и не связаны интересами и целями, возникающими в подобном взаимодействии. Будучи специалистом по Индонезии, Андерсон хотел обратить внимание читателя на то, что, к примеру, жители северо-западной Суматры, отделенные, скажем, от острова Малуку тремя тысячами километров океана, восприняли новую общую индонезийскую идентичность, научившись воображать себя частью обширного, но закрытого сообщества. Им это удалось во многом благодаря технологическим инновациям XIX века, и в особенности — развитию печати.
В андерсоновском смысле диаспоры всегда и неизбежно «воображаемы». Чтобы дать им адекватное описание, нужно отметить существование локальныхдиаспоральных сообществ, связанных друг с другом различными способами. Во-первых, это интранациональные связи, существующие, к примеру, между армянскими общинами Парижа, Марселя и Лиона или — насколько я могу предполагать — Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону и Краснодара. Во-вторых, они вступают в транснациональные, преодолевающие государственные границы, связи с другими локальными сообществами. Например, армяне Москвы могут поддерживать контакты с армянами Лос-Анджелеса, Парижа или Нью-Йорка. Разумеется, все эти сообщества не теряют связи с Арменией. Подобное сочетание локальных и транснациональных связей и обеспечивает существование абстракции, известной как глобальная армянская диаспора.
Диаспора представляет себя не в абстрактных терминах, а посредством различных форм интенсивного коммуникационного обмена, превышающего по силе любые формы печатной коммуникации, доступные в XIX столетии. Сегодня турки в Берлине, ереванские армяне в Лос-Анджелесе и ливанцы в Нью-Йорке могут благодаря спутниковому телевидению круглосуточно следить за новостями из метрополии; многие из них также пользуются компьютерами и мобильными телефонами для оперативного общения со своей родней. Кроме того, существуют институционализированные формы контактов, обеспечиваемые низкой стоимостью путешествий: священники, филантропы, политические активисты, ученые, интеллектуалы и люди творческих профессий постоянно перемещаются с места на место. В обмен вовлечены и идеи, и деньги. Значительная часть онлайн-общения происходит на английском или французском языке, так как китайцам в Сингапуре, Гавайях или Лондоне (так же как индийцам из Калькутты, Йоханнесбурга или Сан-Франциско, гаитянам из Майами, Монреаля или Парижа) легче удается спорить или соглашаться со своими онлайн-респондентами на этих языках. Исследователи диаспор нередко читают эту переписку и наблюдают новые интересные способы конструирования диаспоральной идентичности: в онлайн-общении черты местных диаспоральных сообществ играют меньшую роль, чем дискурс воображаемой глобальной диаспоры. Иногда это может привести к опасным последствиям: появлению глобальных форм национализма, не привязанного к национальному государству.
«НЛО»: Какую роль в жизни диаспор играют практики памяти? Каким образом передается эта память?
Х.Т.: Память — это, несомненно, один из ключевых связующих элементов, обеспечивающих единство диаспоры во времени и пространстве. Но обобщить этот очевидный факт нелегко. В каком-то смысле память в диаспоре работает так же, как и в метрополии. В диаспорах, как правило, празднуются все те исторически памятные события, что и в метрополии: для мексиканских общин США «Синко де майо» (5 мая) не менее важен, чем для жителей Мехико. Праздники местного значения также сохраняют свою значимость: население Маленькой Италии в Нью-Йорке отмечает день Святого Януария с тем же размахом, что и в Неаполе (как это верно изображено в «Крестном отце 2» Копполы). В маленьком городке Миддлтаун (50 тысяч жителей), где я живу, польский праздник Ченстоховской Черной Мадонны и сицилийский праздник Святого Себастьяна отмечаются этническими группами, нередко демонстрирующими диаспоральное поведение. (Этнические группы и диаспоры — разные явления; все диаспоры являются этническими группами, но не все этнические группы диаспоральны.)
Повторю еще раз, что особенно остро личное и коллективное сталкиваются именно в сфере памяти. Каким образом коллективные воспоминания становятся личными? В диаспорах, переживших акты принуждения и насилия, особенно устойчивы воспоминания о травматических событиях. Но каким образом я, сын армян, переживших геноцид в Османской империи, или дети евреев — жертв Холокоста (такие, как моя коллега и подруга Мариан Хирш) способны сохранять эту память? Ни я, ни она не переживали этих страшных событий. Как можно помнить то, что с тобой не происходило? Исследуя старые фотографии и тексты, профессор Хирш ввела новый термин «постпамять» (postmemory), обозначающий воспоминания, внушаемые при помощи семейных и прочих нарративов тем, кто, по определению, не может помнить самих событий.
Разумеется, уже во втором поколении потомков переживших катастрофу передача памяти становится довольно сложной и основывается на очень разнообразных приемах и практиках. К примеру, существуют так называемые «объекты наследия» (legacy objects) — не обязательно обладающие художественной ценностью ремесленные изделия, несущие в себе стиль или способ производства, характерный для метрополии до катастрофы: керамическая поделка, привезенная немецкой семьей из Венгрии в Миннесоту в 1848 году; лакированная шкатулка, привезенная из Китая около 1850 года; вышитый носовой платок, привезенный из армянского Мараша век назад; кулинария, местные песни и, конечно же, разнообразные типы повествований (истории, фотокарточки, письма, дневники и т.д.). Все это вносит вклад [в сохранение памяти]. Изучение форм культурной памяти стало сейчас особой научной субдисциплиной, основанной на работах ряда исследователей — от Мориса Хальбвакса до Яна Ассмана или Питера Бёрка, а также на мемуарных и художественных текстах. Музеи, временные выставки, учебники по истории для диаспоральных школ, споры вокруг устной истории, психоаналитические подходы к анализу травмы и бессознательного — все эти объекты, механизмы и практики формируют культурную и социальную память и способствуют образованию постпамяти у членов диаспоры.
«НЛО»: Каким образом изменение доступности текстовых, визуальных, аудиальных и т.д. медиатехнологий в диаспоре и метрополии отражается на конструировании и циркуляции идентичностей? Каким образом такие ключевые компоненты наций и диаспор, как коллективная память и общий язык, изменяются с появлением новых медиа?
Х.Т.: Переход к цифровым медиа изменил все — начиная от сексуальных практик и кончая преступностью в диаспорах. Влияние медиа на диаспоральные сообщества необходимо анализировать в терминах двух отдельных феноменов. Необходимо прояснить способы передачи информации и способы культурногопроизводства. В определенном смысле я уже касался этой темы: в настоящее время члены диаспоры могут с поразительной скоростью узнавать подробности о событиях в жизни метрополии, их семей, об экономических и политических изменениях в масштабах целой нации — и эта информация не подвергается фильтрации или контролю со стороны крупных организаций. К примеру, я подписан на ANN, армянскую новостную службу, которая генерирует подборку из всех онлайн-новостей, содержащих слова «Armenia» или «Armenian». В результате каждое утро я получаю 100—150 новостей на английском или французском языке самого разного объема и тематики: начиная от описания того, как армяне отмечали годовщину геноцида в Марселе, и кончая тем, как поживает футболист Генрих Мхитарян, играющий за немецкую «Боруссию». Кроме того, в моих руках оказываются десятки веб-ссылок на разного рода статьи и видео. В обычный день я трачу на просмотр этих сообщений не менее часа, иногда — больше. Разумеется, это делают далеко не все. По разным оценкам, около двух или трех тысяч армян занимаются чем-то подобным ежедневно. По выражению Габриеля Шеффера, их можно назвать «ядерными» членами диаспоры. Как говорилось выше, разные люди по-разному участвуют в поддержании существования диаспор, и главная роль в этом деле принадлежит целеустремленным, активным, легко мобилизующимся индивидам.
Участие в общении, в обмене идеями, изображениями и аудиовизуальными материалами очень важно. Со временем даже интеллектуалы старшего поколения, такие как я, привыкшие читать бумажные книги, овладевают цифровыми технологиями. Для наших молодых коллег цифровой мир стал естественной средой существования, в которой они живут, работают, развлекаются и принимают на себя разного рода обязательства. «Цифровое целеполагание» (digital commitments) активно исследуется учеными. Каким образом рассеянные по миру члены диаспоры, сидя за экраном компьютера, создают новые связи, затевают новые разговоры, конструируют новые диаспоральные дискурсы и практики, в которых не просто воспроизводится уже известная, доступная иными способами информация, но придумывается ипроизводится новая?
Немецкий антрополог Мартин Зёкефельд предпринял попытку показать то, каким образом социальные движения могут создаваться в Сети, на примере возрождения уникального (как в этническом, так и в религиозном смысле) сообщества алевитов в Турции, которое последовательно уничтожалось властями с 1923-го по 1980 год. Начиная с 1960-х годов некоторые алевиты начали в индивидуальном порядке переезжать в Германию, утратив практически все устные традиции и коллективные практики. Зёкефельд демонстрирует, как с конца 1980-х им удалось восстановить утраченные традиции и воссоздать свое сообщество при помощи использования цифровых технологий не только в политических, но и в культурных и религиозных целях.
В своем исследовании диаспорального киберпространства Виктория Бернал показала, как беженцы из Эритреи и другие мигранты, покинувшие свою родину в результате тридцатилетней войны за независимость Эфиопии (1961—1991), использовали новые медиа для консолидации публичного пространства диаспоры и политической мобилизации культурных центров. Пнина Вербнер, работавшая с пакистанским населением Англии, и Арджун Аппадураи, более известный теоретическими исследованиями, также подчеркивают важность цифровых технологий для развития публичного пространства диаспор. Разумеется, этот процесс имеет и негативные стороны. Анонимность интернет-общения открывает возможности для распространения нелицеприятных политических мнений и культурных предрассудков. Пожалуй, самые уродливые формы индусского диаспорального национализма родились именно в Сети. В статье «Кибераудитории и диаспоральная политика в транснациональном китайском сообществе» («Cyberpublics and Diaspora Politics among Transnational Chinese») антрополог Айхва Онг показывает, как глобальная цифровая диаспора, оторванная от повседневности социальных взаимодействий, порождает новый культурный дискурс, предпочтение в котором отдается сомнительным эссенциалистским абстракциям.
«НЛО»: В какой степени жизнь диаспоры определяется культурными стереотипами? На основании каких критериев представители диаспоры формулируют свои отличия от окружающих обществ? Какими способами конструируются эти отличия?
Х.Т.: Стереотипы распространены в диаспорах, но в меньшей степени, чем в окружающих их сообществах, где, подкрепляемые государственной властью, они особенно опасны. И весело, и грустно наблюдать за тем, как разные диаспоры часто пытаются подтвердить свою уникальность, прибегая к одним и тем же стереотипам. «Мы — семейные люди», — говорят о себе итальянцы, армяне, китайцы и вьетнамцы в Америке, полагая, что только им свойственно уважение к семейным ценностям, которым они объясняют свои успехи и в котором отказывают другим диаспорам.
На практике стереотипы используются диаспоральными меньшинствами как орудие критики большинства, среди которого они живут. К примеру, я слышал от американских армян и корейцев утверждение: «Мы — трудолюбивые семейные люди, в отличие от американцев, которые здесь всегда жили». Иногда подобные высказывания принимают форму настоящего расизма, направленного против афроамериканцев. Иногда они носят более общий характер: многие иммигрантские диаспоры (евреи, армяне, греки, китайцы, индийцы) в среднем более экономически успешны, чем коренные американцы — как белые, так и черные. У членов этих диаспор возникает недоумение по поводу того, почему коренные жители за многие века так и не воспользовались преимуществами жизни на «благословенной» (blessed) земле (в США, Австралии или Канаде), и они склонны объяснять свой быстрый успех при помощи снисходительной стереотипизации местного большинства, приписывая последнему лень, любовь к алкоголю и наркотикам или сексуальную распущенность. Разумеется, большинство отвечает тем же, только уже в более опасных формах. Меньшинствам, специализировавшимся на посредничестве в торговле (евреи, армяне, китайцы и индийцы) и достигшим делового успеха в преимущественно сельскохозяйственных районах, часто приписывалась жадность и нечестность: «Разве приезжие могут разбогатеть за одно поколение? Наверняка они нас грабят». Подобные идеи могут привести к дискриминациям или даже массовым убийствам. Так что — да, стереотипы существуют. Но, по крайней мере, в США и Канаде их становится меньше.
«НЛО»: Можно ли — и если да, то на каких основаниях — причислить к диаспорам «пограничные» социальные формы: например, микросообщества, образуемые в процессе «внутренней миграции» в закрытых обществах, или вовлеченные в трудовую миграцию «переходные» группы, еще не обретшие гражданского статуса в новой стране, не организовавшие собственных культурных институтов и находящиеся в «серой зоне неразличимости» между двумя или несколькими социумами?
Х.Т.: По этому поводу есть самые разные мнения. Мобильность стала частью человеческой жизни с тех пор, как первый Homo sapiens вышел из Африки 150 тысяч лет назад. То есть диаспора, понимаемая в смысле результата расселения популяции, возникла еще в древности. В своих работах я использую термин «расселение» как общую категорию, частным случаем которой является «диаспора», которая — в силу исторических причин — стала тем, что в риторике определяется как «синекдоха», т.е. частью, заменяющей целое.
В каких условиях сообщества расселения становятся диаспорами? Можно ли назвать все сообщества мигрантов диаспоральными? Моя исследовательская позиция по этому вопросу не самая популярная. По моему мнению, диаспоры должны отвечать целому ряду критериев: (1) члены диаспоры должны быть разбросаны по государствам вне своей метрополии, но при этом (2) как можно дольше сохранять свою изначальную идентичность, чтобы затем создать новую, основанную на поддержании культурных и прочих различий. Кроме того, (3a) они ощущают родство со своими бывшими соотечественниками, разбросанными по другим странам, а также — в большинстве случаев — (3b) с теми, кто остался в метрополии. И, наконец, (4) я предпочитаю определять подобные людские образования как «транснациональные сообщества» в переходном состоянии, превращающиеся через три и больше поколений в «настоящие диаспоры». Подобные критерии кажутся большинству моих коллег слишком произвольными, но, по-моему, это не так. У первого поколения мигрантов независимо от того, покинули они свою родину вынужденно или добровольно, еще сильна память о доме и о семейных узах — они живут в «транснациональной семье». Во втором поколении эти связи ослабевают, но остаются значимыми — дети мигрантов знают своих бабушек, дедушек, дядей и племянниц, проживающих в метрополии. В третьем и последующих поколениях, когда связи с бабушками и дедушками, двоюродными братьями и сестрами окончательно исчезают, а личные обязательства не успевают приобрести фундаментальное значение, выбор в пользу сохранения и дальнейшего развития особой идентичности становится по-настоящему осмысленным. Разумеется, в разные исторические периоды это происходит по-разному. Как уже было сказано выше, если большинство населения новой страны отвергает ваше сообщество, оно с легкостью остается диаспоральным. Но если в условиях культурной гибридизации, отсутствия проблем с получением гражданства и равенства экономических возможностей, характерных для многих современных социумов, группа продолжает поддерживать свою обособленность, то можно говорить о ее полной диаспоризации.
Большинство других определений не столь детальны и строги, а потому довольно разнообразны. Робин Коэн, работающий в Оксфорде и много сделавший для расширения определения «диаспоры», выделяет такие типы, как вик- тимная диаспора (victim diaspora), торговые и купеческие диаспоры, трудовая диаспора, а также «имперская диаспора», состоящая из колониальных чиновников и поселенцев. Пол Гилрой, используя термин «Черная Атлантика», выделяет культурную диаспору чернокожих, вышедших из Африки и обретших вторую родину в Бразилии, на Ямайке, в Гайане, США, на Кубе или в Лондоне, для которых путешествия, культурный обмен и циркуляция произведений искусств, художников и интеллектуалов стали определяющими факторами единства сообщества. В этом смысле «черная диаспора» как социальная формация обязана своим существованием культуре, производимой меньшинством и открытой к заимствованиям со стороны большинства. На мой взгляд, подобное положение имело место во многих диаспорах на протяжении очень долгого времени. Тем не менее споры продолжаются — и, поскольку интеллектуальные, психологические и политические силы уже преодолели национальные границы, точка в них будет поставлена еще очень нескоро.
Пер. с англ. Артема Зубова и Андрея Логутова
Опубликовано в журнале:
«НЛО» 2014, №3(127)
Еврейская память и «парасоветский» хронотоп:
Александр Гольдштейн, Олег Юрьев, Александр Иличевский
Михаил Крутиков
OFF-SOVIET КАК КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ТИП
Антрополог Алексей Юрчак в своей книге о культуре «последнего советского поколения» определяет «поколение застоя» как продукт «общего опыта нормализованного, вездесущего и непреложно-властного дискурса брежневского времени»[2]. И в отличие от других советских поколений, сформировавшихся под знаком одного большого исторического события — такого, как война, «оттепель» или же перестройка и распад СССР, — для «поколения застоя» такого определяющего события не было. Даже само понятие «застой» как «несобытие» для определения брежневского периода вошло в оборот позже, для противопоставления горбачевскому «ускорению», а затем перестройке. Характерным ощущением, оставшимся от того времени в памяти интеллигенции этого поколения, было чувство «непринадлежности», «нахождения вне» общественных структур, как официальных советских, так и диссидентских антисоветских[3]. Например, Дина Рубина так комментирует автобиографическую основу своей прозы: «Я пока свидетельствую только о своей личной легкомысленной, никогда не советской (я умудрилась даже в комсомол не вступить) и никогда не диссидентской (для этого был необходим другой темперамент) жизни»[4]. Или, как сказал Олег Юрьев в речи при вручении немецкой Премии имени Хильде Домин: «Для меня вся советская действительность была нереальной — мутная пленка вокруг подлинной жизни, реального существования»[5]. Такое «внесистемное» существование предполагало, как считает Юрчак, «активное участие в создании разнообразных новых увлечений, форм идентичности и стилей жизни, которые допускались, но не обязательно определялись официальным властным дискурсом»[6]. К таким «формам идентичности» можно отнести самые разнообразные неформальные сообщества — от обществ охраны памятников старины до панк-движения. Говоря о неформальных сообществах, возникших в это время вне официально признанных форм общественной жизни, Юрчак использует термин «детерриториализованные сообщества» (deterritorialized milieus), заимствуя понятие детерриториализации у Делёза и Гваттари. По аналогии с предложенным Светланой Бойм понятием off-modern такой культурно-антропологический тип можно было бы назвать off-Soviet.
Специфический еврейский вариант такой детерриториализации внутри городского советского социума представляло собой так называемое «культурническое» направление в еврейском движении 1970— 1980-х годов, претендовавшее на то, чтобы занимать срединную позицию между активным диссидентством и официальной советской культурой. Как объясняет этнограф Михаил Членов, один из немногих активистов этого движения, которому удавалось совмещать престижную академическую работу с подпольным преподаванием иврита: «...евреи в Советском Союзе оказались в таком сложном положении, когда они ничего о себе не знают. Когда государство всячески препятствует проникновению любого еврейского знания, будь то языковое, историческое, литературное, культурное, религиозное или какое-нибудь другое знание. И наша задача, во-первых, — освоить это знание самим; во-вторых, — передать его другим»[7]. Членов подчеркивает обыденный, негероический характер «культурнического» движения: «Сюда приходили самые обычные люди; они приходили не бороться, а некоторым образом жить. В этом отношении еврейское движение сильно отличалось от диссидентского. Диссидентское движение ставило себе целью изменение ситуации в Советском Союзе. А участники еврейского движения не ставили перед собой такой цели. Принципиально не ставили и об этом громко заявляли»[8]. Таким образом, всем, интересующимся еврейской культурой в самом широком смысле, не оставалось иного выбора, кроме как создавать свою «детерриториализованную» инфраструктуру по модели, описанной Юрчаком. Эта инфраструктура, охватывавшая тысячи человек, живших преимущественно в крупных городах, и была небольшим фрагментом обширного открытого пространства, включавшего самые различные неформальные группы и формы активности, а также занимавшего промежуточное положение — в терминологии постколониальной теории «третье место» — между более четко обозначенными «советским» и «антисоветским» полюсами. В результате перестройки и распада СССР эта аморфная конфигурация распалась, поскольку ограничивающие ее полюса потеряли свою значимость. Исчезли и препятствия как для легальной еврейской деятельности на местах, так и для эмиграции.
Интересную попытку осмыслить происходившие на его глазах перемены сделал московский искусствовед Евгений Штейнер, специалист по средневековому японскому искусству и раннему советскому авангарду, эмигрировавший в 1991 году в Израиль. В эссе «Апология застойного юноши», опубликованном сразу по приезде в израильском журнале «Звенья», Штейнер обозначил признаки своей уходящей в прошлое социальной группы, во многом предвосхитив концепцию Юрчака: «Речь пойдет о некоем типе, или, по- нашему, карассе, носителей парасоветской ментальности, круг которых довольно узок, и страшно далеки они от какого бы то ни было народа. Да, далеки, на том и стоят, тем и интересны, через то в истории народа (не того, так этого) и останутся. В самом деле, история любого народа без истории его антиномических отношений с его инородцами будет неполной»[9]. По Штейнеру, этот тип был чужд как советской идеологии с ее образом жизни и эстетическими нормами, так и активному, «героическому» диссидентству, однако он был и «определенно не несоветский», по простой причине: «.ибо откуда же было взяться европейскому, или американскому, или просто досоветскому»[10]. В результате возник некий «мутант советской системы», имевший «негативный опыт отторжения от господствующей социокультурной ситуации», но не имевший никакого «позитивного опыта вхождения в принципиально иную макросистему». Эмиграцию многих представителей этого типа — включая себя самого — Штейнер объяснял не стремлением убежать от надоевшей советской реальности, а желанием сохранить этот уникальный «парасоветский» образ жизни, ставший невозможным в условиях новой России: «...ныне наш карассе оказался реликтом — исчезла породившая его среда обитания, и он, не желая ничего перестраивать, никого обустраивать, а паче всего — растворяться, откочевал в земной Иерусалим, по-прежнему взыскуя вневременного Небесного»[11]. Штейнер заключает свое рассуждение вопросами: «Насколько в новой ситуации окажется возможным актуализовать наработанный в специфической теплице скотского хутора багаж? Какие тексты сумеют создать, какой отпечаток сумеют наложить на окружающее общество (а центр его, несомненно, несколько сместится в эту сторону) те, кто как психологический тип со своими поведенческими стереотипами и культурными нормами возник в доброе застойное время, по недосмотру и благодаря покойнице Советской Власти?»[12]
Переходя от культурной антропологии к словесности, можно попытаться взглянуть на описанную ситуацию и ее продолжение с точки зрения художественных репрезентаций на языке метафор и символов. Как поиски «парасоветского третьего места» за рамками советской/антисоветской дихотомии воспроизводятся post factum в художественных текстах? Сохраняет ли «еврейский случай» свою особенность, как это было при советской власти, или же произошла его нормализация после того, как исчезли навязанные извне ограничения? Каким образом заполняется — и заполняется ли — тот вакуум еврейской идентичности, о котором говорил Членов?
РУССКИЙ ЛЕВАНТ АЛЕКСАНДРА ГОЛЬДШТЕЙНА
Оппонентом Штейнеру в «Звеньях» выступил Александр Гольдштейн, бывший журналист и редактор из Баку, вынужденный эмигрировать в Израиль из-за волны этнического насилия в Азербайджане, сопровождавшей карабахскую войну. Для Гольдштейна «этот внешне столь привлекательный, а внутренне столь амбициозный образ жизни и даже целый круг существования на самом деле в основе своей был в значительной степени потребительским, накопительским, сберегательно-рачительным <...> — одним словом, каким угодно, но только в последнюю очередь по-настоящему творческим, то есть создающим нечто принципиально новое»[13]. Писатель воспринимал эмиграцию как переход от мнимого существования к реальному: «А потом мы уехали и приехали в Израиль. И здесь "действительности" оказалось больше, и была она круче, "подлиннее"»[14]. Израиль стал для Гольдштейна не только новым местом жительства, откуда он мог критически обозревать советское прошлое, но и пунктом для наблюдения за всей мировой цивилизацией. Зарабатывая на жизнь газетной поденщиной, он получил признание среди российской интеллигенции благодаря книге «Расставание с Нарциссом», подводившей итог советской культуре как «нарциссической цивилизации». Он закончил свой некролог этой культуре призывом к созданию нового и самостоятельного средиземноморского извода русской культуры в русской израильской диаспоре: «...русскому слову на Святой Земле лучше бы поменьше кружиться вокруг дорогих могил и священных камней». Вместо этого следует «прорубать себе выход к Средиземному морю и левантийскому мифу, к соленой мореходной метафизике. Это стало бы исполнением заповедных травматических интенций нашей культуры, так долго тосковавшей по утраченной эллинистической целокупности, по александрийскому своему окоему»[15]. В этом призыве Гольдштейна слышится отголосок чаяний молодого Бабеля, писавшего в 1916 году в порыве военного патриотизма: «И думается мне: потянутся русские люди на юг, к морю и солнцу. Потянутся — это, впрочем, ошибка. Тянутся уже много столетий. В неистребимом стремлении к степям, даже м[ожет] б[ыть] "к кресту на Святой Софии" таятся важнейшие пути для России. Чувствуют — надо освежить кровь. Становится душно. Литературный Мессия, которого ждут столь долго и столь бесплодно, придет оттуда — из солнечных степей, обтекаемых морем»[16]. Это стремление расширить границы «русского мира» на восточное Средиземноморье имеет, конечно, глубокие корни в русской имперской традиции.
В отличие от столичной интеллигенции, пережившей распад СССР относительно комфортно, для Гольдштейна агония советской власти была связана с этническим насилием. От уютного «застойного» Баку остаются лишь зыбкие воспоминания: «Привычный город исчезал на глазах. Да и был ли он вовсе? Этот беспечный циник-космополит, прожженно-советский и насквозь несоветский, теплый, морской и фруктовый, обаятельно двоемысленный (каждый знал наперед, что отдать кесарю, а что взять себе) — он служил впечатляющей иллюстрацией к известной поэтической максиме, согласно которой "ворюга мне милей, чем кровопийца"»[17]. Баку в описании Гольд- штейна напоминает постколониальные ностальгические образы других космополитических городов, уничтоженных войнами и революциями ХХ века, — Александрии, Салоников, Бейрута. Американский литературовед Дэвид Мур удачно определил этот стиль репрезентации прошлого как «ретроспективный космополитизм» (retrospective cosmopolitanism)[18]. В новом, постсоветском мире Тель-Авив оказался для Гольдштейна реинкарнацией исчезнувшего Баку. Гольдштейн вновь оказался «в провинции у моря», откуда он мог наблюдать за миром и разгадывать смысл происходящего, делясь своими соображениями с ближними и дальними читателями. В Тель-Авиве ему интересны и близки не по-европейски фешенебельные центральные и северные приморские районы, а населенные неудачливыми эмигрантами и приезжими рабочими из «третьего» и «второго» мира южные и восточные окраины и пригороды, эти «белые найроби» среди «светской столицы евреев»: «Роль найроби огромна, самостоятельна, исторична. Теперь-то я знаю, найроби — магические пространства, не разрешавшие городу набрать ритм буржуазности, респектабельности, бурно ускориться в эту сторону»[19].
По Гольдштейну, роль «детерриториализованных» диаспор в литературе схожа с положением «белых найроби», этих «заряженных колдовской потенцией» «магических участков» чужеродности среди однородной буржуазной городской территории. Диаспора должна будоражить, раздражать и беспокоить свою культурную метрополию, не давая ей окончательно закоснеть в самодовольстве. В предисловии к стихотворному сборнику Александры Петровой «Вид на жительство» Гольдштейн писал:
[И]мперской литературе, какой и надлежит быть русской словесности, подобает тяготеть к иноприродности, инаковости своих проявлений. Культура империи выказывает мощь в тот момент, когда ей удается выпестовать полноценный омоним, выражающий чужое содержание посредством материнского языка. Исходя из собственной, подчеркиваю, собственной выгоды, культура остывшей империи должна сказать пишущим в диаспоре: ваша литература не русская, а русскоязычная, и это хорошо, именно это сейчас требуется. Она существует, она исполнена смысла. Добивайтесь максимального удаления от метрополии языка, развивайте свое иноземное областничество. Вы мне нужны такими, вы дороги мне как лекарство от автаркической замкнутости. В этом моя корысть, мое эгоистическое, оздоровительное к вам влечение, любовь к дальнему, разгоняющему застоявшуюся кровь[20].
В качестве примеров для подражания Гольдштейн приводил «франкоречивых авторов Магриба» и «индийских писателей английского языка». Периферийная литература должна противостоять «полированным кубикам» — «бедствию среднего вкуса», постигшему, по мнению Гольдштейна, современную русскую литературу[21]. Оптимистический взгляд Гольдштейна на литературу диаспоры противостоит скептицизму Иосифа Бродского, считавшего, что писатель в «изгнании» обречен на переживание своего прошлого: «.ретроспекция играет в его существовании чрезмерную (по сравнению с жизнью других людей) роль, затеняя его действительность и затемняя будущее»[22]. Для Бродского писатель-изгнанник по природе консервативен, обращен лицом к прошлому, поскольку «стилистические сдвиги и инновации в значительной степени зависят от состояния литературного языка "там", дома»[23], для Гольдштейна же именно диаспора является источником языковых «инноваций» и «стилистических сдвигов». Сам Гольдштейн критически оценивал эссеистику Бродского в эмиграции, усматривая причину стагнации в происхождении его поэтики из «рукава все того же петербургско-ленинградского мифа»[24].
Заочная полемика Гольдштейна с Бродским имеет и пространственное измерение. Для Гольдштейна эмиграция была не фактом биографии отдельного человека, а продуктом тектонических сдвигов в глубинах исторической материи: «.твой марш-бросок исполнили тобой и за тебя разъятая держава, разбухшие проценты эмиграций <...>. Люди редко узнают свою участь в лицо...»[25]Поэтому призвание писателя-эмигранта «словесно запечатлевать тягостные извороты и положения» является, возможно, единственным оправданием его личных «никчемных претерпеваний». Переезд из Баку в Тель-Авив был не «изгнанием», как отъезд Бродского из Ленинграда, а исторически обусловленным перемещением с восточного края древней ближневосточной ойкумены на западный, с Каспийского моря на Средиземное. Исторически, культурно и географически Баку и Тель-Авив Гольдштейна принадлежат одному пространству, в то время как Ленинград и Нью-Йорк Бродского относятся к разным мирам. Восток для Гольдштейна представляется неизменной в своей сути темной, нетерпимой и разрушительной силой, скрывающейся за орнаментальным фасадом учтивости — «я, ненавидя Восток, всю жизнь провел на Востоке»[26]. Восток принуждает каждого человека сохранять и культивировать свою национальную и религиозную особенность. На Востоке «[н]ет слова мощнее, чем нация. Взбухает, крепнет, раздается нация — трухлявятся другие слова. В нации соки мира кипят (в смысле world, в смысле мiр), бродят меркуриальные духи, нация темноречивая винокурня, тайнорунная колыбель, с благоуханными мощами рака»[27]. Запад же предлагает комфортную анонимность растворения в космополитической культуре. Мечта о Западе представляется Гольдштейну греховным соблазном: «А был нераскаянный грех, мечталось бродягой безродно с вокзала пройти в пакс-атлантическом каком-нибудь городке мимо двухбашенной церкви, бархатной мимо кондитерской <...>. Полвека хотел проскитаться из отеля в отель, на вопрос о корнях отвечая кислой гримаской, давно, дескать, снято с повестки, человек без родинки, песеннотихий никто, расплачиваюсь евро, нет наций после Голгофы, моей-то наверное — каюсь, был грех, о, нация, нация, все мое от тебя, я капля из дождевой твоей тучи»[28].
ЕВРЕЙСКИЙ МИФ ПЕТЕРБУРГА ОЛЕГА ЮРЬЕВА
В противоположность средиземноморскому бакинцу Гольдштейну, живущий во Франкфурте Олег Юрьев видит себя хранителем и продолжателем петербургской поэтической традиции: «…стихи — это единственная область, где я закоснелый шовинист и фундаменталист. Русская поэзия как система, как осмысленный непрерывный текст — это петербургская поэзия. Так будет всегда, пока будет стоять город, поскольку он пишет, а мы записываем. Вне этого города существовали и существуют по отдельности замечательные и великие поэты, сочиняющие по-русски, но из этого для меня не складывается никакой единой поэзии, никакого общего текста — только примечания»[29]. Не менее значимо присутствие Петербурга и в прозе Юрьева, прежде всего в романной трилогии «Полуостров Жидятин» (2000), «Голем, или Война стариков и детей» (2004) и «Винета» (2007), показывающей последнюю четверть ХХ века через сложную оптику мифологии, фантастики и гротеска. При всем изобилии постмодернистских приемов, проза Юрьева, как и его поэзия, ориентирована на традицию высокого модернизма, разыгрывающую основополагающие мифы европейской культуры в декорациях современности. Каждый роман трилогии имеет свой набор мифов, на котором строится повествование об определенном отрезке советской и постсоветской истории, но общим для всей трилогии служит «петербургский миф» в его новейшей, постсоветской вариации. В предисловии к роману «Винета» герой Юрьева рассуждает о природе «петербургского человека»:
Простой петербургский человек, рожденный сюда как бы авансом, ни за что ни про что, безо всяких со своей стороны на это заслуг, всегда отчасти смущен и постоянно слегка неуверен — а достоин ли он незаслуженной чести, а законна ли его прописка в Раю? <...> И в жизни петербургского человека наступает рано или поздно тот час, когда, больше не в силах жить на чужой счет, он отрывается — ведь и сам он, точно шарик, наполнен щекочущим газом. <...> И бедный шарик уносит — в Москву или Гамбург, в Венецию или Нью-Йорк, в простые беззазорно стоящие на земле (ну, пускай на воде) города — а те уж польщены будут, и благодарны, и счастливы, коли петербургский человек сойдет в них пожить. Для них — мы ангелы...[30]
Таким образом, жители Петербурга также оказываются своего рода «евреями», несущими миру тайное знание о городе, который «так и остался небесным островом — все и висит над землей и водой, чуть-чуть не касается»[31].
Действие первого романа трилогии, «Полуостров Жидятин», происходит весной 1985 года, в период короткого «междуцарствия» между смертью Черненко и назначением Горбачева. Напуганное слухами о погромах интеллигентное ленинградское еврейское семейство отправляется на школьные каникулы в «погранзапретзону полуостров Жидятин», расположенную у самой советско-финской границы на Карельском перешейке, где их родственник служит офицером по снабжению военно-морской части. Там они снимают нижнюю часть старого пакгауза, на втором этаже которого живут хозяева — последние на земле последователи секты «жидовствующих», с напряжением ожидающие чудесного избавления из векового пленения. Книга состоит из двух частей, написанных от лица двух подростков, ленинградца Вени Язычника и его ровесника из семейства Жидята. Сознание обоих рассказчиков несколько помутнено, в первом случае из-за острой болезни, а во втором — после произведенного собственными руками ритуального обрезания в ожидании скорого исхода из «римского» пленения, ассоциированного с Ленинградом, в «Иерусалим», находящийся в воображении сектантов на месте Хельсинки. Эта двойная перспектива задана симметрической конструкцией книги-перевертыша, которую можно с одинаковым успехом читать с двух концов.
Валерий Шубинский связывает зеркальную конструкцию романа с еврейско-русской темой: «."русское" и "еврейское" как будто отражаются друг в друге, взаимно пугаясь и не узнавая друг в друге — себя самое. Две семьи, имеющие реальные (но совершенно разные) основания считать себя еврейскими, видят друг в друге воплощение чуждого и опасного "русского" мира»[32]. Можно также сказать, что два рассказчика пародийным образом персонифицируют две антропологические модели еврейской идентичности, этническую и религиозную. Сам Веня Язычник далек от каких бы то ни было еврейских интересов, а брат его старшей сестры, учитель Яков Маркович Перманент, и вовсе принадлежит к группе ленинградских евреев-интеллигентов, обретших истину от простого деревенского попа, с доброй усмешкой окормляющего свою «пархатую епархию». Однако в потоке сознания Вени возникают говорящие на сочной смеси русского и идиша различные семейные персонажи старшего поколения. Их грубая «местечковая» речь по-бахтински подвергает осмеянию как официальный советский язык, так и антисоветские по содержанию и советские по форме рассуждения «человека европейской культуры» Перманента. Аналогичный стилистический прием мастерски использовал Фридрих Горенштейн в пьесе «Бердичев», где грубой и примитивной «аутентичной» местечковости старшего поколения бердичевских евреев противопоставлена шаблонная «интеллигентность» евреев московских. По-обэриутски виртуозно сочиненная сектантская речь Жидяты пронизана религиозной мифологией, скомпонованной из пестрой смеси исторических эпизодов, таких как изгнание евреев из Испании, новгородская ересь «жидовствующих» и завоевание Финляндии Россией. Если в глазах ленинградских евреев их дачные хозяева выглядят дикими русскими сектантами, то «последние жиды» из рода Жидята считают своих дачников из «языческого Рим-Города», он же «Ленин-Город и Петер-Город», типичными представителями завоевавшей их «забобонской» страны, чью власть они должны терпеть, покуда не прибудет мессианское избавление. Для Юрьева язык служит одновременно объектом и субъектом письма, темой и героем. Само имя Язычник (происходящее, как объясняет герой, от местечка Язычно) заключает в себе эту двойственность: с одной стороны, оно указывает на «язычество» советских евреев, утративших свою культуру и религию; с другой стороны, оно подчеркивает важность языка как инструмента для осознания, сохранения и отражения исторического опыта. При этом еврейский языковой материал с его двухслойной, религиозно-этнической стилистикой, сочетающий в себе как высокое, так и низкое, противопоставляется одномерной шаблонности советского сознания.
Действие романа «Новый Голем, или Война стариков и детей» происходит в 1992—1993 годах, в период следующего «междуцарствия и семибоярщины в бывшем Скифопарфянском Союзе», «единственной империи в мире, самораспустившейся по недоразумению»[33]. Место действия, пограничный чешско-немецкий городок Жидовска Ужлабина / Юденшлюхт («Еврейское ущелье») напоминает своим местоположением Жидятин. Но в отличие от Жидятина, расположенного на строго охраняемой советско-финской границе, разделяющей два враждебных мира, Юденшлюхт оказывается в центре новой объединенной Европы, стремящейся к стиранию всех границ: «Западный человек нашего нового времени будет красным зеленым голубым черным евреем-христианином-мусульманином»[34]. Герой романа, молодой ленинградский историк Юлий Гольдштейн (как выясняется в дальнейшем, двоюродный брат Вени Язычника) попадает в Юденшлюхт благодаря стипендии от фонда «Kulturbunker e.V.». Как и «Жидятин», «Новый Голем» наполнен иронической игрой в амбивалентность и зеркальность: для получения гранта, по условию предназначенного исключительно для женщин, Гольд- штейну приходится принимать женский облик всякий раз, когда он возвращается в свой бункер. Там он встречает своего двойника, переменившую свой пол на мужской американскую студентку Джулию Голдстин, которая тенью сопровождает Гольдштейна при всех его перемещениях. В центре интриги этого романа, который может восприниматься как пародия на триллер, находится тайна глубокого бункера, уцелевшего при бомбардировках Второй мировой войны. В глубине этого «еврейского ущелья» скрыта та самая волшебная глина, из которой в XVII веке пражский раввин Магарал слепил Голема и за которой сегодня охотятся спецслужбы США и России.
Как и в «Полуострове Жидятине», пространство «Нового Голема» разделено надвое. Карнавальной реальности новой Европы противопоставлен сохраняющий прошлое подземный мир, населенный истребленными с земной поверхности евреями. Позиция Европы по отношению к евреям сформулирована одним из персонажей романа в духе концепций радикальной ассимиляции XIX века: «...наивысшей пользой и защитой для евреев было бы их полное исчезновение! Тогда бы им уже ничего не грозило <...> Еврейство бы стало таким же полноценным наследием Западной Цивилизации, как и античность, и евреев, эту ушедшую шеренгу мудрецов и героев, все бы любили — никому же не придет в голову ненавидеть древних греков и римлян...»[35]Свободная от евреев Европа почувствовала себя более комфортно и с радостью приняла новую власть «Римской Империи Американской Нации», однако ценой этого комфорта оказалась утрата собственного европейского подсознания, ибо, как замечает рассказчик, «подсознания у американцев нет и никогда не было. У европейцев оно было, с конца XIX века до середины двадцатых годов, потом его начисто вылечили»[36]. Попасть в подземный «еврейский» мир, метафорически связанный с утраченным европейским подсознанием, можно через скрытые разломы в земной поверхности, такие как Юденшлюхтский бункер или петербургское еврейское кладбище. Под землей еврейские души «ртутными шариками укатываются по перепутанным трещинам и кротовьим проходам земли, лужицами и озерцами стекаются к подкладбищенским полостям <... > чтобы медленно течь дальше — под самый под Иерусалим», где, «разобравшись по родам и коленам», они ожидают «растворения недр и поименного вызова»[37].
Надземный и подземный миры различаются скоростью и направлением течения времени: «Еврейское время все медленнее, а нееврейское — все быстрей; все с большей скоростью размельчаются еврейские души — на половинки, на четвертушки, осьмушки, шестнадцатые <...> на многие тысячи тел едва-едва собирается одна хиленькая, с трудом вспоминающая дарованье скрижалей душа — поэтому все медленней и медленней дополняется Собранье Израиля»[38]. Христианское же время, по которому живет «победоносная часть» человечества, движется поступательно вперед, поскольку «христианская цивилизация связала ритм жизни человечества с ритмом жизни человека»[39], и лишь на короткий промежуток между Рождеством и Новым годом в этом поступательном течении времени наступает зазор. В этот короткий интервал открывается «межвременная щель», своего рода проблеск конца света, представляемого не как момент, а как процесс, размыкающий автоматическую связь между человеком и человечеством (источником этого образа послужили Юрьеву дневники Якова Друскина). Однако еврейство у Юрьева не является абсолютной данностью. Разделение на евреев и неевреев может быть навязано окружающим обществом, а может стать результатом собственного выбора какой-то группы людей. Такое еврейство по выбору как маркер различения и избранности принимает различные формы в зависимости от эпохи и культуры, но Юрьева занимает реализация еврейства в русском контексте. В главе «Двадцать граней русской натуры» содержится важное для понимания этой концепции утверждение, сформулированное рассказчиком в присущей Юрьеву иронической манере: «У русских и евреев вообще очень много сходных качеств (за вычетом разной конфигурации ума и инстинкта) — в первую очередь из-за того, что и русские, и евреи не народ, не раса, не культура, а нечто вроде отдельного человечества, внутри которого много народов, рас и культур. Им бы и жить на отдельных планетах»[40].
Действие романа «Винета», завершающего трилогию, происходит на рубеже нового тысячелетия в балтийском морском пространстве между Россией и Германией. Вениамин Язычник, повзрослевший и загрубевший в перипетиях девяностых годов, спасается от преследующих его петербургских бандитов на рефрижераторном судне «типа "Улисс"», везущем из Петербурга в Любек замороженные трупы, которые на поверку оказываются живыми людьми, стремящимися, как и он, убежать от ужасов российской действительности. При этом настоящая цель Язычника — найти легендарную Винету, предмет его кандидатской диссертации, «сказочно богатый славянский город на Балтийском море», по преданию, затонувший у берегов Германии где-то в начале второго тысячелетия в результате осады «народами низкого культурного уровня, но большой алчности» — датчанами, немцами и поляками. На корабле Язычник встречает своих одноклассников и как бы возвращается в свое советское прошлое, знакомое нам по «Жидятину». Среди встреченных им людей из прошлого оказывается и его покойный отец, капитан израильской подводной лодки «Иона-пророк алеф бис», погибший десять лет назад при выполнении секретного задания. В отличие от обычных, еврейские подводные лодки плавают в основном не под водой, а под землей, «по извилистым подземным проходам, по светящимся пещерным озерам, по страшным голубым рекам, выводящим отовсюду под Иерусалим, в огромное подскальное море под Масличной горой»[41]. По пути эта подводная лодка подбирает разных «жидовских людей», пробирающихся трудными подземными путями в Иерусалим, — русских субботников, судетских гномов и жидятинских цыган. Наступление нового тысячелетия возвращает героя в Петербург, мифологический двойник Винеты, соединенный с ней, как показал Язычник в своей диссертации, «по принципу ленты Мёбиуса»: «Собственно, мы даже можем сказать, что в конечном итоге Петербург — это и есть Винета, а Винета есть Петербург...»[42] Цикличность времени в романе обозначена обретением Винеты и одновременным возвращением в Петербург в момент наступления нового тысячелетия, то есть на исходе того самого «межвременного зазора», который был описан в «Новом Големе».
В интервью Валерию Шубинскому Юрьев объясняет свой интерес к еврейской теме преимущественно этическими соображениями: «Скажу сразу, прямо и определенно: еврейская тема для меня — ничто. Как, впрочем, и любая другая тема. Тематически я не мыслю. Надеюсь, что в моих сочинениях я мыслю образами, что от меня, собственно, и требуется. Другое дело, что моим происхождением, моей биографией, моими в том числе залитературными интересами мне предложен был в изобилии "еврейский строительный материал". Уклониться от него означало бы (в свое время) сознательно уклониться от того, что тебе по обстоятельствам исходно дано, причем по причинам, которые могли быть только низкими и стыдными»[43]. Само понятие «русско-еврейская» литература для Юрьева лишено смысла, так как, по его словам, литература полностью определяется языком: «Все равно ведь все расписывается по структурам общерусской литературы»[44]. Однако такая позиция, при всей ее определенности, не отвечает полностью на заданный вопрос. «Еврейская тема» в романах Юрьева — безусловно, нечто большее, чем просто «строительный материал», состоящий из знакомого по жизни советского еврейского быта и почерпнутых из книг знаний о еврейской культуре. Еврейский миф, наряду с петербургским, служит несущей опорой для замысловатых литературных конструкций в прозе Юрьева. Этот миф содержит языковые, исторические, религиозные пласты, позволяющие создавать особое, нелинейное пространство и время. Он объединяет как самых обычных ассимилированных советских евреев, так и всевозможных экзотических «жидят», соединяет живых и мертвых, настоящее и будущее. Этот миф продолжает жить в европейском подсознании, несмотря на то что Европа, казалось бы, это подсознание давно утратила. Еврейский миф выходит на поверхность из глубин прошлого в моменты перелома, когда иллюзия линейного течения времени нарушается. Именно в этот исторических момент «расхождения межвременной щели» становится видимым другое, «еврейское» время, где настоящее не разделяет, а замыкает прошлое и будущее. Это время сложным образом связано с концом света, представляемым не как момент, а как процесс, «с собственной сложной структурой подъемов и спадов»[45]. Трилогия Юрьева зафиксировала один из таких спадов, случившийся в России и Европе между 1985 и 2000 годами. Нелинейная фактура времени в романах отражает его эстетическую позицию по отношению к модернизму и постмодернизму. В своем блоге на сайте проекта «Новая камера хранения» Юрьев определяет себя как одного «из усердных употребителей понятий «новый или второй модерн»»[46], которое он противопоставляет постмодернизму. «Второй модерн» для Юрьева - «это еще одна попытка осуществить исторически недоосуществленное на новом антропологическом материале — т.е. на нашем»[47]. Тем самым «второй модерн» эстетически продолжает «первый», обращаясь к нему через всю советскую эпоху, которую Юрьев определяет как «второй XIX век», насильно вторгшийся в течение времени и прекративший естественное развитие модернизма. Возводя свою литературную генеалогию к петербургскому модерну первой половины ХХ века, Юрьев отностится к мифу как к основе всякого творчества, что отличает его от постмодернистских авторов, использующих мифологические элементы для литературной игры. Игра для Юрьева не цель, а средство, художественный прием, вовлекающий читателя в диалог с автором. При этом Юрьев всеяден в отношении используемого культурного материала, от советских шлягеров до «Улисса», от подросткового жаргона до высокой поэзии. В каждом предложении присутствует цитата, аллюзия или параллель, что придает его текстам живость и глубину. Но за всем этим стоит попытка художественного воссоздания — а не только отражения — действительности, раскрытия ее глубинных смыслов, недоступных линейному, «декартовому» мышлению.
ЗАОЧНАЯ ПАМЯТЬ АЛЕКСАНДРА ИЛИЧЕВСКОГО
Нелинейность является одним из определяющих свойств прозы Александра Иличевского. Первый роман Иличевского, «Нефть» (выходивший также под названиями «Мистер Нефть, друг» и «Solara»), построен на материале семейной истории автора, хотя его героя, подростка по имени Глеб, нельзя назвать двойником автора. Иличевский заставляет читателя самостоятельно выстраивать смысл происходящего, вылавливая и сопоставляя детали из фрагментов повествования. Рассказчик, по его собственному признанию, «всегда отличался ненормально взвинченной психосоматической реакцией»[48], и эта психическая неуравновешенность усугубилась преследованием со стороны родственников. Все это делает его историю путаной и непоследовательной; явь перемежается со снами и фантазиями, что, по-видимому, должно отражать его внутреннее переживание распадающегося исторического времени. В этой ситуации распада реальности единственной точкой опоры для автора становится семейная история, и даже не сама по себе история, а возможность писания о ней: «Сама история, если внимательно ее размыслить, не так уж и важна, поскольку она — кульминация и развязка, — и, как и все взвинченное и мгновенное, отчасти бессмысленна; но вот то, что ввело меня в нее, и то, благодаря чему она стала возможна как случай, мне самому представляется существенным и вполне достойным изложения»[49]. В писании для рассказчика важен не результат, который может существовать отдельно от автора в качестве книги, а сам процесс, посредством которого он восстанавливает свое «я». Писание позволяет остановить «осыпание действительности», зафиксировать себя во времени и пространстве.
Подобно своим героям, Иличевский занят поисками и реконструкцией своей литературной генеалогии, ведущей через метаметафоризм Алексея Парщикова к футуризму Велимира Хлебникова. Ключевую роль в этом поиске играет метафора, воспринимаемая не просто как литературный инструмент или прием (Иличевский не включает в свою генеалогию формалистов), а как принцип построения текста и «мощнейший инструмент познания». Через «управляющую смыслом» метафору автор стремится установить «телескопическое сродство» между природой, цивилизацией и человеком[50]. Яркой иллюстрацией этого художественного метода служит метафора нефти, объединяющая два романа, использующие автобиографический материал, «Нефть» и «Перс». Нефть выступает в этом истолковании как тройственная «метаметафора» источника в магическом, биологическом и психологическом смыслах: это «вариант "философского камня", превращающего что ни попадя в золото — деньги»[51](отсюда, по Иличевскому, вытекает вся экономика, основанная на семиотической операции «подмены» реальной ценности денежным знаком); это питательная среда, в которой зародились и развились первые микроорганизмы и с помощью которой они вышли на поверхность земли»; и, наконец, это «спрессованная злая воля, сумеречный первобытный мозг, звериная злоба»[52].
Прозу Иличевского можно читать как развернутый комментарий к стихотворению Парщикова «Нефть». Стихотворение Парщикова завершается пророчеством, задавшим Иличевскому направление для поиска нового человека и новых общественных форм, результатом которого и стал цикл из четырех романов:
Нефть — я записал, — это некий обещанный человек,
заочная память, уходящая от ответа и формы,
чтобы стереть начало...
«Любое открытие» — пишет Иличевский в своем анализе этого стихотворения — «осуществляется на деле как событие припоминания». Функция памяти заключена в самой структуре пространства, его топологической конфигурации, и текст — как «акт сознания» — является одновременно актом припоминания[53]. Мифогенный потенциал метафоры нефти как «заочной памяти» конца времен разрабатывается Иличевским в посвященном Парщикову романе «Перс», во многом продолжающем и развивающем темы романа «Нефть». Связь между ними подчеркнута общей семейной фамилией Дубнов, напоминающей о знаменитом российском еврейском историке и приверженце концепции «национально-культурной автономии» евреев в диаспоре. Рассказчик, геолог Илья Дубнов, в начале 1990-х эмигрировавший в Америку и вернувшийся в начале нового тысячелетия из Калифорнии в Москву, «сердце моей неведомой родины», отправляется в Азербайджан на поиски своего друга детства, иранца Хашема, бежавшего вместе с матерью в советский Азербайджан после гибели отца, офицера шахской тайной полиции, во время Исламской революции. Герои «Перса», как и трех других романов — «Матисс», «Математик» и «Анархисты», объединенных Иличевским в «квадригу», — своего рода «дауншифтеры», успешные в прошлом мужчины, которые прошли через внутренний кризис, отказавшись от карьерных устремлений и найдя свой собственный путь. Выбранный героем вариант пути определяет не только сюжет, но и стилистику и композицию романа. Для Дубнова этот путь ведет через возвращение в детство на пропитанном нефтью Апшеронском полуострове, что отражается в рекуррентной структуре текста, на каждом новом витке возвращающем читателя к определенным ключевым эпизодам и образам из детства и юности героев. Детство как исток жизни и источник памяти метафорически смыкается с нефтью: «Детство еще очень близко к небытию и потому, наверное, счастливо, что удалось сбежать от небытия. Теперь детство так далеко, будто и не существовало»[54].
Хашем воплощает для Дубнова путь от цивилизации к природе. Отказавшись от скромных благ, которые он мог получить в независимом Азербайджане как «единственный на всю республику переводчик и исследователь американской поэзии»[55], он создал небольшую анархистскую коммуну в заброшенном ширванском заповеднике. Там ему удалось воссоздать вымышленную реальность, подобную Голландии Уленшпигеля, в которую они играли в детстве вместе с Ильей. Тогда реальность воображаемого мира открылась им на занятиях в детской театральной студии «Капля» под руководством Льва Штейна, «бесстрашного солдата культуры в провинциальном Баку», познакомившего их с фигурой Хлебникова — «С этого-то все и началось». Фигура Штейна, неудачливого еврейского интеллигента-инженера, приехавшего в Азербайджан по распределению и нашедшего свое призвание в детском театре, наделена определенными чертами Александра Гольдштейна в его бытность в Баку. Это сходство проявляется в круге чтения: «...взахлеб Сартр, Камю, роялистского Солженицына отставить, взяться за самиздатных Шестова, Бердяева, Кьеркегора, пропесочить Белинкова, обожествить Олешу, разрыдаться над Поплавским, написать инсценировку по "Столбцам" и "Старухе", погрузиться в "Письма к Милене"»[56]. Как и Гольдштейн, Штейн мрачно оценивает свое положение: «Что ж обижаться на местожительство, провинция повсюду. Москва, Ленинград — всё провинция. С точки зрения цивилизации страна не существует уже многие десятилетия»[57]. В терминологии Евгения Штейнера, Штейн представляет собой «парасоветский» тип, создающий свой собственный воображаемый мир в вязкой и мрачной советской провинциальной среде. Если Штейнер относился к авангарду чисто эстетически, то для Штейна авангард — это «капля отравы — капля надежды на авангард, на безумие творчества. На то, что где-то в абсолютной, неожиданной абстракции, как здесь, в этом для Штейна одновременно родном и пронзительно чужом южном городе, некогда оплодотворенном пророком авангарда — Хлебниковым, зародится нечто осмысленное и жизнеспособное, нечто отличное от наследия симулянтского слоя и его впитывающего амальгамического подполья»[58]. Образ зарождения нового смысла в «симулянтском слое» и «амальгамическом подполье» возвращает воображение читателя к обобщающей метафоре нефти как среде зарождения новой жизни из остатков прежней.
От Штейна Илья и Хашем узнают о Баку двадцатых годов, городе, где жили Хлебников, Есенин, Вячеслав Иванов, Блюмкин, о советском шпионе Абихе, оставившем ценный «персидский» архив материалов Хлебникова. Впоследствии этот архив оказывается источником вдохновения для Хашема, а Хлебников становится его ролевой моделью — «роль должна нащупать его откровением». В свою очередь, учителем Хлебникова был бакинский цадик, каббалист Меюхес (на иврите — «человек знатного происхождения»), раскрывший русскому поэту религиозный смысл творчества: «Тора — не венец, не инструмент, Тора ради Торы, Господь на вершине Синая сидит и изучает Тору. Я хочу заглянуть ему через плечо»[59]. Каббала в интерпретации Меюхеса сближается с учением хуруфитов, средневековой исламской секты, обожествлявшей язык, слово и поэта. Вера в то, что «язык сильнее разума и власти», перешла от средневековых еврейских и исламских мистиков в теургическую концепцию авангарда и снова ожила на руинах советской империи. Мотив возвращения к «истоку», первоначальному моменту, лежащему за пределами знания и восприятия как отдельного человека, так и всего человечества, принимает в романе различные формы, от увлечения авангардом до занятий биоинформатикой. Стремление Дубнова оживить утраченный мир детства отражается и в его научном интересе. Он надеется найти в глубинных пластах бакинской нефти следы первичного генома, «Божьего семени» и «общего предка всего живого», того «избранного организма», который дал своими бесчисленными комбинациями начало всему многообразию живых форм. Поиск этих следов стал новым «вектором его жизни», приведшим его сначала в Россию, а потом на Апшерон, «первое на планете место промышленной добычи нефти»: «Нет больше места на земле, где существовали бы в течение многих веков нефтяные алтари. <...> Я жил среди нефти и слышал ее, я знаю, что нефть — зверь. Самый огромный страх детства — пожар в Черном городе — стоял у меня перед глазами. Нефть сочилась из недр в предвосхищенье войны...»[60] Нефть определяет городскую мифологию Баку, его прошлое, настоящее и будущее: «Древность и нефть, богатство и нефть, промышленность и нефть, великое опасное море, усыпанное искусственными островами, одолеваемое промыслом; золотое дно Каспия, легенды о гигантских подводных опрокинутых чашах, передвигающихся по дну моря вместе с буровыми установками»[61]. Нефть соединяет начало жизни героя с началом жизни на земле, и она же, по Парщикову, связана с образом «некоего обещанного человека», воплотившегося в романе Иличевского в Хашеме.
Хашем пытается возродить суфийский вариант ислама, с тем чтобы «предъявить ценности, способные противостоять шариату»[62]. Эклектическое учение Хашема включает остатки переживших советскую власть в далеких углах Азербайджана дервишских практик, переработанный для экспорта восточный вариант мировой революции, который пытались внедрить в Иране Блюмкин и Хлебников, а также охрану уникальной доледниковой природы Ширвана от разрушения и расхищения со стороны развращенной нефтью цивилизации. Для реализации своего плана Хашем создал в заброшенном Ширванском заповеднике «Апшеронский полк имени Велимира Хлебникова», совместив функции духовного учителя и полевого командира. Сверхзадача этого предприятия — «столкнуть вечность со временем»[63], как это завещал Хлебников в радикальной интерпретации Штейна: «Задача Хлебникова — весь мир превратить в авангард. Так — авангардом — обогнать время и им завладеть»[64]. Для Дубнова Хашем предстает «законченным героем некогда оборвавшегося и позабытого, но сейчас продолженного действа»[65], и одновременно реинкарнацией Хлебникова: «…передо мной сидел воскресший Хлебников. Никаких сомнений. Это был оживший и окрепший, исполнивший многие свои предназначения, какие не успел при жизни, Велимир Хлебников собственной поэтической персоной. Я вспомнил Штейна, давшего неимоверное задание своему талантливому ученику, и поежился»[66].
Столичному «вскормленному нефтью» Баку пространственно и концептуально противопоставлен пограничный Ширван, своего рода восточный аналог Жидятина и Юденшлюхта:
Здешнее пограничье всегда было особенным. Зажатая между горами и морем, эта полоска империи находилась в особенном состоянии — напряженном и возгонном одновременно, как жидкость у поверхности находится в состоянии постоянного возмущения испаряемыми потоками и осадками — и вдобавок стянута незаметным, но мощным поверхностным натяжением. Здесь жили сосланные сектанты — молокане, субботники, геры, духоборы; с ними сосуществовали и добровольные изгои, по призыву собратьев прибегшие к убежищу тучной отдаленности. Жили они тут будто на выданье, грезя об Иерусалиме за горами, и многие уходили, пройдя райскими устами Мазендерана в материнскую утробу. С сектантами соседствовали казачьи заставы, чье население к началу двадцатого века было давно укоренившимся. В советское время все эти места были охвачены погранзоной с особым режимом допуска, тремя КПП, обеспечивавшими заповедность[67].
Ширван, как и пограничные локусы у Юрьева, изоморфно связан со Святой землей — «Ширван, собственно, был для Хашема скрижалью. Карту древнего Израиля Хашем переносил на Ширван контурным методом»[68]. Но в отличие от чешско-немецкого пограничья в самом центре новой европейской провинции американской империи, граница между Азербайджаном и Ираном отделяет далекого и ненадежного вассала Америки от ее врага. Эта граница открыта для птиц, главного достояния Ширванского заповедника, чьи подробнейшие описания занимают десятки страниц «Перса». Птицы, метафорически воплощающие идею небесной свободы, противопоставлены нефти и земле. Персия/Иран, «Новый Свет для русских колумбов», куда течет главная русская река Волга, наделена в мифологии романа двойственным смыслом, представляя одновременно смерть и свободу. В далеких горах обитает антипод Хашема по прозванию Принц, за которым угадывается Осама Бен-Ладен, лидер исламского фундаментализма, одного из последствий нефтяной лихорадки. Аналогом утопической Винеты у Иличевского служит древняя Хазария, защищенное со всех сторон убежище гонимых евреев: «Страна была желанной и неприступной, как иная дева. Или — тайна, что наследует смерти. Иудеи, бежавшие из Персии, священно правили ею, призвав Бога Израиля, Бога отцов их, на охрану и во благо своего нового прибежища. Царь и народ вняли призыву. В половодье протоки меняли русла. Моряна внезапно гнала в камышовые дебри волну со взморья — на погибель. Страна плыла, менялась вместе с дельтой, как рука, пытающаяся удержать горсть песка, то есть время. Для чужаков страна была неприступна, будто призрак»[69]. Обращение к популярному хазарскому мифу позволяет Юрьеву и Иличевскому образно передать амбивалентность положения евреев Евразии как одновременно исконных жителей региона, но при этом всегда отчужденных от массы населения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Распад СССР изменил не только политическую географию мира, но и личное ощущение своего места у каждого жителя этой бывшей страны. Каждый пишущий по-русски литератор, независимо от своего постоянного или временного местожительства, пытается заново определить свое положение во времени и пространстве. Агрессивная Москва, с ее претензией на верховодство в новом постсоветском «русском мире», вызывает отторжение у писателей, пытающихся художественно осмыслить новую пространственную конфигурацию, в которой границы русской культуры не совпадают с границами Российской Федерации. Герой-рассказчик «Перса» Дубнов возвращается в Москву после долгих лет, проведенных в Калифорнии и Израиле: «Москва — сердце моей неведомой родины. Призрак империи страдает фантомной болью. Боль эта взаимная, и оторванные ударом истории колонии тоскуют по целости. Здесь почти всегда вы на ровном месте — в любой области жизни, будь то культура, общество, наука, мыслительный процесс как таковой — сталкиваетесь с препонами, которые из-за своей непроницаемости выглядят сначала злостными, затем комическими и, наконец, зловещими»[70]. В петербургском мире-мифе Юрьева Москва служит средоточием художественной эклектики и безвкусия на грани безумия: «У меня вот был один знакомый писатель когда-то, из Москвы, так он себе целью поставил объединить, в художественном смысле, конечно, Кафку и Зощенко. И знаете, что вышло? — Кащенко!»[71] Характерно, что интеллигентный ленинградский юноша, к которому обращена эта шутка, «не будучи москвичом, бонма не просек»[72]. Персонажу Юрьева вторит Хашем у Иличевского: «Москва грузный город, слепой. В Питере горизонт с любой улицы видно»[73]. Для Гольдштейна и Иличевского, выходцев с южной советской окраины, Москва представляет собой колониальный имперский «фантом», одновременно притягательный и отталкивающий. Все три писателя противопоставляют «грузной и слепой» Москве иронически романтизированный «детерриториализированный» «парасоветский» еврейский хронотоп. Не случайно русской литературе не удалось создать «еврейский миф» Москвы, несмотря на то что Москва была самым крупным и динамичным еврейским центром СССР. Некоторой компенсацией может служить «слободской» миф еврейских пригородов — Черкизова, Останкина, Марьиной Рощи, Томилина, — возникших вокруг исторической Москвы с появлением еврейских беженцев в начале Первой мировой войны и разросшихся в первые годы советской власти. На русском языке этот миф лучше всего воплощен в рассказах Асара Эппеля, герои которых редко попадают в совершенно чуждый им центр города, а также в романе Юрия Карабчиевского «Жизнь Александра Зильбера». Именно бывшая советская периферия активно порождает метафорические и символические конструкции «еврейского» хронотопа.
[1] Автор признателен Олегу Юрьеву и Алексанру Иличевскому за замечания и поправки к тексту статьи.
[2] Yurchak A. Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation. Princeton: Princeton University Press, 2006. P. 31—32.
[3] Ibid. P. 31—32.
[4] Рубина Д. Ни жеста, ни слова // Вопросы литературы. 1999. № 5/6 (http://www.dinarubina.com/interview/nizhe-stanislova.html).
[5] Neue Zurcher Zeitung. 2010. 1 Jan. S. 19.
[6] Yurchak A. Everything Was Forever. P. 31—32.
[7] Членов М. У истоков еврейского движения. Интервью Polit.ru. Опубл. 18 мая 2011 г. // http://www.polit.ru/article/201l/05/18/chlenov/.
[8] Там же.
[9] Звенья. 1992. № 6. Перепечатано в тель-авивском журнале «Зеркало» (2009. № 33 (http://zerkalo-litart.com/?p=3042)).
[10] Там же.
[11] Там же.
[12] Там же.
[13] Гольдштейн А. На ту же тему // Звенья. 1992. № 7. Перепечатано в журнале «Зеркало» (2009. № 33 (http://zerkalo- litart.com/?cat=38)).
[14] Там же.
[15] Гольдштейн А. Расставание с Нарциссом. Опыты поминальной риторики. М.: Новое литературное обозрение, 1997. С. 373—374.
[16] Бабель И. Одесса // Он же. Сочинения. Т. 1. М.: Художественная литература, 1991. С. 65.
[17] Гольдштейн А. Конец одного пантеона // Знак времени. 1992. № 2. Перепечатано в: Зеркало. 2009. № 33 (http://zerkalo-litart.com/?p=875).
[18] См.: http://hu.tranzit.org/en/event/0/2011-10-14/lecture-david-chinoi-moore-v....
[19] Гольдштейн А. Спокойные поля. М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 58.
[20] Гольдштейн А. Три дарования // Петрова А. Вид на жительство. М.: Новое литературное обозрение, 2000. С. 9—10.
[21] Гольдштейн А. Огорчительны нападки на слово // Open Space.ru. 22.07.2011 (http://os.colta.ru/literature/projects/175/details/23768/).
[22] Brodsky J. The Condition We Call Exile // Idem. On Grief and Reason: Essays. New York: Farrar Straus Giroux, 1995. P. 27.
[23] Ibid. P. 30.
[24] Гольдштейн А. Расставание с Нарциссом. С. 375.
[25] Гольдштейн А. Спокойные поля. С. 77.
[26] Гольдштейн А. Помни о Фамагусте. М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 20.
[27] Там же. С. 20.
[28] Там же. С. 20—21.
[29] Юрьев О., Шубинский В. Сопротивление ходу времени // НЛО. 2004. № 66. С. 240—241.
[30] Юрьев О. Винета // Знамя. 2007. № 8. С. 7.
[31] Там же.
[32] Шубинский В. Часть или целое? Евреи и еврейство в книгах Олега Юрьева // Народ книги в мире книг, 77 (декабрь 2008) (http://narodknigi.ru/journals/77/chast_ili_tseloe_evrei_i_evreystvo_v_kn...).
[33] Юрьев О. Новый Голем, или Война стариков и детей: Роман в пяти сатирах. М.: Мосты культуры, 2004. С. 119.
[34] Там же. С. 37.
[35] Там же. С. 235.
[36] Там же. С. 49.
[37] Там же. С. 85.
[38] Там же. С. 85.
[39] Там же. С. 91.
[40] Там же. С. 146.
[41] Юрьев О. Винета. С. 72.
[42] Там же. С. 85.
[43] Юрьев О., Шубинский В. Сопротивление ходу времени. С. 237.
[44] Там же. С. 238.
[45] Юрьев О. Новый Голем. С. 93.
[46] Юрьев О. К попытке реабилитации понятия «постмодернизм», предпринятой Владиславом Кулаковым // Блог Олега Юрьева. 26.02.2010 г. (http://www.newkamera.de/blogs/oleg_jurjew/?p=1153).
[47] Там же.
[48] Иличевский А. Бутылка Клейна. М.: Наука, 2005. С. 298.
[49] Там же. С. 278.
[50] Эту мысль Иличевский высказывает применительно к поэзии Парщикова: Дробязко Е. Алеша тихо улыбнулся // Topos. ru. 24.05.2012 (http://www.topos.ru/article/bibliotechka-egoista/alesha-tikho-ulybnulsya).
[51] Иличевский А. Бутылка Клейна. С. 245.
[52] Там же. С. 246.
[53] Иличевский А. Прочтение. «Нефть» //https://sites.google.com/site/alexanderilichevsky/esse/dozd-dla-danai.
[54] Иличевский А. Перс. М.: АСТ; Астрель, 2010. С. 60.
[55] Там же. С. 294.
[56] Там же. С. 312.
[57] Там же. С. 315.
[58] Там же. С. 315.
[59] Там же. С. 422.
[60] Там же. С. 100.
[61] Там же. С. 273.
[62] Там же. С. 189.
[63] Там же. С. 235.
[64] Там же. С. 322.
[65] Там же. С. 391.
[66] Там же. С. 502.
[67] Там же. С. 237.
[68] Там же. С. 355.
[69] Там же. С. 498.
[70] Там же. С. 24.
[71] Юрьев О. Новый Голем... С. 62.
[72] Там же.
[73] Иличевский А. Перс. С. 304.
Опубликовано в журнале:
«НЛО» 2014, №3(127)
Еврейская эмиграция и современная литература
(От составителя)
Михаил Крутиков
Распад СССР практически бесконфликтно разрешил двухвековой российский «еврейский вопрос», созданный политикой Екатерины II и унаследованный поколениями царей и генеральных секретарей. С падением коммунистической системы исчезли государственный антисемитизм и подавление религии, были открыты границы и разрешена религиозная, культурная и общественная деятельность, в том числе и национально окрашенная. В целом можно даже сказать, что советские евреи оказались в выигрыше от этой «крупнейшей катастрофы двадцатого столетия», в отличие от других, много более трагических событий прошлого века. В результате распада СССР большая часть (около 70—80%) бывших советских русскоязычных евреев находится за пределами Российской Федерации: часть, никуда не уезжая, оказалась в «ближнем» зарубежье, прежде всего на Украине, в Беларуси и Молдове, часть переехала в «дальнее» — Израиль, Германию, США и Канаду. По своей мотивации массовая эмиграция девяностых годов во многом была противоположна эмиграции семидесятых: люди уезжали не от советской власти, а от кризиса, вызванного ее коллапсом. В результате в Израиле образовалась значительная масса русских по культуре евреев и их родственников, которые при других обстоятельствах не думали бы об отъезде, что позволило им создать мощную культурную, образовательную и отчасти политическую инфраструктуру на русском языке. Они не были убежденными сионистами и не ощущали глубокой связи с еврейской историей и культурой, и при этом многие из них испытывали определенную ностальгию по навсегда потерянной советской родине и русской культуре. С точки же зрения сионистской идеологии эта волна «русской алии» воплощала крайне негативные аспекты диаспоры. Лишенные национальной и религиозной идентичности, ассимилированные до крайней степени советские евреи были «спасены» в последний момент от исчезновения и растворения в гомогенной массе «советского народа». Более того, они оказались в Израиле в момент, когда их присутствие было особенно необходимо для укрепления еврейского характера государства. Уехав из общества, которое маркировало их как «евреев», они оказались в обществе, воспринимающем их как «русских». Такого рода двойственная идентичность требовала постоянного осмысления, что в свою очередь способствовало культурному творчеству. Аналогичные ситуации возникали и в других русско-еврейских диаспорах, где к двум имеющимся компонентам идентичности — русскому и еврейскому — добавлялся третий, соответственно немецкий или американский (канадский).
Таким образом, литература российской еврейской диаспоры оказывается обращенной к двум различным аудиториям: широкой общероссийской и узкой «своей», пережившей опыт жизни за пределами России. Наиболее успешным писателем, освоившим эту стратегию двойного письма, стала Дина Рубина, чьи персонажи часто обладают «раздвоенной» идентичностью.
Сегодня культурные институции русского зарубежья, некогда широко известные в узких кругах издательства и журналы, в значительной мере утратили накопленный за последние десятилетия советской власти символический капитал. Если прежде зарубежная публикация часто бывала событием, определяющим дальнейшую жизненную и литературную судьбу автора, то теперь таким событием может стать лишь публикация в Москве или Петербурге. Конфликт между «советским» и «еврейским», в свое время остро переживаемый многими еврейскими интеллигентами и приводивший в эмиграции к полному отрыву от России и русской культуры, со временем сглаживается в культурной памяти, а само понятие советского утрачивает прежнюю идеологическую остроту и становится атрибутом исторической эпохи. Литература оказывается своего рода лабораторией, в которой создаются новые пробные модели описания существования «советского еврея», находившегося в сложных и противоречивых, но далеко не всегда антагонистических отношениях с советской властью и советским обществом. Для анализа этого сложного симбиоза подходит предложенная Светланой Бойм концепция «рефлексированной» ностальгии, противопоставленная «восстановительной», или «тотальной», ностальгии[1]. В отличие от этой «тотальной» и «утопической» ностальгии, стремящейся «восстановить или построить вновь мифический коллективный дом», ироническая ностальгия «опирается на повествования, которые выявляют противоречивое отношение к прошлому»[2]. Кажется излишним специально отмечать, насколько эта нехитрая бинарная оппозиция актуальна при описании нынешней российской реальности. При том, что многим российским евреям, как в России, так и за рубежом, далеко не чужды российский шовинизм и ностальгия по былому советскому величию, современная русско-еврейская литература (при всей условности этого термина) склонна именно к иронической, а не «восстановительной» ностальгии. При всем разнообразии жанров, стилей, языков, идейных воззрений и эстетических предпочтений писателей и поэтов, о которых идет речь в статьях нашего блока, всех их объединяет «рефлексивное» остранение советского прошлого, которое при этом остается неотделимой частью их личного опыта. Другим общим качеством героев нашего блока является их восприятие еврейской темы, также несущее в себе черты рефлексии, иронии и остранения. «Еврейское» и «советское» оказываются двумя базовыми координатными осями иронической рефлексии, определяющими поверхность для построения сложных метафизических, метафорических и мифологических художественных конструкций. Предложенная Стефани Сандлер концепция «маргинально-еврейской» литературной территории с подвижными и проницаемыми границами представляется продуктивной для описания разнообразных явлений современной литературы, создаваемой в различных частях мира на русском и других языках из материала, подсказанного советско-еврейским опытом. Эта концепция позволяет описать и такое явление, как творчество русско-еврейских эмигрантов, в основном младшего поколения, на других языках — английском, немецком и иврите. Как показывает Адриан Ваннер, эти авторы умело манипулируют устоявшимися «русскими» стереотипами, добиваясь популярности и коммерческого успеха, но при этом сохраняя элементы рефлексивной иронии для «своего» читателя. В статье Михаила Крутиковарассматриваются примеры мифологизации советского прошлого в духе традиции европейского «высокого модернизма» ХХ столетия.
Статьи нашего блока представляют собой переработанные и расширенные варианты докладов, прочитанных на конференции, посвященной современному состоянию русскоязычной еврейской диаспоры (Гарвардский университет, 13—15 ноября 2011 года). Авторы выражают искреннюю благодарность организаторам конференции Лиз Тарлоу и Цви Гительману за приглашение принять в ней участие и любезное разрешение опубликовать свои доклады в форме статей в журнале «НЛО».
Михаил Крутиков
[1] См.: Boym S. The Future of Nostalgia. New York: Basic Books, 2001. P. 40—72.
[2] Бойм С. Конец ностальгии? Искусство и культурная память конца века: Случай Ильи Кабакова // НЛО. 1999. № 39 (http://magazines.russ.ru/nlo/1999/39/boym.html).
Опубликовано в журнале:
«НЛО» 2014, №3(127)
Интервью с Уильямом Сафраном, Робином Коэном и Йосси Шаином
(пер. с англ. А. Логутова)
«НЛО»: Редакция «НЛО» обращается к нескольким выдающимся специалистам в области транснациональных отношений и diaspora studies. Мы будем рады, если вы сможете ответить на несколько наших вопросов.
1
«НЛО»: Как бы вы могли вкратце обрисовать современное состояние диаспоральных исследований?
УИЛЬЯМ САФРАН: В глобальном масштабе диаспоральные исследования переживают расцвет: постоянно возникают новые курсы, семинары, институты и журналы, работающие в этом поле. Одна из очевидных причин — это рост количества людей, живущих в диаспорах, особенно в развитых странах. Диаспора — это проблемное явление как для социологов, так и для людей, принимающих политические решения. Традиционно термин «диаспора» применялся для описания ряда рассеянных по всему миру этнических или религиозных сообществ, покинувших свою родину, но сохранивших при этом осознание собственной коллективной культурной идентичности, желание культивировать ее на новом месте и устойчивую ориентированность на метрополию. В случае исторически «старых» диаспор (евреев, греков или армян) эта ориентированность нередко выражалась в мифологизированной надежде на возвращение на родину. Однако в последние годы понятие диаспоры настолько вошло в моду, что его стали распространять на самые разные ситуации, отношения и идентичности[1]. Примером подобного рода служит изменение представления о принадлежности к диаспоре: много лет назад диаспоральное состояние считалось нежелательным, оно ассоциировалось с изгнанием этнонациональной или религиозной группы, с утратой дома. В настоящее время в принадлежности к диаспоре часто видят сознательное проявление свободы, так что члены диаспоры, раньше «воспринимавшиеся как подозрительные личности, внутренние враги и лазутчики (strangers within the gates)»[2], стали объектом восхищения.
РОБИН КОЭН: Диаспоральные исследования заявили о себе в 1990-е годы как прежде всего исторический, социологический, антропологический и политологический проект. В их рамках были разработаны подробные таксономии, а также была продемонстрирована релевантность термина «диаспора» для обсуждения проблем миграции, социального многообразия и идентичности. В последнее время в эту традицию влились две новые группы исследователей: (а) «неореалисты» (пришедшие из области экономики и международных отношений), видящие в диаспоре инструмент развития общества, государственного строительства и лоббизма; и (б) гуманитарии широкого профиля, пытающиеся увязать диаспоральные исследования с проблематикой комплексной идентичности, культурного производства, гибридизации и постколониализма.
ЙОССИ ШАИН: За последние три десятка лет многие энтузиасты попробовали свои силы в области диаспоральных исследований. Когда я только начинал писать про эмиграцию и диаспоры, этот предмет еще не вызывал столь широкого интереса, а количество теоретических работ было и вовсе ничтожно. Моей первой целью стало определение этого поля и его границ в пределах политологии. Суть ранних теорий сводилась к постепенному отходу от традиционного использования термина «диаспора» исключительно для описания еврейского опыта, к попытке локализации феномена народов, живущих вдали от родины (независимо от ее государственного статуса) и представляющих в своих собственных глазах и в глазах соседей единое целое, связанное узами родства, невзирая на формальное гражданство.
Ключевым компонентом в понимании жизни диаспоры была идея родины. Затем следовали вопросы политической активности, благонадежности, идентичности, влияния на культуру страны проживания и других сообществ и т.д. С развитием теорий глобализации и изменением мирового порядка в конце 1980-х — начале 1990-х годов наступил расцвет диаспоральных исследований. Я помню, что, когда мы с моим другом Кэчем Тололяном основывали журнал «Diaspora», нас было всего несколько человек. Вскоре их [исследований] стало сотни, и тематика начала смещаться в сторону транснационализма.
Эра легких путешествий, быстрого обмена информацией и открытых границ, казалось, изменила природу человека, и суть этих изменений не вписывалась в готовые схемы. Мне кажется, что это привело к путанице терминов и лишило диаспоральные исследования последних остатков стройности. Но, в конце концов, базовые понятия Родины и Рода, однажды забытые, вернули себе центральное место в научном разговоре о диаспоральной политике. По мере того, как рос интерес к распаду государств, близкой загранице, мульти- культурализму и этническим лобби, поле начало ожидаемым образом расширяться и теперь задает ход развития исследованиям национализма. Вдобавок термин «диаспора» зазвучал особенно актуально после событий 11 сентября, когда многие государственные службы начали обращать внимание на потенциально враждебные популяции с транснациональными связями, действующие на их территории. Таким образом, диаспоральные исследования стали предметом интереса многих служб. И, наконец, вследствие того, что все большее количество стран стало беспокоиться о судьбе своих соотечественников, роль последних в экономическом развитии приобрела решающий характер, и мы наблюдаем бесконечные проекты диаспоральных исследований, которые спонсируются как университетами, так и государствами.
Короче говоря, диаспоральные исследования представляют собой взрывообразно и не всегда контролируемо развивающуюся дисциплину, оперирующую большими массивами информации, но лишенную четкой аналитической ориентации.
2
«НЛО»: У стороннего наблюдателя, оценивающего ситуацию из российского контекста, складывается впечатление, будто концептуальное поле diaspora studies как таковое уже сложилось, но понятийный аппарат для его осмысления еще находится на стадии становления, внутренние границы между различными аспектами изучения диаспор до сих пор не определены. Насколько верно такое впечатление или, наоборот, оно не соответствует истине?
У.С.: Это впечатление верно. Диаспора часто приравнивается к отсутствию государства, жизни в статусе беженца или иммигранта, к сознательной или вынужденной экспатриации, отчуждению, этническим или религиозным меньшинствам, космополитизму, несоответствию преобладающим социеталь- ным нормам в плане поведения или жизненного уклада. Диаспоральная самоидентификация (или «diasporicity») может служить метафорой утраты корней, культурного дискомфорта, социопсихологического вытеснения и вообще любой «другости». Иногда диаспора служит синонимом транснациональных настроений, ориентаций или взаимодействий, «мышления, преодолевающего границы». Все чаще и чаще диаспора используется культурологами (особенно постмодернистами) для обозначения индивидуальной идентичности или нового типа сознания, почти или совсем не укорененного в эмпирической или исторической реальности[3]. Диаспора может также служить литературным жанром, который часто связывается с постколониальными переживаниями — ностальгией или тоской, не обязательно направленными на предыдущую родину[4]. Очевидно, необходимые попытки остановить расширение понятия диаспоры и очертить его аналитические границы наталкиваются на его новомодность и популярность.
Р.К.: Нет, я скорее сравнил бы состояние парадигм диаспоральных исследований с совершеннолетием, а не с детством. Экзистенциальная тревога, свойственная подросткам, преодолена. При этом нельзя говорить и о зрелости поля. В пределах достигнутого консенсуса остаются пути для развития, что делает диаспоральные исследования очень перспективной научной областью.
Й.Ш.: Мой первый ответ применим и ко второму вопросу, поэтому сразу перейду к третьему.
3
«НЛО»: Обычно считается, что диаспоральное сообщество — это сообщество с твердой и последовательной установкой на закрытость, но насколько закрытыми можно считать реальные диаспоры? Можно ли приблизительно выстроить какую-либо «градацию» этой закрытости? Насколько вообще диаспоральное сообщество закрыто или открыто для соседних культур и этносов?
У.С.: Представление о стремлении диаспор к закрытости не подтверждается эмпирическими данными. Диаспоры отличаются от иммигрантских сообществ как таковых тем, что они склонны поддерживать особую этническую, религиозную и / или культурную идентичность. Кроме того, представители диаспор, в отличие от иммигрантов, постоянно находятся в конфликтных отношениях с принявшим их обществом. В то же время диаспоральные сообщества не могут быть герметично изолированы от общества; они скорее подстраиваются под его жизнь, заимствуют часть его характеристик и могут даже принять в себя представителей «местной» культуры. В результате своеобычные культурные образцы и институты, воспроизводящиеся в диаспоре, не являются точными копиями институтов и образцов, преобладающих в метрополии. Многое зависит от природы общества страны проживания. Открытость демократических и плюралистических институтов и относительная автономия гражданского общества, облегчающие меньшинствам задачу сохранения своей идентичности, одновременно способствуют большей проницаемости и открытости диаспор[5].
Р.К.: Мне кажется, что термин «закрытость» применим к немногим диаспорам — в том смысле, что, определяя себя, они довольствуются соотнесенностью с родиной или этнической принадлежностью. При этом полностью эндогенных диаспор не существует. Даже в славящейся своей «закрытостью» еврейской диаспоре доля смешанных браков превышает 50%. Диаспоральная идентичность — это всегда компромисс между идентичностью, ориентированной на происхождение, и идентичностью, сложившейся в месте проживания. Сторонники социального конструктивизма преувеличивают «искусственность» (made-up) диаспоральных идентичностей. Разумеется, эти идентичности нестабильны и нуждаются в дополнительной мобилизации, но средства для этого (язык, память, традиция, религия и исторический опыт) наследуются от предыдущих поколений.
Й.Ш.: Как я писал в нескольких работах, диаспоральная политика направлена прежде всего на элиты и организованные группы. Есть еще два многочисленных фоновых слоя: мобилизованная часть населения, лишь иногда занимающая активную позицию, и широкая группа, объединенная родственными связями (kin group), которую мы можем обозначить термином «диаспора»; оба этих слоя могут быть как реальными, так и воображаемыми. Чем выше степень сплоченности группы и число активных членов диаспоры, тем сильнее ее видимость и влиятельность, как с точки зрения самой группы, так и для стороннего наблюдателя. Если говорить о далеко разнесенных (far- removed) диаспорах, а не о группах, проживающих в соседних странах, и если они живут в свободных обществах и способны к самоорганизации, то их размер и степень близости между членами становятся критически важными. Но деятельность таких групп сильно зависит от устройства государств их проживания. Армяне в Турции сохраняют высокую степень близости, но при этом их влияние на околоармянские вопросы невелико по сравнению с их родичами в США и Франции. Еврейские группы связаны друг с другом по религиозно-этническим линиям (хотя в США это чувствуется меньше), а также благодаря антисемитизму, который способствует сплоченности. Безопасность народа — ключевой фактор близости.
Близость диаспоры к окружающим ее обществу и культуре зависит от свойств последних, степени их открытости или закрытости по отношению к другим (мигрантам, беженцам, меньшинствам). Самоопределение государства, в котором существует диаспора, — как дома только для доминирующей группы или для всех своих граждан (например, Германия), — а также эволюция этого самоопределения под действием геополитических факторов могут оказать разное влияние на сплоченность и институциональную организацию диаспоры. Эта проблема имеет множество компонентов, связанных с демографией и с отношениями между страной местонахождения и метрополией.
4
«НЛО»: Какова реальная или воображаемая связь диаспоры с метрополией? Каково взаимоотношение культур диаспоры и метрополии?
У.С.: Связь с метрополией может принимать разные формы. Их перечень в (приблизительно) убывающем порядке выглядит так: острое желание вернуться на родину; сохранение гражданства метрополии; участие в выборах или служба в армии в метрополии; частые поездки; крепкие семейные связи; сохранение родного языка и передача его детям; финансовая и политическая поддержка метрополии; поиск брачных партнеров в метрополии; желание быть похороненным на родине; сохранение отдельных элементов культуры, обычаев и этносимволов; знание этнонационального нарратива; сохранение сочувствия к событиям в метрополии.
Р.К.: Эти связи могут быть как реальными, так и воображаемыми, так как «метрополия» могла давно исчезнуть (Израиль), еще не сложиться (Палестина, Курдистан, Халистан) или же ее образ может не совпадать с ее реальными очертаниями (в африканском диаспоральном воображении «Эфиопия» занимает целый континент).
Й.Ш.: По поводу четвертого вопроса. Связи с метрополией могут варьироваться в зависимости от факторов, упомянутых мной выше. Если диаспора сохраняет культурную сплоченность и если связь с метрополией важна для обеспечения этой сплоченности, то, разумеется, взаимодействие остается активным. Впрочем, связи могут ослабевать или усиливаться в зависимости от обстоятельств. Если в обществе возникают гибридные культуры, постепенно разрушающие культурную близость с метрополией, то связи ослабевают. Например, американские евреи. Более 70% из них вступают в браки с неевреями, и само существование американо-еврейской идентичности оказывается под вопросом. Если прибавить к этому жизненную стабильность и спад антисемитизма, а также появление на символической израильской родине собственной самобытной культуры, то появляются все предпосылки для увеличения культурного разрыва. Тем не менее периодически возникающие угрозы безопасности, волны коллективных воспоминаний, а также призывы к возрождению старой идентичности со стороны метрополии могут расшевелить общество, на первый взгляд оторванное от культуры родины. [Это] две совершенно разные вещи! Создание общества «Таглит», привлекающего сотни тысяч молодых евреев, оторванных от своей исконной культуры, — это поразительное явление! Похожие проекты возникают по всему миру.
5
«НЛО»: С позиции живущих в диаспоре людей, она выступает как депозитарий культурных кодов, идеологем и ценностей, которые были присущи метрополии и теперь должны быть сохранены. Насколько это правдиво с точки зрения внешнего наблюдателя-антрополога?
У.С.: Это верно в «идеальном» смысле. В то же время здесь возможна проблема когнитивного диссонанса: культуры диаспоры и метрополии, их политические ландшафты и повседневные заботы постепенно отдаляются друг от друга. В особенности это верно в случае политической культуры и религии: диаспора может оказаться более демократичной, менее религиозной и более современной, чем метрополия. И наоборот: диаспора может служить хранилищем или заповедником ценностей, социальных образцов, нравов и прочих элементов национального культурного наследия, утраченных метрополией. Примерами такого рода могут быть СССР, нацистская Германия, коммунистический Китай и Тибет.
Р.К.: Культурные коды и все остальное, о чем вы говорите, подвержены существенным изменениям. В диаспоральных сообществах старые формы, ценности и нормы имеют тенденцию застывать. Очевидно, что царская Россия, СССР и Российская Федерация представляют собой принципиально различные культурные пространства: воспоминания и попытки воссоздания прошлого изменяются от поколения к поколению (а также от класса к классу и от региона к региону).
6
«НЛО»: Каким образом сообщество, в основе которого уже не лежат привычные категории территории / гражданства / национальной идентичности, выстраивает свою культурную идентичность и какие компенсаторные механизмы оказываются вовлечены в это производство идентичности?
У.С.: Диаспоральная идентичность может быть трансполитической и транстерриториальной. Тем не менее она может поддерживаться и «пространственными» методами: например, воспроизводством отечественных локусов, таких как «Маленькая Италия» в Нью-Йорке, «Маленькая Одесса» в Бруклине, «Маленькая Турция» в Берлине, баррио, чайнатауны и гетто во многих городах. В них концентрируются такие институты, как школы, общественные центры, храмы, а также площадки, где проводятся общинные фестивали, празднуются памятные даты или реконструируются события этнонациональной истории.
Р.К.: Посмотрим на этот вопрос с другой стороны. В мире насчитывается примерно 2000 «народов-наций» (национальностей, декларирующих желание создать государство) и 200 национальных государств. Так как весьма маловероятно, что все «народы-нации» добьются своего, они будут вынуждены жить в условиях детерриториализированной идентичности и обходиться без признания и поддержки международной государственной системы (прежде всего ООН). В таком случае на первый план выступают мероприятия и организации коммунитарного типа, а цементирующей силой в диаспорах становятся музыка, искусство, литература, танец, религиозный уклад, а также лоббизм и другие способы приумножения социального капитала (посредством налаживания связей, переговоров, митингов и т.д.). Государство — это далеко не единственный способ выражения общественной идентичности!
Й.Ш.: В шестом вопросе вы спросили про механизмы, обеспечивающие функционирование групп в условиях стирания традиционных границ. Иногда они очень малоэффективны (например, у американских немцев). Но иногда силы воспоминаний и институций оказывается достаточно, чтобы превратиться в нечто более глобальное. Шоа для евреев является важнейшим событием. Музей в Вашингтоне[6] и другие программы придают трагедии евреев более универсальный характер, не нарушая ее уникальности. Существенную роль могут играть также язык и религия, но безопасность и видение сообщества как его членами, так и аутсайдерами особенно важны! Споры в рациональном ключе могут даже привести к осознанию интересов еврейства! Посмотрите на жителей Восточной Европы последних двадцати пяти лет. Они спали, а затем проснулись. Также изменяется политика предоставления гражданства.
7
«НЛО»: Какую роль в жизни диаспор играют практики памяти? Каким образом передается эта память?
У.С.: Память важна, но она несовершенна и со временем ослабевает. Ее место занимает воображаемый образ метрополии, в основе которого лежит либо унаследованный, либо сконструированный / реконструированный нарратив, распространяемый через образование или ритуальные практики. Он подвержен селективной модификации в зависимости от жизненных условий и умонастроений конкретной диаспоры и ее членов. В этом воображаемом пространстве страна проживания воспринимается как дистопия, а метрополия, объект воображения, — как утопия[7]. Но в диаспорах встречаются и люди, лишенные четкого представления о метрополии и не испытывающие потребности в этом. Их членство в диаспоре оказывается под вопросом.
Р.К.: См. ответы на вопросы 5 и 6.
Пер. с англ. Андрея Логутова
[1] Safran W. Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return // Diaspora. 1991. Vol. 1. № 1. P. 83—99.
[2] Schnapper D. De l'Etat-nation au monde transnational: Du sens et de l'utilite du concept de diaspora // Les diasporas: 2000 ans d'histoire / Ed. par L. Antebi, W. Berthomiere et G. Sheffer. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2005. P. 25.
[3] Cohen R. Global Diasporas. London: University College London Press, 1997. P. 129—134.
[4] Gilroy P. It Ain't Where You're From, It's Where You're At: The Dialectic of Diasporic Identification // Third Text: Third World Perspectives on Contemporary Art and Culture. 1991. Vol. 5. № 13. P. 3—16.
[5] Safran W. Democracy, Pluralism, and Diaspora Identity: An Ambiguous Relationship // Opportunity Structures in Diaspora Relations / Ed. by G. Totoricaguena. Reno, Nevada: Center for Basque Studies, 2007. P. 159.
[6] Мемориальный музей Холокоста. — Примеч. перев.
[7] Bhabha H. The Location of Culture. London: Routledge, 1994.
Опубликовано в журнале:
«НЛО» 2014, №3(127)
Модели самоидентификации и литература российской диаспоры в современной Германии
Ольга Брейнингер
(пер. с англ. А. Слободкина)
Отправляясь на полевое исследование весной 2013 года, я не могла представить себе, что, вместо того чтобы описывать различные диаспоры, я займусь поиском объяснения того, почему некоторые из них более не существуют. Уильям Сафран определял «диаспоры» как
сообщества эмигрантов, члены которых обладают несколькими из следующих характеристик: 1) они сами либо предыдущие поколения их семей рассеивались из некоторого первоначального «центра» к более «окраинным» регионам страны либо за границу; 2) они сохраняют коллективную память, концепцию или миф о первоначальной родине — ее географическом положении, истории и достижениях; 3) они считают, что их не принимает и, вероятно, не может полностью принять общество, в котором они живут в настоящее время, и вследствие этого чувствуют частичное отчуждение от него; 4) родину предков они считают настоящим, идеальным домом и тем местом, куда они или их потомки, возможно, вернутся либо куда им следовало бы вернуться, когда будут условия; 5) они считают необходимым сообща поддерживать или восстанавливать свою первоначальную родину для ее безопасности и процветания; 6) они продолжают в той или иной степени сохранять связь с родиной, и их этнокоммунальное сознание и солидарность определяются наличием этой связи[1].
Концепция Сафрана подчеркивает «этнокоммунальное сознание» и «солидарность» как ключевые термины для диаспоры. Неизбежно неся в себе травматический опыт, переселение угрожает благополучию[2], и потому извне диаспора воспринимается как убежище, дающее защиту своим членам. Роль диаспорального сообщества — дать переселенцам чувство принадлежности к среде и общей идентичности. Уильям Блум утверждает, что групповое сообщество в состоянии кризиса идентичности может защитить свою целостность при помощи совместного формирования новой идентичности[3]. Таковой традиционно была функция диаспоры. Однако для постперестроечной диаспоры иммигрантов из России, живущих в Германии, ситуация оказалась иной.
Говорить сегодня о «русской» диаспоре в Германии не вполне уместно; скорее речь идет о группе иммигрантов различного этнического происхождения из постсоветского пространства, имеющих общий иммигрантский опыт и проживающих в Германии. Эта многонациональная группа крайне далека от единства. Разобщенность и антагонизм между ее этнически различными составными частями делают невозможным формирование общей «идентичности диаспоры». И даже если теоретически можно было бы создать «этнокоммунальное сознание» и «солидарность», сообщество постсоветских иммигрантов не обладает тем «клеем»[4], которым, следуя логике Дюркгейма, могли бы стать общие культурные ценности — и прежде всего иммигрантская литература[5]. Однако в процессе обсуждения с иммигрантами произведений, написанных их бывшими соотечественниками Юрием Малецким[6], Владимиром Каминером[7], Алиной Бронски[8] и Дмитрием Вачединым[9] (известными и популярными среди читателей в Германии или[10] в России), обнаружилось, что для иммигрантов из бывшего СССР, опыт которых отражен в этой литературе, она осталась в значительной степени неизвестной либо, наоборот, вызвала неприятие.
Существует огромный разрыв между фактическим механизмом самоидентификации в диаспоре и специфическими аспектами его выражения в иммигрантской литературе. Основываясь на результатах интервью и опросов, проведенных в 2013 году среди русскоязычных иммигрантов в Германии, я считаю, что для большинства из них процесс самоопределения тесно связан с тремя моделями идентификации: отрицательной самоидентификацией, переключением между дискурсами «дома» и сохранением твердой линейной идентичности. При этом я предполагаю (основываясь на интервью и анализе текстов), что иммигрантские писатели придерживаются стратегии, которую можно назвать «гибридной», «мультикультурной» и т.п. Этот выбор объясняется рядом причин, например желанием разрешить ряд парадоксов в мигрантских стратегиях идентификации, принятием состояния гибридности как приема художественного остранения, использованием возможностей языка для обозначения категорий включения (inclusion) и исключения (exclusion), желанием сориентировать читателя и, наконец, разделением личного и публичного пространства. В результате вопрос этнического самоопределения оказывается внутренне вытесненным и занимает подчиненное положение в смешанной, гибридной идентичности.
Прежде чем продолжать, необходимо сделать оговорку относительно использования категорий национальности и этничности. Как правило, слово «диаспора» относится к моноэтничному сообществу, однако «русская» диаспора в Германии таковым не является, она этнически неоднородна. В то же время все ее части объединяет общий язык, жизненный опыт иммиграции, что и дает основания для обобщений. В этом контексте следует противопоставить «русскую» диаспору, например, русским иммигрантам. Соответственно, я буду использовать слово русский для обозначения этнических русских, а выражение «русские мигранты» (независимо от того, являются ли они этническими русскими, немцами, евреями, татарами и т.д.) как обобщенный термин для всех иммигрантов, приехавших в Германию из бывшего СССР и воспринимаемых местным населением как «русские» на основании используемого ими языка.
К ИСТОРИИ ВОПРОСА
Согласно исследованию Тимоти Хеленяка, Германия приняла 59% уехавших из бывшего Советского Союза с 1989 года, 25% принял Израиль, 11% — США[11]. «В период с 1995-го по 2002 год в Германии 43% иммигрантов составляли этнические немцы, которых привлекала щедрая помощь, оказываемая государством переселенцам. Русские, вторая в количественном отношении категория иммигрантов, составляли 38%, в то время как третья группа, этнические евреи, — 10%»[12]. По данным Управления по делам миграции и беженцев, за 1950— 2005 годы Германия приняла в общей сложности 4 481 482 так называемых(Spat)Aussiedler, «поздних переселенцев», большинство из которых приехали из бывшего СССР (2 334 334), Польши (1 444 847) и Румынии (430 101)[13].
Большая часть «русских» иммигрантов являются «переселенцами» (Aussiedler), если они приехали в Германию до 1 января 1993 года, или «поздними переселенцами» (Spataussiedler) в случае приезда после этой даты. Поздние переселенцы — это этнические немцы, вернувшиеся в Германию из стран бывшего Восточного блока. Юридическим основанием их права на возвращение в Германию и получения немецкого гражданства являются Федеральный закон о беженцах (Bundesvertriebenengesetz (BVBG)) 1953 года и 116-я статья Конституции Германии (Grundgesetz). BVBG предусматривает название «поздние переселенцы» для граждан Германии, проживавших после 1945 года на территориях, ранее принадлежавших Германии к востоку от линии Одер—Нейсе, либо для этнических немцев, живших на территории бывшего коммунистического блока[14].
Вторая по численности группа в «русской» диаспоре — иммигранты еврейского происхождения. При этом важно помнить, что основными направлениями еврейской иммиграции были Израиль и США, и, как считает Людмила Исурин, «иммиграция в Германию открылась, когда большинство русских евреев, желавших уехать, иммигрировали в Израиль и Соединенные Штаты»[15]. Число еврейских иммигрантов существенно меньше числа «поздних переселенцев». В период с 1991-го по 2008 год в Германию их прибыло около 210 000[16].
Еврейских иммигрантов, прибывающих в Германию, принимают как «беженцев по квоте» в соответствии с законом 1991 года o Kontingentfuechtlinge[17]. Чтобы получить право на проживание в Германии, они должны соответствовать определенным критериям. Они должны быть гражданами одной из бывших республик Советского Союза[18] и доказать еврейское происхождение хотя бы одного из родителей[19]. Они также должны исповедовать иудаизм[20], в некоторой степени владеть немецким языком[21], быть принятыми в одну из еврейских общин Германии и показать, что они способны интегрироваться в немецкое общество[22].
Следующая группа русских мигрантов в Германии — это беженцы[23]. В Евросоюзе ищет убежища значительное число беженцев из России — больше поставляет в 27 стран, образующих сегодня Евросоюз, лишь Афганистан[24]. Германия находится на втором месте по числу принимаемых беженцев (в 2011 году их было 53 255)[25].
«Добровольные / профессиональные мигранты» также образуют особую группу. Это предприниматели, высококвалифицированные специалисты и студенты, поступающие в немецкие университеты. И, наконец, последняя категория мигрантов — это жены или мужья немцев, прибывающие в Германию с целью воссоединения семьи.
Если говорить о хронологических рамках миграции, необходимо учесть несколько моментов. Во-первых, хотя Германия принимала «(поздних) переселенцев» с 1950 года, подавляющее большинство приехавших из бывшего СССР переселились туда лишь в постперестроечное время[26]. Во-вторых, рост и уменьшение числа «русских» иммигрантов прямо зависели от социально- политической ситуации на советском и постсоветском пространстве.
Рост миграции во время перестройки и особенно после 1991 года был показателен для политической ситуации в бывшем СССР. Главными причинами рассеяния и миграции населения из (бывшего) СССР в Германию были: политическая ситуация в (бывшем) Советском Союзе, коллапс экономической системы, политическая нестабильность и рост национального сознания в (бывших) советских республиках, а также появление легальной возможности уехать[27].
НЕГАТИВНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ, МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ДОМОВ И ЛИНЕЙНЫЕ ИДЕНТИЧНОСТИ
Виктория (36 лет, этническая немка из Кыргызстана) согласилась подробно рассказать о разнообразных причинах, побудивших ее приехать из Кыргызстана в Германию:
К тому времени у нас в Киргизии не было абсолютно никаких перспектив на будущее — инфраструктура рушилась, безработица, повышение цен на всё, перемена гос. языка с русского на киргизский и ужасные нацистские высказывания и действия со стороны коренного населения ко всем «русскоговорящим» <...>. На улице, в общественных местах по-немецки запрещали говорить (и так, если кто узнавал, что мы немцы, — то были автоматически «фашистами»).
Елена (38 лет, замужем за немцем) также описывает напряженную обстановку, связанную с национализмом в Украине, — однако в отличие от Виктории, вынужденной уехать из-за антинемецких настроений, Елена уехала из-за настроений антирусских:
В Германию уехала из Западной Украины, города Львов <...>. Я уехала от разгрома и нищеты, а также геноцида и дискриминации русской интеллигенции на Западной Украине.
Все же было бы преувеличением считать, что главной причиной переезда в Германию явился социальный коллапс на постсоветском пространстве. Например, Александр (61 год, этнический еврей) утверждает, что приехал в Германию «из любопытства», а Ирина (жена позднего переселенца из Казахстана) подчеркивает, что никогда не испытывала «никаких гонений властей. Уехали дети и внуки, и я уехала за ними». Зоя (61 год), хотя и упоминает «смутные времена в Казахстане», также говорит, что основным мотивом было другое:
Когда мы посмотрели на жизнь в Германии, побывав в гостях, мне показалось, что [это] именно то, чего мне всю жизнь не хватало. Понравились четкий распорядок жизни, какой-то общий порядок всего, то есть на всем был какой-то определенный порядок, и, конечно, общее впечатление внешнее — что чисто, что люди такие приветливые, чего мы никогда не видели в Казахстане.
«Русская» диаспора относительно децентрализована и распределена по всей Германии, хотя в нескольких городах концентрация иммигрантов существенно выше, чем в других. Как было бы естественно предположить, Берлин, Мюнхен, Кёльн, Франкфурт и Гамбург привлекают большое число мигрантов. В целом бывшая Западная Германия является для них более привлекательной, чем бывшая ГДР.
Правительство Германии принимало различные меры, чтобы контролировать и равномерно распределять мигрантов по всей стране. Первые попытки сделать это были вызваны стремлением мигрантов селиться поблизости друг от друга, создавая собственные социальные структуры внутри немецких городов. Чтобы помешать геттоизации, была введена временная система назначения переселенцам места жительства. Это означает, что после регистрации в одном из Durchgrenzgangslager[28], первоначальном центре приема иммигрантов, они направлялись в одну из федеральных земель[29]. По отношению к еврейским иммигрантам правила были другими — их должна была принять одна из еврейских общин в Германии. И все же по всей стране существуют районы скопления иммигрантов, называемые «маленькая Москва» или «гетто русских немцев»[30]. Сначала иммигрантов селят в общежитиях, называемых Heim и имеющихся во многих немецких городах. Но и за их пределами концентрация мигрантов в отдельных частях городов различается.
Подобная геттоизация имеет весьма неоднозначные последствия. С одной стороны, это помогает иммигрантам прижиться в новом сообществе, с другой — создает субсообщества, препятствующие их дальнейшей интеграции и ассимиляции.
Немецкий этнолог Георг Эльверт в 1982 году выдвинул идею «внутренних структур», побуждающих с помощью «внутренней интеграции»,Binnenintegration, к полной социальной интеграции. Эльверт выделил три функции «внутренних структур»: усиление идентичности, передача повседневных знаний и формирование групп по интересам. Эльверт считает, что внутренние структуры также могут препятствовать адаптации мигрантов в немецком обществе, в случае если они создают условия для социальной изоляции и неспособны проявлять гибкость и адаптировать людей к правилам и культуре принимающего общества. Исследователь утверждает, что постепенно они перестают играть важную роль в жизни мигрантов[31].
По мнению Марии Савоскул, изучающей сообщества этнических немцев в Германии, внутренние структуры, напротив, всегда продолжают быть важной и привычной частью жизни мигрантов независимо от того, насколько быстро идет процесс ассимиляции. Она выделяет следующие внутренние структуры этнических немцев в России: землячество, религиозные общины, «Дом родины» (историческое общество российских немцев), Российский немецкий театр, «Литературное общество русских немцев» и различные интернет-страницы, газеты, русские магазины, турагентства и дискотеки[32]. Я согласна с утверждением Савоскул о том, что такие «внутренние структуры» являются способом сохранения этнической культуры; следует заметить, что в настоящее время, при наличии новых видов коммуникации, эти структуры перестали играть основную роль в жизни мигрантов. Как указывает Джеймс Клиффорд, «народы в рассеянии, ранее отделенные от прежней родины океанами и политическими преградами, все больше входят с ней в контакт благодаря современному транспорту, связи и трудовой миграции»[33]. С повсеместным распространением Интернета иммигрантам больше не нужно оставаться в гетто, чтобы чувствовать себя частью своей культуры: виртуальные сообщества играют роль «общего дома». Большинство опрошенных утверждало, что они активно пользуются социальными сетями (старшее поколение предпочитает сеть «Одноклассники», в то время как более молодые выбирают Facebook и Вконтакте) для общения с семьей и друзьями из дома. Различные интернет-страницы предлагают знакомства и общение для русских мигрантов по всей Германии.
На новой «родине» мигрантов ожидает множество проблем, в связи с чем необходимо упомянуть и проблему их профессиональной самоактуализации. Хотя социальное государство предоставляет мигрантам высокий уровень социальной помощи, перспективы карьерного роста остаются ограниченными. Основная проблема, конечно, — это недостаточное владение языком, что значительно уменьшает возможности иммигрантов в Германии. Кроме того, длительная процедура признания «русских» дипломов в большинстве случаев заканчивается отказом. Наконец, даже тем иммигрантам, кому удалось освоить язык, часто приходится соглашаться на значительно менее квалифицированную работу, чем та, что была у них прежде. Лишь очень немногие мигранты из числа опрошенных мной были довольны карьерой в Германии. Например, Зоя сказала мне следующее:
Моя профессиональная деятельность складывалась крайне неудачно. Мне не дали курсы для инженеров, хотя я могла бы их получить, поскольку я прошла очень трудный тест. Но я не знала этого, меня обругали за то, что я сама пошла проходить этот тест, и мне сказали, что мне этого не положено, и послали делать так называемый Umschulung на Kauffrau. Я добросовестно училась на этих двухгодичных курсах, а потом оказалось, что мы могли работать только где-нибудь продавцами, без всякого бюро, к тому же в магазине нас брали только в отделы типа овощного или йогуртного, не очень хорошие: в йогуртах работать холодно, в овощах — грязно. Две мои подруги, имея казахское высшее образование, так и работают в магазине, как они 14 лет назад окончили эти курсы. Расставляют банки с йогуртами в магазине.
Александр, муж Зои, — один из немногих добившихся успеха:
Где я только не работал. Начинал с того, что работал на стройке, помогал машины покупать, потом все-таки не терял надежды, что я найду работу по своей специальности в научном направлении, то, чем я занимался. Я написал 250 бевербунгов[34]. Где-то половина либо не ответили, либо отрицательно, но один из них нашелся, человек, который в меня поверил, взял на работу, так я стал младшим научным сотрудником, потом дело пошло немножко получше, короче, я доволен своей работой.
Отношения между различными подгруппами, составляющими «русскую» диаспору в Германии, зачастую напряжены; создаются стереотипы, которые касаются всех подгрупп иммигрантов. Людмила Исурин, например, упоминает о враждебности между еврейскими иммигрантами и этническими немцами- иммигрантами[35]. Ульрике Кляйнкнехт-Штреле также указывает на напряженность между различными группами переселенцев. Исследовательница отмечает, что мигранты, приехавшие в Германию до 1989 года, образуют более однородную и интегрированную группу, в отличие от мигрантов, приехавших после 1989 года. Последние являются более разнородным и менее интегрированным множеством, что способствует трениям между ними[36]. Савоскул также утверждает, что «часто они (ранние переселенцы. — О.Б.) даже встают в явную оппозицию к поздним переселенцам, полагая, что те создают невыгодный для ранних переселенцев, уже занявших прочные позиции в Германии, образ российского немца»[37]. Схожим образом проводимые мной интервью также обнаружили трения между мигрантами — этническими немцами и этническими русскими. Зоя говорит:
Русской я никак не являюсь хотя бы потому, что у меня папа — украинец, мама — немка, плюс мы жили в Казахстане, что опять-таки говорит о том, что настоящих русских мы не знали. Когда мы жили после института в Ярославле, вот там мы увидели настоящих русских, и мы поняли, что мы никак к ним не принадлежим, это совершенно какая-то чуждая нация нам оказалась.
Нельзя забывать и об антагонизме между коренным населением Германии и мигрантами вообще, являющемся постоянной темой научных дискуссий[38]. Хотя официальной идеологической позицией является развитие мульти- культурализма, скрытое сопротивление этому велико, о чем говорили почти все респонденты, с которыми я разговаривала. Многие иммигранты признавались, что тяжело переживают потерю статуса в Германии и страдают от враждебности. Вот как Мария вспоминает свое первое впечатление от Германии:
Первые дни и недели прошли в полном ужасе от враждебности по отношению, ну, в моем понимании враждебности, совсем все по-другому, я ничего не понимаю, ни их порядков, ни их обычаев, все для меня чуждое, поэтому неприятное. Приятных моментов было крайне мало. Улыбка на лице при том, что я абсолютно точно знаю, что человек совершенно не расположен улыбаться и относится ко мне нехорошо. Они относятся ко всем людям, которые приезжают сюда, как к «понаехавшим», у них есть для этого свои основания, потому что Германия явно опустилась, стала ниже уровнем благосостояния, но их до этого довела толерантность — совершенно ненужное понятие, потому что нельзя мириться с тем, [что] в Европе коренное население является меньше половины европейцами, а больше половины — азиаты и все прочие.
Однако у некоторых иммигрантов был совершенно другой опыт. Зоя открыто восхищалась тем, как ее семья была принята в Германии:
Первые впечатления были бесподобные. Мы были очень счастливы. Когда мы сюда прилетели, я себя чувствовала как в самом прекрасном отпуске.
Иммигранты живо обсуждали отношения между «русскими» и «немцами» и различные национальные стереотипы. Поговорив о русских матрешках, балалайках, водке и алкоголизме, многие интервьюируемые с готовностью переходили к дискуссии о причинах, по которым эти стереотипы появились и укоренились в Германии. Некоторые критиковали себя за приезд в Германию. Мария, опыт иммиграции которой был столь труден, призналась, что понимает, почему, как ей кажется, на нее в Германии смотрят свысока:
В силу того, что большинство русских плохо знает немецкий язык, за исключением, наверное, детей, здесь родившихся, то они выглядят, естественно, малокультурными, как мы относимся к таджикам у нас на базаре, когда он тебе говорит «брат, брат». Я понимаю, что я точно так же выгляжу здесь, хотя и таджик на базаре может иметь пять высших образований и быть доктором филологии на своем языке.
Ирина тоже считает, что именно своим поведением мигранты заслужили плохую репутацию у немцев:
Очень часто приходилось сталкиваться со стереотипами, и это бремя я несу и по сей день <...>. Это не значит, что Германия относится ко всем нациям плохо. Они очень лояльны к людям из Бразилии, Латинской Америки, Вьетнама и т.д. и очень негативно относятся к нам, и для этого есть совершенно однозначная и объективная причина. Те, первые иммигранты, которые приехали сюда, были встречены такой заботой — не передать словами <...>. У нас есть знакомые, иммигранты первой волны, они нашего возраста, уехали сюда лет тридцать назад. И у мужчины была травма — у него не было пальцев на правой руке, он пострадал от электрического тока. И когда они приехали в Германию, их встречали на банхофе[39] специальные люди. Этот человек, он сейчас переживает, конечно, совсем другое отношение к нему, и он практически со слезами вспоминает один момент, когда один из немецких солдат, которые встречали этот иммигрантский поезд, подошел к нему, увидев, что у него нет пальцев на руке, подхватил два его чемодана и одну тяжелую сумку еще взял зубами. Такое тоже было. А потом, к сожалению, наступили времена, когда иммиграция пошла просто массово, и наши люди себя показали не с лучшей стороны, и вот теперь мы, иммигранты поздней волны, все это на себе ощущаем.
Отдельный случай «русско»-немецкого антагонизма — ситуация с поздними переселенцами в Германии. Эндрю Браун замечает по поводу поздних переселенцев:
Растущие трения между сообществами мигрантов и коренными немцами одновременно являются причиной и следствием изоляции мигрантов.
В культурном плане тот особый вид немецкости, обособивший их как этническое меньшинство в бывшем Советском Союзе, продолжает отделять их от немцев Центральной Европы, прошедших через иные процессы модернизации. Если в Казахстане они никогда не были до конца своими, то теперь им снова все больше приходится чувствовать себя незваными чужаками на чужой родине[40].
Согласно статистике[41], в конце 1990-х 70% иммигрировавших в Германию в качестве этнических переселенцев или членов их семей были русскими, не владели немецким языком и определенно не имели немецких корней (Volkstum). Марианна Тэкл считает, что это и является камнем преткновения между «русскими» немцами и «немецкими» немцами начиная с 1990-х годов. Прежние переселенцы легко интегрировались и достаточно быстро обретали свое место в немецком обществе, как и ожидала принимающая сторона[42]. По контрасту с этим мигранты следующей волны демонстрировали значительно меньший потенциал и способность к интеграции. В этом, по-видимому, и были истоки конфликта. Вероятнее всего, прибывшими до 1989 года переселенцами двигало желание воссоединиться со своим народом. Мотивом же для все увеличивающейся массы иммигрантов, приехавших после 1991 года, была экономическая нестабильность в бывшем СССР. Следствием этого было отсутствие желания этих новых мигрантов ассимилироваться и стать частью немецкого общества и культуры. Тэкл приходит к заключению, что
в эволюции специальных терминов для описания (Spat)Aussiedler, самым распространенным из которых является «русские немцы», видно новое их восприятие. Такая характеристика отражает тот факт, что, особенно после 1993 года, многие в этой группе считались гражданами Германии либо обладали двойным гражданством, но не могли говорить по-немецки и в культурном плане были скорее русскими[43].
Одной из самых удивительных находок моего исследования было нежелание огромного числа иммигрантов поддерживать какую-либо связь не только с «русскими» иммигрантами, но с русскими вообще. Многие из моих респондентов постоянно упоминали, что не хотят ассоциироваться с «русаками» — пренебрежительное обозначение «русских», — с их постыдным поведением и манерами. Некоторые интервьюируемые признались, что стыдятся говорить по-русски в общественных местах. Другие говорили, что избегают любого общения с бывшими соотечественниками. Иногда такое решение принимается из-за отрицательного опыта с конкретными группами «русских» иммигрантов. Так было в случае с Дмитрием (26 лет, этнический немец из России, переехал в Германию с родителями в 2001 году):
Я тебе так скажу, я <...> имел дело со многими русскими, с которыми я больше дела не имею, слава Богу, то есть это были молодые люди, которые получали социал, которые не пытались найти себе работу или учебу, а если учеба у них и была, то абы как, просто чтобы отсидеть, просто чтобы получить социал, который они получали, и в первые два дня эти деньги пропивались, прокуривались, то есть травка и все такое, но это [для] меня, в принципе, когда я с такими людьми познакомился, в принципе, был шок. <...> Есть такие люди, эта «блатота», которые переносят все это сюда и пытаются этим жить, этой «Бригадой».
В ряде случаев, однако, решение отграничиться от всех «русских» иммигрантов не связано с личным негативным опытом, а является сознательной стратегией, выбранной по приезде в Германию. Так, Дарья (57 лет, жена этнического немца из России) сказала мне: «Я не для того приехала в Германию, чтобы и тут общаться с русскими <...>. Я для этого уехала из России». Точно так же Юлия (24 года, студентка из России) считает: «Я стараюсь по возможности избегать общения с русскими. Раз уж я в Германии, то я стараюсь стать частью этого мира».
Основываясь на всем вышесказанном, я предполагаю, что процесс самоопределения «русских» иммигрантов в Германии происходит во взаимосвязи трех перекрывающих друг друга идентификационных моделей: отрицательной самоидентификации, смены дискурса «дома» и намерения сохранить четко фиксированную линейную идентичность.
Отрицательная самоидентификация — это процесс, в котором индивидуум определяет свою идентичность с помощью сравнения и отграничивает себя от обычного, типичного имиджа типичного представителя или группы индивидуумов. Франц Фанон в «Black Skin, White Masks» писал, что чернокожие определяются всем тем, чем не являются белые люди[44]. Подобный антитетический идентификационный паттерн применим и к моему исследованию «русских» иммигрантов в Германии.
Будучи, в сущности, инстинктивной реакцией на чувство чуждости и зависимости, негативная самоидентификация иммигрантов не обязательно направлена против немцев (хотя, как было показано, у многих респондентов так и было). Ряд иммигрантов полагает, что немцы воспринимают их прежде всего именно как мигрантов, по выражению Людмилы Исурин: «Некоторые иммигранты согласились с вышесказанным, говоря, что общность языка, культуры и биографии позволяет рассматривать каждого как русского»[45].
Типично для иммигрантов, хотя и не для всех, то, что на вопрос о необходимости интегрироваться в немецкое общество они отвечают положительно и настаивают на этом. Они говорят, что надо лучше учить язык, и пытаются найти компромисс, чтобы вписать свою идентичность в новую общественную реальность. Однако необходимость преодоления кризиса идентичности и создания новой защитной «оболочки» все же приводит к отрицательной самоидентификации мигрантов. Отторжение, как показано, часто направлено на этнические группы внутри тесного сообщества, а антагонизм по отношению к немцам замещается разграничением различных подгрупп в «русской» диаспоре, при этом общее отношение к принявшей их стране остается благодарным и положительным. Более того, многие иммигранты склонны считать факт их приема в Германии слишком щедрым жестом, подразумевая, что их присутствие является для страны деструктивным фактором. Мария, которая провела в Германии три года, говорит, что не может понять, почему Германия вообще принимает иммигрантов, таких как она, например: «Страна должна быть страной, со своей культурой, со своими обычаями, и сохранять это все, а когда в Германии остается очень мало немецкого — это неправильно».
Примечательно, что Мария — этническая немка. При этом она никогда не хотела жить в Германии и была вынуждена переехать, потому что они с мужем не хотели расставаться с детьми (уехавшими в Германию двумя годами раньше). Мария крайне недовольна жизненным выбором детей и открыто говорит, что совершенно не ощущает себя частью Германии:
Я здесь, и каждый день мучаюсь, и каждый день думаю, когда же я уже отсюда уеду. Меня разрывает чувство долга, потому что я должна помочь своим детям, и мне нужно быть там, где я должна быть. <...> Мне очень горько, что у меня немецкий паспорт. Я считаю себя гражданкой Советского Союза.
Беседуя с респондентами, я заметила, что во многих случаях, говоря о своей жизни в России (других странах) и Германии, они не могли различить «дом» и «заграницу», поскольку их национальная идентичность сложным образом переплелась с обеими культурами. И здесь мы подходим к обсуждению второй идентификационной модели — смены дискурса «дома».
Под сменой дискурса «дома» я понимаю чувство общности с более чем одной культурой и обладание несколькими истоками, «домами». Показателен пример этнических немцев. Их приезд в Германию рассматривался как возвращение на родину и воссоединение со своим народом. Тем не менее в Германии они превратились в особую социальную группу, которая ни сама не провозглашает единство с остальной частью немецкого народа, ни является признанной коренными немцами. Однако все они утверждают, что так же, как в России были иностранцами, «немцами», так и в Германии они стали иностранцами — на сей раз «русскими». Зигмунт Бауман считает, что
об идентичности думают, когда не знают, куда отнести себя, т.е. когда не знают, куда поместить себя среди разных стилей и моделей поведения и как удостовериться в том, что окружающие считают это место правильным, чтобы обеим сторонам было ясно, как вести себя в присутствии друг друга. «Идентичность» — это название бегства от неопределенности[46].
Это напрямую относится к еврейским иммигрантам. Они прибыли в Германию как мигранты. Но СССР не был их домом, и современный Израиль вряд ли можно назвать таковым. По мнению Оливера Лубриха, еврейские иммигранты в Германии должны были адаптироваться сразу к трем системам: к западной системе, к немецкому обществу и к еврейской диаспоре[47].
Можно предположить, что люди, иммигрировавшие в Германию с целью воссоединиться с семьей или по причинам профессионального / образовательного характера, должны были подвергнуться более чистому и линейному процессу идентификации. Однако иммигранты из России также не обладают чувством принадлежности — по сути, многие иммигранты до сих пор считают, что в их идентичности преобладает связь с СССР. Людмила Исурин утверждает, что, когда информантов просили сравнить Германию с их родиной, многие уточняли, проводить ли сравнение с Россией или с СССР[48]. Вот что говорит Елена:
Я в душе русская, как и на бумаге. Но моя Родина — это бескрайние просторы СССР, его уже нет, в России мне не посчастливилось жить, хотя оба мои родителя русские.
Многие из опрошенных признавали, что все еще сильно привязаны к СССР. В частности, большинство респондентов утверждали, что продолжают следить за новостями о России и других постсоветских странах и интересуются политикой этих регионов. Например, Ирина, прожившая в Германии восемь лет, говорит:
Я родилась, по сути, в России, а потом, поскольку отец был военный, я мигрировала по многим городам. Где моя Родина, скажи теперь, Россия, или там, где я долго жила, в Казахстане? Я не знаю. Но я одно могу сказать — на сегодняшний день я живу в той стране, с понятиями которой я все больше и больше соглашаюсь, и мне очень больно, что в нашей стране люди по-прежнему обделены вниманием властей, по-прежнему вынуждены бороться за элементарные вещи, по-прежнему находятся под гнетом несправедливости, мне очень грустно.
Это состояние эмоциональной привязанности не обязательно включает в себя реальное желание вернуться или даже посетить прошлый дом. Так, Олеся (26 лет), которую родители заставили переехать в Германию, когда ей было шестнадцать, говорит, что благодарна своей семье за это: «Теперь я очень благодарна родителям за то, что они меня перевезли, и я никогда бы не вернулась обратно». Другой пример — Сергей, двадцатисемилетний студент: «После нескольких лет за рубежом не то что не хочешь вернуться, еще и как хочешь, но уже не сможешь там в этом ритме выжить — две-три работы, не платя налоги, связи, взятки и т.д.».
Известных случаев возвращения в постсоветское пространство немного; однако отсутствие желания вернуться ни в коей мере не означает сдвига идентичности в сторону немецкой. Более того, Людмила Исурин утверждает, что именно в Германии некоторые иммигранты обнаруживают свою «еврейскость» или выражают внезапный интерес к своим русским корням. Она отмечает, что это особенно характерно для молодых людей, которые с большим энтузиазмом вступают в дискуссии по поводу собственной идентичности.
Третья характерная для иммигрантов деталь идентификации — стремление поддерживать линейную идентичность. Имеется в виду склонность идентифицировать себя с одним этносом и отрицать влияние других. Это не подразумевает отказ от отношений с другими этническими культурами вообще (что противоречило бы смене «домов», например), но тем не менее человек считает одну этничность, в противовес всем остальным, определяющей его личность.
Вернусь к интервью с Олесей, которая сказала, что никогда по своей воле не вернется в Казахстан. Тем не менее, когда я спросила ее о ее национальной идентичности, она ответила прямо: «Я считаю себя русской, однозначно. У меня ассоциация больше с детством, может, потому, что мне русская культура ближе, роднее, я все это понимаю, а здесь все как-то немножко чужое». Такую же реакцию проявила Мария, женщина, чей тяжелый жизненный опыт я описывала выше: «Во мне все русское. Образ мыслей, сказки, которые мы читали в детстве, школа, которую мы прошли, институт — это все русское. И, соответственно, образ мыслей русский».
Отмечу, что обе женщины, несмотря на абсолютно различный опыт, считают себя русскими, а русскую культуру — доминантным фактором, сформировавшим их идентичность.
Другой интересный пример — Александр, изучающий альтернативные источники энергии в немецком университете. В течение интервью Александр выказывал большую заинтересованность в обсуждении проблем мультикультурализма. Когда я спросила, верит ли он в возможность построения мультикультурного общества в Германии, он дал очень оптимистичный ответ:
Безусловно, возможно построить мультикультурное общество, и Германия на пути к этому. Те круги, где я общаюсь, научная работа, безусловно, потому что у нас люди из Америки, из Ирана, из Пакистана в нашем коллективе, у нас нет никаких проблем на работе. Может, в других слоях эта проблема возникает, но у нас такой проблемы нет.
Однако когда разговор перешел к обсуждению его собственной идентичности, Александр сказал: «Я себя считаю советским совком».
Это не означает, что возможность трансформации или сдвига идентичности не рассматривается иммигрантами. Но большая часть дискуссий, которые я наблюдала, казалось, развивалась по довольно линейной траектории. Например, Сергей (27 лет) отметил, что видит в себе изменения, и описал их следующим образом: «Наверное, как с этим ни борись, но становишься с годами немцем. И это не радует». Очевидно, что Сергей считает возможным сдвиг национальной идентичности, однако считает его переключением между двумя разными этническими категориями.
Нужно отметить, что каждый раз, когда поднималась тема детей, респонденты утверждали, что их дети будут идентифицировать себя как немцы. Эта точка зрения наблюдалась мной постоянно, вне зависимости от того, были ли дети рождены в Германии, разговаривали ли они с родителями и своими братьями и сестрами на русском или немецком и собирались ли родители приобщать детей к русской культуре. Вот как Олеся, мать годовалой дочери, ответила на этот вопрос:
Насчет дочки — мы с ней хотим на русском разговаривать, нам очень важно, чтобы она русский выучила, и мы дома будем говорить по-русски. Я хочу ее научить, чтобы она и читать, и писать умела по-русски, а немецкий она будет учить в садике, но мы хотим ей привить русскую культуру, чтобы она русские сказки знала, чтобы это ей все родное было. Но я думаю, что она все-таки больше немкой себя будет чувствовать.
Сергей, у которого детей пока нет, уверен, что, когда его дети родятся в Германии, они будут считать себя немцами: «А самое печальное, что родившиеся здесь наши дети — уже немцы на сто процентов».
ЛИТЕРАТУРА ДИАСПОРЫ: «ПОДЧИНЕННЫЕ» (SUBALTERN) ИДЕНТИЧНОСТИ
Говоря об эстетике иммигрантской литературы, Светлана Бойм предполагает, что пространство изгнания создает «двойное сознание, двойное переживание различных времен и пространств, постоянное раздвоение»[49]. Это постоянное раздвоение характерно для всех четверых писателей, о которых будет идти речь. С одной стороны, область поднимаемых ими тем находится внутри круга интересов иммигрантов и, похоже, в точности отражает опыт большинства «русских» иммигрантов в Германии. Несмотря на это, один аспект иммигрантской литературы в корне отличается от опыта людей, чью жизнь она, по идее, отражает: позиция рассказчика. Символические структуры, лежащие в основе творчества рассмотренных четверых авторов, определяются совершенно иным целеполаганием, чем у большинства иммигрантов; эти тексты демонстрируют иной подход к разрешению кризиса идентичности: принятие состояния культурной гибридности.
Когда речь идет о мультикультурализме, мы, как правило, говорим о гибридности, используя терминологию Хоми Баба, который рассматривает гибридность как
переоценку символа национальной власти как знака колониального различия <...>, [где] различия культур больше не могут идентифицироваться или использоваться как объекты эпистемологического или морального размышления: культурных различий просто не существует, чтобы их можно было рассмотреть или присвоить[50].
Такова была моя теоретическая точка зрения перед началом полевой работы; но чем больше я разговаривала с информантами и авторами, о которых пишу, тем сильнее понимала, что на практике гибридность работает по-другому.Гибридность, если рассматривать ее вне теоретических текстов, достигается не нахождением равновесия между двумя культурами, а жестким подчинением определенных уже установившихся парадигм (например, этнических категорий) и выборочным синтезом новой идентичности за их счет. Именно поэтому нарратив иммигрантской литературы, обсуждаемой мной, разделяется на два течения. Одно — этот только что созданный голос, другое — то, что можно нечетко определить как голос «подчиненный», подавленный, по аналогии с работами Гаятри Чакраворти Спивак о подавленных голосах маргинализированных социальных групп. Два этих голоса пребывают в постоянном внутреннем противоречии, что делает тексты почти непреодолимыми для традиционных критических методов, которые настроены на то, чтобы работать с нарративом в целом.
Такие нарративы отображают присущую расколотой идентичности внутреннюю борьбу, где линейная, традиционная часть, инстинктивно сооруженная на основе прошлого опыта, подчиняется навязанной, идеологически мультикультурной идентичности, результату попыток ассимилирования в принимающее сообщество и утверждения своего места в нем. В борьбе инстинкта и рассудка последний берет верх над инстинктивной самоидентификацией, оставляя ее в подчиненном положении.
Всех четверых «мультикультурных» писателей — Малецкого, Каминера, Вачедина и Бронски — часто спрашивают об их национальности, разнице между «русскими» и «немцами», об их родных странах, впечатлениях от иммиграции и т.д. У каждого из них, таким образом, есть индивидуальная, хорошо сформулированная агенда. В публичной речи они, по всей видимости, пытаются занять срединную позицию «культурного аутсайдера», даже если впоследствии им приходится использовать этническую терминологию, чтобы точнее определить свою позицию. Это явление уже было отмечено Адрианом Ваннером и Оливером Лубрихом в отношении Каминера, который дает различные ответы на вопросы о национальной и этнической самоидентификации[51]. В меньшей степени это же можно утверждать и о других писателях. Юрий Малецкий в ответ на вопрос о национальной идентификации использовал формулу, которую, по его словам, однажды применила к нему критик Ирина Роднянская:
Ирина Бенционовна Роднянская в одном упоминании обо мне сказала, что я «принципиальный апатрид». Поскольку это не было ни негативным, ни комплиментарным, то я с ней совершенно согласен. Я на сегодняшний день таковым и являюсь. <...> Я всюду чувствую себя одинаково своим и всюду чувствую себя одинаково чужим. <...> На сегодняшний день я куда более уважаю Германию, нежели оставленную мной Россию, и при этом я люблю Россию как свою родную страну, вероятно, в большей степени, чем Германию. Это странный парадокс — расхождения жалости с любовью.
Позицию «чужака», или скорее «аутсайдера», обсуждает и Дмитрий Вачедин. Он говорит:
По своей сути я не иммигрант <...>, я не стремился сюда влиться, но в Питере я тоже, может быть, был бы наблюдателем, я не стремлюсь слиться с общей массой, интегрироваться, у меня такого желания не возникало. То, что в «Снежных немцах» было с Валерией, когда она хотела стать как все, стать лучше всех, что-то доказать, мне никогда это свойственно не было, мне все легко давалось — учеба, университет, у меня не было кризиса самоидентификации.
Владимир Каминер считает себя, как и остальных мигрантов в Германии, варварами, привносящими в немецкий народ новую кровь:
В истории человечества каждое общество рано или поздно подвергалось нападению варваров. Высокая цивилизация <...> она в какой-то момент в своем собственном декадентном падении, разрыхлении своем давала варварам себя захватить, но это всегда был процесс взаимовыгодный, я бы сказал, потому что, с одной стороны, это декадентное общество получало свежую кровь, прилив каких-то новых сил, а с другой стороны, варвары тоже, самое позднее во втором-третьем поколении, становились такими же декадентными и склонными к перверзиям, как и захваченные ими или используемые ими цивилизации.
Каминер утверждает, что он немецкий писатель, который рассказывает русскую «историю», которая, в свою очередь, также является частью исторического европейского нарратива. Таким образом, он вписывает свое творчество в этот нарратив, подразумевая, что в подобных масштабах национальность становится мелким и неважным различием:
Я немецкий писатель. <...> Я начал писать в Германии. Честно говоря, я в этом какой-то серьезной философской основы не вижу. Да, я начал писать в Германии, я начал писать по-немецки, по-русски никогда не писал, история, которую я рассказываю, она, безусловно, имеет большое отношение к русским, просто они еще до этой истории не дошли, так как они не разобрались с предыдущей историей. Нельзя рассказать историю, не зная предыстории. <...> Начало мое — оно в истории Советского Союза, а эта история не рассказана <...>. Что является моей историей? Распад социалистического общества, гибель Союза <...>. То есть это, конечно, часть европейской истории, безусловно, но это и часть русской истории, и я, собственно говоря, и есть тот самый мостик, соединяющий всю эту европейскую и русскую действительность конца двадцатого — начала двадцать первого века.
Взгляд Алины Бронски на эту тему схож с мнением Каминера: она утверждает, что русский для нее — «частный», «семейный» язык. Однако Бронски также считает, что национальные категории, пускай и не релевантны для нее, интересны читателям — поэтому она много говорит о них в своих книгах:
Я такими категориями уже довольно давно не мыслю, то есть мне очень трудно. Конечно, я немецкоговорящая писательница, то есть писательница, которая пишет на немецком языке, русский язык для меня — язык намного более интимный, семейный, тем не менее — это очень важная часть моей личности. <...> У меня нет большой потребности это как-то тематизировать постоянно, такие аспекты, как, например. русские аспекты моей личности или влияния, и так далее.
Чтобы перейти от анализа публичных высказываний к текстуальному анализу, приведу для начала объемную цитату из Вачедина, во многом представляющую собой квинтэссенцию «русской» иммигрантской литературы в Германии:
К моменту их (бабушки и дедушки. — О.Б.) приезда мы уже жили в западной части Германии, родители гордились тем, как быстро старикам удалось подыскать квартиру — чистенькую и светлую, с эхом, две комнаты в десятиэтажном городском доме. Они приехали, посмотрели на меня — диковатую, заросшую прыщами, обняли как чужую, от соседей им досталась мебель, от нас — кем-то выброшенный телевизор, починенный папой. Робкие и жалкие, они пошли с нами на прогулку, и мама, как в телепередаче, восхищенно объявляла появление следующей достопримечательности. Я молчала, плелась рядом по аллеям городских парков, такая же лишняя и чужая здесь, как и старики, — нашу троицу можно было отправлять просить подаяние. Родители же тогда как раз воспрянули духом, оба работали, оба завели приятельские отношения с коллегами. Дома старики смотрели телевизор — ток-шоу, в которых полуголые девушки обсуждали на полупонятном языке оральный секс, а также стоит ли худеть или и так сойдет (всегда оказывалось, что и так хорошо). По утрам с маленькой тележкой на колесиках они ходили в супермаркет, но мало чего покупали — бабушка отказывалась готовить из незнакомых продуктов. На все заботы по хозяйству уходило не больше часа в день — больше при всем желании ничего нельзя было придумать, квартира стояла пустая и издевательски чистая. Жизнь закончилась[52].
Этот объемный пассаж отражает большую часть «русской» иммигрантской литературы в Германии, поскольку поднимает актуальные для всех иммигрантских работ мотивы: причины для иммиграции; желание и невозможность возвращения домой; разочарование; культурные различия[53]; всеобъемлющая ностальгия. Кроме того, он очерчивает различные способы самоидентификации в новом окружении. Вачедин показывает модель семьи (родители Валерии), удовлетворенной переездом в Германию. С другой стороны, мы можем заключить, что Валерия довольна с оговорками, а ее дедушка и бабушка определенно приехали в Германию против собственной воли и не могут найти себе никакого места в этом новом мире.
Текст пронизывает латентное желание вернуться в привычное пространство. Между этими двумя мирами мы видим Валерию, подростка, которая чувствует себя потерянной и униженной не только из-за нового мира вокруг, но и из-за разлада и отчуждения внутри семьи. Характерно, однако, что эффект растущего отстранения Валерии от ее родителей и бабушки с дедушкой достигается педантичными и детальными описаниями повседневной жизни.
Иммигрантская литература вообще (а особенно созданная на раннем этапе иммиграции) основана на описаниях каждодневной жизни. С помощью литературы можно шаг за шагом реконструировать полное описание процедуры иммиграции — от прибытия в Германию до этапа относительной адаптации; однако этап смешивания с немецким обществом в иммигрантской литературе отражен гораздо менее заметно. Важные мотивы здесь включают в себя споры о причинах иммиграции, обоснование решения и нападение на предполагаемые упреки. Полемический тон протагониста у Малецкого указывает как на сомнение в правильности такого решения, так и на горькое несоответствие ожиданий иммигрантов и реального итога их переезда:
А что, интересно, интересно немцу? А ему интересно понять, что делают здесь пачки людей в возрасте, с семьями и с высшим образованием, предполагающим высокий общественный статус, странных людей, въехавших в страну по линии еврейской эмиграции, но почему-то не ходящих в синагогу. Что ищут они в стране далекой, задыхающейся от своих безработных, чего ради кинули все, чем жив человек, в краю родном? Не могли же эти очень взрослые люди подумать, будто им в чужой стране предложат работу по специальности — врачами, инженерами, музыковедами, биологами. <...> Немцы спрашивают об этом удивительных русских, а те сами себе удивляются[54].
Отметим тут интересную параллель с одним из процитированных выше интервью. В нем Мария сравнивала себя с таджиком на рынке, подразумевая, что немцы видят ее так же, как она видит таджиков: безграмотными и плохо образованными, хотя в их стране у них вполне может быть прекрасное образование. Малецкий, напротив, предполагает, что немцы считают, будто у новоприбывших мигрантов более высокое образование и социальный статус. Интересно, что сравнения русских с таджиками, похоже, являются характерными для мигрантов — Владимир Каминер тоже упоминал об этом в своем интервью, сказав, что «русские переносят свои отношения с таджиками на европейское смещение народов».
Изображение культурных различий и недопониманий, определенно, является еще одним характерным для иммигрантской прозы мотивом — но при этом нужно отметить, насколько по-разному авторы относятся к этой задаче. Каминер, чья проза, в сущности, построена вокруг этих конфликтов и недопониманий, изображает их во фривольной и шутливой манере, с обязательным счастливым разрешением. Напротив, Вачедин видит русских и немцев существующими в двух разделенных, антагонистических мирах. В его представлении мигранты — не забавные беспомощные люди, как у Каминера, но активные и агрессивные. Интересны монологи героя Малецкого в «Прозе поэта», показывающие разочарование и обман ожиданий: он думает, что советские мигранты приехали в Германию за чудесными возможностями безопасной и стабильной жизни, а на самом деле они получили жизнь несчастную, полную унижений и различных требований, которым приходится соответствовать для поддержания хотя бы базового уровня жизни:
Да я бы и сам снялся с собеса при первой возможности. Он снится мне по ночам. В кошмарных снах, в которых мне снятся еще более кошмарные сны моей жены. Нет унизительней, чем когда тебе дают деньги и дышат тебе в затылок — ну, наконец ты снимешься? Ты пойдешь на рихтиге арбайт?[55]
Подобно большинству высказываний моих информантов, работы всех четверых авторов показывают, что одна из причин, почему иммигранты чувствуют себя лишенными человеческого достоинства, — это многочисленные стереотипы, которые, по их мнению, имеют немцы в их отношении. В общем случае стереотипы являются краеугольным камнем и точкой фокуса иммигрантской прозы. И хотя в интервью все четыре писателя отрицают важность этнических категорий и стереотипов, в своих работах они постоянно обращаются к их использованию. Это поддерживает ощущение антагонизма и взаимного недовольства между иммигрантами и принимающей стороной.
Например, в работах Бронски они противопоставлены друг другу как аккуратные и дисциплинированные / безвкусные, вульгарные и беспомощные, что является основным способом демонстрации столкновения русских и немецких национальных характеров и ментальностей:
Марии за тридцать, но выглядит она на пятьдесят. Раньше она работала в фабричной столовой в Новосибирске. У Марии мозолистые руки, огромные, как лопаты, а ногти покрашены красным. У нее короткие, завитые, крашеные волосы, толстые ноги с варикозными венами — хотя их не увидишь под шерстяными чулками. У нее есть десяток платьев с цветочными рисунками, такая широкая задница, что на нее можно было бы посадить вертолет, настолько приторно-сладкие духи, что начинаешь чихать, большой рот, обведенный красной помадой, бурундучьи щеки и маленькие глаза[56].
Типичная немка в прозе Бронски представляет собой все, чем не является русская:
Мелани <...> в точности походила на молодую немецкую девушку по представлениям иностранцев — особенно тех иностранцев, которые никогда не бывали в Германии и представляют издалека. У нее были свежеподстриженные и всегда аккуратные светлые волосы до подбородка, голубые глаза, румяные щеки и хрустящая выглаженная джинсовая куртка. Она пахла мылом и щебетала предложения из односложных слов, которые выскакивали из ее рта, как горошины[57].
Сильное ударение делается на конфликтах между разными подгруппами диаспоры. Например, протагонист Малецкого в «Прозе поэта» уничижительно отзывается о (Spat)Aussiedler. Стоит обратить внимание на «иерархию» национальностей, которую выстраивает протагонист:
Я должен был поинтересоваться раньше, еще дома, в какую русскоязычную среду я собираюсь привезти детей, пока они не станут немецкоязычными. Тогда я мог бы своевременно узнать много полезного о шпэтаусзидлерах, называемых в здешней диаспоре «казахдойчами», «казахами», но я не сделал этого, будучи ленив и нелюбопытен, как настоящий русский. А ведь въехал в страну как приличный человек: как еврей[58].
В повести «Копченое пиво», протагонист которой уже несколько лет живет в Германии, очевидно, что его отношение к этой группе мигрантов, которые говорят на том же языке и родом из той же страны, стало еще более отрицательным. Автор описывает конфликт между протагонистом и человеком, названным презрительно «этот фольксдойч»[59], в котором герой оказывается неспособен защитить свою семью от жестокого, агрессивного и грубого поведения русско-германца. Он занимает отрицательную позицию и по отношению к нееврейским членам семей еврейских мигрантов, порицая их за увеличение числа мигрантов, хотя у них самих не было реальных оснований переехать в Германию: «Вы заметили — в каждой второй флюхтлинговой семье[60] жена русская или хохлушка. Причем не только в интеллигентных семьях, но и в простых. Причем в 8 случаях из 10 она-то и является инициатором еврейской эмиграции».
Нет нужды специально указывать на общее место иммигрантской литературы — ностальгию. Однако любопытно, что тоска по дому более очевидна и открыта у Вачедина и Малецкого, которые пишут на русском, и значительно менее бросается в глаза у Каминера и Бронски, пишущих на немецком. О связи языка с процессом идентификации будет идти речь позже, но стоит отметить, что в случаях Каминера и Бронски можно говорить об испытываемом их персонажами чувстве заброшенности и беспокойства. Довольно симптоматично, что они редко говорят о своей прежней жизни после того, как приезжают в Германию. В «Парке осколков» мы ничего не знаем о детстве Саши в России, поскольку ее рассказ начинается с переезда ее семьи в Германию. Когда события в «Самых острых блюдах татарской кухни» разворачиваются в Москве, мы видим их в мельчайших деталях. Однако когда рассказчица Розалинда, ее дочь Зульфия и внучка Аминат переезжают в Германию, российская часть их истории угасает и теряет всякое значение для жизни героев. Они никогда не говорят о прошлом, как бы несчастны в Германии они ни были, в то время как их семья постепенно распадается. Когда Зульфия ездит в Москву, чтобы заполнять необходимые документы, и регулярно звонит своей матери, Розалинда ни разу не спрашивает о ее прежней жизни и прекращает думать о том, что оставила позади, как только вешает трубку. Светлана Бойм, описывая эту деталь — отказ обернуться, посмотреть назад, — сравнивает их позицию с библейской историей о жене Лота, которая превратилась в соляной столп. Бойм утверждает, что тот же страх лежит в основе неприятия мигрантами мыслей о своем прошлом[61]. Поэтому в произведениях Каминера и Бронски Россия превращается в совершенно воображаемое место. Каминер, собственно говоря, идет даже дальше, мифологизируя поздний СССР, искажая его образ и создавая намеренно карикатурную картину. За всеми клише в гротескном образе, создаваемом героями Каминера, кроется их страх увидеть настоящую реальность. Вместо этого они предпочитают видеть Россию чудовищной страной, а возвращение — немыслимым, а то и опасным.
Произведения Малецкого абсолютно соответствуют тому, что он говорит в своих интервью: его любовь к России смешана с презрением, и протагонист в «Прозе поэта» перефразирует классические стихи Лермонтова: «Прощай, Россия. Прощай, моя немытая. Я тебя и такой люблю. Большое видится на расстоянье. Зачем уменьшать твой масштаб в пространстве моей души?»
У Вачедина ностальгия наименее замаскирована, а его протагонисты — единственные, кто не смущается, разговаривая о России. Это напрямую связано с положением его героев в Германии. В «Russendisko» Каминера протагонист переезжает в Германию в 1990 году, в прозе Малецкого — в 1995-м. В обоих романах Бронски герои приезжают в Германию из Советского Союза. Действие романа Вачедина происходит значительно позже — скорее всего, на рубеже тысячелетия (сам Вачедин переехал в Германию в 1999 году), — и его герои плохо помнят, если вообще помнят, советскую жизнь. Соответственно, они чувствуют себя менее географически ограниченными и пользуются полной свободой передвижения, как и свободой мыслей о передвижении. В «Копченом пиве» Малецкого протагонист признает, что живет в аду, — однако продолжает вести такой образ жизни, не помышляя ни о каких изменениях. В одном из рассказов Каминера рассказчик говорит, что его мать обнаружила свободу передвижения после переезда в Германию и начала активно путешествовать — однако ее путешествия не выходят за границы Европы[62]. А в «Снежных немцах», например, Валерия приезжает обратно в Россию для работы — невозможный и немыслимый поступок для персонажей Бронски или Каминера.
ТРЕТЬЕ ПРОСТРАНСТВО ИММИГРАЦИИ
В последней главе «Парка осколков» Саша покидает свою русскую семью и молодого человека, немца, и отправляется в путешествие, чтобы воссоединиться со своей покойной матерью и попытаться раскрыть свою истинную личность. Если сравнить работы всех четырех авторов, мы увидим, что все они пытаются создать некое метафизическое пространство побега для своих персонажей. Я полагаю, здесь мы встречаемся с тем, что Хоми Баба называл «третьим пространством»[63]. Это то пространство, которое создают эти четыре писателя — или которое они вынуждены создавать, отказавшись от какой-либо конечной, линейной самоидентификации и поместив свою этническую идентичность в подчиненную позицию; пространство, куда можно сбежать, «третье пространство». В то же время «третье пространство» — это лакуна среди идеологических дискурсов, та ниша для писателей-иммигрантов, где у них нет необходимости придерживаться какого-либо из признанных «пространств».
Протагонист Малецкого в «Копченом пиве», проклиная немецкую жизнь и боясь оглянуться на российское прошлое, не может найти места, где пребывал бы в спокойствии и безопасности:
Я Летучий Голландец. Проклят всеми, кто уже не помнит меня, не помнит, что проклял, не помнит, за что. Мне нет ни жизни, ни смерти. С незапамятных времен ношусь по водам житейского моря, лишенный то ли права, то ли простой возможности достигнуть житейской гавани. <...> Я призрак во главе призрачной команды. Моя родина там, где я дома, а дома я повсюду. Как любой, у кого не все дома. У кого никого — дома[64].
Вачедин находит символический образ для Volksdeutsche — «снежные немцы» — и описывает людей, которые «лучше всего управлялись с русской землей, а язык использовали свой»[65] и поэтому зависли где-то посередине, т.е. все равно что нигде: «Мы, снежные немцы, теперь и навсегда посередине — в Германии мы те, кто стучит по стенке аквариума, будя заснувших рыб, а в России презираем соседей за то, что во дворе у них не убрано»[66].
У Каминера «третье пространство» материализовано, превращено из метафоры в реальное физическое пространство.
Каминер создает свой собственный Берлин, город, где национальность не имеет значения и вьетнамцы вместе с русскими пьют водку на скамеечке у дома, где каждый — иностранец, и поэтому национальность больше ничего не значит, так как иммигранты превращают город в мир без различий. Где- нибудь в другом месте жизнь может отличаться, но здесь, в Восточном Берлине, в особенности в Пренцлауэр-Берге, цыгане, тайцы, вьетнамцы, русские и литовцы — все живут в дружеском плавильном котле.
Отмечу, что Каминер пытается обсуждать «третье пространство» не только в своих работах, но и в публичных речах:
Я думаю, что Германия, безусловно, вступила на дорогу открытого общества, это случилось 20 лет назад, с объединением Германии. До того, как исчезли эти идеологические границы, и БРД[67] и ГДР были здоровыми европейскими провинциями с чрезвычайно закрытым, косным провинциальным мышлением. <...> Я помню первый год свой в Восточном Берлине, мы постоянно, собственно говоря, занимали какие-то пустоты, пустоты, возникшие в результате снятия границ. Очень большое количество местных жителей побросали тогда свои квартиры, а может, из страха, они рванули на запад. Одновременно с запада и с востока в этот Берлин стекались молодые люди, <...> которые лелеяли какой-то свой собственный способ жизни, который они не могли в тех условиях <...> или мы в нашем задыхающемся социализме не могли воплотить в жизнь, и мы нашли в том опустевшем Восточном Берлине то пространство свободы, на котором мы могли построить свою. свои альтернативные жизненные проекты.
Исследование художником «третьего пространства» — попытка найти решения проблем, создаваемых идентификациями иммигрантов. Поскольку значительная часть этих проблем в принципе парадоксальна (например, одновременное возмущение немцами и желание ассоциироваться с немцами, а не со своим народом), эти оппозиции сложно деконструировать. Прибегание к «третьему пространству», таким образом, является стратегией смягчения несоответствий и конфликтов в моделях самоидентификации мигрантов. В то же время «нейтральная» позиция, занимаемая писателями-иммигрантами, дает им неотъемлемое остранение, некое двойное видение, что делает их взгляд достаточно острым, чтобы увидеть обе культуры снаружи. Дмитрий Вачедин признал:
Я дорожу не своей русскостью как таковой, <...> [а] альтернативным взглядом на вещи, который ей создается <...>. То есть как бы мне не так важно, что у нас есть матрешка и балалайка, а важно, что я могу посмотреть на этот мир по-другому, иначе, это как бы интересный опыт, и это интересная точка зрения, немножко расширяет мир.
Интересно, что такой уровень остранения сильно зависит от языковых стратегий авторов. А именно, русскоязычные авторы (Малецкий, Вачедин) выбирают позицию аутсайдеров, в то время как Бронски и Каминер сохраняют позицию отделенных наблюдателей, у которых тем не менее есть право доступа к немецкому миру. И Каминер, и Бронски говорили, что пишут по-немецки, чтобы показать, что они немецкие писатели, — хотя, как мы помним, в случае Каминера читатели не сочли этот довод достаточным доказательством. Выбор языка хотя и не совпадает с индивидуальной национальной идентификацией, но служит основным фактором для идентификации художественной. Более того, хотя нет гарантий, что, творя на немецком языке, можно добиться признания у немцев в немецком обществе, этот выбор влияет на процессы социального включения и исключения.
На стратегии художественной идентичности, кроме того, сильно влияют прагматичные соображения маркетинга и книгоиздания. Невзирая на свой языковой выбор, и Бронски, и Каминер в Германии продаются как «русские» писатели. Их рекламные кампании подчеркивают их иностранное происхождение, а издатели делают упор на экзотичности и ненемецкости авторов[68].
Собственно, именно маркетинговые стратегии в большой степени проецируют образ «застрявших посередине» на писателей-иммигрантов, и симптоматичным примером здесь является Каминер. С одной стороны, как утверждает Ваннер, «русский еврей Каминер стал воплощением "идеального немца"; Гёте-институт неоднократно посылал его в поездки по заграничным странам, включая Россию и США, как почти официальное лицо немецкой культуры»[69]. С другой стороны, на обложках всех книг Каминера бросаются в глаза стереотипные объекты русской культуры — матрешки, балалайки, бутылки водки и так далее.
Произведения Каминера и Бронски ироничны и обычно изображают жизнь в СССР в мрачных тонах. Как бы ни была тяжела жизнь их протагонистов в Германии, все-таки она лучше, чем в Советском Союзе. Они хотят остаться в Германии и провозглашают ее своим новым «домом», отсекая воспоминания о России, — хотя это, как обсуждалось выше, не обязательно означает, что на самом деле они не испытывают ностальгии из-за этих воспоминаний. Малецкий и Вачедин изображают иммигрантов в более драматической манере: их персонажи открыто ностальгичны и временами хотят вернуться в страну, которую все еще считают «домом». Однако по различным причинам им приходится оставаться в Германии.
И несмотря на то, что в публичных выступлениях все четыре писателя избегают точного определения «дома» и отрицают важность национальности, очевидно, что как писатели они работают для определенной категории читателей. Бронски и Каминер пишут по-немецки для немцев, а Вачедин и Малецкий пишут по-русски для «русской» аудитории.
Последнее, что стоит здесь отметить, — четко выраженная дифференциация частной и публичной сфер, характерная для всех четырех писателей. Роль «немецкого писателя» они считают профессиональным занятием, а собственную русскость оставляют для частной или семейной жизни. Это обстоятельство сводит воедино и подытоживает все сказанное выше. Хотя частный иммигрантский опыт писателей похож на опыт всех остальных иммигрантов, их профессия обязывает их занять остраненную позицию, связывая себя с обоими сообществами и дискурсами, к которым они имеют отношение, со старым и новым «домом» одновременно. Учитывая сложности и противоречия между этими двумя мирами, только в частной жизни они могут идентифицировать себя как русских. В то же время роль публичного оратора обязывает их пытаться «соединить» два мира, русский и немецкий, и свести оба дискурса ближе. «Швы» между частными и публичными интенциональностями отчетливо видны, и «подчиненный» (subaltern) голос можно услышать; но мультикультуралистская позиция вытесняет его на задний план.
СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ?
Влияние различных внешних факторов (стратегии издательства, ожидания читателей) и требования, накладываемые природой творческого процесса как таковой (остранение художника, предполагаемая ответственность перед обществом и т.п.), оказывают сегодня на иммигрантских писателей сильное давление. Хотя очевидно, что этнические категории остаются важной частью их произведений, так же очевидна и необходимость провозглашать этническую самодетерминацию отчасти избыточной. Пытаясь разрешить противоречия, вызванные разнообразными идеологическими дискурсами, иммигрантские писатели занимают срединную позицию и продвигают различные формы гибридности. Под гибридностью здесь понимается глубоко интеллектуализиро- ванная позиция. Она не изменяет восприятие писателями самих себя в их частной жизни и не влияет на их работы и изображение иммигрантского опыта коренным образом. Гибридность — это скорее позиция, занятая по отношению к враждующим национальным дискурсам, и попытка их примирить.
Эта срединность неизбежно влечет за собой особенную двойственность иммигрантских нарративов. С одной стороны, Малецкий, Каминер, Бронски и Вачедин отражают, очень скрупулезно и правдоподобно, множество аспектов жизни иммигрантов. С другой стороны, позиция рассказчика в их произведениях довольно далека от позиции большинства опрошенных мной «русских» иммигрантов. Следовательно, в психологических, эмоциональных нюансах, а также на уровне общих заключений и оценок создается впечатление, что, несмотря на аккуратность изображений, они оказываются неточными.
Так становится очевидной противоречивая природа мультикультурной литературы. Поскольку сами писатели, несмотря на утверждения о гибридности, не могут окончательно уйти от этнических категорий, их тексты приводят к усилению разнообразных национальных стереотипов и клише, относящихся как к русским, так и к немцам. И пусть они собираются нарисовать аутентичную картину мира мигрантов, в итоге зачастую возникают те самые образы, которых писатели хотели бы избежать. Парадоксальным образом, различные национальные клише усиливаются не из-за внешнего влияния (например, идеологии или давления принимающего сообщества), а изнутри, руками самих иммигрантов.
«Русская» диаспора в Германии не только не соответствует сегодня обычному определению «диаспоры» — она еще и не обладает никакой общей идеей и не имеет собственного образа как цельного сообщества. В данный момент мы можем наблюдать сообщество, чье будущее зависит от того, как оно справится с проблемой этнической идентификации: активно заявляя о ненемецкой идентичности, как дело обстоит сейчас, занимая гибридную позицию, как предлагают писатели, или достигнув полной ассимиляции и растворившись внутри немецкого общества.
Какова в этом процессе будет роль литературы? Конечно, судить еще рано, поскольку мы в основном имеем дело лишь с первым поколением постсоветских мигрантов. Для большинства «русских» мигрантов, которые приехали в Германию между концом Второй мировой войны и падением Советского Союза, модели идентификации отличаются от тех, которые я описывала выше. И только те, кто прибыл в Германию в перестройку и позже, в полной мере испытали такие события, как прибытие в мультикультурную Германию из интернационалистического Советского Союза; выстраивание негативных стереотипов «русских» иммигрантов и антагонизм между различными группами мигрантов и, наконец, то, что они являются частью огромной группы захватчиков, грозящих немецкому государству всеобщего благосостояния. Каким образом эти факторы кристаллизуют новообразующуюся идентичность мигрантов и разрастающиеся диаспоры, можно будет увидеть, наблюдая за вторым и третьим поколениями постсоветских иммигрантов.
Пер. с англ. Александра Слободкина
[1] Safran W. Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return // Diaspora: A Journal of Transnational Studies. 1991. Vol. 1. № 1. P. 83—84.
[2] О психологическом аспекте воздействия травматического опыта на целостность личности и идентичность см.: Erik- son E. Identity and the Life Cycle. New York: W.W. Norton & Company Inc., 1958. P. 118, 120—141.
[3] Bloom W. Personal Identity, National Identity and International Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. P. 40.
[4] См.: Delanty G. Community. London: Routledge, 2010. P. 26.
[5] О роли литературы в формировании национальной идентичности см.: Fanon F. The Wretched of the Earth. Harm- mondsworth: Penguin, 1967.
[6] Юрий Малецкий родился в Куйбышеве в 1952 году и эмигрировал в Германию в 1995-м. Он был редактором журналов «Новый мир» и «Грани». Его произведения дважды были номинированы на премию «Русский Букер» и один раз на премию «Антибукер». В 2007 году его роман «Люблю» получил второе место в конкурсе на «Русский Букер». Малецкий — один из самых уединенных русских писателей, его крайние взгляды отмечались критикой. В двух произведениях Малецкого, «Проза поэта» и «Копченое пиво» (заново опубликованное под заглавием «Группен- фюрер»), активно обсуждается тема иммиграции.
[7] Владимир Каминер родился в Москве в 1967 году и переехал в Германию в 1990-м. Каминер — чрезвычайно успешный автор около двадцати книг, все — на немецком языке. На июнь 2010 года в Германии было продано приблизительно три миллиона экземпляров его книг. Ками- нер также работает журналистом для различных организаций, у него собственная радиопрограмма, он диджей на своей дискотеке «Руссендиско», известной на всю Германию. В 2012 году был снят фильм «Руссендиско».
[8] Имеющая русско-татарско-еврейские корни Алина Бронски (псевдоним) родилась в Свердловске (Екатеринбурге) в 1978 году. В подростковом возрасте переехала с родителями в Германию. Ее дебютный роман «Парк осколков» (Bronsky A. Scherbenpark. Cologne: Kiepenheuer und Witsch, 2008) был номинирован на Премию Ингеборг Бахман, присуждаемую молодым немецкоязычным авторам, а также на литературную премию «Aspekte». В 2013 году книга была экранизирована. Второй роман, «Самые острые блюда татарской кухни» (Bronsky A. Die Scharfsten Gerichte der Tatarischen Kuche. Cologne: Kiepenheuer und Witsch, 2010), попал в список кандидатов на Немецкую литературную премию за 2010 год. Третья книга Бронски, «Дитя зеркала», относится к жанру «young adult fiction».
[9] Дмитрий Вачедин родился в Ленинграде в 1982 году и переехал в Германию в 1999 году. В 2007-м стал лауреатом литературной премии «Дебют» в номинации «Молодой русский мир». Он преподавал на факультетах политики и славистики в Майнцском университете, а в настоящее время работает журналистом на радиостанции «Немецкая волна». Вачедин опубликовал ряд коротких рассказов в российских толстых литературных журналах. Он также получил «Русскую премию» в 2012 году.
[10] Использование предлога «или», нежели «и», будет объяснено ниже.
[11] Heleniak T. Migration of the Russian Diaspora after the Breakup of the Soviet Union // Journal of International Affairs. 2004. Vol. 57. № 2. P. 103.
[12] Ibid. P. 99.
[13] См.: www.initiative-tageszeitung.de/lexika/leitfaden-artikel.html?LeitfadenID...www.bamf.de/EN/Migration/Spaetaussiedler/spaetaussiedler-node.html (дата обращения по обеим ссылкам: 16.05.2014).
[14] Смысл этого закона заключался в том, чтобы дать ФРГ возможность обеспечить защиту прав этих людей на том основании, что они подвергались дискриминации со стороны правительств тех стран, гражданами которых формально являлись (например, этническим чисткам в бывшем СССР).
[15] Isurin L. Russian Diaspora: Culture, Identity, and Language Change. Berlin; New York: De Gruyter Mouton, 2011. P. 151.
[16] См.:www.bamf.de/cln_092/nn_443728/SharedDocs/Anlagen/DE/Migration/Publikatio..., property=publicationFile.pdf/wp8-merkmale-juedische-zu- wanderer.pdf (дата обращения: 29.04.2013).
[17] Беженцы по квоте (нем.). До этого закон распространялся на беженцев из Вьетнама (1985) и Албании (1990).
[18] Либо проживать на этих территориях в качестве лица без гражданства не позднее 1 января 2005 года.
[19] Для родившихся после 1991 года один из дедушек и бабушек должен быть еврейского происхождения.
[20] Что не помешало приехать в Германию большому количеству евреев, принявших православие. См.: Lubrich O. Are Russian Jews Post-Colonial? Wladimir Kaminer and Identity Politics // East European Jewish Affairs. 2003. Vol. 33. № 2. P. 39.
[21] Уровень языка должен позволить сдать по меньшей мере экзамен на уровень A1 по общеевропейской системе (кроме детей до 15 лет).
[22] Еврейские иммигранты, родившиеся в какой-либо из бывших советских республик до 1 января 1995 года, автоматически рассматривались как жертвы нацистских преследований. Те, кто родились за пределами СССР, но могут предъявить достаточные доказательства преследований, также попадают в эту категорию. В этом случае знание немецкого языка и доказательства способности интегрироваться не являются необходимыми.
[23] Лица, преследуемые по политическим мотивам, могут обратиться с просьбой о предоставлении убежища в Германии на основании статьи 16a Конституции ФРГ, согласующейся с Женевской конвенцией о беженцах 1951 года.
[24] В 2010 году в Евросоюз въехали 18 595 беженцев из России, в 2011-м — 18 330.
[25] epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Asylum_statistics (дата обращения: 01.05.2013). На первом месте Франция — 57 335 беженцев.
[26] Мария Савоскул справедливо утверждает, что число этнических немцев среди иммигрантов напрямую связано с решениями советского правительства о реабилитации этнических немцев. См.: Савоскул М. Российские немцы в Германии: Интеграция и типы этнической самоидентификации: (По итогам исследования российских немцев в регионе Нюрнберг-Эрланген) // Демоскоп. 2006. № 243244. 17—30 апреля (demoscope.ru/weekly/2006/0243/analit 03.php (дата обращения: 26.04.2013)).
[27] Однако наплыв почти двух с половиной миллионов мигрантов побудил правительство ФРГ принять меры по контролю и ограничению иммиграции. Неоднократно предпринимались попытки изменить BVBG, каждая новая поправка увеличивала число ограничений и требований по отношению к иммигрантам. Например, в 1996 году для «(поздних) переселенцев» был введен экзамен по немецкому языку. В начале 1990-х для переселенцев были введены ограничения свободы выбора места жительства в Германии (эти ограничения позднее были отменены). Закон об иммиграции (Zuwanderungsgesetz) 2005 года ввел требования владения немецким языком для родственников переселенцев. Прием еврейских иммигрантов также был ограничен. В 2001 году президент Центрального совета евреев Германии Пауль Шпигель выразил просьбу о более тщательной проверке еврейского происхождения иммигрантов. Возможно, это стало реакцией на большое число нерелигиозных еврейских иммигрантов. В 2004 году был прекращен прием заявлений от евреев Латвии, Литвы и Эстонии в связи со вступлением этих стран в Евросоюз.
[28] Лагерь беженцев (нем.).
[29] Однако с 31 декабря 2009 года из-за резкого уменьшения потока иммиграции практика распределения поздних переселенцев была прекращена, и сейчас они не стеснены в выборе места жительства.
[30] Brown AJ. The Germans of Germany and the Germans of Kazakhstan: A Eurasian Volk in the Twilight of Diaspora // Europe-Asia Studies. 2005. Vol. 57. № 4. P. 630.
[31] Elwert G. Probleme der Auslanderintegration. Gesellschaftliche Integration Durch Binnenintegration? // Kolner Zeitschrift Soziologie und Sozialpsychologie. 1982. № 34. S. 717—733.
[32] Савоскул М. Миграция этнических немцев в Германию и их интеграция в общество // Вестник Московского университета. Серия 5: География. 2006. № 6. С. 46—51.
[33] Clifford J. Diasporas // Cultural Anthropology. 1994. Vol. 9.№ 3. P. 304.
[34] Заявлений (нем.).
[35] Isurin L. Op. cit. P. 143.
[36] Kleinknecht-Strahle U. Deutsche aus der ehemaligen UdSSR: Drei Phasen der Migration und Integration in der Bundesre- publik Deutschland im Vergleich // Wanderer und Wande- rinnen Zwischen Zwei Welten? Zur Kultureller Integration Ruslanndeutschen Aussiedlerinnen und Aussiedler in Bundes- republik Deutschland: Referate der Tagung des Johannes- Kunzig-Institutes fur ostdeutsche Volkskunde vom 7./8. November 1996 / Hg. von H.-W. Retterath. Feiburg im Breisgau: Johannes-Kunzig-Institut fur ostdeutsche Volkskunde, 1998. S. 43—44.
[37] Савоскул М. Российские немцы в Германии: Интеграция и типы этнической самоидентификации.
[38] См., например: Kolinsky E. Multiculturalism in the Making? Non-Germans and Civil Society in the New Lander // Recasting East Germany: Social Transformation after the GDR / Ed. by C. Flockton and E. Kolinsky. London; Portland: Frank Cass, 1999. P. 192—214.
[39] На вокзале (нем.).
[40] Brown AJ. Op. cit. P. 630.
[41] Takle M. (Spat)Aussiedler: From Germans to Immigrants // Nationalism and Ethnic Politics. 2011. Vol. 17. № 2. P. 176— 177.
[42] Ibid. P. 175—176.
[43] Ibid. P. 177.
[44] Fanon F. Black Skin, White Masks. London: Pluto Press, 1986. P. 159—162.
[45] Isurin L. Op. cit. P. 160.
[46] Bauman Z. From Pilgrim to Tourist — or a Short History of Identity // Questions of Cultural Identity / Ed. by S. Hall and P. du Gay. London: Sage Publications, 2003. P. 19.
[47] Lubrich O. Op. cit. P. 38.
[48] Isurin L. Op. cit. P. 79.
[49] Boym S. The Future of Nostalgia. New York: Basic Books, 2001. P. 256.
[50] Bhabha H. The Location of Culture. London; New York: Routledge, 1994. P. 112.
[51] См.: Wanner A. Wladimir Kaminer: A Russian Picaro Conquers Germany // The Russian Review. 2005. Vol. 64. № 4. P. 594; Lubrich O. Op. cit. P. 47—48.
[52] Вачедин Д. Снежные немцы. М.: ПрозаиК, 2010. С. 82—83.
[53] Упоминание сексуальной свободы в Германии, в особенности услуг секса по телефону или в телепередачах о сексе, — распространенный прием, который использовали и другие писатели. См. следующий пассаж у Каминера: «Da- bei versucht eine verzerrte Frauenstimme vom Tonband ei- nem Trost zu spenden: "Mein Freund, ich weiB, wie einsam du dich fuhlst in dieser grausamen, fremden Stadt, wo du jeden Tag durch die StraBen voller Deutscher laufst und niemand lachelt dir zu. Mach deine Hose auf, wir nostalgieren zusam- men!"» («Искаженный женский голос на кассете пытается помочь: "Друг, я знаю, как одиноко тебе на этих жестоких, незнакомых улицах. Каждый день ты ходишь по улицам, полным немцев, и никто тебе не улыбается. Расстегни молнию, поностальгируем вместе!"» (перевод М. Хульзе)). См.: Kaminer W. Russendisko. Munchen: Manhattan, 2000. S. 75.
[54] Малецкий Ю. Проза поэта // Малецкий Ю. Привет из Калифорнии. М.: Вагриус, 2001. С. 220.
[55] Малецкий Ю. Копченое пиво // Вестник Европы. 2001. № 3. С. 85.
[56] «Maria ist Mitte dreiBig und sieht as wie funfzig. Sie hat in Nowosibirsk in einer Fabrik-Kantine gearbeitet. Maria, das sind schwielige Hande groB wie Spaten, aber mit rot lackier- ten Nageln, kurze Haare, blondiert und dauergewellt, dicke Beine mit Krampfadern, die man aber unter Wollstrumpfho- sen nicht sieht, ein Dutzend geblumte Kleider, ein Hintern so breit, dass darauf ein Hubschrauber landen konnte, rot ange- mahlter groBer Mund, dicke Backen, kleine Augen» (Bron- sky A. Scherbenpark. S. 24—25). Перевод Т. Мора.
[57] «Melanie <...> sah das Madel so bilderbuchmaBig deutsch aus wie kein anderes Madchen in meiner Klasse. Eben so, wie man sich als Auslander eine junge Deutsche vorstellt, vor allem, wenn mann das Inland noch nie betreten hat. Sie hatte frisch geschnittenes und ordentlich gekammtes blondes Haar bis zum Kinn, blaue Augen, rosige Wangen und eine gebugelte Jeansjacke, roch nach Seife und sprach mit piepsiger Stimme Satze aus uberwiegend zweisilbigen Wortern, die wie Erbsen aus ihrem Mund heraushupften» (Ibid. S. 15—16). Перевод Т. Мора.
[58] Малецкий Ю. Проза поэта. С. 237—238.
[59] Малецкий Ю. Копченое пиво. С. 84. «Фольксдойч» (Volks- deutsch) — этнический немец.
[60] В семье беженцев (нем.).
[61] Boym S. Op. cit. P. XV.
[62] Kaminer W. Op. cit. S. 33—36.
[63] Bhabha H. Op. cit. P. 53—54.
[64] Малецкий Ю. Копченое пиво. С. 65.
[65] Вачедин Д. Указ. соч. С. 19.
[66] Там же. С. 152.
[67] Имеется в виду ФРГ (BRD, Bundesrepublik Deutschland). — Примеч. перев.
[68] Ваннер утверждает, что то же самое происходит с Маки- ном во Франции и со Штейнгартом в США (Wanner A. Russian Hybrids: Identity in the Translingual Writings of Andrei Makine, Wladimir Kaminer, and Gary Shteyngart // Slavic Review. 2008. Vol. 67. № 3. P. 675).
[69] Wanner A. Wladimir Kaminer: A Russian Picaro Conquers Germany. P. 591.
Опубликовано в журнале:
«НЛО» 2014, №3(127)
Гегемония без господства/диаспора без эмиграции: русская культура в Латвии
(пер. с англ. Н. Сафонова под ред. А. Скидана)
Кевин Платт
РУССКАЯ КУЛЬТУРА В ЛАТВИИ[1]
клей неудачный
и слегка изменен цвет глаз цвет волос рост
сильно не раскрывать
на границе делать честное лицо
и улыбаться
чтобы швы были не так видны
зато шикарное имя и фамилия
и подозрительно юный возраст
а водяные знаки такие
что можно вообще не дергаться
если кто-то не отрываясь смотрит тебе в лицо
Семен Ханин, 2009[2]
Колониальное государство в Южной Азии было совсем непохоже на породившую его буржуазную метрополию. Фундаментальная разница заключалась в том, что метрополия была по своей сути гегемониальной, с установкой на доминирование, которое основывалось на властных отношениях, где убеждение перевешивало принуждение, в то время как колониальное государство было негегемониальным, в его структуре господства принуждение перевешивало убеждение. Мы приходим к выводу, что уникальность южноазиатского колониального государства заключается именно в этом различии. Исторический парадокс — это была автократия, установленная и поддерживаемая на Востоке в первую очередь демократией Запада. Ввиду своей негегемониальности государство было неспособно ассимилировать в себя гражданское общество колонизированных. Поэтому за определение колониального государства было принято «господство без гегемонии».
Ранаит Гуха, 1997[3]
Несколько лет назад Ранаит Гуха описал положение подчиненного колониального населения в Индии (и, посредством этого, особенности последствий этого положения в постколониальном индийском обществе) в терминах зазора между локальными культурными образованиями подчиненного населения и политическими и культурными системами колониальной элиты. Так как легитимировавшие колониальное управление элитные культурные образования и их современные западные институты не распространялись на подчиненное индийское население, колониальное управление могло осуществляться только посредством нелигитимированного господства, «господства без гегемонии». В современной Латвии русское население, в частности значительная часть «неграждан» (категория, которую ниже я подробно разберу), во многих отношениях отстранено от официальных культурных и политических институтов современного общества — как от латвийских, так и, ввиду географической удаленности, от российских[4]. Тем не менее русскоязычные латвийцы подвержены экономическому и культурному влиянию со стороны Российской Федерации гораздо сильнее, чем обычные диаспоральные сообщества — со стороны своей исторической родины. Причина этому — как широкое распространение коммуникационных технологий, так и сознательная политика, например деятельность фонда «Русский мир», который масштабно финансировал культурную деятельность в ближнем зарубежье со времени своего основания в 2007 году[5]. В отличие от ситуации, которую описывает Гуха, российские социальные и культурные институты осуществляют в отношении русского населения Латвии «гегемонию без господства». Эта статья посвящена исследованию этого особого положения. Как мы увидим, термины постколониальных исследований применимы к ситуации на постсоветском пространстве и в постсоциалистической Восточной Европе лишь при предельном внимании к особенностям культурных и исторических траекторий, а эти последние довольно далеки от классического имперского контекста, изучавшегося исследователями вроде Гухи. Вместе с тем, сравнительное изучение этих разных примеров и методов, которые мы можем к ним приложить, приводит к важным результатам. Так, мое переворачивание формулы Гухи отражает ту степень унижения, которая для некоторых сообществ во многих отношениях сопоставима с описанными им колониальными конфигурациями власти.
I. ДОКУМЕНТАЦИЯ
После распада Советского Союза c официальными удостоверениями личности в Латвии началась сплошная морока. В 1990—1991 годах постсоветская Латвия была провозглашена законной наследницей Латвийской Республики межвоенного периода (1922—1940), конституция которой действует и сегодня. В результате гражданство на заре новой эпохи автоматически получили только граждане межвоенной республики и их потомки. Это поставило всех остальных жителей — а многие из них родились в Советской Латвии и отдали свои голоса за независимость на референдуме 1991 года — перед необходимостью пройти с самого начала плохо определенную процедуру натурализации. В 1995 году был разработан новый закон о натурализации, который довольно значительную группу бывших советских латвийцев помещал в категорию «nepilsonis», или «неграждане». На данный момент эта группа составляет около 15 процентов общего населения республики, причем большинство считает себя «русскими», хотя в нее входят и представители других национальностей[6]. Это соотношение объясняет, почему многие неграждане отказались от натурализации, выразив тем самым свое недовольство или протест. Звучит как полный абсурд, но дети латвийских неграждан тоже являются негражданами, иными словами, эта категория в своем теперешнем виде — перманентная характерная черта латвийского социального пейзажа; она не исчезнет в результате смены поколений. Русскоязычные латвийцы в своем неповторимом стиле, как правило, сокращают «негражданин» до «негр» — конечно, спорный в некоторых контекстах термин, но в данном конкретном случае это, бесспорно, ироничное самоуничижение.
Возмущение статусом неграждан периодически всплывает в СМИ Российской Федерации, в ее политическом дискурсе и дипломатической риторике. Нужно заметить, что медиапространство русскоязычного сектора Латвии не сильно отличается от российского. В России тоже можно столкнуться с терминологической путаницей относительно идентичностей жителей бывших советских республик. Владимир Путин в своем обращении к Совету Федерации в 2005 году назвал распад Советского Союза «крупнейшей геополитической катастрофой века», в результате которой «десятки миллионов наших сограждан и соотечественников оказались за пределами российской территории»[7]. В российском политическом и публичном дискурсе понятие «соотечественники за рубежом» возникло в начале 1990-х, когда его официальное определение появилось в законе «О государственной политике РФ в отношении соотечественников за рубежом». Этот закон предоставлял «соотечественникам за рубежом» особые права на перемещение, упрощение процедуры въезда и многие другие права. Кроме того, он обязывал государство защищать юридические, экономические и «культурные» интересы (использование языка, право на образование, историческое наследие) — в связи с чем прецедент с латвийскими «негражданами» стал все чаще оказываться в центре публичного внимания[8]. После вступления закона в силу в России, как и в соседних странах со значительным количеством этического русского населения, термин «соотечественники за рубежом» вошел в широкий оборот. Однако описывает он не столько понятие, сколько вихри понятийного замешательства, несмотря на самые благородные намерения юристов.
В публичной сфере, как в обращении Путина, термин в основном описывает русских, которые оказались вне «российской территории» после распада Советского Союза. Но официальное определение, исправленное уже несколько раз после вступления закона в силу, так и не смогло очертить ясные границы этой категории вследствие исторической «запутанности» русской этнической идентичности. В первой версии этого закона оно было в основном калькой словарной дефиниции «соотечественника» в свете статуса Российской Федерации как преемника Советского Союза — таким образом, всякий гражданин СССР, вне зависимости от этнической принадлежности, мог считаться «соотечественником за рубежом»[9]. Однако с тех пор в России возросла важность патриотической и этнической национальной риторики, а также увеличился приток и присутствие в стране нерусских (этнически) рабочих-мигрантов в связи с повышением благосостояния России и спроса на ручной труд. Это придало резкости политическому и публичному дискурсу вокруг эмиграции и, соответственно, вокруг соотечественников. Многие русские хотели бы облегчить процесс возвращения российского гражданства «хорошим соотечественникам», но в то же время ограничить и усложнить доступ для «неугодных» граждан бывших советских республик. Как правило, отношение выражается так: да русскоязычным латвийцам, нет узбекским рабочим-мигрантам (к примеру).
В период с 2006-го по 2009 год в закон о «соотечественниках за рубежом» было внесено несколько поправок, призванных сузить область применения этой категории. Но они не помогли избавиться от двусмысленности. Нынешняя редакция закона уточняет, что «соотечественники за рубежом» — это люди, живущие в других государствах, «относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории Российской Федерации». Закон поясняет, как кто-либо может сделать этот «свободный выбор»:
Признание своей принадлежности к соотечественникам лицами, предусмотренными пунктом 3 статьи 1 настоящего Федерального закона, является актом их самоидентификации, подкрепленным общественной либо профессиональной деятельностью по сохранению русского языка, родных языков народов Российской Федерации, развитию российской культуры за рубежом, укреплению дружественных отношений государств проживания соотечественников с Российской Федерацией, поддержке общественных объединений соотечественников и защите прав соотечественников либо иными свидетельствами свободного выбора данных лиц в пользу духовной и культурной связи с Российской Федерацией.
Здесь мы можем заметить столкновение сложных социальных и этнических образований, унаследованных от советского и российского имперского прошлого, с современными проблемами «дезагрегирования» гражданства, наблюдаемыми в мировом масштабе[10]. Возвращаясь к вопросу относительно документов, с которого мы начали: несколько лет назад появился российский законопроект о разработке «Карты русского» для «соотечественников за рубежом», которая будет подтверждать особые привилегии ее владельцев и предоставлять им дополнительные права на работу, а также различные медицинские, образовательные и другие права, которыми обладают граждане России. Однако проект создания подобной карты породил почти бесконечные дебаты о подходящем определении понятия «соотечественники». Диапазон мнений простерся от явно неработающих концепций наследственной этнической принадлежности до идеи всеобъемлющей категории, включающей в себя всех говорящих на русском языке и идентифицирующих себя с русским народом на «культурном-духовном» уровне[11].
Все вышеизложенное говорит о том, что стихотворение русскоговорящего—еврея—латвийского поэта Семена Ханина, взятое мной в качестве эпиграфа, затрагивает больной нерв в вопросах гражданства, официальных документов и социальных идентичностей на постсоветской периферии. Отметим, что структура стихотворения затрудняет узнавание описываемого предмета, каковой является фальшивым документом, призванным затемнить идентичность. Можно добавить, что «Семен Ханин» — это псевдоним. Идентичность здесь словно бы спрятана, как в матрешке, балансирующей на международной границе лицом к лицу с контролирующими индивида государственными органами, которые не могут включить его в категории, способные придать смысл биографии и положению субъекта, сформированного историей и современными реалиями региона. Стихотворение Ханина проливает свет на тяготеющие над индивидуумами в этом регионе вопросы политических границ, географии, социальной и этнической идентичности и культурной принадлежности. Что значит быть русскоязычным латвийцем или русским в Латвии? Если границы Российской Федерации достаточно ясны, то где проходят границы «русской культуры»? Достаточно ли говорить по-русски и учить этому детей, чтобы считать себя русским в Латвии, или необходимо активно утверждать «свободу выбора духовной, культурной и правовой связи» с Российской Федерацией? И в каком положении это оставляет «русских», которые не выбирают такой связи, — может ли некто быть «русским» на какой-то особый, «прибалтийский» манер? Что значит продвигать русскую культуру в этом регионе «вне российской территории» или сохранять здесь русское культурное наследие — достаточно ли для этого писать стихи на русском? Нужно ли писать под своим настоящим именем? Должна ли эта поэзия существовать внутри установленных рамок узнаваемой русской поэтической традиции? Эта статья, являясь частью большого проекта по изучению русской культуры в современной Латвии, на конкретном примере позволит нам ответить на некоторые из этих вопросов.
II. БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
Перед тем как перейти к центральной проблеме статьи, позволим себе шире посмотреть на положение русскоговорящего населения Латвии в целом. Сказанное выше позволяет понять, что термин «русский» невозможно использовать в Латвии без оговорок. В дальнейшем под «русскими» я буду подразумевать представителей разных слоев населения, для которых русский язык является родным в Латвии, безотносительно к этнической идентичности и отождествлению с населением или социальными идентичностями Российской Федерации[12]. Современные русские сообщества в Латвии формируются вследствие огромного числа самых разных обстоятельств: это и религиозные меньшинства, бежавшие сюда из-за гонений со стороны шведской Ливонии еще в XVII веке, и семьи, приехавшие в регион в эпоху Российской империи, и те, кто бежал из-за Октябрьской революции, чтобы осесть в межвоенной Латвийской Республике, и еврейские семьи с глубокими прибалтийскими корнями, для которых русский язык был родным на протяжении многих поколений. Все эти группы затмеваются, однако, как количественно, так и в общественном сознании, огромным количеством людей, осевших в Латвии в конце XX века вследствие мобильности населения и социально-инженерных решений советского государства. Поэтому Латвия представляет собой интересный пример для исследования процессов деколонизации, затрагивающих распад континентальной империи, оставившей после себя сообщества, которые она же сформировала. Стоит отметить отличие этой сложившейся демографической ситуации от ситуаций в бывших колониях мировых морских держав, которые рассматривались, в общем, в качестве парадигматических в постколониальных исследованиях последних лет. Современная Латвия, напротив, повторяет опыт восточноевропейских государств вроде Польши межвоенного периода первой половины XX века — государств, оказавшихся в крайне напряженной ситуации национального возрождения и вновь обретенной независимости, в которых тем не менее остались довольно крупные и давно сложившиеся сообщества меньшинств, причем одни из них были представителями доминировавших ранее этнических (и других) групп, а другие — представителями дополнительных недоминировавших имперских этнических (и других) групп.
Латвия — постсоветское государство с пропорционально наибольшим русским населением, «застрявшим» в республике после распада СССР. Согласно данным последней переписи, этнические русские составляют 27,9% населения, другие русскоговорящие, включая белорусов, украинцев, евреев и представителей других бывших советских этнических групп, составляют примерно еще 10%[13]. Необходимо добавить, что, в отличие от ранних постимперских государств, распавшаяся империя — в нашем случае СССР, — несмотря на все свое национальное строительство и одержимость документированием «национальности», была привержена светскому идеалу общей советской идентичности, что привело к широкому распространению смешанных браков между представителями разных этнических и национальных групп[14]. Имперские принципы построения русской идентичности на протяжении столетий проявлялись в поощрении смешанных браков и ассимиляции, но апогея эти тенденции достигли в сегодняшней Латвии, в особенности в Риге, где живет половина русскоязычного латвийского населения. На протяжении большей части своей истории Рига была имперской контактной зоной и мультиэтническим городом. Добавив к этому неоднократные политические трансформации и перемещения населения в XX веке, мы окажемся в сегодняшней Риге, где русские в значительной степени являются носителями этнически многосоставной генеалогии[15]. Отметим также, что по причинам, связанным с социальными и политическими преимуществами, этнически смешанные семьи в советские годы стремились к русскому языку и культуре, позволяя латышскому анклаву оставаться гораздо более этнически гомогенным. В результате возникло противостояние не только противоположных этнических идентичностей, но противоположных принципов конструирования этнической принадлежности — «эндогамных» и «экзогамных», если рассматривать эти термины не в качестве аналитически адекватных категорий, а как метафоры, схватывающие политически нагруженный вопрос формирования идентичности на этой территории[16].
И по масштабу, и по генеалогической сложности русского населения Латвия представляет собой наиболее яркий пример непростых социальных условий, которые по-разному и в разной степени проявляются во всем российском «ближнем зарубежье». Раз уж мы пришли к этому интригующему термину, стоит остановиться, чтобы отметить его концептуальную сложность — не менее замысловатую, чем у терминов, служащих для определения политической идентичности, которые обсуждались выше. В первую очередь, это оксюморонность конструкции, определяющей территорию как одновременно «близкую» и «далекую». Нынешняя Латвия воплощает эту географическую концепцию. С точки зрения России, она стоит в ряду самых «близких» мест — в территориальном, историческом, лингвистическом смысле, в плане экономических, социальных и семейных отношений, прокладывающих пути через границу. С другой стороны, это одно из самых «зарубежных» пространств — государство в составе Европейского союза, географически расположенное на западе и определяемое неславянской титульной нацией. Характеристика с сайта, посвященного российскому туризму в Риге, вероятно сильно отредактированная или вообще фиктивная, предлагает «типичное» описание Риги, какой она видится из России:
Тихо и спокойно. В старом городе башенки, соборы, базилики, извивистые улочки и тишина — проезд транспорта ограничен почти до полного запрещения. Вокруг туристы европейского вида — чинные и в то же время веселые, но культура... блещет. Никакого интернационала, гастарбайтеров, оборванцев в сланцах и прочих язв европейских столиц. Приятно. Чувствуешь себя дома, хотя вокруг фон из всевозможных европейских языков. Даже русские здесь какие-то рафинированные — не заговорит, и не поймешь, откуда. Вообще, обслуживающий туристов рижский персонал — это отдельная тема. Довольно молодые ребята и девчонки в любой забегаловке говорят, как минимум, на трех языках, кроме своего, — английском, немецком, русском[17].
Коротко говоря, с точки зрения Российской Федерации, Латвия максимально сочетает в себе европейскую интеграцию с почти семейной близостью. Латвия одновременно «их» и «наша», близкая и далекая, экзотическая и домашняя; эта нагруженная иронией концепция политического пространства легко сочетается с раздробленностью и спорным характером социальных идентичностей в регионе. В опросе латвийских жителей, который проводился в 1997—1998 годы, большинство респондентов (и латыши, и русские) отвечали, что русские в Латвии и русские в Российской Федерации — «разные люди»[18]. Когда у некоторых спрашивали, что их отличает (как это делал я в серии подробных интервью с жителями Риги летом в течение трех лет (2007—2010)), все отвечали, что русские в Латвии «культурнее», чем на востоке от границы[19]. Распространенное объяснение, которое я услышал от преуспевающего еврейского бизнесмена Евгения Гомберга, гласит, что быть «культурнее» значит больше уважать закон и высокую культуру и быть нетерпимым к абсурду повседневной и публичной жизни в Российской Федерации и к тем необходимым для выживания там привычкам, которые Гомберг объединил словом «хамство»[20]. Такое использование термина «культура» одновременно двусмысленно и эмоционально нагружено. В определенном отношении оно активирует понятие «культурности», отсылающее в первую очередь к вежливому поведению в быту — здороваться с продавцами, не появляться на публике пьяным, не сквернословить и т.п. Однако в другом отношении имеется в виду высокая культура. Как пояснил Гомберг, в Латвии по-настоящему ценят классическую русскую культуру, в отличие от зачастую вульгарной и профанированной культурной жизни в современной Российской Федерации. Информанты также нередко сообщали, что в Латвии говорят на «более чистом» русском языке, чем в самой России.
В обоих этих регистрах — повседневной культуры, или «культурности», и высокой культуры — подобные разговоры окрашены оттенками ностальгии. «Культурность» была отличительной чертой социального идеала советской публичной жизни, начиная со сталинского возрождения буржуазных ценностей в 1930-е годы, в то время как высокая культура, о которой говорят русскоязычные латвийцы (зачастую с тоской), состоит из канонических форм ушедшей в прошлое советской эпохи — балет, опера, Пушкин и т.д.[21] К тому же современные притязания на особый «культурный» статус прибалтийских русских должны рассматриваться в контексте давнего беспокойства об утрате новыми поколениями русских в регионе культурной компетентности. Основной причиной этого беспокойства, без сомнения, стала латвийская образовательная политика, которая за последние два десятилетия полностью исключила высшее образование на русском языке и постепенно уменьшила количество учебных часов на русском в русских школах, чтобы обеспечить компетентность в латышском. Как мы увидим ниже, ощущение культуры в осаде распространяется на многие другие сферы опыта русскоязычных латышей. В этом свете можно заподозрить, что «культурная» идентичность русских в Латвии порождает приверженность ценностям потерянной цивилизации, своего рода мантру, отгоняющую тревогу о том, не исчерпала ли русская культура в Латвии свои возможности.
III. СКАЗКА О ДВУХ БИБЛИОТЕКАХ
Это подводит нас к основному предмету анализа моей статьи — институтам культурной жизни, учрежденным в ответ на ощутимую угрозу русской культурной идентичности и ценностям в постсоветскую эпоху. Русские, как известно, — «народ книги», поэтому не удивительно, что именно книги и библиотеки стали одним из очагов тревоги за русскую культуру в независимой Латвии. Случай, который я разберу ниже, происходит в тени грандиозного нового здания Латвийской национальной библиотеки на берегу Даугавы. Ультрасовременную новую конструкцию, призванную стать символом города, проектировщики и спонсоры окрестили Замком света. Руководитель проекта, американский архитектор латышского происхождения Гунарс Биркертс, объяснил, что здание отражает пробуждение сил и идентичности латышской нации на постсоветском пространстве[22]. В русскоязычной прессе и на улицах часто критикуют этот проект, считая его бессмысленной тратой, особенно в недавние посткризисные годы аскетичной латвийской политики. В то же время, вместо того чтобы возмущаться его ценой для налогоплательщиков, русскоговорящая Рига сфокусировала свою обеспокоенность относительно этого сооружения на сообщениях о том, что Латвийская национальная библиотека за последние несколько десятилетий уничтожила большое число русскоязычных материалов и продолжит их уничтожать по мере переезда фондов в новое здание. В новой библиотеке русскоязычные материалы составят лишь 12% всех приобретений, что означает постепенное и неуклонное сокращение доли русских материалов по сравнению с прошлыми показателями. Конечно, любая библиотека должна избавляться от устаревших материалов, а дигитализация сделала очевидной избыточность большого числа материалов советской эпохи. К тому же принципы пополнения в значительной степени отражают издательские тенденции в Латвии — а Национальная библиотека является, как-никак, официальным хранилищем. Как бы то ни было, установка на сокращение мест на полках для русских книг в Национальной библиотеке стала мощной метафорой и точкой концентрации обеспокоенности изменяющимся положением русской культуры в Латвии[23].
Но мой рассказ относится к гораздо более мелким учреждениям, чья цель сохранения культурного наследия русской идентичности соответствует в миниатюре задаче, описанной архитектором Латвийской национальной библиотеки в отношении продвижения латышской идентичности. Когда вы впервые входите в Krievu Gramata Biblioteka (Культурный центр «Русская библиотека»), первое ощущение — избыток книг: они занимают каждую доступную поверхность, лежат кучами, в углах, сложены в несколько рядов на самодельных полках, каждая по шесть метров в высоту, в большой комнате на первом этаже деревянного дома XIX века во дворе по центральной улице Риги Gertrudes iela. Мне сказали, что когда-то здесь было несколько столов со стульями у дверей для посетителей, чтобы те могли почитать и просмотреть предлагаемую библиотекой продукцию, размеры которой я оценил примерно в 40 000 томов (никто не может с точностью сказать, так как полного каталога здесь нет). Теперь эти столы и стулья завалены грудами книг. Только один стол все еще не утонул в печатном слове — это стол Тамары Сергеевны, одинокое присутствие которой с решительной готовностью работать на волонтерских началах делает библиотеку открытой шесть дней в неделю, в любую погоду круглый год.
Библиотека находится в эксплуатации с 2001 года, ее фонды почти полностью состоят из книг, подаренных из частных собраний, поступивших из ликвидированных библиотек и профессиональных организаций, а также подаренных посетителями библиотеки. Такое большое число подаренных книг обусловлено тем, что одна из функций этой библиотеки — перераспределение печатной продукции в тюремные библиотеки, больницы и другие общественные заведения. Прямо у входа в библиотеку есть место, где сотни упаковок с книгами ждут отправки. Тамара Сергеевна — руководитель на пенсии, начала свою карьеру в советских провинциальных библиотеках, но большую часть своей трудовой жизни провела в комсомольских и партийных организациях. Она считает, что членство в библиотеке в идеале должно быть свободным (как она сказала мне: «Советские люди привыкли читать бесплатно»). Здесь это не совсем так, хотя членский взнос в размере шести латов в год (около 350 рублей) достаточно скромный. Нет никаких штрафов за просрочку. Клиенты могут взять с собой ограниченное число книг за один раз. Всего записанных в библиотеке, по словам Тамары Сергеевны, около 2000, хотя ясно, что членские взносы зачастую нерегулярны, и поэтому сказать, сколько на самом деле зарегистрированных пользователей, довольно сложно. За время моих визитов в последние несколько лет в летние месяцы (когда, понятно, количество постоянных клиентов может быть меньше) библиотека принимала устойчивый поток посетителей всех возрастов, правда, пожилых людей, возможно, было больше.
Для персонала и основателей библиотеки ее основная задача — сохранение русского языка и культурного знания, каковое, по мнению посетителей и персонала, находится под угрозой из-за политических решений, которые приводят не только к изъятию русскоязычных книг из Латвийской национальной библиотеки, но и к удалению русских книг из собраний публичных, ведомственных и учебных латвийских библиотек и ко все меньшему приобретению этими учреждениями новых экземпляров. В дополнение к этой более широкой задаче предоставления доступа к русскому печатному слову основатели библиотеки говорят и о конкретных целях. На сайте библиотеки миссия сформулирована так: «Библиотека и была создана для сохранения лучших изданий прошлых лет. Фонду продолжают дарить множество ценных книг, часто большие домашние библиотеки, библиотеки специалистов из Риги и Рижского района»[24]. Как можно узнать на сайте (который не обновлялся с 2002 года), первоначально у библиотеки были большие планы по организации мероприятий, образовательных программ и по активному участию в культурной жизни русскоязычной Риги. Однако после первого десятилетия существования библиотеки эти цели оказались отодвинуты далеко на обочину, вернув учреждение к его первоочередной задаче — русской книге.
Но даже с такой урезанной повесткой Русская библиотека удовлетворяет ряд потребностей — как символических, так и практических. Среди постоянных посетителей, которых я интервьюировал в течение нескольких лет, трое из девяти были родителями или дедушками и бабушками школьников в поисках книг из школьной программы, двое из них пришли вместе с ребенком. Остальные были простыми читателями и искали как классических авторов, таких как Достоевский, Некрасов, Аксенов, Гоголь или Лермонтов, так и легкое чтиво — любовные и детективные романы. Тамара Сергеевна подтвердила, что две последние категории — одни из самых популярных в библиотеке. Восемь из девяти посетителей, с которыми я разговаривал, были женщинами. Расположение книг в библиотеке подкрепляет эти наблюдения. Хотя в собрании имеются важные и редкие справочники — например, оригинальная редакция Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона и избранные произведения русских авторов, — они расположены на почти недоступных полках, многие из них сложены горизонтально, словно чтобы подчеркнуть, что они просто хранятся там, и достать их по требованию совсем не просто. Эта «выставка» культурных богатств свидетельствует об упорстве библиотеки в деле их сохранения и о приверженности тому особому культурному статусу, который собрания сочинений традиционно несут в домах образованных русских, будучи выставленными на застекленных полках в гостиной. В то же время, запыленные, нагроможденные в недосягаемости в обветшалом помещении, они словно являют собой памятники тому представлению об униженном положении русской культуры в Риге XXI века, которого придерживаются основатели библиотеки. Коротко говоря, культурный капитал, производимый и сохраняемый Русской библиотекой, различается по типу — включая как традиционный престиж и статус русского образованного общества, так и дополнительное социальное позиционирование, связанное с концепцией русской культуры в Латвии как «исчезающего вида».
Дискуссии с Тамарой Сергеевной и посетителями о библиотеке поместили проблему книги в общий контекст русского языка и культуры в независимой Латвии. Темы варьировались от чрезмерного, по мнению Тамары Сергеевны, навязывания латышского языка ее внукам в школе до сравнения этой ситуации с положением ее брата в Литве, где, по ее убеждению, проявляют больше уважения к русскому языку как деловому языку и языку, обладающему влиянием. Тамара Сергеевна является «негражданином» и считает такую категорию явной дискриминацией, навязывающей ей статус второсортного человека. Она активно солидаризируется с Владимиром Путиным, который «делает то, что говорит», и «заслуживает всемирного уважения». Коротко говоря, для нее, как и для некоторых посетителей библиотеки, принявших участие в беседах, поддержание русского языка и культуры с помощью Русской библиотеки имеет решающее значение для защиты общероссийской идентичности, связывающей их с большой цивилизацией, родиной и политической культурой, исходящей из Российской Федерации. В терминах российского закона о «соотечественниках за рубежом», можно сказать, что эта преданность Русской библиотеке ее руководителя и посетителей представляет собой «свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией».
В формулировке миссии библиотеки говорится также о том, что «огромное количество востребованных книг на латышском языке отсутствует»[25]. Это безобидное замечание активизирует характерные для некоторых слоев местного русского населения представления о значимости русского языка и культуры в Латвии, в частности — пренебрежительное отношение к сравнительной значимости латышского языка и культуры. По словам Ростислава, бывшего сотрудника театра и одного из основателей Русской библиотеки (будучи долгожителем Латвии, он гордится тем, что говорит на латышском и находится в хороших отношениях со своими латышскими соседями и бывшими коллегами):
Русский — большой язык. Латышский — маленький. На латышском языке никогда не будет такой богатой национальной литературы, такого богатства переводной литературы, как на русском. Возьмем, например, другие европейские страны, люди всегда читали на больших языках — в Чехии все читают по-немецки. Здесь латыши становятся узкими, когда они отказываются от русских книг. Они становятся нечитателями.
Тамара Сергеевна с гордостью отмечает, что «около 30 процентов» посетителей библиотеки являются этническими латышами, которые приходят за справочниками (хотя следует отметить, что за время моих посещений я ни разу не столкнулся c этническим латышами, что может говорить о том, что эта цифра завышена). Посетитель библиотеки Людмила, переехавшая в Латвию из России в 1980-е, признается, что до сих пор знает латышский плохо. Она говорит: «Значение культуры — в языке, в словах. В русских словах гораздо более глубокий смысл, чем в латышских». Такие замечания показывают, что, кроме беспокойства о потере культурного наследия и желания сохранить связь с широкой русской культурной географией, оспариваемое положение русской книги в Латвии связано также и с русским чувством уязвленной «имперской» гордости. По мнению Ростислава, латвийская языковая и образовательная политика не считается со статусом русского как «мирового» или «большого» языка. Русская библиотека посвящает свою деятельность сохранению русских языковых и культурных традиций, чтобы обеспечить связь русскоязычных латвийцев и, при желании, самих латышей с мировой культурой через причастность к русской культуре.
Мои первые посещения Русской библиотеки и беседы состоялись с июля по август 2009 года. В то лето случился ряд важных для библиотеки событий, продемонстрировавших, насколько местные проблемы культурного производства и конструирования идентичности в Латвии осложняются большими, трансрегиональными отношениями и контекстами. Когда я только начинал посещать библиотеку в июле 2009 года, Тамара Сергеевна призналась, что столкнулась с серьезными финансовыми трудностями из-за экономического кризиса 2008 года, заставившего спонсоров затянуть пояса. Учреждение на два месяца задерживало арендные платежи. Однако ситуация изменилась к лучшему в конце месяца, когда руководитель сообщила мне с ликованием, что появился новый спонсор. По словам Тамары Сергеевны, она отправила личное письмо сатирику Михаилу Задорнову, который родился и вырос в Советской Латвии, с комплиментами в адрес его языковой теории (Тамара Сергеевна объяснила мне, что она, как и Задорнов, убеждена, что древнеславянский язык является протоязыком, из которого вышли все остальные), рассказав ему о библиотеке. В ответ Задорнов посетил Русскую библиотеку и был так впечатлен, что решил стать ее главным меценатом. На следующий день, говорит Тамара Сергеевна, водитель сатирика пришел с деньгами, которых хватило для погашения задолженности и оплаты аренды до сентября. Тамара Сергеевна с гордостью показала мне собственноручно сделанные ею полки с книгами Задорнова и произведениями его отца, советского писателя и жителя Риги Николая Павловича Задорнова. Она также сказала мне, что очень надеется, что Задорнов окажет финансовую поддержку для переезда библиотеки в более просторное помещение.
Но этому не суждено было случиться. Когда я пришел в следующий раз, несколько недель спустя, Тамара Сергеевна поведала мне, что библиотеку постигла катастрофа. Задорнов, по всей видимости, решил, что не заинтересован в поддержке Русской библиотеки, и предпочел создать совершенно новую — в противовес, как он дал понять, Латвийской национальной библиотеке: Рига является городом, «где вопреки здравому смыслу тратят сумасшедшие деньги на нереальный проект — " Замок света"! А хочется ведь не замок — хотя бы лучик света»[26]. Как Задорнов отмечал в газетных интервью, книги в Русской библиотеке старые и в плохом состоянии, в то время как в его новой библиотеке он хотел собрать только новые книги[27]. Задорнов также объяснил свою философию литературы, с помощью которой он, очевидно, и составлял библиотеку. Согласно этой философии, определенные книги являются источником негативной «энергии» и вредны для людей:
Часто думаю, почему многие люди все время канючат, жалуются на жизнь и все у них не складывается, а другие (вот и я, например) живут в общем неплохо и радостно. Поразмышляв над этим, я понял, что в юности мы просто читали разную литературу. Они подсели на Цветаеву, Пастернака, Мандельштама, «Мастера и Маргариту», а также Джойса, Кафку, Кортасара. Перечитав такой наборчик, можно вешаться сразу. Энергии жить уже не останется... Я заметил, что все, например, кто увлекался романом Юрия Олеши «Зависть», стали в жизни неудачниками[28].
Тамара Сергеевна была, конечно, подавлена тем, что Задорнов признал Русскую библиотеку негодной[29]. Очевидно, у сатирика имелись свои идеи относительно сохранения русского социального и культурного капитала в Латвии, не совпадавшие с представлениями Русской библиотеки.
Следующей зимой Задорнов продолжил осуществлять свои планы по открытию собственной библиотеки, назвав ее в честь своего отца. Библиотека Николая Задорнова расположена на одной из самых модных улиц Риги — улице Альберта, в одном из красивейших шедевров югендстиля Михаила Эйзенштейна, отца кинорежиссера. В библиотеке есть знаменитый отдельный кабинет, в котором выставлены собственные книги Задорнова и книги его отца. Кроме того, библиотека может похвастаться большим числом книг, пожертвованных знаменитыми друзьями Задорнова: Аллой Пугачевой, Никитой Михалковым, Максимом Галкиным, Евтушенко. В отличие от Русской библиотеки, Библиотека Задорнова просторная и прекрасно содержится, в ней есть помещения для выставок и мероприятий, которые регулярно используются для культурных программ различного толка. Проект финансируется Задорновым при поддержке двух местных русскоязычных бизнесменов. Большинство книг в собрании действительно новые, но следует отметить, что в библиотеке имеется и большое количество старых переплетов (как и произведения Пастернака и Цветаевой). За стеклянными дверцами у стола выдачи можно полюбоваться репринтным изданием Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. После перипетий 2009 года Русской библиотеке по-прежнему удается оставаться открытой, хотя финансовые трудности растут. Поддерживавшая ее благотворительная организация в какой-то момент обанкротилась, и библиотека ищет новых спонсоров. Тамара Сергеевна сообщает, что подвергалась личным нападкам со стороны представителей Библиотеки Задорнова, который, по ее мнению, хочет прикрыть Русскую библиотеку, лишив ее источников существования. Так это на самом деле или нет, но Русская библиотека, несомненно, теряет посетителей, переходящих в Библиотеку Задорнова. Посетитель Людмила объяснила мне, уходя, уже на ступеньках, что, хотя в Русской библиотеке и есть много редких и интересных книг, в Библиотеке Задорнова хорошо организовано книгохранилище, в котором можно легко найти книгу, и есть удобные помещения для чтения. Она не планирует возвращаться в Русскую библиотеку.
IV. ГЕГЕМОНИЯ БЕЗ ГОСПОДСТВА
Если рассматривать историю русской культуры в регионе в более широком контексте, яснее становятся сложности такого противостояния библиотек. В частности, давайте немного глубже рассмотрим вопрос необходимости маркирования прибалтийской русской идентичности как «культурной». Со времен заимствования современных европейских культурных институтов Российской империей в эпоху Петра Великого географическое измерение высокой культуры в русской общественной жизни было амбивалентно: является ли высокая культура и ее институты двигателем русского национального духа или «западные» категории противоположны массовой культурной жизни, природному миру и российской нации как неевропейской? Географически это противостояние наиболее сильно отражается в соперничестве Москвы и Санкт-Петербурга — национального «центра в центре» и европейского «центра на периферии» российской культурной географии. Отголоски этих давних культурных матриц, отчетливо выраженные в конце советского периода, занимают важное место в позиционировании Латвии в русской культурной географии и в способах конструирования идентичности прибалтийских русских. Советская Латвия, будучи европейской территорией prima facie, наследовала это двусмысленное положение русской культуры. В результате исторического перехода от независимых европейских государств к советским республикам прибалтийские территории стали «западным» регионом Советского Союза — если не в географическом плане (строго говоря, этим статусом обладал Калининград), то уж точно в концептуальном. Когда советские внутренниеemigres и туристы путешествовали в Прибалтику, им казалось, что они едут на «наш запад». В культуре потребления товары из Прибалтики — кондитерские изделия шоколадной фабрики «Laima», сигареты «Elite» — имели повышенную ценность из-за их особого положения в географическом воображении. На больших и малых экранах в прибалтийских городах в фоновом режиме транслировали «западные» фильмы и телесериалы. К концу советского периода Прибалтика получила привилегированное положение для культурных экспериментов в силу своего «западного» местоположения — это была «Европа» в СССР, пространство политических и культурных инноваций. Здесь можно упомянуть литературные и критические журналы «Даугава» и «Родник», важные издания для публикации передовых произведений авторов из Москвы и Санкт-Петербурга в 1980-е, острые постановки рижского ТЮЗа под руководством Адольфа Шапиро в те же годы или даже конкурс молодых эстрадных исполнителей в Юрмале, ставший в конце 1980-х пространством национального возрождения популярной песни[30]. Коротко говоря, в силу «западного» характера русской культуры per se советская Латвия сама стала «центром на периферии».
Современные представления о «культурном» статусе русской Латвии наследуют этой модели Латвии как культурной родины вдали от родины. Русские в Латвии оказываются «более русскими, чем российские русские» (пользуясь формулировкой женщины, позвонившей на радиопередачу, в которой я участвовал в Риге 10 августа 2009 года). Но также нужно сказать, что привилегированное положение Латвии в качестве центра на периферии можно расценивать как факт истории в той же мере, в какой высокая культура, с которой идентифицируют себя русскоязычные латвийцы, является фактом советского прошлого. В рамках советского расширения русской культуры через открытые границы русские были как дома везде. В контексте независимой Латвии, однако, этот дом вдали от родины становится весьма unheimlich. Хотя статус Латвии как «культурного пространства» сохраняется в различных регистрах публичного дискурса (например, для российских туристов в ближнем зарубежье), в русскоязычных средствах массовой информации и политической риторике — как в Латвии, так и в Российской Федерации — русские латвийцы чаще всего преподносятся в виде жертв. Отчасти это, конечно, отражает политическую выгоду, как в местной политике, так и в международной дипломатии, в вопросах, касающихся соотечественников за рубежом и их прав. Тем не менее необходимо признать, что такие вопросы, как доступ к русскоязычному образованию и статус неграждан, создают почву для законного недовольства и реальные препятствия для русской культурной деятельности в этом регионе. В результате такой политики новые поколения русскоязычных латвийцев, без сомнения, получают менее широкое образование в рамках общероссийского культурного канона, хуже пишут и говорят по-русски и меньше осведомлены о современной музыке, театре и письменной культуре в Российской Федерации.
Более того, представление об особой «культурной» идентичности прибалтийских русских не является неоспоримым в латвийской общественной жизни и публичном дискурсе. Ибо оно никак не соответствует концепции истории, имеющей хождение в этнически латышском анклаве Латвии. Большинство здесь рассматривают советскую аннексию Латвии 1940 года как враждебный военный захват, абсолютно аналогичный последовавшему затем вторжению нацистов, а всех русских считают, соответственно, «оккупантами»[31]. Согласно этой концепции истории и идентичности, русских сложно назвать «культурными». В самом деле, источник латвийской цивилизации — вовсе не русская культурная щедрость, а наоборот — фундаментальная европейская идентичность, дающая латышам особое право на «западную принадлежность» — ту самую, которая была прервана, недоступна или скрыта во времена нацистской и советской оккупации. Эта концепция получает еще большую аффективную силу в свете спорного положения в контексте «старой Европы», где страны «новой Европы» часто подвергаются ориентализирующему взгляду, который представляет их либо prima facie «не в полной мере европейскими», либо «поврежденными» за годы социализма или советского доминирования[32]. В латвийском публичном дискурсе относительно истории, культуры и географии этот ориенталистский взгляд обращается в сторону местного русского населения (и самой Российской Федерации), которое считают причастным к эрозии или уничтожению культуры в Латвии, а не к ее созиданию[33].
В последние годы Русское общество в Латвии, часто при помощи денег из Российской Федерации, поддержало ряд инициатив, целью которых было компенсировать потери культурной компетентности и социального престижа. Однако чаще всего эти проекты отражают «провинциальную» версию русской культуры, что только подтверждает ее маргинальное положение, которое они призваны исправлять. Кроме того, политический императив демонстрации укорененности русскоязычного населения в Латвии во многих отношениях расходится с претензиями на мировое значение и импорт в российском культурном пространстве. На страницах глянцевого журнала «Балтийский мир», издававшегося в течение последнего десятилетия на московские деньги прибалтийскими редакционными и авторскими усилиями, можно увидеть, как русские отмечают патриотические праздники, протестуют против искажения истории в школьных программах, танцуют в национальных костюмах и готовят традиционные блюда — местные снимки и местные проблемы, — но в них мало следов «всемирно-исторического значения»[34]. Этот патриотический, но в то же время обращенный в прошлое образ латышских русскоязычных сообществ отчетливо показывает радикальное изменение статуса русской культуры, произошедшее в последние двадцать лет в регионе. Русские здесь пережили двойную потерю: из привилегированного пространства культурного производства в конце советского периода их анклав все больше превращается в сообщество провинциальных обывателей, становясь объектом покровительства и снисходительности как с востока, так и с запада.
Русская библиотека, которая, по словам Тамары Сергеевны, в свое время пользовалась поддержкой российского посольства в Латвии, является примером динамики таких провинциализированных российских культурных проектов. В целом следует отметить, что установка библиотеки на культурное возрождение противоречит определенным ключевым особенностям позднесоветской русской культуры в Латвии, как они описаны выше. Другими словами, потребность возвращать русскую культуру прошлого, проистекающая из опыта отделенности русского населения в Латвии от большой русской культурной системы, подразумевает состояние культурной целостности и интеграции, которое мало соответствует былому позиционированию Латвии как европейского, передового анклава в пределах советского российского культурного пространства. Ностальгия по культурному прошлому вступает в противоречие с культурной динамикой того самого прошлого, которое было ориентировано на инновации, эксперименты и будущее.
История Библиотеки Задорнова только дополняет эту противоречивую картину. Проект Задорнова ярко продемонстрировал многие из типичных категорий, которые русские и русскоязычные в Риге связывали с российской идентичностью в России. «Подаренная» Задорновым русская культура была импортирована им из Москвы, чтобы воссоединить местных русских с большей матрицей русской культурной жизни — но, так сказать, в толстой обертке из «хамства» и «бескультурья». Ситуация, по меньшей мере, полна иронии: русские в Латвии, стремясь утвердить единую с Российской Федерацией наднациональную коллективную идентичность и культурную территорию, наталкиваются на препятствия, создаваемые их же, казалось бы, потенциальными «соотечественниками» в Российской Федерации. Несмотря на несомненные преимущества Библиотеки Задорнова для клиентов, безучастная или неуважительная насмешка сатирика над Тамарой Сергеевной и ее устремлениями в Русской библиотеке свидетельствует о том, что русские в ближнем зарубежье часто являются пешками в московской политический и коммерческой игре. По идее, Библиотека Задорнова призвана поддерживать в Риге объединенную общую русскую идентичность. Возможно, она выполняет эту функцию для некоторых из своих посетителей. Но одновременно проект сатирика привел к тому, что оттолкнул Тамару Сергеевну, Ростислава и других членов их сообщества, подчеркнув те самые культурные различия, которые усиливают чувство региональной отдельности у русских в Прибалтике.
С основанием Библиотеки Задорнова восстановление глобального характера русской культурной географии — в ее «имперском» изводе — пошло еще дальше, чем того хотели Тамара Сергеевна или Ростислав, стремясь к утверждению культурной гегемонии и цивилизационного покровительства, типичных для взаимоотношений метрополии с колониальной культурной жизнью. Однако в этом случае, если вспомнить динамику «внутренней колонизации», прекрасно описанную Александром Эткиндом, в роли депривилегированных колониальных субъектов выступают прибалтийские русские, а не колонизированное население[35]. Для Тамары Сергеевны, Ростислава и им подобных попытка заново сформулировать чувство принадлежности принесла лишь осознание униженности и культурного отчуждения. Желание вернуться домой привело их еще дальше за рубеж. Стремление к своеобычной и целостной коллективной идентичности столкнулось лицом к лицу с культурной раздробленностью. Вместо «свободного выбора в пользу духовной <...> связи с Российской Федерацией» им предложили весьма ограниченный выбор, продиктованный экономически и культурно уполномоченными представителями имперской культурной жизни России.
В заключение позвольте мне вернуться к формуле, с которой я начал, — заимствованной из концепции Ранаита Гухи «гегемонии без господства». Как вы могли заметить, моя формула недостаточна для описания данной конкретной культурной ситуации. Очевидное различие между двумя ее терминами искажает сложность их приложения к ситуации в современной русскоязычной Латвии. Культурная гегемония, по мысли Грамши, уже сама по себе является одной из форм господства, осуществляемого в рамках работы специализированных социальных институтов и акторов. Таким образом, хотя и можно вообразить, согласно Гухе, господство посредством насильственного принуждения в отсутствие культурной гегемонии, обратная ситуация до некоторой степени будет содержать противоречие в терминах[36]. Вместо этого мы должны рассматривать ситуацию русскоязычных латвийцев в качестве примера подчинения форме культурной гегемонии, не сдерживаемой ни одним из механизмов современного общества, которые предоставляют субъектам и сообществам голос или возможность действовать, хотя бы для того, чтобы опротестовать это подчинение, — то есть теми институтами, которые традиционно осуществляют культурную гегемонию в современных обществах. Это не «господство без гегемонии» и даже не «гегемония без господства», а, скорее, еще более жестокая форма «культуры как господства». Такое положение дел — следствие современных процессов экзартикуляции гражданства, следствие, иллюстрирующее особую прекарность, которую культурная принадлежность может повлечь за собой, когда она отделена от принадлежности политической. Если воспользоваться гиперболическим сравнением, эта ситуация в некоторых отношениях зеркально отражает расширение государственной власти в последние десятилетия, стимулируемое «чрезвычайными обстоятельствами» глобальной войны с террором, не знающей территориальных границ и границ гражданства, что позволяет контролировать, надзирать и осуществлять насилие по отношению ко всем и каждому, где бы то ни было. Культура тоже является инструментом власти, и, несмотря на то что Библиотека Задорнова несравнима с бомбардировкой, последствия ее основания для первоначальной Русской библиотеки представляют особые возможности для проявления жестокости, ставшей возможной, когда гегемониальная культура пересекла границы государственного устройства и социальных институциональных структур.
Тем не менее я закончу на более радостной ноте. Ибо фрагментация и дисперсия культурной жизни, оторванной от властных политических и социальных институтов, как в случае русской культуры в Латвии, оставляет также место для множества самых разнообразных модуляций культурного опыта и выработки идентичностей. В то время как Тамара Сергеевна и многие посетители Русской библиотеки ощущают себя в Латвии словно в церковном приюте, униженными и отчужденными как от латвийских, так и от российских институтов и коллективных идентичностей, русская культурная жизнь в Латвии остается разносторонней, даже в пределах самой Русской библиотеки. Одна из посетительниц, бухгалтер по имени Лена, сказала мне, что пришла в библиотеку за книгами для своей четырнадцатилетней дочери, которой нравится русская классика. Лена читала вместе с дочерью, чтобы поддержать ее знание русской культуры, учитывая, что школьное обучение на трех языках (латышском, русском и английском) препятствует ее компетенции в русской культуре. Но Лена не слишком беспокоилась из-за этого. Когда я спросил, вырастет ли ее дочь русской, она сказала, что ее дочь, которая мечтает поступить в университет в Великобритании, «станет мультикультурной, или что-то в этом роде». Возвращаясь домой с книгами Бунина, Достоевского и Пильняка, Лена казалась вполне довольной такой перспективой.
Перевод с англ. Н. Сафонова под ред. А. Скидана
[1] Ранние версии этого текста были представлены на Банных чтениях в 2012 году, на конференции «Постколониальные подходы к постсоциалистическому опыту» в Кембриджском университете в 2013 году, на симпозиуме по глобальной русской культуре «Penn Slavic» в 2013 году, в Центре российских исследований имени Дэвиса Гарвардского университета в 2013 году. Я хотел бы поблагодарить организаторов и участников этих событий, в частности Ирину Прохорову, Дирка Уффельмана, Александра Эткинда, Стефани Сандлер, Ханса Ульриха Гумбрехта, Сергея Уша- кина, Илью Калинина и Алекса Мошкина за вопросы и участие в дискуссиях. Хотя тезисы и сам материал еще не были опубликованы, некоторые части этой работы появились позже в эссе: Platt M.F.K. Eccentric Orbit: Mapping Russian Culture in the Near Abroad // Empire De/Centered: New Spatial Histories of Russia / S. Turoma, M. Waldstein (Eds.). Aldershot, England; Burlington, Vermont: Ashgate, 2013. P. 271—296.
[2] Орбита. 2009. Вып. 5. С. 174.
[3] Ranajit G. Dominance Without Hegemony: History and Power in Colonial India. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1997. P. xii.
[4] Здесь требуется пояснение: помещая в центр внимания русских и русскоговорящих в конкретном регионе, я вовсе не отрицаю и не преуменьшаю страдания латышского населения в период советской оккупации и не пытаюсь оправдать эту несправедливость. Все эти события и реалии являются важным контекстом моей работы — просто они не находятся в центре этого исследования.
[5] Как отмечает Роджерс Брубейкер, «диаспору» лучше всего определять через «своеобразие языка, установку и требование», а не через категориальные разграничения и описания. В этом смысле термин «диаспора» едва ли приложим к русскоговорящему населению Латвии, представители которого редко применяют его к себе. Тем не менее я считаю понятие диаспоральной культуры действенным инструментом для размышлений о положении русских в Латвии — в том ключе, в каком его понимает Брубейкер, когда говорит о том, что его концепция «диаспоры как установки» позволяет исследователям рассматривать борьбу за идентичность и культурную географию (Bruba- ker R. The «diaspora» diaspora // Ethnic and Racial Studies. 2005. Vol. 28. № 1 P. 1—19).
[6] Сведения о населении отличаются от данных Латвийского центрального бюро статистики. См.: Перепись населения 2011 — Ключевые показатели //www.csb.gov.lv/en/statistikas-temas/population-census-2011-key-indicator....
[7] Путин В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 25 апреля 2005 года // www.kremlin.ru/text/appears/2005/04/87049.shtml.
[8] См. переиздание текста закона частной фирмой «Консультант плюс»: О государственной политике РФ в отношении соотечественников за рубежом //http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=150465.
[9] Хотя согласно этой первоначальной версии любой бывший гражданин СССР мог претендовать на статус «соотечественника за рубежом», «потомки лиц титульных наций иностранных государств» не могли — таким образом, этнический латыш как бывший гражданин СССР мог считаться соотечественником, тогда как его дети — нет. См. версию закона «О государственной политике РФ в отношении соотечественников за рубежом» 1999 года // http: // base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgireq=doc;base=LAW; n=89945;fld=134;dst=100017;rnd=0.327086592791602.
[10] В качестве примера риторической ловушки в политических дебатах об идентичности в России см.: Хамраев В. Депутаты позаботились о «едином советском народе» // Коммерсант. 2006. 3 марта (http://www.kommersant.ru/doc/659085). Из всей литературы об изменяющейся природе гражданства я нахожу особенно полезным: Sassen S. Losing Control: Sovereignty in an Age of Globalization. New York: Columbia University Press, 1996; Benhabib S. The Rights of Others: Aliens, Residents and Citizens. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. Понятие «дезагрегирования» гражданства заимствовано из последнего источника.
[11] О «Карте русского» см., например: Миодушевская Т. «Карта русского»: новый проект помощи соотечественникам за рубежом // Аргументы и факты. 2008. 8 июня (www.aif.ru/society/article/19172).
[12] Это намеренно «искаженное» использование термина «русский» может вызвать возражения со стороны тех, кого я так называю. Я сознательно иду на это, чтобы обратить внимание на социальные разногласия и споры, которые, как правило, скрыты за стандартным словоупотреблением, — при каждой попытке определить, кто имеет право на «Карту русского» на этой территории, необходимо пристальное внимание к деталям. Являются ли русскоговорящие евреи достаточно «русскими» для получения «Карты русского»? А армяне? И раз уж на то пошло — «русифицированные» этнические латыши?
[13] См.: Перепись населения 2011 — Ключевые показатели.
[14] О смешанных браках в Латвийской ССР и Латвийской Республике см.: Monden W.S. Oh., SmitsJ. Ethnic Intermarriage in Times of Social Change: The Case of Latvia // Demography. 2005. Vol. 42. № 2. P. 323—345. Примечательно, что, согласно авторам, количество этнически смешанных браков в Латвии увеличивается. О национализме и этнической идентичности в Советском Союзе см. среди прочего: Martin T. The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923—1939. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2001; Slezkine Y. The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted Ethnic Particularism // Slavic Review. 1994. Vol. 53. № 2. P. 414—452.
[15] В отношении этого утверждения нет никаких достоверных данных.
[16] Наиболее обширное исследование этнической идентичности в Латвии можно найти в: Laitin D. Identity in Formation: The Russian-speaking Populations in the Near Abroad. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1998. Это исследование, впрочем, можно считать отчасти устаревшим. К тому же оно переоценивает аргументы в пользу неизбежной ассимиляции русских и других в этнических образованиях титульных национальностей постсоветских государств, основанные на моделях рационального выбора (исходя из экономической и социальной выгоды). В качестве корректирующих доводов в пользу того, что прибалтийские русские могут участвовать в процессах формирования определенной региональной этнической идентичности, см.: Kronenfeld D.A. The Effects of Interethnic Contact on Ethnic Identity: Evidence from Latvia // Post-Soviet Affairs. 2005. Vol. 21. № 3. P. 247—277; Idem. Ethnogenesis without the Entrepreneurs: The Emergence of a Baltic Russian Identity in Latvia // Narva und die Ostseeregion / K. Bruggemann (Ed.). Narva, 2004. P. 339—363.
[17] Уикенд в Риге: несколько впечатлений // www.kuda.ua/lenta/38.
[18] Kolst0 P. Nation-building and Ethnic Integration in Post-Soviet Societies: An Investigation of Latvia and Kazakstan. Boulder, CO: Westview Press, 1999. P. 258—261. Дальнейший анализ данных этого опроса см. в: Kronenfeld D.A. Eth- nogenesis without the Entrepreneurs.
[19] Мои результаты близки к результатам Кроненфельда, который задавал похожие вопросы в своих углубленных интервью с похожим населением в 2000—2001 годах (Kronenfeld DA. Ethnogenesis without the Entrepreneurs).
[20] Для всех информантов я использовал вымышленные имена, кроме печатающихся авторов и публичных фигур. Гомберг, как спонсор крупных общественных художественных проектов, которые фигурируют в других частях моего исследования, попадает во вторую категорию. Посмотреть мои предварительные публикации касательно его деятельности можно здесь: Платт K. Оккупация против колонизации: как истории постсоветской Латвии помогают провинциализировать Европу // Внутренняя колонизация России / Под ред. Д. Уффельмана, А. Эткинда и И. Кукулина. М.: Новое литературное обозрение, 2012. Для получения других свидетельств использования маркера «хамство» в целях разделения позитивной и негативной версии культурной русской идентичности на более широкой территории Прибалтики можно рассмотреть ситуацию в позднесоветской Эстонии, описанную в: Wald- stein M. Russifying Estonia? Iurii Lotman and the Politics of Language and Culture in Soviet Estonia // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2007. Vol. 8. № 32. P. 561—596.
[21] О предыстории «культурности» см.: Fitzpatrick S. The Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary Russia. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1992. P. 1—15.
[22] См., например, интервью 2011 года, в котором архитектор поясняет: «Мои мысли сфокусированы в одном направлении — на роли здания и его воздействии на латышей. У него есть задача, которая уже в процессе решения. Создать чувство безопасности и уверенности. А также вопрос идентичности. Все эти вопросы совмещаются... Когда я увидел здание, я все это прочувствовал сам... Я увидел, как сам образ моей библиотеки демонстрировал силу нашей нации, которая снова идет вперед» (Birkerts: Gaismas pils ir pieradrjusi musu tautas speku, kas atkal ir jaatrod un jatur- pina // Diena.lv. 2011. 9 мая (www.diena.lv/sabiedriba/politika/birkerts-gaismas-pils-ir-pieradijusi-mu...)).
[23] В качестве показательного материала в прессе о стоимости строительства новой библиотеки см.: Губин М. Тень «Замка света» // Суббота. 2013. 13 марта (www.subbota.com/actual/theme/week-theme/1782-ten-aquotzamka-svetaaquot.html). Об уничтожения книг см.: На сегодняшний день Национальная библиотека экстренно избавляется от книг // Ves.lv. 2013. 7 июня (http://old.ves.lv/article/245088); Национальная библиотека при переезде уничтожит часть книг // Mixnews.lv. 2013. 7 июня (www. mixnews.lv/ru/society/news/2013-06-07/125858). Чтобы ощутить реакцию русскоязычных латышей на эти события, см. также комментарии к двум последним указанным статьям.
[24] О нас // Культурный центр «Русская библиотека» (www. library.eunet.lv/site/index.php?w2=about).
[25] Ibid
[26] Задорнов М. Как пройти в библиотеку // Суббота. 2009. 12—18 августа. С. 10.
[27] Риттер Р. Как все сложилось // Суббота. 2009. 12—18 августа. С. 11. См. также: Трошкина Р. Михаил Задорнов открывает в Риге русскую библиотеку // Час. 2009. 13 августа. С. 4.
[28] Задорнов М. Как пройти в библиотеку. См. также газетное интервью с Задорновым в конце 2009 года, в котором он объясняет, что в его библиотеке нет места произведениям Владимира Сорокина, потому что они содержат обсценную лексику, и говорит: «Тот, кто читает в детстве "Дерсу Узала", тот в жизни становится счастливее, чем тот, кто читал, скажем, "Доктора Живаго"» (Яковлев А. Михаил Задорнов: А она — улыбается! // Литературная газета. 2009. № 52. 23 декабря (http://lgz.ru/article/N52-6256-2009-12-23-/Mihail-Zadornov%3A-A-ona-%E2%...)).
[29] См. газетное интервью с ней вскоре после этих событий: Март Д. Задорнов некрасиво пошутил // Вести сегодня. 2009. 27 сентября (http://vesti.lv/crime/414-62368/65775-95147.html).
[30] См.: Platt K.M.F. Russian Empire of Pop: Post-Socialist Nostalgia and Soviet Retro at the «New Wave» Competition // Russian Review. 2013. № 72. P. 447—469.
[31] Наиболее наглядные примеры этого исторического нар- ратива можно найти на выставках и в публикациях Музея оккупации в Риге, в котором, как и во многих мемориальных местах Восточной Европы, действия нацистского и советского режимов систематически представляются идентичными. В 2009 году президент Латвии Валдис Зальтерс публично призвал прекратить распространенное среди этнических латышей использование термина «оккупант» по отношению к русскоязычному населению страны. Хотя жест Зальтерса и не привел к желаемым результатам, он вызвал широкие публичные дискуссии о значении используемого слова, которое многие русские считают дискриминационным ругательством. См.: Papildinata — Zatlers: javienojas, ka vards 'okupants' vairs ne- tiks lietots // Diena.lv. 2009. 7 декабря (www.diena.lv/sabiedriba/politika/papildinata-zatlers-javienojas-ka-vards...). Подробное исследование нарративов истории и идентичности см. в моей работе: Platt K.M.F. Eccentric Orbit: Mapping Russian Culture in the Near Abroad.
[32] Тенденции ориентализировать население бывших социалистических государств — это вечный больной вопрос для интеллектуалов новой Европы, таких как Милан Кундера, например. Хорошо известны его давние попытки провести в глазах западного читателя различия между Прагой и Москвой, как известна и обреченность таких попыток в свете недавних обвинений автора в сотрудничестве с чехословацкой тайной полицией. См.: Kundera M. The Tragedy of Central Europe // The New York Review of Books. 1984. № 31 (7). 26 April. P. 33—38; Idem. Die Weltliteratur // The New Yorker. 2007. 8 January. P. 28—35.
[33] В дополнение стоит сказать, что оба этих нарратива сильно затеняют вклад прибалтийской немецкой культуры и исторических акторов в исторический синтез, какой представляет собой современная мультиэтническая латвийская культура.
[34] Другим проектом, иллюстрирующим положение русской культуры в Латвии как регионального феномена, стала выставка «Русские Латвии», организованная представителем Латвии в Европейском парламенте Татьяной Жданюк при финансовой поддержке европейской фракции зеленых, Московского государственного департамента зарубежной экономики и международных отношений и московским Домом соотечественников в Риге. Выставочное пространство было организовано в хронологическом порядке, охватывая жизнь русских в регионе с XVII века до наших дней. Некоторое внимание уделялось известным русским с латышскими корнями, однако основной акцент был направлен на специфичность жизни русских в Латвии. Несомненно, целью проекта являлась, в первую очередь, демонстрация укорененности русских в регионе, а не изображение их в качестве представителей зарубежной, имперской или советской русской цивилизации. См.: Русские Латвии: Каталог выставки. Рига, 2008. Также см. относящиеся к выставке материалы на сайте «Русские Латвии»:www.russkije.lv/ru/lib/read/exhibition-opening1.html.
[35] См.: Эткинд А. Внутренняя колонизация: Имперский опыт России / Пер. с англ. В. Макарова. М.: Новое литературное обозрение, 2013.
[36] Формулировки Грамши можно прочесть здесь: Gramsci A. The Formation of the Intellectuals // Selections from the Prison Notebooks / Q. Hoare, G.N. Smith (Eds.). London: Elec- Book, 1999. P. 134—161; рус. издание: Грамши А. Возникновение интеллигенции // Он же. Искусство и политика: В 2 т. / Пер. с итал. М.: Искусство, 1991. Т. 1. С. 168—184.
Опубликовано в журнале:
«НЛО» 2014, №3(127)
Русские немцы и немецкое национальное воображение в межвоенный период
(пер. с англ. А. Голубковой под ред. А. Скидана)
Джеймс Кастил
Русские немцы и немецкое национальное воображение
В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД[1]
В сентябре 1929 года группа крестьян — русских немцев, недовольных условиями жизни в Советском Союзе, — прибыла в предместья Москвы и потребовала, чтобы им разрешили эмигрировать. Количество собравшихся этнических немцев, большая часть которых были меннонитами, быстро росло и в наивысшие моменты составляло более 13 000 человек[2]. Их требования широко освещались в германской прессе, и это обратило внимание читателей на советскую коллективизацию. Последствия этого события для германо-советских дипломатических отношений, с установлением сталинизма делавшихся все более напряженными, хорошо известны. На основании изучения вызванного им в прессе резонанса обычно предполагается, что идентификация немецкой общественности с русскими немцами — вещь самоочевидная и не требующая объяснений[3]. В действительности же общественный интерес и правительственная озабоченность проблемой русских немцев были относительно недавним феноменом. В послевоенную эпоху немцы в Германии начали воспринимать русских немцев как символическое воплощение немецкой судьбы — как невинных, трудолюбивых крестьян, преданных немецкой нации и неустанно работающих над распространением в мире немецкой культуры. Проблема русских немцев олицетворяла также более широкий кризис легитимности, охвативший Веймарскую республику, парламентское управление которой все чаще воспринималось как неспособное защитить немецкий народ и его интересы ни в самой Германии, на за рубежом[4].
Ниже я исследую место русских немцев в германском социальном воображении в межвоенный период. Завороженность русскими немцами была продуктом транснациональных отношений между немцами в Рейхе и этническими немцами в Советском Союзе, причем эти отношения приобрели новое значение после Первой мировой войны. Кратко обсудив изменение концепции национального немецкого государства, я покажу, как условия жизни русско-немецких общин — и под властью царизма, и при большевиках — стали темой публичной дискуссии в Германии и как концепция нации была расширена, распространившись на эти экстерриториальные сообщества, что в свою очередь привело к обязательствам по их поддержке. Хотя идентификация с русскими немцами имела место на протяжении всего рассматриваемого мною периода, я сосредоточусь на ключевых моментах, в которые оно кристаллизовалось, мобилизовав самых разных общественных деятелей из эмигрантских ассоциаций русских немцев, политиков и националистических лидеров на достижение своих целей и нужд: это голод 1921—1922 годов, «сход» немцев под Москвой в 1929—1930 годах, антибольшевистский крестовый поход нацистов после их прихода к власти и начало Второй мировой войны.
В эпоху народного суверенитета главной политической силой немцы начали представлять не государство, а Volk, народ, при этом понятие Volk распространялось за пределы национального государства. Русские немцы не заботили немецких ирредентистов, однако в межвоенный период они приобрели новую ценность. Наряду с гуманитарной озабоченностью трудными условиями их жизни при советской власти, немецкое правительство, представители крупного капитала и промышленности полагали, что русские немцы могут быть полезны для распространения на Россию германской экономической гегемонии. В то же время, хотя русские немцы действительно обладали навыками, полезными для утверждения на советских рынках, на первый план выступило их символическое значение. Помощь русским немцам рассматривалась как средство распространения власти и влияния Германии на восток. Страдания русских немцев под властью большевиков обсуждались в германской публичной сфере как часть общенемецких трудностей. Немцы стали представлять себя и русских немцев вовлеченными в общую борьбу против одних и тех же врагов — как реальных, так и воображаемых. Это воображаемое сообщество[5] отчасти основывалось на той точке зрения, что немцы — ив Рейхе, и за границей — «получили удар в спину» от тех же «еврейских» и «революционных» сил, которые, по утверждению правых, виновны в поражении Германии в Первой мировой войне. Я покажу, что нацистский режим был сформирован и впоследствии воспользовался этим расширенным национальным воображением, включившим также и русских немцев в реализацию имперских проектов в Восточной Европе во время Второй мировой войны.
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ VOLK В ВЕЙМАРСКОЙ ГЕРМАНИИ
Германская озабоченность проблемами проживающих в России этнических немцев была частью более широкого переопределения «немецкости» во время и после Первой мировой войны, которое можно охарактеризовать при помощи понятия «трансграничный национализм». Перед Первой мировойAuslanddeutschen (немцы, живущие за границей, буквально — немцы в зарубежных странах), состоявшие в основном из потомков немецкоязычного населения, мигрировавшего в Российскую империю, юго-восточную Европу и Америку в XVIII—XIX веках, не вызывали особого интереса. Хотя в культурном отношении они по-прежнему рассматривались как ветвь немецкого народа, представители немецких сообществ за границей не получили гражданства во время объединения Германии в 1871 году и остались гражданами или подданными соответствующих государств[6].
Русские немцы не были главной темой публичного обсуждения до Первой мировой войны, однако лидеры пангерманского движения проявили к ним живой интерес еще во время революции 1905 года в России. Праворадикальные Пангерманский союз и Ассоциация немцев за границей выступали за расширение концепции немецкого народа и в защиту немцев по всему миру, включая Россию. В частности, эти объединения стремились помочь прибалтийским немцам в их борьбе против русификации, а также поддержать эмиграцию немецких поселенцев из Царства Польского и Волыни. Вообще говоря, в этот период немецкое государство не предпринимало действий в поддержку русских и других немцев за границей, поскольку такие действия означали бы вмешательство в дела других государств и их подданных[7]. Только в 1913 году был принят закон о гражданстве, утвердивший принцип jus sanguinis, согласно которому живущие за границей немцы — благодаря пангерманскому движению — получили возможность, если они решали вернуться в Германию, обратиться за гражданством[8].
Первая мировая война глубинным образом изменила статус Auslanddeutschen в национальном сознании. Она размыла границы между гражданской и военной сферами жизни, в ходе чего переоформила немецкую нацию. Тотальная война подразумевала тотальную мобилизацию материальных, культурных и человеческих ресурсов. По-новому сформулированная забота о «национальном теле», которое все больше мыслилось в социал-дарвинистском ключе, понуждало сосредоточить всю жизнедеятельность немецкого общества на военных усилиях, единственно способных обеспечить выживание нации в будущем[9]. Зарубежные немцы вошли в национальное воображение как члены расширяющейся немецкой общности и как такие же жертвы военной агрессии союзников. Все воюющие страны следили за потенциально «ненадежным» населением и прибегали к депортациям, особенно в приграничных районах[10]. Германская пресса преподносила такие акции как дискриминационное ущемление немецкого народа в целом, объединяя тем самым их борьбу с борьбой всего немецкого Рейха.
Подобная забота о соотечественниках за рубежом наиболее ярко проявлялась в случае русских немцев, особенно из западных приграничных областей. Несмотря на то что они были подданными русского царя, после начала войны русское правительство стало обращаться с этническими немцами как с «вражескими союзниками» и ввело ограничения на использование немецкого языка и на их экономическую деятельность. Кроме того, землевладельцев в приграничных районах лишили их владений. Немецкие публицисты военного времени осудили такую политику как наступление на немецкую нацию, и в правительстве начали обсуждать планы помощи русским немцам, включая предоставление им права переселиться в Германию. Экспансия Германской империи в Восточную Европу подстегнула планы «переселения» этнических немцев из России на новые завоеванные территории — политика, вызвавшая перемещение местных жителей с целью возвести «бастион» против будущих вторжений с востока. По Брест-Литовскому мирному договору русским немцам гарантировался десятилетний период, в течение которого они могли покинуть Россию и переселиться в Германию. В 1918 году немецкое правительство даже учредило Имперское управление по миграции (Reichswanderungsstelle), чтобы подготовиться к массовому переселению русских немцев. Поражение в войне помешало осуществлению этих планов[11], и дальнейший импульс к мобилизации национальной идентичности был дан послевоенными соглашениями. Версальский договор спровоцировал следующий цикл перемещений населения, перекроив мультиэтническое пространство Центральной и Восточной Европы на отдельные национальные государства и «проведя границы по народам» во всем регионе[12]. Этот процесс, обостривший напряжение между разными национальностями на всех приграничных территориях, привел к еврейским погромам в Восточной Европе[13].
Межвоенное публичное обсуждение проблемы русских немцев было следствием мобилизации политики идентичности, произошедшей во время Первой мировой войны и направленной против врагов Германии. В нем также выражалось недовольство колониальными потерями, ведь новые послевоенные границы были проведены в Восточной Европе прямо по территории недолговечной немецкой континентальной империи. Правые, колониалисты и защитники этнических немцев видели в русских немцах «пионеров культуры» в отсталой России, а их достижения рассматривали как свидетельство исключительных колонизаторских способностей, тем самым используя их в качестве аргумента против условий мирного договора, требовавшего от Германии отказа от контроля над заокеанскими колониями[14]. Подобные нарративы о немецком прилежании, трудолюбии и «цивилизаторских» навыках сопровождались рассуждениями, подчеркивающими лицемерие врагов Германии[15].
В общественной дискуссии о русских немцах нашло выражение и страстное неприятие Версальского договора. Один автор в бюллетене Немецкого института по зарубежным связям в Штутгарте за 1919 год утверждал, что победоносные союзники, выступавшие в роли «защитников "угнетенных"» на территории бывшей Российской империи, помогали другим национальностям, но игнорировали право на самоопределение русских немцев. Отсутствие реакции на их нужды автор преподносил как свидетельство лицемерия мирного договора и даже высказывал предположение, что «враги» Германии намеренно игнорировали положение немецких меньшинств[16]. Представляя последних в виде жертвы, правые приспособили идею союзников о самоопределении для националистических целей и изображали новый мировой порядок как прикрытие сознательной эксплуатации немецких меньшинств их врагами[17].
Помимо возмущения Версальским договором и отрицания поражения Германии, возникший интерес к русским немцам был частью более общего изменения политики идентичности, произошедшего сразу после войны. В своем новаторском исследовании «Переосмысленный национализм» Роджерс Брубейкер объясняет эту транснациональную динамику национализма, обращаясь к примеру Германии межвоенного периода. Рассматривая «отечественный национализм» как часть трехсторонних отношений между национальным меньшинством, государством, в котором это меньшинство проживает, и «иностранным» отечеством, берущим на себя задачу представлять его интересы, Брубейкер показывает, как государство и отдельные группы немецкого общества установили систему коммуникации с «немцами», живущими за границей Рейха, и стали претендовать на то, чтобы представлять и защищать их интересы[18].
В послевоенном контексте, когда притязания на законность формулировались с точки зрения права на самоопределение, появилось множество организаций, занимавшихся условиями жизни «немецкой нации» за пределами Германии. Эти организации выступали в защиту как Auslanddeutschen, так и Grenzdeutschen — этнических немцев, проживавших рядом с границей Рейха на территориях, ранее бывших частью либо Германской империи, либо Австро-Венгрии[19]. Ассоциация немцев за границей, единственная довоенная организация национального масштаба, вскоре присоединилась к Немецкому союзу защиты приграничных и зарубежных немцев, созданному в 1919 году. Последняя была зонтичной ассоциацией, основанной для координации более чем ста двадцати организаций, занимавшихся проблемами немцев за новыми границами Рейха. Многие немецкие университеты открыли исследовательские институты, изучавшие положение как Auslanddeutschen, так и Grenzdeutschen, и эта проблема также широко обсуждалась в прессе[20].
И хотя эту мобилизацию в немецком обществе начали националистические лидеры, правительство Германии в этот период тоже стало вмешиваться в дела зарубежных немцев — чего раньше оно не делало. Министерство иностранных дел учредило департамент культуры, который занимался всеми немцами за границей[21]. Для многих немцев, причем не только правых радикалов, война в 1918 году не закончилась. Объединение всех этнических немцев, включая и проживавших в России, давало возможность продолжить национальную борьбу военного времени новыми средствами. Однако, в отличие от интереса к немецким меньшинствам в пограничных регионах, это новое внимание к русским немцам — равно как и диаспорам в других странах — не сводилось к ирредентизму. Язык национальной принадлежности был неотъемлемой частью немецкого имперского дискурса[22].
МУЧЕНИКИ VOLK: ГОЛОД И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС К РУССКИМ НЕМЦАМ
Как убедительно показал Майкл Гейер, в межвоенный период немцы не смогли примириться с поражением в Первой мировой войне. Для веймарской культуры была характерна «политика освобождения и искупления», задействованная всеми силами политического спектра и позволявшая «потенциально любую политическую тему» толковать «как выход из порабощения в свободу, из угнетения в самоуправление»[23]. Именно в этом ключе в Германии межвоенного периода была переистолкована ситуация с русскими немцами. Русско-немецкие общины теперь не только воспринимались как часть единого национального сообщества, они, по мнению немцев Рейха, еще и были вовлечены в общую борьбу. Забота о положении соплеменников (Volksgenossen) за рубежом охватила Германию; она играла на эмоциональных чувствах и моральных обязательствах по защите нации. Подобная риторика была особенно эффективна, потому что убеждала, что русских немцев ожидает несомненная гибель, если Рейх не придет им на помощь. Срочность и неотложность в постановке проблемы видны по статьям 1919 года, призывавшим не забывать поволжских немцев:
Мы должны вместе [с нашими братьями по расе] образовать за границами Рейха единое целое: непоколебимый, сильный и свободный немецкий народ. Мы должны показать нашим братьям, живущим там, что родина их не забыла и что, несмотря на переживаемые нами огромные трудности, мы готовы им помочь и постоять за них ради того, чтобы гарантировать им национальные права и облегчить тяжелое положение[24].
Хотя публицисты националистического толка часто принимали за бесспорный факт свою идентификацию с этническими немцами в России как соплеменниками, эта идентификация вовсе не обязательно была взаимной. Несмотря на довоенные культурные контакты и взаимодействие между европейскими и русскими немцами, идентичность последних, в общем и целом, не совпадала с идентичностью немцев в Рейхе, и уж точно они не прибыли в Россию в качестве колонизаторов, как это любили представлять националисты. Большинство, за исключением балтийских немцев, состояло из потомков колонистов, приглашенных заселить колониальную окраину Российской империи[25]. Это переселение происходило в три волны: первая — в Поволжье (1764—1769), вторая — к Черному морю (1803—1823) и третья — на Западную Украину и Волынь (1830—1870). Потомки первоначальных переселенцев основали также колонии на Кавказе, в Центральной Азии и в Сибири. На рубеже столетий насчитывалось 1,8 млн. русских немцев, что составляло 1,43% населения всей Российской империи[26]. Несмотря на языковую и культурную близость, разные немецкие общины сохраняли различную идентичность, которая в ХХ веке определялась как конфессионально (в основном протестанты, католики и меннониты), так и географически. В Российской империи русские немцы не осознавали себя определенным этническим сообществом[27].
Несмотря на очевидную замкнутость и привязанность к немецким культурным традициям, русские немцы вовсе не оставались не затронутыми прогрессом, как предполагали их современники в Германии и многие занимавшиеся этим вопросом историки. После реформ 1860-х годов, отменивших привилегии различных этнических групп, русско-немецкие колонисты политически, экономически и социально все больше интегрировались в российское государство. В Первую мировую войну к этническим немцам, жившим на приграничных территориях, были применены дискриминационные меры вплоть до конфискации земель. В результате такой политики колонисты приветствовали Февральскую революцию как конец царской тирании. Хотя есть свидетельства, что поволжские немцы изначально поддержали большевистскую земельную реформу, последовавшая за революцией Гражданская война и политика реквизиций, проводившаяся и красными и белыми, разорили общины и сделали очень мало для того, чтобы добиться от этнических немцев одобрения нового режима[28].
Ключевую роль в освещении положения немцев в России сыграли русско-немецкие иммигранты в Германии[29]. Активным защитником интересов русских немцев как в России, так и в Германии был Иоханнес Шлейнинг, пастор поволжских немцев из Саратова. До его переезда в Германию русское правительство во время войны выслало Шлейнинга в Сибирь. После Февральской революции его освободили и разрешили вернуться в Поволжье, где во время революционных событий и Гражданской войны он боролся за культурную автономию поволжских немцев, даже ездил в Германию и выступал перед рейхстагом с речью об их судьбе. Эмигрировав после большевистской революции, Шлейнинг продолжил свою деятельность в Германии, где организовывал помощь русским немцам через различные националистические группы, включая Ассоциацию немцев за границей, работа в которой позволила ему остаться в стране и перевезти туда свою семью. В 1919 году он основал Союз немцев Поволжья и возглавил Центральный комитет немцев из России, зонтичную организацию, объединявшую различные группы русско-немецких иммигрантов[30]. Хотя Шлейнинг был «посторонним» для немецкой культуры эпохи Веймарской республики, пускай и привилегированным благодаря своим сохранившимся немецким традициям, но все же иммигрантом и чужаком, ему очень быстро удалось адаптировать и трансформировать нарративы идентичности поволжских немцев, интегрировав их в актуальный для послевоенной эпохи дискурс жертвы[31]. В многочисленных публичных лекциях и статьях он выступал в защиту русских немцев и обличал пренебрегающих ими соотечественников из Германии.
Шлейнинг стремился пробудить у немцев в Рейхе чувство национальной вины за то, что они «забыли» о своих соплеменниках, ведущих «тяжелую борьбу за жизнь» далеко в России. Он изложил представления немцев Поволжья об их собственной истории и культуре и интерпретировал их так, чтобы сделать значимыми для германской аудитории. Его рассказ о судьбе немецких переселенцев в России сводился к колонизации: немцы, «предназначенные [для этого] Провидением», веками боролись за превращение «азиатской пустыни в житницу России». Столкнувшись с враждебностью кочевых «азиатских и славянских племен» и с природными трудностями, русские немцы тем не менее выполнили задачу «создать защитную стену против всегда ненадежного Востока». Шлейнинг подчеркивал фактическую автономию немцев Поволжья: несмотря на отсутствие поддержки со стороны царской власти и со стороны родины, им, благодаря собственной инициативе, удалось стать важной экономической силой в России — они выращивали пшеницу, мололи муку и продавали все это от Владивостока до Финляндии. Но Первая мировая война, революция и Гражданская война уничтожили достижения этих людей, что заставило их «ступить на дорогу смерти, несравнимой ни с чем в истории народов и эпох»[32].
Шлейнинг также подчеркивал «немецкость» поволжских немцев: в его изображении они всегда остаются именно немцами, привязанными к немецкому национальному государству. И хотя во время Первой мировой войны поволжские немцы как лояльные подданные служили российскому государству (что было их обязанностью), в своих сердцах, утверждал он, они тайно занимали сторону Германии. Согласно Шлейнингу, вера поволжских немцев «в окончательную победу Германии» оставалась «непоколебимой и безграничной». После дискриминации военного времени и угрозы потери принадлежавших им земель царская власть в глазах поволжских немцев утратила легитимность. Шлейнинг описывал Февральскую революцию как время национального пробуждения, объединившего всех поволжских немцев в общей «борьбе за сохранение и дальнейшее развитие их национального духа»[33].
Движение в защиту поволжских немцев в Германии достигло кульминации в 1921—1922 годах, когда низовья Волги были охвачены голодом, от которого пострадали более двадцати пяти миллионов людей, включая и этнических немцев. Хотя в создании предпосылок для голода свою роль, безусловно, сыграли и климатические условия, основные его причины, как показал Джеймс В. Лонг, были политическими. Политика большевиков по реквизиции зерна оставила немецких крестьян в Поволжье без семян для весеннего сева. Во время Гражданской войны продотряды Красной армии опустошили регион, забрав у колонистов все доступное продовольствие; при этом они часто жестоко обращались с местным населением. Белая армия вела себя не лучше и использовала ту же тактику. В результате этой политики зимой 1920/21 года в регионе начался голод. Центральные власти в Москве знали о его предпосылках из сообщений местных органов, но не смогли принять адекватные меры. Только в июле 1921 года советская власть публично признала голод и попросила помощи из-за границы. С 1920-го до конца 1921 года эмиграция и смерть от голода на 23% сократили число поволжских немцев, уменьшив их количество с 450 000 до 350 000[34].
И голод в России в целом, и страдания русских немцев в частности широко освещались в Германии и привлекли внимание различных публичных фигур, партий и организаций всего политического спектра[35]. Несмотря на нестабильную социальную, экономическую и политическую ситуацию в Веймарской республике, либеральная и социалистическая пресса подчеркивала, что голод в России — это, прежде всего, человеческая беда и что немцы обязаны помочь русским людям. Подобные призывы оказать помощь России не были несовместимы с сильными антибольшевистскими настроениями. Либеральная газета «Vossische Zeitung» убеждала немцев различать русский народ и большевизм, который был «враждебен культуре» и привел к страданиям людей[36]. Сходным образом, социал-демократы считали большевизм «варварским искажением социализма» и подчеркивали, что не пошли бы на такой грандиозный «эксперимент», как в Советском Союзе, принеся в жертву поколения рабочих ради реализации будущей утопической цели[37].
Немецкие коммунисты тоже подчеркивали обязанность буржуазных стран прийти на помощь голодающим. Статьи в коммунистической прессе указывали на международные классовые связи, объединявшие рабочих и крестьян всего мира в борьбе против капиталистов и империалистов. Этот императив проистекал не из буржуазной гуманитарной чувствительности, а из классовой позиции. Коммунисты считали голод результатом отсталости царизма, деятельности контрреволюционеров и армий интервентов во время Гражданской войны, а также буржуазной эксплуатации помощи голодающим в политических целях. Коммунисты противостояли некоммунистической прессе, которая обвиняла в происходящем большевиков и допускала, что голод может стать концом революции[38].
Поначалу голод воспринимался как гуманитарный кризис, затрагивающий всех людей в России, однако немецкие голодающие вскоре привлекли особое внимание. Либеральная газета «Frankfurter Zeitung» описывала положение поволжских немцев с использованием лексики Шлейнинга и других защитников русских немцев: «Посреди несчастного и терпеливого русского народа страдает также немецкое племя, оно голодает и умирает медленной мучительной голодной смертью — забытое и покинутое своей отчизной». Колонии поволжских немцев, согласно этим описаниям, особенно преуспевали перед войной и были предметом зависти других подданных царя, поскольку «развили свою экономику до более высокого уровня, чем их русские соседи». Подобные рассуждения должны были побудить немцев к действию. Особый акцент ставился на том, что от голода и нищеты погибает двухсотлетняя община полумиллиона немцев и что очень скоро «некогда процветавшие поселения» «превратятся в пустыню». Читателей умоляли жертвовать деньги на помощь и требовать от правительства незамедлительных действий[39]. Постоянные ссылки на моральный императив помочь русским немцам были мощной стратегией по установлению связей немцев в Рейхе с немцами за его границами. Немцев неустанно побуждали рассматривать немецкие диаспоры как вовлеченную в общую борьбу часть всей нации.
Даже левые упоминали тот факт, что многие жертвы голода были немцами. Социал-демократы в этом отношении были наиболее сдержанными, отмечая в редких случаях, что немецкие колонисты в Поволжье «особенно страдают»[40]. Коммунисты в своей публицистике использовали этот факт чаще, считая, что привлечение внимания к национальности страдающих от голода может помочь получить финансовую поддержку от консерваторов и правых. Во время организации помощи голодающим немецким Красным Крестом газета «Rote Fahne» писала: программа помощи не должна игнорировать тот факт, что «не менее трех четвертей миллиона немцев» проживает в «Поволжье, которое страдает больше всего»[41]. В шварцвальдском городе Санкт-Блазиен Максим Горький выступил с речью на акции по сбору денег для немецких жертв голода, организованной студентами университета в Тюбингене. Как писала газета «Rote Fahne», Горький призывал студентов подумать о «судьбе своих соплеменников»[42].
Альфред Розенберг, идеолог нацистской партии и позднее министр оккупированных восточных территорий, считал тяжелое положение поволжских немцев частью большого еврейского заговора. В раннем антибольшевистском памфлете Розенберг, сам происходивший из балтийских немцев, изображал поволжских немцев как ведущих «постоянную борьбу за существование» под властью большевиков. Он подчеркивал ужасающие условия их жизни («ограбленные и изнасилованные, даже немецкие крестьянские общины на востоке стали жертвой хаоса и голода») и жестко критиковал республиканское правительство за недостаточную помощь русским немцам. Критику веймарского правительства и страдания поволжских немцев объединял антисемитизм. Розенберг обвинял немецкие власти в том, что они «с готовностью разрешили сотням тысяч восточных евреев-большевиков въехать в страну», но при этом «закрыли границы для наших изнасилованных сородичей [Stam- mesgenossen]». В уничтожении общин поволжских немцев он видел еще один пример мирового еврейского заговора, частью которого были действия союзных сил и большевиков и который, по его убеждению, имел целью «истребление народов»[43]. Розенберг проиллюстрировал статью фотографиями вождей большевиков, предположительно евреев по национальности, и фотографиями тел их предполагаемых жертв, тем самым наглядно устанавливая в сознании читателя связь между евреями, большевиками и массовой гибелью русских немцев.
Язык Розенберга, конечно, представлял собой одну из крайностей, но все же он был составной частью более широкого обсуждения проблемы русских немцев и других зарубежных диаспор, извлекавшего на свет и эксплуатировавшего антисемитские и ксенофобские чувства. В Германской империи современный антисемитизм был хорошо укоренен в качестве «культурного кода», — кода, который увязывал все социальные проблемы современности с символом еврейства[44]. После разрушений, массовых смертей и окончательного поражения в Первой мировой войне немецкий антисемитизм перешел в новую фазу; теперь все враги немецкой нации, как внутренние, так и внешние, могли быть представлены именно через образ «еврея»[45]. Правую прессу заполнили описания «усердных» русско-немецких крестьян, ведущих «тяжелейшую борьбу за немецкое существование» в условиях варварских нападений «евреев-большевиков». Подобная риторика часто использовалась в критике республиканского правительства — оно якобы оказывало помощь восточноевропейским евреям и полякам за счет русских немцев и других «соплеменников»[46]. Одна правая газета опубликовала письмо с жалобой от Организации помощи поволжским немцам в Министерство иностранных дел под заголовком «Преданное германство». В письме задавался вопрос, почему помощь голодающим не была направлена исключительно русско-немецким общинам[47]. Как будто посвященная исключительно проблеме русских немцев, риторика подобного рода помогала сконструировать в общественном сознании расовую иерархию, ставившую в вопросах социальной политики и зарубежной помощи нужды немцев выше нужд всех остальных. В рамках этого дискурса также предполагалось, что в подобных решениях правительства присутствовало «иностранное» или «еврейское» влияние, и это подразумевало, что коррумпированное «иностранцами» веймарское правительство не может по-настоящему представлять немецкую «расу».
ПОЛИТИКА ПОМОЩИ ГОЛОДАЮЩИМ
Германское правительство пыталось помочь русским немцам, хотя и не так, как предлагали правые радикалы. Правительство видело в помощи жертвам голода шанс улучшить отношения с Советской Россией и распространить на нее немецкое влияние. Для организации помощи голодающим правительство работало вместе с немецким Красным Крестом. Помощь в первую очередь заключалась в предоставлении медикаментов для предотвращения эпидемий тифа в затронутых голодом областях, но также и для усиления связей между Рейхом и русскими немцами[48]. Помощь голодающим вполне соответствовала послевоенной политике сохранения и поддержки этнических немецких общин за рубежом в интересах ирредентизма. И хотя германское правительство не рассматривало русских немцев с точки зрения присоединения некогда утерянной территории, оно видело в них средство содействия немецкой промышленности, точку опоры на русских рынках, особенно с восстановлением германо-русских отношений в 1922 году по условиям договора в Рапалло.
И если военные получали выгоду от тайной программы перевооружения, немецкая промышленность надеялась на прибыль от концессий и инвестиций в Советскую Россию в условиях НЭПа. Таким образом, германские чиновники рассматривали русских немцев — и особенно тех, кто жил в Автономной Советской Республике Немцев Поволжья, — как нечто ценное для большого проекта восстановления германской гегемонии во всем мире[49].
Эта помощь рассматривалась также в качестве средства сдерживания угрожающе увеличивающейся миграции русских немцев. Немецкая миграционная политика в эпоху Веймарской республики была в высшей степени протекционистской. Она ориентировалась на предотвращение иммиграции из Восточной Европы поляков и евреев, соответственно стала более строгой и практика натурализации, предпочтение отдавалось иммигрантам с немецкими этнокультурными корнями. И хотя русские немцы — благодаря их немецким корням и из гуманитарных соображений — считались желательными мигрантами, на практике государственные чиновники неохотно содействовали этой миграции из опасений, что она обременит государственный бюджет, уже и без того истощенный попытками поддержать уровень жизни граждан Германии. После многочисленных обсуждений этого вопроса в разных министерствах, включая Министерство иностранных дел, иммигрировать было разрешено только небольшому числу русских немцев, в качестве же основной формы поддержки рассматривалась именно помощь голодающим[50].
В отличие от политиков времен Первой мировой войны чиновники Веймарской республики не особенно беспокоились по поводу благонадежности русских немцев. Как и возвращающиеся из плена немецкие солдаты и пленные с Восточного фронта[51], русские немцы, «возвращавшиеся» в Германию во время войны, подвергались тщательной проверке: необходимо было убедиться, что они не шпионы, не большевистские активисты и не носители заболеваний вроде тифа. Такая проверка определяла и их собственно немецкие национальные качества. В частности, русско-немецких крестьян, которые жили в изолированных общинах и сохранили свой язык и религиозные верования, предпочитали городским русским немцам, которые считались ассимилированными русской культурой и особенно восприимчивыми к революционным большевистским идеям. Несмотря на существование планов по массовому переселению (даже обсуждалось предоставление всем русским немцам полного немецкого гражданства), на практике большая часть русско-немецких иммигрантов имела в Германии юридический статус «вражеского союзника». Звали только тех, кто мог быть полезным для трудовых нужд военного времени[52]. В веймарский период, однако, эта обеспокоенность благонадежностью русских немцев стала менее острой. Образы русских немцев как примерных мелких фермеров, ведущих борьбу с большевистским угнетением, не давали оснований чиновникам сомневаться в их преданности Германии[53].
Занимаясь организацией помощи голодающим, представители Красного Креста верили, что улучшение условий жизни русских немцев за границей может быть также полезным и для германского экономического проникновения в регион, и для восстановления в мире немецкого научного и культурного доминирования. Например, Отто Фишер, ученый-медик, участвовавший в программе помощи русским немцам под эгидой Красного Креста, в 1924 году изложил свое видение ситуации в правом периодическом издании «Deutsche Arbeit» — по-видимому, отвечая на более радикальную критику германского Красного Креста и усилий Министерства иностранных дел по помощи этническим немцам в России справа[54]. Фишер выступил в поддержку деятельности Красного Креста по возобновлению присутствия Германии в России. И восстановление работы госпиталя в Санкт-Петербурге, и учреждение бактериологической лаборатории в Москве упрочили контакты между немцами в Рейхе и русским академическим сообществом; эти действия, полагал Фишер, внесли «значительный» вклад «в укрепление доброго имени и репутации немцев». В дополнение к этим медицинским проектам по предотвращению повторных вспышек эпидемии в Поволжье связи между немцами в Рейхе и их русскими соплеменниками были институционализированы в Берлине в 1921 году созданием Экономического отдела потребительского кооператива, поставлявшего поволжским немцам машины и другие товары. А для обеспечения фермеров займами был учрежден Немецко-Волжский банк сельскохозяйственного кредита[55].
Фишер считал, что эти усилия по укреплению здоровья и экономического положения русских немцев принесут пользу Германии в условиях НЭПа — политики, которую правительство и представители бизнеса приветствовали как возможность распространить в России влияние Германии[56]. Для Фишера русско-немецкие колонисты в целом и поволжские немцы в частности исторически служили образцом для других народов России, ведь последним, по его мнению, требовалась «помощь иностранцев, которые культурно превосходили местное население и могли послужить им учителями»[57]. Несмотря на разорение, усилия поволжских немцев по преодолению последствий голода возвращают им роль образца экономического развития и «немецкой культурной работы», — писал Фишер. Восстановление сельского хозяйства в регионе он объявлял «великим подвигом немецкой промышленности, продемонстрировавшим — даже больше, чем сохранение языка и культуры, — что поселенцы Поволжья остались в глубине души немцами» (выделено автором). Фишер приписывал эти достижения немецкой нации и преподносил их как источник гордости для всех немцев в мире. Несмотря на очевидное улучшение условий жизни немцев в России, он настаивал, что немцам Рейха нужно продолжать укреплять связи с ними, нужно помочь им поддерживать немецкость. Фишер даже рассматривал это вновь обретенное «желание собрать всю силу немецкой нации, рассеянную по всему миру», как «один из немногих положительных для немецкого народа результатов мировой войны»[58].
Помощь русским немцам понималась как способ усиления всего немецкого народа в преддверии будущих конфликтов, которые должны будут компенсировать потери, вызванные проигранной войной. Публичное обсуждение проблемы Auslanddeutschen содержало и самообвинение в том, что немцы не мобилизовали все свои ресурсы в прошлой войне — как материальные, так и людские, на языке того времени часто называвшиеся «силами народа» (Volkskrafte). Урок на будущее был ясен: немцам нужно использовать эти человеческие ресурсы и создать «общенациональную экономику» (Volkswirtschaft), которая будет связывать немецкую диаспору с Рейхом[59]. Современники отмечали, что русские немцы, в отличие от немцев в Северной Америке, обладали поразительной способностью сохранять свою немецкость. Многие авторы статей для объяснения этой разницы указывали на культурные и расовые различия между этническими немцами и коренным населением. В России немецкие колонисты были «пионерами культуры» в крайне «отсталой» стране. И как раз осознание превосходства над русскими способствовало сохранению колонистами своей немецкой идентичности: «...в их глазах русские были неорганизованными, неаккуратными людьми, неспособными на любую энергичную, методичную, целенаправленную и эффективную работу. Они сознательно отделили себя от них»[60].
Авторы многочисленных статьей ссылались также на разницу между внешним видом поселений русских немцев и других жителей России, указывая на их «поразительную чистоту и почти образцовый порядок». Не следует считать эти взгляды эмпирическим описанием реальности. Скорее, они использовались как идентификационная стратегия различения немецкой культуры и русского варварства[61]. Это сопротивление русских немцев влиянию чужих культур и идей объясняло и их антикоммунизм. Так, автор одной статьи восхищался «крепкими лбами» поволжских немцев, позволившими им «оставаться свободными от чужой крови, чужих манер и чужой политики». Автор гордо заявлял, что поволжские немцы «ненавидят большевизм сегодня так же сильно, как вчера, и будут ненавидеть его и в будущем»[62].
Разумеется, подобные представления вызывали возражения. Тем не менее, хотя немецкие коммунисты не поощряли прославление немецкости колонистов, они все же помогали поддерживать положительный образ русских немцев. Коммунисты восхваляли советских немецких крестьян как «авангард коллективизации», как людей, вносящих выдающийся вклад в успех дела социализма. После окончания голода в публикациях коммунистов постоянно указывалось, что советские немцы, особенно живущие в Автономной Советской Республике Немцев Поволжья, выиграли от советской национальной политики. По словам коммунистов, советская власть сделала поволжских немцев современными, обеспечив их тракторами, чтобы пахать поля, и радио, соединившим их со всем миром[63].
Очевидно, однако, что новое символическое значение русские немцы обрели в ходе распространения германской экономической гегемонии по всему миру. Считалось, что они обеспечивают германской промышленности и крупному капиталу доступ к почти безграничным ресурсам и потенциалу советских рынков. Согласно одной брошюре, немцы в России проявили себя «первопроходцами» и «носителями культуры», доказав, что «восточные районы, больше всего проникнутые немецким духом, наиболее культурно развиты». Русских немцев прославляли как застрельщиков восстановления России, выдвигая их в качестве образца и для немцев в Рейхе. Верность немецкому духу придала им «внутренней силы» и помогла перенести страдания и преследования, которым они подвергались во время и после Первой мировой войны[64]. Более того, авторы некоторых статей были убеждены, что «немецкая работа», способствовавшая «цивилизации» России со времен Петра Великого, вскоре приведет к тому, что немецкий язык станет «деловым lingua franca до самого Владивостока»[65]. Таким образом, интерес к русским немцам выходил за пределы практической задачи проникновения Германии на советские рынки. Их ценность в контексте общественной жизни времен Веймарской республики была преимущественно символической: пример русских немцев показывал, как, вопреки самым неблагоприятным и враждебным условиям, сохранение немецкости и упорный труд могут обеспечить в будущем выживание всей немецкой нации.
РУССКИЕ НЕМЦЫ ПЕРЕД «СХОДОМ» ПОД МОСКВОЙ И В КРИЗИСНЫЕ ГОДЫ РЕСПУБЛИКИ
«Сход» этнических немцев под Москвой, начавшийся в сентябре 1929 года, совпал с годами кризиса республики. Коллективизация сельского хозяйства в Советском Союзе имела существенные последствия как для русско-немецких общин, так и для всего остального сельского населения[66]. Германское Министерство иностранных дел с самого начала относилось к идее воздействия на ситуацию крайне скептически — Советский Союз посчитал бы это вмешательством во внутренние дела, что могло иметь негативные последствия для уже и так ухудшившихся германо-русских отношений. Многие официальные лица разделяли мнение, что протестующие представляют лишь меньшинство русских немцев, а большинство сумело приспособиться к советской политике. Тем не менее Отто Аухаген, атташе по сельскому хозяйству при посольстве Германии в Москве, писал многочисленные рапорты о положении русских немцев, которые широко циркулировали в Министерстве иностранных дел и других министерствах и повлияли на дискуссию в прессе. Аухаген утверждал, что протестующие — это всего лишь верхушка айсберга. По его мнению, все русские немцы были недовольны коллективизацией и хотели эмигрировать из Советского Союза. Он надеялся, что им разрешат поселиться в Восточной Германии в качестве сельскохозяйственных рабочих и это поможет преодолеть падение прироста немецкого населения[67]. Группы русско-немецких эмигрантов, Партия католического центра и все правые партии активно критиковали правительство за отсутствие реакции на нужды немецких братьев. Под давлением общественного мнения чиновники решили, что обязаны действовать. Не желая принимать русских немцев как иммигрантов в разгар экономического кризиса, чиновники пришли к компромиссному решению: русским немцам разрешалось останавливаться во временных лагерях перед отправкой под безопасные небеса обеих Америк. Германские чиновники убедили Советский Союз выдать выездные визы, и около 5 400 человек смогли эмигрировать в Бразилию, Парагвай и Канаду до того, как СССР остановил эмиграцию[68]. Президент Гинденбург призвал немецкую общественность создать фонды поддержки русских немцев на время их путешествия, а правительство учредило специальную должность рейхскомиссара для управления временными лагерями[69].
Если немецкая коммунистическая пресса пыталась приуменьшить масштаб проблемы, настаивая на том, что съехавшиеся под Москву колонисты составляли «кулацкое» меньшинство, ни в коей мере не представлявшее все русско-немецкое население[70], то буржуазная пресса изображала их невинными жертвами большевистского гнета. Правые и националистические лидеры преподносили страдания русских немцев как нарушение прав человека. Для них эта ситуация обнажала лицемерие союзников и большевиков — и те и другие в вопросах самоопределения наций и прав человека использовали универсалистскую риторику, однако не применяли эти же стандарты к этническим немцам[71]. К примеру, женское отделение группы защиты немцев за границей протестовало против «ужасающей депортации все большего количества немецких фермеров, которых система посчитала неблагонадежными» в России, и призывало «всех немецких соплеменников» выступить против этих мер. Группа умоляла правительство действовать, «дабы предотвратить чудовищное преступление против человечности»[72]. Сходным образом Иоганнес Шлейнинг утверждал, что коллективизация разрушила общины русских немцев и представляла собой «массовое преступление против культуры человечества»[73].
При том что подобные рассуждения прикрывались заботой о правах человека, они были продуктом в высшей степени германоцентричного взгляда на мир. Это особенно видно по отсутствию сострадания к судьбе других народов, ставших жертвами советской политики. Так, Шлейнинг признавал жестокость коллективизации в случае этнических немцев, но при этом допускал, что она может подходить для «фаталистичных» русских крестьян, которые веками выживали под властью «татар»[74]. Подобным же образом Пауль фон Гинденбург, германский президент и бывший генерал времен Первой мировой, обосновывал помощь собравшимся под Москвой националистической риторикой, отмечая, что после войны немцы позволили многочисленным «нежелательным» иммигрантам въехать в Германию[75]. Это безразличие к судьбе других народов в России подтверждает точку зрения Грэга Егиджана: «.немецкая политическая культура межвоенной поры мало что могла предложить гражданам в плане языка, пафоса или этического кода, которые могли бы подтолкнуть к сочувствию к чужестранцам»[76].
Германоцентричный взгляд присутствовал и в статьях ведущих буржуазных газет, уделявших значительное внимание «бегству немецких фермеров», пусть в них было и меньше радикальных высказываний правых националистов. Газета «Vossische Zeitung» возражала против описания коммунистами собравшихся под Москвой немецких крестьян как «кулаков», отмечая, что они имели разное классовое (включая пролетариев) и религиозное происхождение. Все они решили, что лучше эмигрировать и начать все заново, чем оставаться в России, и что вскоре их судьбу разделят все крестьяне в Советском Союзе[77]. Консервативная газета «Kreuzzeitung» тоже винила большевиков в «трагической судьбе» немецких крестьян, но при этом использовала антисемитскую и антиславянскую риторику: политика большевиков, дескать, была направлена на отнятие земли у работящих немецких крестьян и последующее ее перераспределение между русскими, украинцами и евреями. Признавая, что по закону немецкие крестьяне являлись советскими гражданами и что германское правительство мало что может предпринять для законного вмешательства, «Kreuzzeitung» тем не менее подчеркивала, что массовая эмиграция не в интересах Германии, поскольку «нам нужно сохранить живой мост на восток»[78].
Прибытие русско-немецких беженцев во временные лагеря тоже широко обсуждалось в прессе. Так, газета «Vossische Zeitung» напечатала интервью с русскими немцами, которые испытали большое облегчение после бегства из России и теплого приема на немецкой земле, в лагере беженцев в Эйдку- нене (Восточная Пруссия). В статье подчеркивались их оптимизм и вера в то, что упорным трудом они смогут восстановить свою жизнь за границей. Автор даже отмечал их внешние данные как символическое выражение этих качеств: «Бородатые мужчины мощного сложения, с открытым уверенным взглядом, стоят бок о бок со смелыми и непокорными женщинами». Особо подчеркивалась их немецкость и сообщалось, что беженцы с удовольствием поют немецкие народные песни и со страстью читают Гёте и Шиллера[79]. Другая статья в поддержку поселений русских немцев на востоке Германии жестко критиковала правительство: «Вдали от родины, в крайне тяжелых обстоятельствах эти фермеры удивительным образом из поколения в поколение сохраняли свой немецкий национальный характер. Если Германия, несмотря на сложную ситуацию, найдет в себе решимость и энергию для выполнения этой национальной задачи, это будет означать подъем перед лицом всего мира»[80]. «Kreuzzeitung» отмечала, что теперь, когда русские немцы прибыли на немецкую землю, они могут «открыть своим соплеменникам правду» о страданиях, которые им довелось пережить под большевистским гнетом[81].
Таким образом, переоценка русских немцев в Веймарской республике была связана с процессом переустройства немецкого общества в перспективеVolksgemeinschaft, национального единства[82]. С этой точки зрения (общего места в эпоху, когда народный суверенитет стал главным источником политической легитимации) не государство, а Volk — под этим все больше понимали расу, а не народ — давал ключи к будущему. Немецкая культура веймарского периода расширила рамки Volksgemeinschaft, включив в него русских немцев именно как «немцев». В веймарский период русские немцы являли собой пример того, как, несмотря на трудности и враждебное окружение, преданность немецкой нации и упорство могут обеспечить выживание немецкой нации в будущем. В контексте ухудшающейся социальной, экономической и политической ситуации в поздние годы Веймарской республики и все большего числа сообщений о сталинских репрессиях немцы в Германии стали рассматривать положение русских немцев как часть смертельной борьбы всего немецкого народа с врагами — как внутри страны, так и за ее пределами.
РУССКИЕ НЕМЦЫ В НАЦИСТСКОЙ КУЛЬТУРЕ И ПРОПАГАНДЕ 1930-х ГОДОВ
Придя к власти, нацисты могли строить на фундаменте, заложенном националистами и защитниками русских немцев. Переживания войны, опыт поражения, инфляция и экономический кризис породили у всех германских политических деятелей и представителей власти общее чувство, что выживание нации как коллективного единства важнее нужд отдельной личности. Соответственно защита русских и других этнических немцев подпитывала национальное воображение, воспринимавшее мир исключительно с германоцентричной точки зрения. Расистские рассуждения о русских немцах наводнили нацистскую культуру и пропаганду, изображавшую их ведущими непрерывную борьбу за освобождение от «еврейско-большевистского» гнета. Анализ изменений национального воображения в вопросе о русских немцах позволяет увидеть, как нацистское расовое мышление трансформировало взгляд немцев на самих себя и на других, создав предпосылки для нацистского расового империализма.
Взяв бразды правления в свои руки, нацисты начали агрессивную антибольшевистскую кампанию, сопровождавшуюся беспощадным подавлением Коммунистической партии Германии, равно как и других участников левой оппозиции. И хотя формально Третий рейх многое унаследовал от республики, нацисты быстро приступили к унификации (Gleichschaltung) — приведению учреждений, общественных организаций и отдельных личностей в соответствие с идеологией нацистского движением. Этот процесс положил конец открытости веймарской публичной сферы. Нацисты почти сразу запретили коммунистические и социал-демократические газеты и вынудили эмигрировать многих левых журналистов, а также журналистов-евреев. Как и в случае других институтов немецкого общества, гляйхшалтунг буржуазной прессы происходил скорее по согласию, чем с применением силы. К 1930-м годам правая пресса заняла доминирующее положение в медиа- сфере республики и, естественно, поддержала нацистский призыв к национальному обновлению и подавлению коммунистической оппозиции[83].
Антибольшевизм и официальная политика поощрения и сохранения экстерриториальных немецких общин шли рука об руку с нацистскими имперскими амбициями в Восточной Европе[84]. Нацистская довоенная политика по отношению к русским немцам продолжала веймарскую политику сохранения таких общин ради экономического и политического влияния в других государствах. Большая часть организаций этнических немцев, действовавших в Германии или за рубежом, и ассоциации в Рейхе, которые защищали их интересы, приветствовали «национальную революцию» и были уверены, что нацисты наконец-то займутся интересами этнических немцев (Volksdeutsche). Несмотря на то что они поддержали нацистов, эти организации также подверглись гляйхшалтунгу, хотя здесь это было больше вопросом реорганизации структуры (на ключевые позиции ставили членов нацистской партии), чем серьезных идеологических изменений[85]. Различные организации русско-немецких эмигрантов, включая те, что были созданы Шлейнингом, тоже прошли через гляйхшалтунг. В 1935 году представлявшие русских немцев ассоциации были объединены в Союз немцев из России (Verband der Deutschen aus Russland), который впоследствии был переименован в Союз русских немцев (Verband der Russlanddeutschen), а в 1938 году уже как «Volksdeutsche Mittelstelle» Гиммлера распространил свое влияние на вопросы, касающиеся положения немцев за границей[86].
Положение русских немцев сыграло ключевую роль в этой антибольшевистской кампании и вообще в нацистской пропаганде 1930-х годов. Нацистская пропаганда ставила целью показать ужасы жизни в сталинском Советском Союзе — тяжесть непрерывной борьбы советского государства с крестьянством и большой голод зимы 1932/33 года, затронувший и Поволжье[87]. Опираясь на устоявшиеся описания страданий русских немцев, нацисты изображали их жертвами большевистской политики, направленной против них именно как немцев. В действительности же, хотя причина голода, бесспорно, была политической (некоторые ученые утверждают, что голод был актом геноцида против украинского народа), современные исследования убеждают скорее в том, что советская политика во время голода не была направлена против каких-то отдельных этнических или национальных групп, а ставила задачу преодолеть сопротивление крестьянства коллективизации[88].
Под девизом «Братья в беде» нацисты поощряли немцев собирать деньги для оказания помощи соплеменникам в России. Хотя программа предоставляла продовольствие и финансовую поддержку русским немцам на протяжении всех 1930-х годов (эта помощь делала русских немцев еще более подозрительными в глазах советской власти), ее основной целью было подчеркнуть антикоммунизм Гитлера и заручиться поддержкой нацистского режима на Западе. Одной из самых громких публикаций, появившихся во время этой кампании, была статья «Должна ли Россия голодать?», написанная родившимся в Эстонии немцем Эвальдом Амменде, ярым антибольшевиком и давним активистом по сбору помощи для немецких меньшинств. Подобные публикации были особенно пагубными, поскольку, призывая помочь голодающим в России, маскировали намерения нацистского ревизионизма[89]. Другие публикации сосредоточились в основном на страданиях русских немцев во время голода и от его последствий. С этой целью печатались письма русских немцев, отправленные знакомым в обеих Америках или в Европе. Мольба о помощи в такой корреспонденции звучала на языке религиозных обязательств перед христианами и националистических обязательств перед соплеменниками[90].
В рамках этой антибольшевистской мобилизации Генрих Шрёдер, русский немец из причерноморской области Украины, в 1934 году опубликовал книгу о страданиях русских немцев, предназначенную для юношества и массовой аудитории[91]. Текст Шрёдера содержал рассказ о его собственном опыте жизни под властью большевиков во время Гражданской войны, а также описания голода в Поволжье и на Украине. Эти примеры должны были наглядно доказать читателю, что большевики заняты «систематическим истреблением русских немцев». Книга Шрёдера — откровенная нацистская пропаганда, но она заслуживает изучения, так как поднимает тяжелые проблемы реальных и вымышленных коллективных страданий и их использования в политике идентичности.
Шрёдер следовал нарративному канону, установленному Шлейнингом, который нарисовал идиллическую картину жизнеспособности русско-немецких общин до войны и их последующий упадок под давлением того, что он назвал двойной «кампанией по уничтожению» (Vernichtungsfeldzug). Повествование Шрёдера, таким образом, сваливало в одну кучу дискриминацию и преследование русских немцев во время Первой мировой войны при царской власти, хаос и голод в период революции и Гражданской войны и коллективизацию сельского хозяйства в рамках сталинского первого пятилетнего плана, причем каждый из периодов был представлен как часть непрерывного антинемецкого движения. Для включения упадка русско-немецких общин в историю германского поражения в Первой мировой войне Шрёдер использовал миф об ударе в спину. В реквизициях зерна, производившихся большевистскими недочеловеками (Untermenschen), он усматривал начало «опустошительного времени террора» для его общины. Деревня Шрёдера получила передышку в апреле 1918 года, когда ее освободили немецко-австрийские войска. Однако «ноябрьская измена» немецкой революции заставила войска уйти из Украины, оставив русско-немецкую общину на произвол судьбы. Колонисты пережили свой «Верден» в Блюментале, стратегически важном пункте в сражении с большевиками. В марте 1919 года они были вынуждены капитулировать, и район до 1920 года оставался полем битвы между белыми и красными, пока силы большевистского террора не взяли верх[92].
Шрёдер рассказывает о насилии и терроре Гражданской войны, о своем участии в ней и о том, какой ужас ему пришлось пережить. В шестнадцать лет он вступил в отряд самообороны, созданный колонистами. Он сталкивался с красноармейцами и чекистами и был свидетелем их жестокого обращения с его друзьями и семьей, которые тоже участвовали в самообороне. После многочисленных лишений Шрёдеру удалось бежать и присоединиться к транспорту немецких и австрийских военнопленных, направлявшихся в Германию. Некоторых из его друзей, которые должны были присоединиться к нему, схватили чекисты — Шрёдер изображает их казнь как большевистский ответ на попытку остаться «верными немецкому духу»[93]. Объединяя борьбу русских немцев против большевиков с общими военными усилиями Германии, Шрёдер представляет их мучениками наравне с жертвами Рейха во время Первой мировой войны[94].
Чтобы придать смысл этим травматическим событиям, автор указывал на продолжающий действовать еврейско-большевистский заговор, цель которого — истребление русских немцев. Сталинскую коллективизацию Шрёдер интерпретировал как вторую большевистскую «кампанию по истреблению» русских немцев. Обращаясь к немецкому юношеству, он заявлял, что во времена Веймарской республики «правду об ужасной судьбе наших братьев по расе в советском аду» от немецкого народа «намеренно скрывали». Шрёдер клеймил германских политиков еврейского происхождения, таких как Вальтер Ратенау и Рудольф Гильфердинг, за то, что они якобы помогали восточноевропейским евреям, а не русским немцам. Он даже выдвинул смелый тезис: «...русский народ и немцев в России систематически уничтожают при помощи западной демократии!»[95]
Рассказ Шрёдера делает очевидным тот факт, что в большевизме немцев пугало не столько даже то, что они знали о «реалиях» жизни в Советском Союзе[96]. Скорее, их страх перед большевизмом был связан с мифом об ударе в спину, обвинявшим евреев и революционеров в предательстве интересов нации, которое и привело к поражению в Первой мировой войне. Согласно этой воображаемой конструкции, русские немцы тоже «получили удар в спину», разделив общую судьбу всех немцев. Так нацистская пропаганда стала представлять русских немцев жертвами ужасов большевизма и расового вырождения. Нацисты изображали коллективизацию как окончание изоляции русских немцев от других жителей России путем насильственного смешения их с другими «расами», включая евреев. Таким образом, нацисты видели в большевизме угрозу расовому единообразию и самому существованию немецкого Volk.
Не все немцы разделяли в 1934 году шрёдеровскую концепцию всемирного еврейского заговора, тем не менее публичное обсуждение проблемы русских немцев усвоило некоторые из ее предпосылок. Рассказы немецких беженцев из Поволжья (например, мемуары Анны Янеке «Судьба поволжских немцев») строились по похожей схеме: здоровая жизнь общин поволжских немцев, война и революция как травматический разрыв, описание эмиграции в Германию[97]. Йозеф Понтен (1883—1940), плодовитый автор десяти романов и более двадцати новелл, чьи ранние вещи заслужили одобрение самого Томаса Манна[98], выбрал историю поволжских немцев предметом своего многотомного романа-эпопеи о судьбе немецкого народа. «Народ в пути. Роман немецкого смятения» («Volk auf dem Wege. Roman der deutschen Unruhe»), изначально задуманный как трилогия, но позднее разросшийся до шести томов, получил восторженные отзывы в прессе и продолжал перепечатываться с выдержками и сокращениями для популярных и фронтовых изданий на протяжении всего нацистского правления[99]. Предисловие к сокращенному изданию, опубликованному в 1939 году, описывает серию романов Понтена как современный «народный эпос», подобный «Илиаде» Гомера или «Песне о Нибелунгах». И этот эпос показывает, как русские немцы разделяют «общую расовую судьбу» всех немцев[100].
Популярный антибольшевистский роман Эдвина Эриха Двингера «И Бог молчит... Обращение и призыв» («Und Gott Schweigt... Bericht und Aufruf») также использовал в качестве ключевых событий в жизни протагониста голод и судьбу русских немцев. Молодой наивный немец, во время Первой мировой оказавшийся в России в плену, подпадает, в силу своего идеализма, под обаяние большевистских идей переустройства мира на справедливых началах. Роман показывает, как вера героя в коммунизм разбивается после встречи с реалиями жизни в ходе его путешествия по Советскому Союзу. Обращению главного героя к нацизму способствует учитель — этнический немец. От него юный герой узнает, что на самом деле советская политика индустриализации и коллективизации «превратила весь народ в армию рабов» и «принесла смерть миллионам». Оказывается, убивали не «буржуев-эксплуататоров», а «маленьких людей ремесленного труда, прежде всего — немцев, прежде всего — братьев!» Главный герой решает, что он должен рассказать правду, чтобы «спасти сознание Европы», которая, похоже, не обращает внимания на эти страдания. Постепенно молодой немец убеждается в том, что только германское «тотальное государство» способно противостоять разрушительным силам большевизма и продолжить «великую миссию цивилизованного западного человека — дать отпор смертельному яду Востока». Утвердившись в своей вере в нацизм, герой возвращается в Германию, причем требует, чтобы пограничники арестовали его — ведь он был коммунистом[101].
Другие художественные произведения изображали опасность расового вырождения этнических немцев в Советском Союзе. Герман Пферцген опубликовал вымышленное описание путешествия немца из Рейха к поволжским немцам. Во время деревенского схода герой впечатлен гендерной иерархией: женщины молча ждут, пока говорят мужчины. Но эту благостную картину немецкого порядка, патриархальности и счастья нарушают чужеродные элементы: советское правительство поселило в деревне шестерых «отученных кочевать» татар, явно отличающихся своим «азиатским» видом. Пферцген подчеркивает кочевой характер татар и отсутствие у них корней тем, что на вопрос героя, откуда они, татары не могут дать определенный ответ. Он спрашивает поволжских немцев, общаются ли они с татарами, на что те отвечают категорическим «нет»; однако на «опасность» расового смешения указывает пренебрежительное упоминание, что в других деревнях взаимоотношений между немцами и ненемцами больше. Таким образом, большевизм здесь показан систематически подрывающим расовые связи, поддерживающие поволжских немцев именно как «немцев». Подобные представления были распространены и в нацистской прессе, и в академических трудах о России[102].
Хотя из этих повествований явствует, что язык нацизма проник во все слои немецкого общества и сформировал точку зрения на русских немцев, подобные идеологические настроения часто сосуществовали с другим видением реальности. Показательна в этом отношении лекция о положении немецких колонистов в Советском Союзе, прочитанная в 1936 году Отто Аухагеном. Как упоминалось выше, Аухаген сыграл ключевую роль в публичном освещении страданий русских немцев во время коллективизации; кроме того, он был одним из первых западных обозревателей, написавших о массовом голоде[103]. Большая часть лекции строилась на типичных образах русских немцев из репертуара консервативного дискурса веймарского периода. Русско-немецких колонистов Аухаген считал стоящими выше русских крестьян в культурном и экономическом отношении. Их «до мозга костей немецкая» позиция, благочестие и высокий уровень рождаемости привели к преуспеванию и расширению общины этнических немцев. Несмотря на жестокое обращение с ними во время войны и революции, Аухаген по-прежнему считал русских немцев способными на высокую производительность и сопротивление большевикам в годы НЭПа. И только начало коллективизации в рамках первого пятилетнего плана радикально изменило ситуацию — русские немцы «перестали быть хозяевами своей судьбы». Коллективизация покончила с частной собственностью крестьян на землю, тем самым разрушив «связь между человеком и почвой». В дополнение Аухаген упоминал о большевистской политике принуждения женщин к вступлению в трудовую армию как способствующей разложению семьи — фундамента культуры поволжских немцев. Для Аухагена все эти политические меры приближали осуществление «конечной цели» коммунистов — «распад семьи и превращение народа в отдельных индивидуумов, полностью интегрированных в государственный механизм»[104].
Но главную критику политики большевиков несла в себе нацистская идиома «расовое вырождение». Аухаген считал немцев в России более, чем другие группы в советском обществе, способными противостоять большевизму, однако отмечал, что коллективизация уменьшила их сопротивление, потому что в деревнях разрешили работать людям с ненемецким происхождением, включая евреев: «.с коллективизацией все больше функционеров приезжали [в деревню] извне <...> и это, вдобавок к ослаблению чувства единения внутри общины, угрожало немецкой деревне расовым разложением». Аухаген, ссылавшийся на Гитлера, тем не менее еще мог заявлять, что наиболее важным элементом, сплачивающим немецкую диаспору, является религия. Но этот взгляд вполне уживался с нацистским упором на расу и биологические характеристики, причем последние начинали играть все большую роль. Аухаген закончил свою лекцию на обнадеживающей ноте, отметив, что молодежь поволжских немцев может оказаться устойчивой к большевистским идеям: «…снова и снова кровь немецких крестьян будет бороться против чуждого духа»[105].
Подобные чувства отражали просачивание нацистского мировоззрения в сознание немцев и формировали их взгляд на окружающий мир. Постепенно сталинский Советский Союз все больше и больше воспринимался сквозь призму расовой терминологии, в которой большевизм представал паразитом, уничтожающим отдельные расы[106]. В 1936 году Гитлер и нацистская партия начали готовиться к предстоящей великой расплате с «еврейским большевизмом» — апокалиптической битве, завершение которой они видели либо как победу Германии, либо как гибель немецкой расы. На ежегодном партийном съезде в Нюрнберге Гитлер объявил четырехлетний план, поставивший Германию на путь перевооружения и задуманный как ответ сталинской пятилетке и советскому участию в испанской Гражданской войне. Речи на съезде изображали СССР как место наихудшего варварства по отношению к народам Советского Союза, включая русских немцев, оставленных страдать от еврейского заговора[107].
Эта биологизация дискурса о русских немцах недвусмысленно проявлялась в ультраправых и нацистских публикациях. Одна статья приветствовала достижения русских немцев и оплакивала их разорение при большевиках. Но русские немцы, «самое младше дитя великой немецкой материнской расы»», были еще и самыми сильными. Автор анализировал демографию русских немцев, утверждая, что во всем мире их 2 128 500 человек, причем половина живет в Советском Союзе, где «на русской земле, посреди невыразимых жертв и мучений, они ожидают дня избавления», пока остальные ради сохранения своей немецкости продолжают борьбу с «враждебностью иностранных государств». Русских немцев восхваляли за их расовые качества: «.необыкновенную биологическую силу, огромные колонизаторские и экономические способности, а также упорство, с которым они повсюду в мире держались за свою немецкость»[108]. Таким образом, русских немцев продолжали рассматривать как здоровый пример существования немецкой нации за рубежом; они боролись против внешних врагов и демонстрировали немцам в Рейхе, что нация обладает достаточной силой для выживания в будущем. Нацисты вовсю будут эксплуатировать эти представления в приближающейся войне.
ВОЙНА, ИМПЕРИЯ И «ОСВОБОЖДЕНИЕ» РУССКИХ НЕМЦЕВ
Публичная кампания в защиту немецких общин в Восточной Европе была не столько попыткой отвлечь внимание от других политических проблем, сколько частью реализации германоцентричных представлений о мире, все более и более укоренявшихся в нацистский период[109]. Набор образов, ассоциировавшихся с русскими и другими зарубежными общинами этнических немцев, сыграл важную роль в одобрении немецким обществом нацистского империализма в Восточной Европе. Так, немецкое вторжение в Польшу в 1939 году сопровождалось мощной кампанией в прессе, сосредоточившейся на условиях жизни этнических немцев в Польше и их «освобождении» германской армией. Хотя этнические немцы в Польше действительно подвергались дискриминации и испытывали экономические трудности в межвоенный период (но правда также и то, что многие из них активно участвовали в ирредентистских движениях и симпатизировали нацистам)[110], нацистская пропаганда использовала их трудное положение и преувеличивала жестокость поляков, направленную якобы против всего немецкого народа. Этнические немцы провозглашались мучениками, жертвами ужасного угнетения, спровоцированного всего лишь тем, что они немцы. Такие образы сложились за десятилетия общественного обсуждения положения немцев за рубежом. Они полностью переворачивали жестокую реальность политики, которую вторгшаяся немецкая армия проводила в оккупированной Польше. Поляки, коммунисты и евреи описывались в прессе как зачинщики убийств и гнусных преступлений против немцев в то самое время, когда нацисты сгоняли в гетто евреев, использовали на принудительных работах поляков и других славян и казнили польских интеллектуальных, религиозных и политических лидеров[111]. Нацистская пропаганда лишала врага человеческих черт, изображая невинных немцев жертвами «польского террора», «жестокости» и «мании убийства»[112]. Эти образы были не просто побочным эффектом военных устремлений Германии, они играли основополагающую роль в мобилизации немецких солдат и гражданских лиц для геноцида в Восточной Европе, целью которого было заселение территории убитых жертв этническими немцами[113].
С началом войны произошел большой сдвиг и в политике по отношению к этническим немецким общинам: от поддержки их как форпостов немецкости за рубежом нацисты перешли к активному поиску диаспор и переселению их в Германию и на расширявшиеся оккупированные территории, что было частью большого проекта по строительству нацистской империи. Обмен населением в рамках пакта Молотова—Риббентропа способствовал расширению власти и влияния СС на оккупированных Германией территориях Восточной Европы[114]. 6 октября 1939 года, почти месяц спустя после вторжения в Польшу, Гитлер выступил перед рейхстагом с речью, широко освещавшейся в прессе. Гитлер подчеркнул, что план по переселению этнических немцев не только распространится на бывшие польские территории, но включит всех проживающих в Европе немцев в большой утопический проект реорганизации «всего жизненного пространства» по национальному принципу. Гитлер объявил, что он решит проблемы меньшинств путем переселения небольших сообществ этнических немцев, которые сами по себе не в состоянии вести межнациональную борьбу. Таким образом, в других государствах просто-напросто больше не останется немецких диаспор[115].
Нацистская пропаганда шумно приветствовала прибытие русских немцев на территории, оккупированные Германией. Она эксплуатировала образ гордого и преданного этнического немца, который страдал под чужой «еврейской» властью и боролся с ней, но благодаря своей вере в фюрера возвратился наконец в Германию[116]. С вторжением в Советский Союз в июне 1941 года передышка в антибольшевистской пропаганде закончилась. Статьи в газетах обвиняли советскую тайную полицию (ГПУ) в том, что та стремилась помешать переселению этнических немцев по пакту Молотова—Риббентропа. Такое вмешательство в германские дела расценивалось нацистской пропагандой как доказательство того, что Сталин никогда не думал всерьез выполнять договор по обмену населением и что он просто использовал «мирную» политику Гитлера в собственных целях, главным образом — для того, чтобы воткнуть нож в спину немцам[117].
С началом операции «Барбаросса» немецкие солдаты вступили на территорию СССР в роли «мстителей» за преступления «еврейского большевизма». Основа для такого восприятия была заложена уже вторжением в Польшу. Однако если в случае Польши нарратив о немцах как жертвах использовался для того, чтобы представить немецкой общественности цели войны в благородном свете (возвращение «исторически» немецких земель и освобождение этнических немцев от произвола власти иностранцев и евреев), то война с Советским Союзом была принципиально иным конфликтом. Она задумывалась, планировалась и велась как война на уничтожение. В своих истоках это был не просто антибольшевистский крестовый поход, а расовая война, которая должна была очистить Европу и весь мир от гнусного влияния евреев. Гражданские и военные чиновники, равно как и пропаганда военного времени, обвиняли евреев в том, что именно они развязали войну. Речи Гитлера и предназначенная для солдат пропаганда в армии подчеркивали «превентивный» характер войны, изображали битву с «еврейским большевизмом» как расовую войну, от которой зависит само выживание немецкой и европейской цивилизации[118].
Война против Советского Союза вернула в прессу описания страданий этнических немцев в России, особенно это касалось поволжских немцев. 28 августа 1941 года, когда немецкая армия быстро продвигалась в глубь советской территории, правительство СССР объявило о плане депортации поволжских немцев в Сибирь. В ужасных условиях 400 000 немцев выслали во внутренние регионы России из опасений, что они могут саботировать военные усилия или каким-либо другим образом помочь врагу[119]. Германская пресса, освещая судьбу поволжских немцев, вписала это событие в контекст многолетней «германофобии» в Советском Союзе. Поволжские немцы под властью Советов изображались неоднократными «жертвами самых ужасных катастроф». Исчезновение Республики Немцев Поволжья стало символом того, что ожидает и другие национальности под властью большевиков, за которыми скрывалась фигура губящего расу еврея: «Наиболее способная и деятельная часть поселений на Волге превращена в серую несчастную массу и отправлена на верную смерть». Евреев-большевиков обвиняли в организации «немецких погромов», вытеснении немцев с их земли и передаче результатов труда многих поколений в руки «чужаков»[120]. Министерство оккупированных восточных территорий Альфреда Розенберга составило проект «руководства для радиопропаганды по вопросу изгнания поволжских немцев в Сибирь». Называя акции большевиков «еврейскими происками», министерство заявляло, что немцы ответят коллективным возмездием в захваченной ими Европе: «Если преступления против поволжских немцев продолжатся, еврейство сторицей заплатит за эти преступления»[121].
Эти слова писались в тот момент, когда немецкая армия и оперативные группы (Einsatzgruppen) по мере продвижения в глубь России уже приступили к систематическому истреблению евреев и когда готовились планы по конференции в Ваннзее, которая обречет на геноцид всех евреев Европы. Подобный дискурс с его чудовищным переворачиванием реальности говорит о тех способах, которыми нацисты поставили транснациональные связи с русскими немцами на службу расовому империализму. Целью этой политики было обеспечить «жизненным пространством» всех немцев Восточной Европы, что означало убийство либо насильственное перемещение коренных жителей этих территорий[122]. Это никоим образом не было неизбежным результатом повышенного внимания к русским немцам в Германии межвоенной эпохи; однако статус русского немца как «жертвы» в национальном воображении этого периода был тесно связан с антисемитским дискурсом, в котором еврей представал «мучителем», угрожающим самой сути немецкости. Резонанс, вызванный трудным положением русских немцев, был раздут, потому что отвечал распространенным тревогам о будущем нации после тотальной войны.
Перевод с англ. А. Голубковой под ред. А. Скидана
[1] @ Central European History. 2007. Vol. 40. P. 429—466. Выражаю благодарность Омеру Бартову, Белинде Дэвис, Петеру Холквисту, Бонни Смит и двум анонимным читателям журнала «Central European History» за их проницательные комментарии к более ранней версии этой статьи. Исследование проведено по гранту Германской службы академических обменов (DAAD).
[2] Oltmer J. Migration und Politik in der Weimarer Republik. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2005. S. 199—200. Олтмер предлагает наиболее исчерпывающее исследование официального немецкого отклика на это событие.
[3] См.: Mick Ch. Sowjetische Propaganda, Funfjahrplan und deutsche Russlandpolitik 1928—1932. Stuttgart: Franz Stei- ner, 1995. S. 350—379; Dyck H.L. Weimar Germany and Soviet Russia, 1926—1933: A Study in Diplomatic Instability. London: Chatto & Windus, 1966. P. 174—180.
[4] О кризисе легитимности см.: Peukert DetlevJ.K. Die Weimarer Republik. Krisenjahre der Klassischen Moderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1987.
[5] О статусе нации как «воображаемого сообщества» см.: Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism (rev. ed.). London: Verso, 1991; рус. перевод: Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М.: Канон-Пресс-Ц; Кучково поле, 2001.
[6] Gosewinkel D. Einburgern und AussschlieBen. Nationalisie- rung der Staatsangehoringkeit vom Deutschen Bund bis zur Bundesrepublik Deutschland. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2001. S. 178—180.
[7] См.: Brubaker R. Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. P. 114—117; Neutatz D. Die Wolgadeutschen in der Reichsdeutschen Publizistik und Politik bis zum Ende des ersten Weltkrieges // Zwischen Reform und Revolution. Die Deutschen an der Wolga 1860—1917 / D. Dahl- mann, R. Tuchtenhagen (Hgs.). Essen: Klartext, 1994. S. 115— 133; Grundmann K.-H. Deutschtumspolitik zur Zeit der Wei- marer Republik. Eine Studie am Beispiel der deutsch-baltischen Miderheit in Estland und Lettland. Hannover-Dohren: Harro v. Hirschheydt, 1977. S. 48—50. Касательно Пангерманского союза см.: Chickering R. We Man Who Feel Most German: A Cultural Study of the Pan-German League 1886—1914. Boston: George Allen & Unwin, 1984. P. 74—86. Прусское государство основало Фонд поддержки немецких репатриантов, который сагитировал более 26 000 русско-немецких крестьян, преимущественно из Волыни, переселиться в вос- точнопрусские провинции. Эта организация продолжала работу по переселению 60 000 русских немцев во время войны. См.: OltmerJ. Mirgation und Politik. S. 140—154.
[8] См.: Gosewinkel D. Einburgern und AusschlieBen. S. 278—327; Bade K.J. Immigration, Naturalization, and Ethno-National Traditions in Germany: From the Citizenship Law of 1913 to the Law of 1999 // Crossing Boundaries: The Exclusion and Inclusion of Minorities in Germany and the United States / L.E. Jones (Ed.). New York: Berghahn, 2001. P. 31—38; Brubaker R. Citizenship and Nationhood in France and Germany. Cambridge: Harvard University Press, 1992. P. 114—137; Jarausch K.H., Geyer M. Shattered Past: Reconstructing German Histories. Princeton: Princeton University Press, 2003. P. 200—203. Немецкие земли сохраняли контроль над гражданством и натурализацией, пока нацисты не централизовали эту политику в 1934 году. Закон о подданстве государства и Рейха от 1913 года ввел категорию национального гражданства, которая использовалась для того, чтобы предотвратить потерю гражданства немецкими эмигрантами и немцами в колониях (раньше они лишались его после десяти лет, проведенных за границей). Немцы, живущие за границей, могли пройти процесс натурализации и получить немецкое гражданство.
[9] Domansky Е. The Transformation of the State and Society in World War I Germany // Landscaping the Human Garden: Twentieth-Century Population Management in a Comparative Framework / A. Weiner (Ed.). Stanford: Stanford University Press, 2003. Р. 46—66.
[10] Diner D. Das Jahrhundert verstehen. Eine universalhisto- rische Deutung. Frankfurt am Mine: Fischer, 2000. S. 201.
[11] Oltmer J. Migration und Politik. S. 151 — 182; Brandes D. Von den Verfolgungen im Ersten Weltkrieg bis zur Deportation // Deutsche Geschichte im Osten Europas. Russland / G. Stric- ker (Hg.). Berlin: Siedler Verlag, 1997. S. 131—137; Gosewin- kel D. Einburgern und AusschlieBen. S. 330—337. О планах переселений см. также: Liulevicius V.-G. War Lands on the Eastern Front: Culture, National Identity, and German Occupation in World War I. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. Р. 89—108; Geiss I. Der polnische Grenzstreifen 1914—1918. Ein Beitrag zur deutschen Kriegszielpolitik im Ersten Weltkrieg. Lubeck: Matthiesen, 1960.
[12] Jarausch K.H., Geyer M. Shattered Past. Р. 204—208; Bar- key K, Hagen M. von. After Empire: Multiethnic Societies and Nation-Building: The Soviet Union and the Russian, Ottoman, and Habsburg Empires. Boulder: Westview, 1997.
[13] См.: Hagen W.W. Murder in the East: German-Jewish Liberal Reactions to Anti-Jewish Violence in Poland and other East European Lands 1918—1920 // Central European History 2001. Vol. 34. № 1. Р. 1—30; Christoph M. Ethnische Gewalt und Pogrome in Lemberg 1914 und 1941 // Osteuropa. 2003. № 12. S. 1810—1827; SacharH.M. Dreamland: Europeans and Jews in the Aftermath of the Great War. New York: Vintage, 2003.
[14] Среди многочисленных примеров см.: In der deutschen Wolgarepublik // Hamburger Correspondent. 1926. Jan. 17; копия в: PA-AA, R 83864. По вопросу веймарского колониального движения см.: Wildenthal L. German Women for Empire, 1884—1945. Durham: Duke University Press, 2001. Р. 172—200. Русские немцы сходным образом описывались в литературе для немецких солдат во время Первой мировой войны как «пионеры культуры» на «отсталом» Востоке (Liulevicius V.-G. War Lands. Р. 160—163).
[15] См., к примеру: Heinrich C. Auslandsdeutschtum und deutsche Zukunft // Der Auslanddeutsche 1 (приложение к «Der Deutsche»). 1921. April 2; копия в: BArch Berlin R 8034 II/8404, Bl. 3.
[16] Sauermann F. Friede, Freiheit und Recht. Ein Wort fur die Wolgadeutschen // Der Auslanddeutsche. 1919. № 4. April. S. 69.
[17] См. серию памфлетов, опубликованных Ассоциацией немцев за границей: Schriften zum Selbstbestimmungsrecht der Deutschen auBerhalb des Reichs. MeiBen: Bruno Thieme, 1919.
[18] Brubaker R. Nationalism Reframed. Р. 107—147.
[19] Это различие между немцами, живущими за границей, и приграничными немцами часто размывалось, особенно в среде правых, где до того, как нацисты пришли к власти, использовались термины Volksdeutsche или Volksgenossen.
[20] Grundmann K.-H. Deutschtumspolitik. S. 123—130; Oberkro- me W. Volksgeschichte. Methodische Innvovation und volkische Ideologisierung in der deutschen Geschichtswissenschaft 1918—1945. Gottingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1993.
[21] Ritter E. Das Deutsche Ausland-Institut in Stuttgart 1917— 1945. Ein Beispiel deutscher Volkstumsarbeit zwischen den Kriegen. Wiesbaden: Franz Steiner, 1976. S. 18—30.
[22] См. обсуждение «пан»-движений у Ханны Арендт: Arendt H. The Origins of Totalitarianism (new ed.). San Diego: Harvest, 1975. Р. 226—227.
[23] Geyer M. Insurrectionary Warfare: The German Debate about a Levee en Masse in October 1918 // The Journal of Modern History. 2001. № 75. Р. 514.
[24] Sauermann F. Friede, Freiheit und Recht. S. 69.
[25] Балтийские немцы были по большей части аристократами-землевладельцами и начали эмигрировать на запад перед Первой мировой войной. Оставшиеся оказались в новых независимых балтийских государствах. Там имелось и городское немецкое население, состоявшее из квалифицированных рабочих и государственных служащих, которые тоже эмигрировали во время войны и революции. Оставшиеся после революции немецкие общины в России были крестьянскими. Краткий обзор см.: Brandes D. Die Deutschen in RuBland und die Sowjetunion // Deutsche im Ausland—Fremde in Deutschland. Migration in Geschichte und Gegenwart / Klaus J. Bade (Hg.). Munich: C. H. Beck, 1992. S. 85—134.
[26] Kappeler A. RuBland als Vielvolkerreich. Entstehung, Ge- schichte, Zerfall. Munich: Beck, 2001. S. 330.
[27] См.: Brandes D. Die Deutschen in Russland // The Soviet Germans Past and Present. London: C. Hurst, 1986. Р. 13— 30. По вопросу гетерогенности русско-немецких общин и их растущего взаимодействия с расширяющейся Российской империей см.: LongJ.W. From Privileged to Dispossessed: The Volga Germans, 1860—1917. Lincoln: University of Nebraska Press, 1988. Более широкий контекст национальной политики Российской империи см. в: Kappeler A. Russ- land als Vielvolkerreich.
[28] Long J.W. From Privileged to Dispossessed. Р. 16—40, 215— 254; Kappeler A. Russland als Vielvolkerreich. S. 203—266.
[29] Олтмер оценивает количество русско-немецких иммигрантов в десятки тысяч: Oltmer J. Migration und Politik. S. 184—185.
[30] Биографию Шлейнинга см.: SchleuningJ. Mein Leben hat ein Ziel. Lebenserinnerungen eines russlanddeutschen Pfarrers. Witten: Luther Verlag, 1964; BridenthalR. Germans from Russia: The Political Network of a Double Diaspora // The Heimat Abroad: The Boundaries of Germanness / K. O'Donnell, R. Bridenthal, N. Reagin (Eds.). Ann Arbor: University of Michigan Press, 2005. Р. 190—196. Хотя Шлейнинг претендовал на выражение мнения всех поволжских немцев, он сгладил в своих мемуарах тот факт, что эсеры и меньшевики были тоже популярны среди немецких крестьян Поволжья. Ср.: LongJ.W. From Privileged to Possessed. Р. 238—240; SchleuningJ. Mein Leben. S. 580—582. Шлейнинг наладил контакты с балтийскими немцами и немецкими националистами в период своей учебы в Германии после русской революции 1905 года. Он вел переговоры с балтийскими немцами в Эстонии по поводу переселения немцев из российской глубинки в Прибалтику, а в 1918 году лоббировал право на возвращение русских немцев по Брест- Литовскому договору среди немецких чиновников. См.: Schleuning J. Mein Leben. S. 127—145, 152—163, 416—438. О его связях с Ассоциацией немцев за границей (VDA) см.: SchleuningJ. Mein Leben. S. 452—453, 468—473, 593— 594. В межвоенный период Шлейнинг также налаживал связи русско-немецких общин с Северной Америкой, см.: Bridenthal R. Germans from Russia. Р. 194.
[31] Шлейнинг с неудовольствием отмечает, что немецкие иммиграционные чиновники не рассматривали его как гражданина Германии, а ставили на одну доску с «русскими евреями и поляками», см.: SchleuningJ. Mein Leben. S. 420—421.
[32] Schleuning J. Die Wolgadeutschen. Ihr Werden und ihr To- desweg. Berlin: Kranzverlag, n.d [1932]). S. 1, 5, 10, 17.
[33] Ibid. S. 20—21, 22.
[34] Около 10% поволжских немцев умерло от голода. См.: Long J.W. The Volga Germans and the Famine of 1921 // Russian Review. 1992. № 51. Р. 510—525; Brandes D. Von den Verfolgungen. S. 137—145. Лонг утверждает, что «невежество и недостаток информации» о ситуации на местах, равно как и предубеждение против поволжских немцев, обусловили неспособность большевиков действовать быстрее (LongJ.W. The Volga Germans. Р. 515—516). В то время как антигерманские настроения действительно сыграли здесь свою роль, предубеждение распространялось не только на русских немцев, но и на другие меньшинства в западных приграничных областях — на поляков, болгар и греков, лучшее экономическое положение и религиозность которых угрожали советской власти. См.: Martin T. The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923—1939. Ithaca: Cornell University Press, 2001. Р. 35—36. Современные исследователи полагают, что большевикам не были настолько неизвестны последствия их политики. Так, Ленин издал приказ увеличить продовольственные реквизиции у крестьян 30 июля 1921 года, уже после начала кампания помощи голодающим. А как только из-за границы начали поступать продукты и медикаменты, он провел чистку Всероссийского комитета помощи голодающим. См.: Werth N. A State Against Its People: Violence, Repression, and Terror in the Soviet Union // The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression / St. Courtois et al. (Ed.). Cambridge: Harvard University Press, 1999. Р. 119—124.
[35] Список лиц и учреждений, поддержавших голодающих, см.: Protokoll der Sitzung uber die Hilfsaktion fur RuBland am Mittwoch den 3. August 1921 // German Red Cross to Foreign Office. 1921. August 11. PA-AA R 60203; публичные заявления таких фигур, как Макс Бартель, Георг Гросс, Артур Холичер, Маргарета Хуч, Кете Кольвиц, Фритьоф Нансен, Эрвин Пискатор и Хелен Стокер, вошли в брошюры и листовки (BArch Koblenz, R 57 neu 1045, Nr. 10, «Nansenhilfe, Berlin», а также: Aufruf des Komittees Kunst- lerhilfe «An alle Kunstler und Intellektuellen» (1921) // Quellen zu den deutsch-sowjetischen Beziehungen, 1917— 1945 / H.-G. Linke (Hg.). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998. S. 101 — 102. Также см.: Lersch E. Hungerhilfe und Osteuropakunde // Deutschland und die russische Revolution, 1917—1924 / G. Koenen (Hg.). Munich: Fink, 1998. S. 617—645).
[36] Maxim Gorki fur das hungernde RuBland. Ein Notruf an Ger- hart Hauptman // Vossische Zeitung. 1921. July 18; Grigorj- anz A. Die russische Hungersnot // Vorwarts. 1921. August 5.
[37] RuBlands Hungerkatastrophe // Vorwarts. 1921. July 20. Автор статьи уверял, что подобные эксперименты невозможны над немцами, так как они не настолько раболепны и пассивны, как русские.
[38] Среди многочисленных примеров см.: Aufruf zu einer Hilfsaktion fur SowjetruBland // Rote Fahne. 1921. July 24 (утренний вып.); Die Hungersnot im Wolgagebiet und die Mittel zu deren Bekampfung // Rote Fahne. 1921. July 12; RadekK. Der Hunger in RuBland und die kapitalistische Welt // Rote Fahne. 1921. September 13, 14 (вечерние вып.); Idem. Wir, den Hunger, und die Anderen // Rote Fahne. 1921. August 8 (утренний вып.). См. также: Holitscher A. Stromab die Hun- gerwolga. Berlin: Vereinigung internationaler Verlaganstalten, 1922.
[39] Popoff G. Die Tragodie der Wolgadeutschen // Frankfurter Zeitung. 1921. Dec. 25 (копия: BArch Berlin R 8034 II/2077, Bl. 176—177). Следует отметить, что в своих мемуарах Попов едва упоминает поволжских немцев в описании своего путешествия по районам, затронутым голодом. Popoff G. Ich sah die Revolutionare. Moskauer Erinnerungen und Bege- gungen wahrend der Revolutionsjahre. Bern: Verlag Schweize- risches Ost-Institut, 1967. S. 49—58. В качестве примера статьи, посвященной главным образом страданиям русских немцев, см.: Die Hungerkatastrophe in RuBland // Vossische Zeitung. 1921. August 1.
[40] См., например: Russische Hungersnot und Hilfsaktion // Vor- warts. 1921. August 19.
[41] Helft SowjetruBland // Rote Fahne. 1921. July 23 (утренний вып.).
[42] Gorki fur die Wolgadeutschen // Rote Fahne. 1922. Feb. 1 (утренний вып.).
[43] Rosenberg A. Pest im RuBland! Der Bolschewismus, seine Haupter, Handlungen und Opfer. Munich: Deutsche Volks- verlag, 1922. S. 52, 69. О корнях идеологии Розенберга см.: Kellogg M. The Russian Roots of Nazism: White emigres and the Making of National Socialism, 1917—1945. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
[44] Volkov Sh. Antisemitismus als kultureller Code: Zehn Essays. Munich: Beck, 2000. S. 36.
[45] Bartov O. Defining Enemies, Making Victims: Germans, Jews, and the Holocaust // The American Historical Review. 1998. Vol. 103. № 3. P. 771—816.
[46] Vom Deutschtum in aller Welt. Das bedrohte Deutschtum in Sowjetrussland // Deutsche Zeitung. 1921. Feb. 25 (копия: BArch Berlin, R 8034 II/8403, Bl. 185). Об изображении России в правой прессе см.: Doser U. Das Bolschewistische Russland in der deutschen Rechtspresse 1918—1925. Ph.D. diss., Freie Universitat Berlin, 1961. Дозер не рассматривает русских немцев.
[47] Verratenes Deutschtum! // Deutscher Tagesblatt. 1921. Dec. 28 (копия: BArch Berlin R 8034 II/ 8404, Bl. 88—89). Немецкая иммиграционная служба была осведомлена о неприязни к восточноевропейским евреям-эмигрантам и о том, какие ограничения это накладывало на эмиграцию русских немцев (OltmerJ. Migration und Politik. S. 188—193).
[48] См.: Weindling P. Epidemics and Genocide in Eastern Europe, 1890—1945. New York: Oxford University Press, 2000. Р. 153—160. В основном всю продовольственную помощь для голодающих предоставил Американский комитет. См.: Patenaude Bertand M. The Big Show in Bololand: The American Relief Expedition to Soviet Russia in the Famine of 1921. Stanford: Stanford University Press, 2002. Немецкие коммунисты организовали собственную кампанию, однако фонды были использованы больше для пропаганды и публикаций, чем для прямой помощи голодающим. См. также: McMeekin S. The Red Millionaire: A Political Biography of Willi Munzenberg, Moscow's Secret Propaganda Tsar in the West. New Haven: Yale University Press, 2003. Р. 103—145.
[49] О научном и культурном обмене см.: NotzoldJ. Die deutsch- sowjetischen Wissenschaftsbeziehungen // Forschung im Spannungsfeld von Politik und Gesellschaft. Geschichte und Struktur der Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft / R. Vierhaus, B. vom Brocke (Hgs.). Stuttgart: Deutsche Ver- lags-Anstalt, 1990. S. 778—800; Gross S.S. The Soviet-German Syphillis Expedition to Buriat, Mongolia, 1928: Scientific Research on National Minorities // Slavic Review. 1993. Vol. 52. № 2. Р. 204—232; о военном сотрудничестве см.: Ziedler M. Reichswehr und Rote Armee 1920—1933. Wege und Statio- nen einer ungewohnlichen Zusammenarbeit. Munich: Olden- bourg, 1993. Германские чиновники также надеялись, что эти отношения будут способствовать смягчению режима в России, см.: Cameron DJ. To Transform the Revolution into an Evolution: Underlying Assumptions of German Foreign Policy toward Soviet Russia, 1919—1927 // Journal of Contemporary History. 2005. Vol. 40. № 1. Р. 7—24; Muller R.-D. Das Tor zur Weltmacht. Die Bedeutung der Sowjetunion fur die deutsche Wirtschafts- und Rustungspolitik zwischen den Weltkriegen, Wehrwissenschaftliche Forschungen 32. Boppard am Rhein: Boldt, 1984. О немецком ирредентизме см.: Grundmann K.-H. Deutschtumspolitik. S. 134—158.
[50] О германской миграционной политике и ее официальном обсуждении см.: OltmerJ. Migration und Politik. S. 219—270; Sammartino A. Suffering, Tolerance, and the Nation: Asylum and Citizenship Policy in Weimar Germany // GHI Bulletin. 2003. № 32. Р. 103—115; GosewinkelD. Einburgern und Auss- chlieBen. S. 353—368; Weindling P. Epidemics and Genocide. Р. 150—153. В качестве примера бюрократических дискуссий по этому вопросу см.: Dr. Noebel. Aufzeichnung. 1921. Dec. 21 (PA-AA R 60204); Reichsamt fur deutsche Einwan- derung, Ruckwanderung und Auswanderung to the AA. 1921. Jan. 4 (R 83849, Bl. 50). Следует отметить, что даже такие сторонники разрешения иммиграции, как Министерство иностранных дел, предполагали, что количество русских немцев, которые могут переселиться к польской границе, будет относительно небольшим в текущих условиях Советской России. См.: Dr. Noebel. Aufzeichnung. 1922. February 21 (PA-AA R 60206).
[51] Об опасениях германских и австрийских чиновников по поводу зараженности идеями большевизма солдат и перемещенных лиц см.: Moritz V. «Bazillen des Bolschewismus». Die Krise der Zentralmachte und die Heimkehrproblematik im Jahre 1918 // Gefangenschaft, Revolution, Heimkehr. Die Be- deutung der Kriegsgefangenenproblematik fur die Geschichte des Kommunismus in Mittel- und Osteuropa 1917—1920 / А. Leidinger, V. Moritz (Hgs.). Vienna: Bohlau, 2003. S. 453— 504; а также документы в: Lager, Front oder Heimat. Deutsche Kriegsgefangene in SowjetruBland 1917 bis 1920: 2 vols. / В. Pardon, V.V. Zhuravlev (Hgs.). Munich: K. G. Saur, 1994. Vol. 1. S. 83—86, 96—97, 155—156. См. также: RachamimovA. POWs and the Great War: Captivity on the Eastern Front. Oxford: Berg, 2002; GatrellP. Prisoners of War on the Eastern Front during World War I // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2005. Vol. 6. № 3. Р. 557—566. Моритц и Лейдингер постоянно подчеркивают большевистское влияние на перемещенных лиц. Их позицию подтверждают свидетельства о том, что неспособность привести войну к победоносному миру в 1918 году вызвала среди немецких военных рост недовольства военным руководством. См.: Lipp A. Friedenssehnsucht und Durchhaltebereitschaft. Wahr- nehmungen und Erfahrungen deutscher Soldaten im Ersten Weltkrieg // Archiv fur Sozialgeschichte. 1996. № 36. S. 279— 292; Ziemann B. Entauschte Erwartung und kollektive Er- schopfung. Die deutschen Soldaten an der Westfront 1918 auf dem Weg zur Revolution // Kriegsende 1918. Ereignis, Wir- kung, Nachwirkung / J. Duppler, G. P. GroB (Hgs.). Munich: Oldenbourg, 1999. S. 165—182.
[52] Об официальных дискуссиях военного времени по поводу русских немцев см.: OltmerJ. Migration und Politik. S. 165— 182; Sammartino A. Migration and Crisis in Germany, 1914— 1922. Ph.D. diss., University of Michigan, 2004. Orap. 2.
[53] Иногда представление о русских немцах как независимых мелких фермерах работало против них: чиновники опасались, что если разрешить им въезд в Германию, то они могут не согласиться стать сельскохозяйственными рабочими в больших имениях в Восточной Пруссии. См., к примеру, брошюру, направленную Рабочим объединением Союза немецких колонистов Украины германскому правительству и Министерству внутренних дел в июне 1925 года (PA-AA, R 83849, Bl. 192).
[54] Fischer O. Vom Deutschtum in RuBland // Deutsche Arbeit. 1924. Bd. 2. № 6. S. 151. Фишер направлял свои отчеты об условиях жизни поволжских немцев в «Deutsche Schutz- bund» (R 8039/210) и сотрудничал с «Blatter des deutschen Roten Kreuzes» в рубрике «Hilfe fur unsere Bruder in RuBland!» (приложение к Bd. 1, 1922). При нацистах Фишер работал в Гигиеническом институте в Вене и продолжал оценивать состояние здоровья этнических немцев, которые должны были переселиться в Германию по условиям соглашения об обмене населением в рамках пакта Молотова—Риббентропа. См. его отчет об условиях жизни бессарабских немцев, основанный на обследовании 1939— 1940 годов (Barch Berlin R 59/325, Bl. 1—21).
[55] Fischer O. Vom Deutschtum in RuBland. S. 152; Idem. Vom Deutschtum in RuBland (Fortsetzung) // Deutsche Arbeit. 1924. Bd. 23. № 7. S. 174—175; Пауль Вейндлинг в своем обсуждении подчеркивает конкуренцию между немецкими учеными Антанты за получение контроля над русскими разработками, равно как и попытки большевиков использовать помощь в собственных интересах. См.: We- indling P. Epidemics and Genocide. S. 153—171.
[56] См.: Freund G. Unholy Alliance: Russian German Relations from the Treaty of Brest-Litovsk to the Treaty of Berlin. London: Chatto & Windus, 1957. Р. 90—91; Muller R.-D. Der Tor zur Weltmacht.
[57] Fischer O. Vom Deutschtum in RuBland. S. 152.
[58] Fischer O. Vom Deutschtum in RuBland (Schluss) // Deutsche Arbeit. 1924. Bd. 23. № 9. S. 239, 242.
[59] См.: Thalheim Karl C. Das deutsche Auswanderungsproblem der Nachkriegszeit. Jena: Fischer, 1926.
[60] Corbach O. Deutschtum und Bolschewismus // Deutsche Arbeit. 1922. Bd. 21. № 9. S. 238. Эти взгляды отразились во многих текстах. Похожие эмоции см. в: Fischer O. Vom Deutschtum in RuBland (Fortsetzung). S. 17.
[61] См.: Auslanddeutschtum und Film. Ein Beitrag zur Frage des nationalen Films in Deutschland // Der Tag. 1921. Dec. 8 (копия: BArch Berlin R 8034 II/8404, Bl. 79—80). Похожие взгляды см. в: Unsere Landesleute im Wolgagebiet // Deutsche Tageszeitung. 1931. Nov. 14 (копия: BArch Berlin R 8034 II/8408, Bl. 43).
[62] См.: Die Wolgadeutschen. Zehn Jahre Autonomie // Jungde- utsche. 1928. May 1 (копия: BArch Berlin R 8034 II/8405, Bl. 82). Другие комментаторы считали антибольшевизм русских немцев результатом их расового происхождения, отделявшего немцев от «кочевых» народов России. См.: Corbach O. Deutschtum und Bolschewismus. S. 240.
[63] См.: Die Wolgadeutschen — Vortrupp der Kollektivierung // Rote Fahne. 1931. June 7; Neun-Jahre Wolga-Deutsche Autonomie // Arbeiter Illustrierte Zeitung. 1927. Bd. 6. № 42. S. 4—5.
[64] См. «Der Weg zum Ostgeschaft» — брошюру, опубликованную «Studiengesellschaft fur Preisabbau», n.d. [1922] (копия: PA-AA, R 83849, Bl. 88). Эта переоценка диаспоры соотносится с идеей «национального возрождения», которую Мориц Фёллмер обнаруживает в среде гражданских чиновников и промышленников, рассматривавших экономическое, психическое, физическое и моральное укрепление народа как средство предотвращения падения Германии в хаос «большевизма». См.: Follmer M. Der «kranke Volkskorper»: Industrielle, hohe Beamte und der Diskurs der nationalen Regeneration in der Weimarer Republik // Geschichte und Gesellschaft. 2001. Bd. 27. № 1. S. 41—67.
[65] См.: Heinrich C. Auslandsdeutschtum und deutsche Zukunft.
[66] См.: Fitzpatrick Sh. Stalin's Peasants: Resistance and Survival in the Russian Village After Collectivization. New York: Oxford University Press, 1994. Об условиях жизни меннонитов в Советском Союзе см.: Neufeldt C.P. The Fate of Mennoni- tes in Ukraine and Crimea During Soviet Collectivization and Famine (1930—1933). Ph.D. diss., University of Alberta, Edmonton, 1998; особ. с. 27—29.
[67] Отчеты Аухагена переиздавались при нацистах. См.: Auha- gen O. Die Schicksalswende des Russlanddeutschen Bauern- tums in den Jahren 1927—1930 // Sammlung Georg Leibrandt: Quellen und Materialien zur Erforschung des Deutschtums in Osteuropa. Bd. 6. Leipzig: S. Hirzel, 1942. Аухаген писал президенту Гинденбургу по поводу расселения русских немцев на восточных границах в 1930 году: Zu IV Ru 4347. Abschrift Auhagen to Hindenburg. 1930. June 12 (PAAA R 83851). Касательно Аухагена см.: Burleigh M. Germany Turns Eastwards: A Study of Ostforschung in the Third Reich. New York: Cambridge University Press, 1988. Р. 34; Buchsweiler M. Volks- deutsche in der Ukraine am Vorabend und Beginn des Zweiten Weltkriegs — Ein Fall Doppelter Loyalitat? Gerlingen: Bleicher Verlag, 1984. S. 58—64.
[68] Oltmer J. Migration und Politik. S. 199—212; Mick Chr. Sowj- etische Propaganda. S. 350—379; Dyck H.L. Weimar Germany and Soviet Russia. P. 162—180; Martin T. The Origins of Soviet Ethnic Cleansing // Journal of Modern History. 1998. Vol. 70. № 4. Р. 836—837.
[69] Oltmer J. Migration und Politik. S. 207—208; Zwangsweiser Rucktransport der deutschen RuBlandbauern // Kreuzzeitung. 1929. November 20. Похожие отчеты см. в: Hilfe fur die RuB- landmuden. Beschlusse der Reichsregierung // Vossische Zei- tung. 1929. November 20. Коммунисты прозвали эту должность «рейхскомиссар антисоветских подстрекателей»: Reichskommisar fur Antisowjethetze // Rote Fahne. 1929. November 16.
[70] См.: Den Kulaken wird der Boden zu heiB. 10.000 deutsche Kulaken wollen auswandern — ein neues «Argument» fur Antisowjethetze // Rote Fahne. 1929. November 9. Немецкие коммунисты рассматривали кампанию в защиту «немецких братьев в беде» как попытку обмануть избирателей: антисоветская пропаганда использовалась для того, чтобы замаскировать их истинные цели. См.: Die Not der Deutschen in der USSR ein entlarvter Wahlschwindel! // Rote Fahne. 1929. November 14; Millionen fur die Kulaken — Nichts fur die deutschen werktatigen Massen // Rote Fahne. 1929. December 1; «Bruder im Not»? «Ja, aber bei uns im Hindenburg- Paradies» // Rote Fahne. 1929. December 7.
[71] Подобная риторика была обычной в германских официальных кампаниях против позиции Лиги Наций в вопросе о немецких меньшинствах. См.: Fink C. Defending the Rights of Others: The Great Powers, The Jews, and International Minority Protection, 1878—1938. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. Р. 295—328. Настораживает, что некоторые недавние исследования немецких ученых правых взглядов изображают националистический активизм предшественником современных выступлений в защиту прав человека и моделью Евросоюза. См., к примеру: Luther R. Blau oder Braun? Der Volksbund fur das Deutschtum im Ausland (VDA) im NS-Staat, 1933—1937. Neumunster: Wachholtz, 1999.
[72] См.: Soll der Deutschenmord in RuBland weitergehen? // Deutsche Tageszeitung. 1930. July 10 (копия: BArch Berlin, R 8034 II/2082, Bl. 35 RS).
[73] SchleuningJ. In Kampf und Todesnot. Die Tragodie des Russ- landdeutschtums. Berlin: Bernard & Graefe, [1930]. S. 211.
[74] Ibid. S. 174.
[75] Замечания Гинденбурга опубликованы в: Dyck H.L. Weimar Germany and Soviet Russia. Р. 171.
[76] Eghigian G. Injury, Fate, Resentment, and Sacrifice in German Political Culture, 1914—1939 // Sacrifice and National Belonging in Twentieth Century Germany / G. Eghigian, M.P. Berg (Eds.). College Station, TX: Texas A&M Press, 2002. Р. 108.
[77] Stein W. Bauernflucht aus RuBland. Folgen der Vernichtungs- politik // Vossische Zeitung. 1929. November 3.
[78] Die Massenauswanderung der deutschen RuBlandbauern. Ein tragisches Schicksal // Neue PreuBische Kreuz Zeitung. 1929. November 9.
[79] Im russischen Fluchtlingslager. Auf deutschem Boden // Vos- sische Zeitung. 1929. December 2.
[80] Freies Land im Osten. Fur Ansiedlung der russischen Flucht- linge // Vossische Zeitung. 1929. November 16.
[81] Die ersten RuBlandfluchtlinge in Deutschland. Der Leidens- weg der Kolonisten // Neue PreuBische Zeitung (Kreuzzeitung). 1929. December 4.
[82] См.: Fritzsche P. Germans into Nazis. Cambridge: Harvard University Press, 1998; Domansky E. Transformation of State and Society. Р. 46—66.
[83] О подавлении коммунистов см.: Gellately R. Backing Hitler: Consent and Coercion in National Socialist Germany. New York: Oxford University Press, 2001. Р. 9—50. О гляйхшал- тунге см.: Koonz C. The Nazi Conscience. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003. Р. 69—102; Friedlander S. Nazi Germany and the Jews. Vol. 1. The Years of Persecution. New York: HarperCollins, 1997. Р. 9—72. О прессе см.: Frei N, SchmitzJ. Journalismus im Dritten Reich. Munich: Beck, 1989. S. 35, 48—53.
[84] Koehl R.L. RKFDV: German Resettlement and Population Policy, 1939—1945. A History of the Reich Commission for the Strengthening of Germandom. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1957. Р. 34—35. Хотя нацисты и немецкие активисты за границей разделяли многие идеологические положения, нацистам в Рейхе нужно было проделать значительную работу, чтобы сохранить хорошие отношения с этими группами и удержать их от действий, невыгодных внешней политике Гитлера. См.: Lumans V.O. Himmler's Auxiliaries: The Volksdeutsche Mittelstelle and the German National Minorities of Europe, 1933—1945. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 1993. Р. 73—75, 77—80.
[85] Об отличиях организационного и идеологического гляйх- шалтунга см.: Buchsweiler M. Volksdeutsche in der Ukraine. S. 71—72, 88—91. Гляйхшалтунг облегчался тем, что эти организации уже стали зависимыми от государственных фондов во время Веймарской республики. Нацисты продолжили практику финансирования только тех групп, которые им симпатизировали. Buchsweiler M. Volksdeutsche in der Ukraine. Р. 40—43; Krekeler N. Revisionsanspruch und geheime Ostpolitik der Weimarer Republik. Die Subventio- nierung der deutschen Minderheit in Polen. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1973; Lumans V.O. Himmler's Auxiliaries. Р. 40—43.
[86] Bridenthal R. Germans from Russia. Р. 195—196; BuchsweilerM. Volksdeutsche in der Ukraine. S. 54—57. См. также: Williams Robert C. Culture in Exile: Russian Emigres in Germany, 1881 — 1941. Ithaca: Cornell University Press, 1972. Р. 350— 363. Несмотря на то что Шлейнинг утратил позицию лидера в вопросе русских немцев, он продолжал свою деятельность в этом направлении во время войны и в Германии, и в оккупированной Восточной Европе. Шлейнинг ездил на Украину в 1940-е годы и описывал нацизм как режим, благоприятный для работы церкви даже более, чем в самой Германии. SchleuningJ. Die Stummen reden. 400 Jahre evan- gelischlutherische Kirche in Russland. Erlangen: Martin Luther Verlag, 1952. S. 140—143. Его деятельность во время войны не упоминается в опубликованной версии мемуаров.
[87] См.: Fitzpatrick Sh. Stalin's Peasants. Р. 19—79; Werth N. A State Against Its People. Р. 146—168.
[88] Разумеется, утверждение, что голод не был геноцидом, ни в коей мере не преуменьшает страдания его жертв и преступность советских и украинских властей, создавших условия для его возникновения. Однако только в 1935 году советская национальная политика добралась до этнических чисток, которые прошли в пограничных регионах против немцев, поляков и финнов, особенно из-за опасений советского правительства, что связи этнических диаспор с иностранными правительствами сделают их «неблагонадежными». Ср.: Conquest R. The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror Famine. New York: Oxford University Press, 1986; Martin T. Affirmative Action Empire. Р. 273—308, 328—343; Idem. Origins of Soviet Ethnic Cleansing. Р. 813—861; Weitz E.D. A Century of Genocide: Utopias of Race and Nation. Princeton: Princeton University Press, 2003. Р. 74—82. См. также действенную и убедительную полемику Франсин Хирш со взглядом на Советский Союз как «тюрьму народов», в управлении которой национальные меньшинства активно не участвовали: Hirsch Fr. Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2005. Р. 1 — 18.
[89] Программа по отправке посылок действовала на протяжении всех тридцатых годов. См.: Buchsweiler M. Volksdeutsche in der Ukraine. S. 64—71; Jacobsen H.-A. Nationalsozialistische AuBenpolitik 1933—1938. Frankfurt am Main: Alfred Metzner, 1968. S. 446—460; Ammende E. Muss Russland hungern? Menschen und Volkerschicksale in der Sowjetunion. Vienna: Wilhelm Braumuller, 1935 (их публикация осуществлялась на средства нацистских фондов). См. также: Housden M. Ambiguous Activists: Estonia's Model of Cultural Autonomy as Interpreted by Two of its Founders: Werner Hassenblatt and Ewald Ammende // Journal of Baltic History. 2004. Vol. 35. № 3. Р. 231—253; Buchsweiler M. Volksdeutsche in der Ukraine. S. 64—70. Советская власть проводила политику этнических чисток в пограничных регионах как прямой ответ на эти попытки помощи, подавление коммунистической партии в Германии и Германо-польский пакт о ненападении. См.: Martin T. Affirmative Action Empire. Р. 328—329.
[90] См.: Ihlenfeld K. Hungerpredigt. Deutsche Notbriefe aus der Sowjetunion. Berlin: Eckart, 1933.
[91] Шрёдер был школьным учителем в Тюрингии и в свое время уже критиковал республиканскую реакцию на ситуацию с русскими немцами. Большая часть риторики из его поздних публикаций уже применялась в письмах к официальным чиновникам Веймарской республики. См., к примеру, письмо Шрёдера к советнику Брюнингу от 10 апреля 1930 года, в котором критиковался республиканский ответ на большевистскую политику мучений и убийств немцев: «Volksgenossen im Osten» (PA-AA, R 83849). А также письмо Шрёдера к советнику Брюнингу от 1 февраля 1932 года: «Vernichtung der Russlanddeutsc- hen» (PA-AA, R 83853).
[92] Schroder H. Der systematische Vernichtung der Russland-Deutschen. Langensalza: Julius Beltz, [1934]. S. 9—13.
[93] Ibid. S. 14—20, cit. 19—20.
[94] О германских представлениях о военных жертвах см.: Mosse G.L. Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars. Oxford: University Press, 1990.
[95] Schroder H. Der systematische Vernichtung der Russland- Deutschen. S. 20, 23.
[96] Таковы аргументы Эрнста Нольте: Nolte E. Der europaische Burgerkrieg 1917—1945. Nationalsozialismus und Bolsche- wismus. Frankfurt am Main: Propylaen, 1987. См. также работу его ученика: MerzK.-U. Das Schreckbild. Deutschland und der Bolschewismus 1917 bis 1921. Berlin: Propylaen, 1995; Striefler Ch. Kampf um die Macht. Kommunisten und Nationalsozialisten am Ende der Weimarer Republik. Berlin: Propylaen, 1993. Наиболее актуальную точку зрения см. в: BiebersteinJ.R. von. «Judischer Bolschewismus». Mythos und Realitat. Dresden: Edition Antaios, 2002. Нольте написал предисловие к этой книге.
[97] Янеке описывает судьбу своих родственников, многие из которых умерли во время Гражданской войны и коллективизации, и заключает предупреждением, что большевики — это «нелюди», а большевизм — «чума». Ее история содержит некоторые антисемитские высказывания, например, она утверждает, что все «большевистские комиссары» были евреями: Janecke A. Wolgadeutsches Schicksal. Erlebnisse einer Auslanddeutschen, die sich aus dem Unter- gang ihrer vom Bolschewismus vernichteten Heimat retten konnte. Leipzig: Koehler & Amelang, 1937. S. 86—90, cit. 266, 268.
[98] Манн впоследствии дистанцировался от его работ. См. предисловие Ханса Вислинга в: Mann T. Dichter oder Schrift- steller? Der Briefwechsel zwischen Thomas Mann und Josef Ponten 1919—1930 // Thomas Mann Studien. Bd. 8. Bern: Francke, 1988. S. 7—24.
[99] Ponten J. Volk auf dem Wege. Roman der deutschen Unruhe: 2 vols. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1930—1931; расширенное исправленное издание в 6 томах выходило в том же издателеьстве в 1933—1942 годах.
[100] Ponten J. Auf zur Wolga: Schicksale deutscher Auswanderer. Cologne: Hermann Schaffstein, [1939]. S. 4—6. См. также рецензию: Langer N. Der neue Ponten // Deutsche Arbeit. 1935. Bd. 35. № 1. S. 51—52. Романы повествуют о жизни в Поволжье немецкого колониста XVIII века, эта история перемежается рассказом об одном из его потомков, который хочет вернуться на свою немецкую родину перед Первой мировой войной. Произведения Понтена участвовали в посвященной «немцам в России» выставке, организованной Государственной библиотекой в Берлине в 1933 году. В дополнение к книгам и статьям экспертов, в том числе многих активистов из эмигрантов, на ней были выставлены карты и фотографии поселений русских немцев. Выставка превозносилась как пример «историко- культурных достижений Государственной библиотеки»: Die Deutschen in RuBland // Munchener Neueste Nachrich- ten. 1933. July 19 (копия: PA-AA, R 83854).
[101] Dwinger E.E. Und Gott schweigt? Bericht und Aufruf. Jena: Eugen Diederichs, 1937. S. 104—119, 153—154, cit. 121, 141— 142, 154. Тираж романа составил как минимум 170 000 экз. Такие рассказы об обращениях были обычными в нацистской прессе и часто одинаковым образом использовали встречи с русскими немцами. См., например: Ich war Prolet in Sowjetru Bland. 5 Jahre StoBarbeiter — Genosse Berger sagt: Feierabend! // Der Angriff. 1937. March 13 (копия: BArch R 8034 II/2084, Bl. 157).
[102] Porzgen H. Reise zu den Wolgadeutschen // Deutsche Arbeit. 1936. Bd. 36. № 3. S. 119—120. Подобные же примеры в нацистской прессе см.: Wolgadeutsche als neuestes Opfer der bolschewistischen «Sauberungsaktion» // Volkischer Beo- bachter. 1937. Feb. 16 (копия: BArch Berlin, R 8034 II/ 2084, Bl. 143); Leibbrandt G. Moskaus Kampf gegen die Volker der Sowjetunion // Volkischer Beobachter. 1937. Oct. 10 (копия: BArch Berlin, R 8034 II/ 2085, Bl. 74).
[103] Auhagen O. Wirtschaftslage der Sowjetunion im Sommer 1932 // Osteuropa. 1932. № 7. S. 644—655.
[104] Protokoll zum Vortrag von Herrn Professor Dr. Otto Auhagen «Die heutige Lage der deutschen Bauern in der Sowjetu- nion» [Feb. 1936] // BArch Koblenz, R 57/474/44, Nr. 1911; cit. 1, 8, 9—10. Копия также приложена к письму Аухагена к советнику Хенке от 24 февраля 1936 года (PA-AA, R 83855).
[105] Auhagen O. Die heutige Lage der deutschen Bauern. S. 11. В анализе коллективизации до 1933 года Аухаген подчеркивал, что эта политика была направлена непосредственно против крестьянства, но затронула русских немцев больше, чем остальных, потому что они были более трудолюбивыми, чем другие крестьяне. См.: Auhagen O. Die Schicksalswende.
[106] Нацистская пресса изображала советскую политику как помощь евреям за счет русских немцев. См., например: Da- vidstern und Sowjetsichel. Das Weltjudentum finanziert den deutschen Sowjetstaat Birobidschan // Volkischer Beobach- ter. 1935. Feb. 14 (копия: PA-AA, R 83854).
[107] Речи, произнесенные на съезде, содержатся в: Der Parteitag der Ehre vom 8. bis 14. September 1936. Offizieller Be- richt uber den Verlauf des Reichsparteitages mit samtlichen KongreBreden. Munich: Zentralverlag der NSDAP, Franz Eher Nachf, 1936. См. также: Kershaw I. Hitler 1936—1945: Nemesis. London: Penguin, 2000. Р. 9—23; Fleischhauer I. Das Dritte Reich und die Deutschen in der Sowjetunion. Stuttgart: Deutscher Verlags-Anstalt, 1983. S. 53.
[108] Frasch A. Todesabschnitt volksdeutscher Front. RuBlandde- utschtum — «Das Volk auf dem Wege» // Deutsche Arbeit. 1939. Bd. 39. № 7. S. 308, 309.
[109] Я поддерживаю мысль Клаудии Коонц о том, что «этническое сознание» было центральным в политической культуре нацистского режима. Однако, как показывает мое исследование, аспекты этого сознания выкристаллизовались сразу же в послевоенную эпоху и играли доминирующую роль уже в веймарской политической культуре. См.: Koonz C. The Nazi Conscience. P. 1—16.
[110] См.: Blanke R. Orphans of Versailles: The Germans in Western Poland 1918—1939. Lexington: University Press of Kentucky, 1993; ср.: Rossino A.B. Hitler Strikes Poland: Blitzkrieg, Ideology, and Atrocity. Lawrence, KS: University of Kansas Press, 2003. Р. 66 ff.
[111] См.: Madajczyk Cz. Die Okkupationspolitik Nazideutschlands in Polen, 1939—1945. Cologne: Pahl-Rugenstein, 1988. S. 3— 18; Browning Chr. R. Nazi Policy, Jewish Workers, German Killers. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. Р. 1— 5, cit. 5; Hilberg R. Die Vernichtung der europaischen Juden, durchgesehene und erweiterte Ausgabe. Frankfurt: Fischer, 1999. Vol. 1. S. 197—201; Koehl R.L. RKFDV. P. 89—100. Наиболее известным примером было «Кровавое воскресенье» в Бромберге (Быдогоще) (Bromberger Blutsonntag), когда тысяча вооруженных гражданских этнических немцев, симпатизировавших нацистам, были убиты поляками. Нацистская пропаганда называла цифру в 5 800 убитых, позднее — 58 000. Информанты из этнических немцев впоследствии помогали оперативным группам, обычной полиции и солдатам регулярной армии в массовых расстрелах польских ополченцев и гражданских лиц. См.: Rossino A.B. Hitler Strikes Poland. Р. 58—87.
[112] Среди многочисленных примеров см.: Erschutternde Zeug- nisse des Polenterrors vom September 1939. 5437 Volksdeutsche starben durch polnische Morderhand // Volkischer Beobachter. 1940. Jan. 3 (копия: BArch Berlin 8034 II/7535, Bl. 142); Eine furchtbare Blutschuld. Volksdeutsche Bauern unter polnischen Mordterror // Nationalsozialistische Land- post. 1940. Jan. 12 (копия: BArch Berlin 8034 II/7535, Bl. 146); Opitz H. Funf Jahre Martyrium einer deutschen Frau // Berliner Morgenpost. 1939. Sept. 16; Volksdeutscher Invalide von Polen ermordet // Berliner Morgenpost. 1939. Sept. 22; Polnische Panzerwagen fahren uber wehrlose Deutsche // Volkischer Beobachter. 1939. Sept. 21 (копия: BArch Berlin 8034 II/7535, Bl. 118—119).
[113] Россино также подчеркивает, что убийства немецкими войсками гражданских лиц польской и еврейской национальности были мотивированы сознанием того, что они пришли помочь этническим немцам (Rossino A.B. Hitler Strikes Poland. Р. 196—216).
[114] См.: Deutsches Volkstum im Osten! Zur Umsiedlung der Deutschen aus WeiBruBland und der westlichen Ukraine // Volkischer Beobachter. 1939. Nov. 7 (копия: R 8034 II/8446, Bl. 63). Советский Союз тоже проводил жестокие депортации «кулаков» и других классовых врагов; однако важно подчеркнуть, как это делает Ян Гросс, что от системы, которую советские оккупационные власти насаждали на захваченных территориях, страдали и сами же оккупанты. В этом заключалось существенное отличие от нацистской оккупации (GrossJ.T. Revolution From Abroad: The Soviet Conquest of Poland's Western Ukraine and Western Belorussia. Princeton: Princeton University Press, 1988. Р. 17—113, 225—240).
[115] См.: Umsiedlung // Westfalische Zeitung. 1939. Oct. 10 (копия: R 8034 II/8446, Bl. 48); Koehl R.L. RKFDV. Р. 34—88; Lumans V.O. Himmler's Auxiliaries. Р. 128—136. См. также: Aly G. «Final Solution»: Nazi Population Policy and the Murder of the European Jews / Trans. B. Cooper, A. Brown. London: Arnold, 1999.
[116] См.: Unser Vater Hitler hat gerufen — wir kommen! // Schle- sische Tageszeitung. 1940. Jan. 25; Jenseits des Pruth — Reise nach RuBland // Berliner Borsen Zeitung. 1940. Sept. 15; Neue Heimat im deutschen Osten. BDM hilft den wolhynien- und galiziendeutschen Siedlerfamilien // Deutsche Allgemeine Zei- tung. 1940. Oct. 2 (копия: R 8034 II/8446, Bl. 118, 170, 183).
[117] См.: Die Umsiedlung der Volksdeutschen. Unter der Sabotage der Sowjets // Frankfurter Zeitung. 1941. June 29.
[118] Forster J. Operation Barbarossa as a War of Conflict and Annihilation // Germany and the Second World War. Vol. 4: The Attack on the Soviet Union. Oxford: Clarendon Press, 1998. Р. 481—521. Идеология сыграла ключевую роль в превращении обычных немцев в «расовых воинов»; см.: Koonz C. The Nazi Conscience. Р. 221—252; Bartov O. Hitler's Army: Soldiers, Nazis, and War in the Third Reich. New York: Oxford University Press, 1990. Р. 106—177. См.: Hitler A. Proclamation to the German People. June 22, 1941 // Hitler Reden und Proklamationen 1932—1945 / M. Domarus (Hg.). Vol. 2. Neustadt a.d. Aisch: Schmidt, 1963. S. 1725—1732; Idem. Proclamation to soldiers on the eastern front. October 2, 1941 // Ibid. Р. 1756—1758, cit. 1756. См. также документы: Gitelman Z. Bitter Legacy: Confronting the Holocaust in the USSR. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1997. Р. 255—274.
[119] Контакты с Германией и попытки воздействия на немецкие диаспоры в России повлияли на решение Советского Союза начать депортацию. См.: Nekrich AM. Pariahs, Partners, Predators: German-Soviet Relations, 1922—1941. New York: Columbia University Press, 1997. Любопытно, что поволжские немцы не подвергались «немецкой операции» во время Большого террора 1937—1938 годов, который сосредоточился на населении западных приграничных территорий. См.: Werth N. The Mechanism of a Mass Crime: The Great Terror in the Soviet Union, 1937—1938 // The Specter of Genocide: Mass Murder in Historical Perspective / R. Gel- lately, B. Kiernan (Eds.). Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2003 Р. 237.
[120] См: Terror an der Wolga // Frankfurter Zeitung. 1941. Sept. 11. См. также: Ein Schlag Moskaus gegen die Wolga- deutschen // Frankfurter Zeitung. 1941. Sept. 11. Отто Фишер также рассматривал немецкую армию как единственную силу, способную спасти поволжских немцев от неминуемого уничтожения. См.: Fischer O. Der Untergang der deutschen Volksgruppe an der Wolga // Deutsches Archiv fur Landes- und Volksforschung. 1942. Bd. 6. S. 17—34.
[121] См. в: Fleischhauer I., Pinkus B. Soviet Germans: Past and Present. London, 1986. Р. 83. Георг Лейббрандт, этнический немец из Украины, набросал указания и впоследствии принял участие в конференции в Ваннзее. См.: Schmaltz E.J, Sinner S.D. The Nazi Ethnographic Research of Georg Leib- brandt and Karl Stumpp in Ukraine, and its North American Legacy // Holocaust and Genocide Studies. 2000. Vol. 14. № 1. Р. 42—44. Требование Розенбергом принятия мер в ответ на депортацию поволжских немцев могло сыграть роль в решении Гитлера начать в сентябре депортацию германских евреев в польские гетто. См.: Roseman M. The Wannsee Conference and the Final Solution: A Reconsideration. New York: Picador, 2002. Р. 56—61; Gerlach Ch. Krieg, Ernahrung, Volkermord, Forschungen zur deutschen Vernich- tungspolitik im Zweiten Weltkrieg. Hamburg: Hamburger Edition, 1998. S. 71—75. Розенберг, Лейббрандт и другие русско-немецкие эмигранты выступали в защиту русских немцев против обвинений СС и других нацистских чиновников в том, что они «большевизировались» и утратили свою немецкость. См.: Fleischhauer I. Das Dritte Reich und die Deutschen. Р. 47—50.
[122] Несмотря на привилегированное место в нацистской идеологии, не все русские немцы получили преимущества от нацистского управления. Хотя большинство из них первоначально выиграли от нацистской политики, многих посчитали недостаточно ценными в расовом отношении, и в итоге они утратили свой привилегированный статус Volksdeutsche. По этому вопросу см.: Bergen D. The Nazi Concept of «Volksdeutsche» and the Exacerbation of Anti Semitism in Eastern Europe // Journal of Contemporary History. 1994. Vol. 29. № 4. Р. 569—582; Idem. The «Volk- deutschen» of Eastern Europe, World War II, and the Holocaust: Constructed Ethnicity, Real Genocide // Yearbook of European Studies. 1999. № 13. Р. 70—93; Lower W. Nazi Empire-Building and the Holocaust in the Ukraine. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 2005. Р. 40—43.
Опубликовано в журнале:
«НЛО» 2014, №3(127)
«Русская Атлантида»: воспоминания русских репатриантов из Китая и проблема конструирования диаспорической идентичности
Сергей Смирнов
Атлантида, необыкновенный остров, исчезнувший в морской пучине, символ утраты, стала в 1990-е годы одним из наиболее распространенных образов русской послереволюционной эмиграции, и прежде всего русской эмиграции в Китае.
Можно вполне определенно утверждать, что образ Атлантиды (или ее русского аналога — града Китежа) дважды актуализировался в сознании эмигрантов «восточной ветви». Сначала — на стадии становления эмигрантского сообщества, когда Атлантида символизировала потерянную Родину, навсегда ушедшую старую Россию, маленьким осколком которой и являлась эмиграция[1]. Затем — на стадии меморизации эмиграции после исчезновения советского режима в России и «реабилитации» русского зарубежья, когда Атлантида стала символом самой эмиграции[2].
Процесс меморизации эмиграции, активно развернувшийся в России в 1990-е годы и выразившийся в массовом появлении воспоминаний бывших эмигрантов о своей жизни за рубежом и после возвращения на Родину, на наш взгляд, актуализировал проблему идентификационной диаспоризации в среде русских репатриантов из Китая. Осознание себя уникальным сообществом выразилось, с одной стороны, в форме самоорганизации бывших репатриантов из Китая — появлении российской ассоциации «Харбин» с ее региональными подразделениями и собственными печатными изданиями[3], с другой стороны, в реанимации и культивировании собственной идентичности, которую можно было бы охарактеризовать как диаспорическую. Но прежде чем мы обратимся к проблеме конструирования диаспорической идентичности в среде репатриантов и характеристике ее черт, необходимо возвратиться к периоду эмиграции и репатриации.
Обычно считается, что русская послереволюционная эмиграция ни в одной из стран своего расселения не превратилась в диаспору, на что указывает хотя бы то, что в третьем поколении русские эмигранты в своей основной массе ассимилировались с местным населением. В то же время тенденции к превращению русской эмиграции в диаспору существовали, что особенно ярко проявилось в Китае, где для этого сложились наиболее благоприятные условия. Формированию диаспоральности способствовали, во-первых, вынужденный характер эмиграции, социально-культурная чуждость принявшей эмигрантов страны и осознание эмигрантами своей принадлежности к более цивилизованному обществу. Во-вторых, наличие в Китае (прежде всего в Северной Маньчжурии и ее центре — Харбине), благодаря развернувшейся с конца XIX века имперской политике «освоения» Китая, русской социально-культурной инфраструктуры — учебных заведений (включая высшие), религиозных и культурных учреждений, многочисленных общественных организаций, а также русской сферы занятости. В-третьих, усиление давления на русское эмигрантское сообщество со стороны китайских властей с целью либо вытеснить его из страны, либо интегрировать.
Достаточно обособленное существование русского (точнее — российского) эмигрантского сообщества способствовало формированию особой идентичности ее членов. Для эмигрантского сознания в целом было характерно противопоставление себя коренным жителям (в то же время среди эмигрантов, проживавших в городах Северного Китая и Шанхае, где существовали достаточно большие европейские колонии, противопоставление себя европейцам проявлялось очень слабо), а также советским гражданам, ощущение эмиграции хранительницей настоящей русской культуры.
Ярким примером синхронного среза эмигрантского сознания могут служить дневниковые записи эмигрантов, демонстрирующие противопоставление своего и китайского, своего и советского. И.И. Серебренников, крупный общественный деятель, ученый, проведший большую часть жизни в Китае в городе Тяньцзин, отмечал в своем дневнике в 1932—1933 годах следующее. 5 января 1932 года: «...Я прожил в Китае уже одиннадцать лет и скажу: нет на свете чиновника более мерзостного, пакостного, лихоимного, чем в этой стране. Разве только наша сановная коммунистическая дрянь может выдержать сравнение в этом отношении»[4]. 29 апреля 1933 года: «День был сегодня необычно жаркий и душный. В такие дни, в апреле месяце, всегда чувствуешь себя крайне скверно. Господи! Хоть бы на месяц побывать в Сибири и подышать родным воздухом!! Китай осточертел до полной невозможности переносить его более»[5]. 29 августа: «Надо как-то располагаться на 14-ю осень в Китае. Надежд на возвращение в родные края нет никаких. Китай, китайцы и китайщина надоели и опостылели до последней возможности…»[6] 29 декабря: «Чем ближе к нашим Рождественским праздникам, к Новому году, тем грустнее как-то становится на душе. Время идет, стареешь, одолевают разные болезни, а возврата домой, на родину, не видишь и не предчувствуешь. Спрашивается, почему эти интернационалисты, всякий международный сброд живут в России, а ты, русский, должен заканчивать свои дни в каком- то чужом Китае; жить среди народа, с которым за тринадцать лет жизни здесь не имеешь, не можешь найти ничего общего. Что за нелепица?!!!»[7]
Несмотря на сильную тенденцию к диаспоризации российской эмиграции в Китае, существовали и другие факторы, а именно всепоглощающая, особенно для старшего поколения эмиграции, идея возвращения на Родину и большое этнорелигиозное разнообразие эмигрантского сообщества, которые препятствовали оформлению русской диаспоры в Китае.
Вторая мировая, а точнее, Великая Отечественная война привела к расколу эмиграции на два лагеря — «непримиримых» и «патриотов». И те и другие стремились возвратиться на Родину. Но если «непримиримые» рассматривали такую возможность только в связи с падением большевистского режима в России, то «патриоты» считали, что большевистский режим переродился в горниле Отечественной войны и необходимость помощи Родине отодвигает на задний план все старые счеты. Рост патриотизма в эмигрантской среде во многом предопределил массовую репатриацию русских эмигрантов из Китая после окончания войны.
Процесс репатриации русских эмигрантов из различных частей Китая шел неодинаково. Если из Шанхая и городов Северного Китая основная масса эмигрантов, принявших советское гражданство, репатриировалась в Советский Союз уже в 1947—1948 годах, то репатриация из Маньчжурии и Синь-цзяна началась только в середине 1950-х годов.
Выезжавшие из городов Северного Китая и Шанхая репатрианты уже были в некоторой степени «советизированы», но то советское влияние, которое они испытали в Китае, было незначительным и непродолжительным, поэтому говорить о создании устойчивой советской самоидентификации в сознании репатриантов не приходится. По-другому обстояло дело в Маньчжурии.
За послевоенное десятилетие советская администрация в Маньчжурии приложила немало усилий для того, чтобы «перековать» эмиграцию и сделать ее достойной своей социалистической родины. «Открытая контрреволюция» была ликвидирована в ходе масштабных «зачисток» в эмигрантской среде, предпринятых СМЕРШем на территории оккупированного войсками Красной армии Северо-Восточного Китая в 1945—1946 годах. Преобладающая часть оставшихся русских приняли советское гражданство. Бывшие эмигранты были включены в состав советских общественных организаций, работали в советских учреждениях. Их дети обучались в советских школах, участвовали в работе пионерской (Юнак — Юный активист) и комсомольской (ССМ — Союз советской молодежи) организаций. Тем самым формировалась новая, советская идентичность эмигрантов, особенно русской молодежи. Как пишет в своих воспоминаниях Е.Л. Комендант, «жизнь своей Родины мы узнавали, главным образом, из газет, журналов, книг и, конечно, кино — неотъемлемой части нашей жизни... Мы были так патриотично настроены, воспитаны, все впитывали в себя, как губка. Когда умер И. Сталин, многие плакали. Во дворе клуба был выставлен на сцене большой его портрет и все ССМовцы поочередно дежурили у этого портрета три дня»[8]. Очень похожая ситуация описывается в воспоминаниях О.В. Загоскиной: «В 1953 г. умер Сталин. Мы, молодежь, воспитанная советскими школами и Союзом Советской Молодежи (ССМ), точной копией комсомола, горько плакали, не понимая, не желая понимать, от какого деспота и тирана избавилась земля, избавились мы все»[9].
Большая часть эмигрантской молодежи, и не только молодежи, хотела как можно скорее возвратиться на Родину, жить среди подобных себе, учиться, работать, быть полезными своей стране. Е.Л. Комендант: «И вот в начале 1954 г. это, наконец, свершилось, нас повезли на освоение целины в телячьих вагонах. Местное население в СССР не верило, что мы добровольно переехали, и считали, что мы ссыльные. А мы рвались на Родину, молодежь встретила известие об отъезде на "ура". В срочном порядке все влюбленные пары переженились и буквально через неделю-две уезжали»[10]. О.В. Загоскина: «А весной 1954 г., ровно через год после смерти Сталина, стало известно, что нас, русских, проживающих в Китае, приглашают в Советский Союз на "освоение целинных и залежных земель". Боже, что тут поднялось! Все ходили сами не свои. Я сразу сказала своим: "Я поеду, а вы как хотите". Это было безрассудство. Это был эгоизм с моей стороны…»[11]
Большей трагичности оказался исполнен выбор тех, кто только под давлением обстоятельств принял решение репатриироваться, а не уехать, как говорили в то время в русском Харбине, «за речку». По воспоминаниям Н.Г. Шарохина, в последний момент дальнейшую судьбу его семьи определило желание его матери «пожить и непременно умереть на родной земле»: «Старшее поколение болело ностальгией, и в болезненном воображении грезилась далекая юность, прекрасная страна, в которой они родились и жили, люди, которые их когда-то окружали. Моя милая, бедная мамочка! И она находилась во власти тех же иллюзий, в которых находились люди ее поколения, одержимые маниакальной идеей возвращения и служения России, разоренной страшной войной 1941—1945 годов и ждущей духовной и материальной помощи. Каким страшным ударом была для всей этой массы людей, исстрадавшихся и ждавших воссоединения с Родиной, та действительность, которую они встретили!»[12]
Возвращение на Родину, которое должно было стать концом затянувшейся эмиграции, тем не менее для многих репатриантов не стало таковым. Наоборот, это событие породило в сознании репатриантов конфликт между старой и новой идентичностью и способствовало диаспоризации (прежде всего на уровне идентификации) репатриантов.
Источники, синхронные периоду репатриации, показывают, насколько плохо были осведомлены репатрианты о настоящем положении дел в Советском Союзе, как высок был уровень идеализации советской действительности и каким сильным стало разочарование и отторжение всего советского сознанием репатриантов[13].
В качестве иллюстрации привожу выдержки из Спецсообщения Управления МГБ по Свердловской области «Об отрицательных высказываниях среди реэмигрантов, прибывших из Китая и размещенных в Свердловской области» от марта 1948 года, основанного на материалах из перлюстрированных писем репатриантов.
«.Два или три м-ца тому назад, когда находился в Шанхае, я строил совершенно другие планы на будущее, а между тем сейчас все переменилось. Мне приходится здесь много и тяжело работать, чтобы заработать себе на жизнь… я не могу ничего купить того, в чем нуждаюсь, например, пару туфель или костюм. Такие предметы называются здесь роскошью. Я все время болею, может быть я еще не оклиматизировался [так в тексте. — С.С.], но вообще самая большая ошибка, которую я когда-либо сделал, что приехал сюда. Я никогда не прощу себе этого.»
«...Настроение у меня от самой Находки ниже нуля, а последнее время стал особенно огрызаться, доказывать "недемократичность" нынешней местной демократии. Как тяжело разочароваться в том, во что верил. Еще в Находке обратил внимание на истощенные, испитые лица, жалкий рынок, а дорогой — на замечания встречных "кто работает, тот не ест", "куда вы едете?" и др. …Зарабатываю мало, заработок более сдельно [так в тексте. — С.С.]. Здесь пафос речей по радио и заработка, но отнюдь не пафос строительства. У меня появляется решение вернуться на Восток».
«Попали на разъезд Перескачку. Комната большая светлая. Положение наше плохое, материально вообще никуда негодное. Толя служит шофером, а Вова лесорубом, они изматываются и устают, как собаки, а жрать нечего. Я уже продала много вещей, меняли вещи на картошку, выменяли на вещи две козы. Первое время Толя на себе рвал волосы, иногда просто рыдал, он никогда не думал, что нас так обманут...»
«…Вообще, если проанализировать, что может ожидать рядового шанхайца в Союзе, то с уверенностью скажу, на первых порах, это будет 90 из 100 случаев, почти полное разочарование. Разочарование в людях (малокультурных здесь хватает) и все связанное с этим. В Шанхае мы как-то слишком идеализировали "советского человека", а себя унижали. Здесь нужно выработать или, вернее, привыкнуть, к совершенно другим критериям выносливости, твердости и т.д.»[14].
В современных воспоминаниях репатриантов из Китая возвращение на Родину приобрело особый символический смысл (и с позитивной, и с негативной коннотацией), разделив жизнь репатриантов на «до» и «после». Возвращение привело к осознанию своей инаковости, принадлежности к другому миру. Практически во всех воспоминаниях репатриантов, выехавших на освоение целины в середине 1950-х годов, встречаются одни и те же моменты.
Во-первых, описание поездов и удобств путешествия, столкновения с советскими таможенниками, изымавшими у репатриантов «запрещенные» книги и грампластинки. Л.Е. Комендант: «На пограничной станции Отпор из хороших вагонов нас переселили в "телятники", скотские вагоны, в которых были нары. Вскоре мы познакомились с еще одной особенностью родной земли. Здесь нигде и никогда не предусматриваются туалеты. С нетерпением ждали очередной станции. Но не всегда в спешке получалось, т.к. боялись упустить поезд. Дошло до того, что при остановках на полустанках прыгали прямо в траву. А что было делать? У некоторых было потом воспаление кишок от сверхтерпимости»[15]. Л.В. Пешкова: «Дорога запомнилась плохо, какие-то отрывочные эпизоды. Остановка на станции Отпор, выгруженные из вагонов вещи под проливным дождем. Переселились в теплушки, спим на нарах, естественные потребности справляем в ведро за занавеской...»[16] Р.А. Андреев: «До границы ехали в пассажирских вагонах, а в г. Маньчжурия нас перевели в теплушки для скота. Прибыли на станцию Отпор и впервые столкнулись с пограничниками и таможенниками. Интересовали их только книги и патефонные пластинки. А редкая семья не везла их с собой. И вот на полу стали расти стопки пластинок и книг, в которых якобы усматривались антисоветские мотивы. Все это подлежало конфискации»[17]. Н.Г. Шарохин: «...ехать пришлось в теплушках, куда нас пересадили из вагонов. В теплушках перевозили скот и заключенных, и все стены были исписаны именами, фамилиями и надписями непристойного содержания»[18].
Во-вторых, описание мест и людей, встречавшихся в пути.
Л.Е. Комендант: «В Китае железнодорожные пути находились в идеальном порядке, кругом чистота, желтый песочек, и нас поразило, что весь путь черный, в масле, а главное — обслуживают пути женщины в немыслимых робах. И первая встреча с ненормативной лексикой. Пьяного в стельку матроса тащили двое, а он изрыгал во всеуслышание фонтан нецензурщины, которой мы ранее никогда не слышали. Очень удивили меня деревеньки, особенно избы. Почерневшие. Скособоченные, часто с соломенными крышами и таким количеством окон, как горох на грядке»[19]. Н.Г. Шарохин: «Меня удивила огромная толпа пьяных людей на каждом перроне. Среди них было множество калек — безруких, безногих, обезображенных, со страшно искаженными лицами. Все они просили милостыню. Это были герои, сражавшиеся и выигравшие одну из самых страшных кровавых войн. Удивляло и то, что все лица были однообразные, стандартные, лишенные напрочь одухотворенности. Где же ты, Русь, могучая, о которой грезили наши отцы в Харбине и в Маньчжурии?»[20]
В-третьих, отношение советских людей к репатриантам. В массе своей граждане СССР воспринимали репатриантов из Китая как ссыльных или завербованных. Никто не верил, что они добровольно приехали в Советский Союз и по собственной воле едут на освоение целины («Понятно, вербованные!»)[21]. Порой встречалась подозрительность и даже неприкрытая враждебность, как к шпионам, которых нужно уничтожить[22].
Для некоторых репатриантов возвращение на Родину (особенно вынужденное) стало настоящим шоком, не изгладившимся и по прошествии нескольких десятилетий. В своих воспоминаниях, озаглавленных «Чужой среди своих», Шарохин рассказывает о стремлении его матери возвратиться в Тюмень, город ее детства и молодости, куда семья в конце концов и перебралась. Каково же было состояние матери Шарохина, когда она оказалась в совершенно чужом для нее городе: «Мы шли с мамой по улицам ее родного города. Она испуганно оглядывалась и дрожала. Она почти ничего не узнавала. Город стал чужим. ВСЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!.. После долгих многодневных поисков выяснилось, что мама не смогла найти и узнать судьбу своих не только родственников, но даже соучениц по гимназии, друзей и просто каких-либо знакомых. Как будто вымерло все, что когда-то ее окружало. Тот мир исчез!.. мама испытала ужас и боль, ею овладело отчаяние. Вместо радости и счастья от встречи с Родиной она получила страшный психологический удар, поняла, что попала в западню. Вместо той Родины, которую она помнила и к которой стремилась много лет, она увидела чужую, мрачную и непонятную страну, из которой уже не было выхода»[23]. Ни она, ни ее сын так и не сумели приспособиться к «своей Родине»: «Я постоянно ощущал полную отчужденность от окружающего общества. Очень долгое время у меня не было близких друзей и знакомых, что приносило мне неимоверные моральные страдания. Постепенно я стал понимать, что никогда не впишусь в этот мир, и всегда он будет мне чужд»[24].
Столкновение с советской действительностью актуализировало старую самоидентификацию репатриантов. Сформировалось весьма четкое противопоставление «мы» и «они» (в воспоминаниях это иногда проявляется в оппозиции «русские»—«советские»), выражающееся в наборе черт, приписываемых чуждому сообществу и отсутствующих у представителей своего.
Некоторые исследователи, характеризуя жизнь репатриантов после их возвращения на Родину как положение «чужих среди своих», прибегают к термину «внутренняя эмиграция», подчеркивая сохранение в среде репатриантов идеи культурной миссии русской эмиграции, продолжателями которой в условиях жизни в советском обществе становятся репатрианты[25]. Изучив значительное количество воспоминаний репатриантов постсоветского периода (авторами которых в основном были представители второго поколения эмиграции, рожденные вне России) и сравнивая их с более ранними, написанными в советский период и не предназначенными для опубликования мемуарами[26], мы можем отметить, что идея особой миссии репатриантов (и то в крайне скромном выражении) появилась только в постсоветский период, став одной из составных частей конструкта «символической диаспоры».
В качестве наиболее часто используемых характеристик оппозиции «свое—чужое» в современных воспоминаниях репатриантов, что в целом совпадает с характеристиками, встречающимися в воспоминаниях репатриантов советского периода, выделяются следующие черты.
Пьянство. «В совхозе ["Севостьяновский" (Курганская область)] народ считал, что семья ненормальная, так как муж не пил»[27]. «К нам в дом зашла хозяйка и от имени хозяина пригласила в гости. Кто-то из гостей предложил выпить за хозяина. Нам налили по полному стакану [водки] и, когда мы отпили не более четверти, то это вызвало бурную реакцию всего коллектива. В наш адрес посыпались упреки и домогательства выпить по полной, отчего нам захотелось уйти»[28]. Стоит добавить описание советских магазинов, где среди невероятной скудости особо выделялась водка, которую быстро сметали[29].
Сквернословие (отсутствие нормального русского языка), низкий уровень культуры вообще. «Впервые за всю свою жизнь я услышал грубую нецензурную брань и не только от мужиков, нас покоробило от такого общения. Похоже, мы попали в какой-то притон живых существ человекообразной внешности, говорящих на своем каком-то непонятном жаргоне»[30]. «…Я стала работать проектировщиком [в Кургане]. Сначала в проектном бюро. Коллектив был молодой, приятный, с юмором, веселый, но русский язык был просто ужасен!.. Садимся в автобус, все толкаются, муж уступает дорогу и подсаживает женщин. Автобус тронулся, муж остался. А в автобусе женщины обсуждают, что он хотел у них что-то украсть, и вовсю его ругают»[31]. «Село Ояш, старинное, вытянулось ниточкой вдоль Сибирского тракта. В центре на пригорке — церковь со сбитыми куполами, превращенная в клуб, где крутили фильмы, и молодежь собиралась на посиделки. Там царили такие нравы, что, побывав однажды, вторично зайти не хотелось»[32]. «Поразили меня и местные девушки. Они были крайне невоздержанны и очень неопрятны как физически, так и морально. Они были бесцеремонны в своем поведении и речах, не говоря уже об их манерах»[33].
Отсутствие религиозности. «Ни в одном совхозном доме икон не было...»[34]Часто описываются закрытые, полуразрушенные, приспособленные под хозяйственные нужды церкви.
Попустительское отношение к труду. «Настало время получать первую зарплату. Размер ее нас удивил. Что-то уж больно много денег нам начислили. Прикинули объем сделанного и обнаружили, что он увеличен ровно в два раза. Идем к учетчице, чтобы сообщить ей об этой ошибке. Девушка смотрела на нас как на идиотов. Так мы столкнулись с одной из самых мерзких сторон социалистической экономики — приписками. Они были во всем: в нарядах рабочих, в статистических отчетах, в знаменитых предпраздничных рапортах, словом, всюду»[35].
Грязь, неустроенность. Очень часто встречаются описания грязных улиц, недостроенных или развалившихся домов, огромного количества насекомых и крыс, что сочетается с крайней неопрятностью хозяев жилья.
Вероятно, на протяжении всей жизни в Советском Союзе репатрианты из Китая сохраняли двойственную идентичность: внешнюю — советскую и внутреннюю — эмигрантскую, диаспорическую. Сохранению диаспорической идентичности в сознании репатриантов способствовало также создание своеобразного «общества репатриантов». Это стало возможным благодаря компактному размещению некоторых групп репатриантов на территории Советского Союза (Сибирь, Урал), поддержанию разнообразных контактов между репатриантами («дружба семьями», письма, поездки), взаимной помощи и поддержке[36].
В отдельных случаях стоит допустить, что советская идентичность, встретив мощное сопротивление со стороны шокированного советской действительностью эмигрантского сознания, так и не сформировалась. Примером этому может служить случай Н.Г. Шарохина.
Многочисленные воспоминания бывших репатриантов из Китая, с которыми нам удалось познакомиться, демонстрируют в целом позитивное отношение к возвращению на Родину. В большинстве своем репатрианты сумели адаптироваться к советской среде, добиться успеха на профессиональном поприще и обеспечили хорошую социальную карьеру своим детям. На этом фоне воспоминания Шарохина выглядят преисполненными горечи неудавшейся жизни в стране, которая навсегда осталась для него чуждой, и автор, заканчивая свое жизнеописание, задается вопросом — а есть ли у меня Родина? «Все чаще и чаще грезится Харбин. Я часто мучительно думаю: "А есть ли у меня Родина?" Что такое Родина? Это "дом, где родился и рос"? Там, где прошли годы моей юности? Но той Родины нет в природе уже очень давно. Здесь, где подходит к концу мой жизненный путь? Где я остался полуголодным, больным, слепым, одиноким и никому не нужным? Мамочка твердила мне, что моя Родина — Тюмень, но Тюмень не стала для меня Родиной. Когда я увидел действительность, которая меня окружала, я с болью и горечью понял, что я всем чужой и практически человек, не имеющий Родины...»[37]
«Реабилитация» эмиграции в начале 1990-х годов, осознание своей принадлежности к уникальному сообществу, стремление оставить своеобразную метку, свидетельство продолжающегося бытия перед лицом приближающегося естественного конца жизни (даже самые молодые из репатриантов в 1990-е годы приближались к 60-летнему возрасту) — все это обеспечило «возрождение» (или конструирование) диаспорической идентичности в среде угасающего сообщества Русской Атлантиды. В отличие от своих отцов дети (и уж тем более внуки) репатриантов, не имевшие уникального социально-культурного опыта жизни в эмиграции, стали органичной частью принявшего их родителей советского общества. С уходом последних представителей эмигрантского сообщества, некогда существовавшего в Китае, Атлантида русской послереволюционной эмиграции с ее особой диаспорической идентичностью навсегда исчезнет.
[1] Этот образ впервые появился на страницах эмигрантских газет и журналов в начале 1920-х годов. Так, в одной из статей «Русского вестника» (апрель 1921 года) есть слова: «Здесь, вдали от Родины, мы стали детьми потерянной Атлантиды».
[2] Например, программная статья Н.С. Кузнецова «Маньчжурия — российская Атлантида» в первом номере газеты «Русские в Китае», издающейся в Екатеринбурге.
[3] Наиболее содержательными и долговечными периодическими изданиями русских репатриантов из Китая являются газеты «На сопках Маньчжурии» (Новосибирск) и «Русские в Китае» (Екатеринбург), а также журнал «Русская Атлантида» (Челябинск).
[4] Китай и русская эмиграция в дневниках И.И. и А.Н. Серебренниковых: В 5 т. Том 1: «Пока же мы счастливы тем, что ничто не угрожает нам.» (1919—1934). М.: РОССПЭН, 2006. С. 156.
[5] Там же. С. 308.
[6] Там же. С. 328.
[7] Там же. С. 360.
[8] Комендант Е.Л. В тени белой акации // Русская Атлантида (далее — РА). Челябинск, 2010. № 37. С. 43.
[9] Загоскина О.В. Путь в эмиграцию и обратно (Наша родословная) // РА. 2005. № 16. С. 55.
[10] Комендант ЕЛ. Указ. соч. С.43, 44.
[11] Загоскина О.В. Указ. соч. С. 55.
[12] Шарохин Н.Г. Мой Харбин // РА. 2007. № 26. С. 39.
[13] Мы не стремимся абсолютизировать сделанные нами выводы. Существуют источники, позитивно описывающие процесс репатриации и «вживления» репатрианта в советскую действительность. Не упоминаем и об издававшейся большими тиражами в 1950—1960-е годы художественной литературе, вышедшей из репатриантской среды. Эта литература, при всей ее художественной значимости, играла роль одобренной властью парадной вывески стремящегося стать частью великого советского народа сообщества репатриантов.
[14] Архив Управления ФСБ РФ по Свердловской области. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 344. Л. 142—147.
[15] Комендант Е.Л. Указ. соч. С. 45.
[16] Пешкова Л.В. Целинная история // РА. 2005. № 15. С. 73.
[17] Андреев Р.Н. Иллюзии и действительность // РА. 2004. № 12. С. 65.
[18] Шарохин Н.Г. Чужой среди своих // РА. 2007. № 27. С. 38.
[19] Комендант Е.Л. Указ. соч. С. 45.
[20] Шарохин Н.Г. Указ. соч. С. 38, 39.
[21] Пешкова Л.В. Указ. соч. С. 73.
[22] Каменев В.В. На обочине // РА. 2005. № 14. С. 64.
[23] Шарохин Н.Г. Указ. соч. С. 41, 43.
[24] Там же. С. 43.
[25] Manchester L. Repatriation to a Totalitarian Homeland: The Ambiguous Alterity of Russian Repatriates from China to the USSR // Diaspora: AJournal of Transnational Studies. 2013 (2007). № 16 (3). P. 353—386.
[26] Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 1337. Оп. 5. Собрание воспоминаний и дневников Морозова В.А. «Записки об эмиграции».
[27] Косарева А.Е. Мои воспоминания о Китае // РА. 2011. №41. С. 71.
[28] Каменев В.В. Указ. соч. С. 64.
[29] Пешкова Л.В. Указ. соч. С. 74.
[30] Каменев В.В. Указ. соч. С. 64.
[31] Косарева А.Е. Указ. соч. С. 71, 72.
[32] Пешкова Л.В. Указ. соч. С. 74.
[33] Шарохин Н.Г. Указ. соч. С. 40.
[34] Там же.
[35] Андреев Р.Н. Указ. соч. С. 67.
[36] Сам автор, сотрудничавший несколько лет со Свердловским отделением ассоциации «Харбин», неоднократно встречался со свидетельствами существования многолетних тесных связей между бывшими репатриантами, в том числе проживавшими в разных регионах России.
[37] Шарохин Н.Г. Чужой среди своих // РА. 2008. № 28. С. 68.
Опубликовано в журнале:
«НЛО» 2014, №3(127)
Сообщества мигрантов в Москве: механизмы возникновения, функционирования и поддержания
Евгений Варшавер, Анна Рочева
1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования этничности и миграции требуют известной языковой четкости и выверенности. Связано это с тем, что любое публичное — научное, публицистическое, журналистское или политическое — высказывание об этом особенно перформативно, поскольку оно воспроизводит или меняет и без того «минное поле» межэтнических отношений. Первый шаг в создании аналитического языка миграции и этничности с последующим его экспортом в другие дискурсивные поля должен состоять в критическом пересмотре всех ключевых понятий этой предметной области. Такой важной работой с начала 1990-х годов занимается американский социолог Роджерс Брубейкер. Последовательно анализируя и заново интерпретируя такие понятия, как, например, этничность и идентичность, он говорит о том, что основная и типичная ошибка языка здравого смысла состоит в реификации — «овеществлении» — этих понятий, при том что за ними не стоит реальной «вещности», так как они описывают часто противоречивые и с трудом определяемые феномены. В 2005 году Брубейкер подвергает подобной аналитической деконструкции понятие диаспоры, придя к выводу, что приписывать диаспоре существование и включать ее в перечень аналитических категорий, с помощью которых ученый описывает устройство мира, было бы ошибочно. Однако, пишет он, понятие диаспоры оказывается важной категорией практики (category of practice), непосредственно воздействующей на социальную динамику и изменяющей поведение людей[1]. В принадлежности к диаспоре убеждают мигрантов, восстанием диаспоры пугают политиков, наличием поддержки в диаспоре манкируют в «стране происхождения», диаспорой объясняют бессилие в противостояниях на улицах. Однако диаспору, несмотря на ее «невещность», можно и нужно исследовать как категорию практики. Исследовательские задачи такого рода могут состоять в определении механизмов и способов консолидации вокруг символов, связанных со «страной происхождения», в выявлении роли «диаспоры» как дискурсивного факта, влияющего на характеристики и направления интеграции мигрантов, в изучении того, как транснациональные отношения легитимируются дискурсом о диаспоре.
Овеществление диаспоры в исследовательских целях можно считать аналитическим тупиком, однако это не значит, что нужно отказываться от поиска «вещей» и ограничиваться исследованием власти, осуществляемой через дискурс о диаспоре. Социальные науки предлагают понятие, которое после некоторых усилий по теоретической огранке оказывается операциональным, позволяя открывать ключевые для социальной жизни явления, ранее скрытые от глаз исследователей. Речь идет о понятии сообщества.
В социальных науках за последние сто лет сложилось множество пониманий сообщества, и разными учеными периодически осуществляются усилия по «разгребанию» этих теоретических «завалов». М. Бертотти, Ф. Джамал и А. Харден предприняли обзор значений этого понятия, выделив в результате этого анализа около десяти основных метанарративов — способов концептуализации сообществ[2]. Динамика этой концептуализации в различных дисциплинах характеризуется уходом от понимания сообщества как локации (например, в раннем антропологическом метанарративе сообщество рассматривалось как туземная деревня и, по сути, представлялось «контейнером смыслов», которые нужно было изучить) и переходом к нетерриториальной концептуализации, в рамках которой сообщество понимается как совокупность людей, связанных определенными отношениями, при том что сами люди не обязательно находятся рядом друг с другом.
Другая попытка «разметки поля», важная для нашего исследования, была осуществлена Марком Смитом в статье «Что такое сообщество»[3]. Он выделяет три типа смыслов, которыми обычно наделяют этот термин, и отмечает, что в рамках конкретных употреблений и в связи с конкретными объектами эти смыслы могут пересекаться и наслаиваться друг на друга. Что это за типы? Во-первых, это сообщество-место. Это может быть деревня или квартал в городе, для которых важным оказывается привязка к определенному пространству. Во-вторых, это сообщество-интерес — временный союз в рамках индивидуальных целей, который, однако, требует более высокого уровня «коммунальности». В-третьих, это сообщество-союз (communion) — содружество, построенное на трансцендентной идее или символе. Типичный пример такого сообщества — религиозная община. При этом городской квартал с церковью или мечетью будет одновременно и «местом», и «союзом», а организация, начинаясь как «интерес», может пытаться добиться увеличения прибыли посредством частичного превращения в «союз».
Нам представляется, что указанные исследователи упустили важное и аналитически полезное различие сообщества как сетевой структуры и сообщества как типа отношений. Это различие ортогонально прочим градациям и оказывается значимо в связи с апелляцией к двум взаимодополняющим пластам социальной структуры — сетям и нормам.
Подход к исследованию сообществ как типа отношений предполагает изучение норм, которыми характеризуются отношения между людьми. В рамках этого подхода предполагается, что отношения между людьми могут быть измерены в плоскости терпимости, доверия, взаимопомощи и т.п. и терпимые, доверительные отношения будут отношением-сообществом, в то время как нетерпимость и недоверие будут характеризовать анонимное отношение- общество. Сетевая же логика определения сообществ предполагает исследование структуры сети социальных отношений и выделение фрагментов сети, которые обладают большей связностью. Фрагменты сети с высокой плотностью связей «внутри» и относительно малым количеством связей «снаружи» будут называться сообществами.
В постоянном взаимодействии этих двух уровней социальной структуры по принципам, похожим на описанные Пьером Бурдьё, и разворачивается социальная динамика[4]. Согласно этому исследователю, характеристики сетевой структуры — например, закрытость и замкнутость — влияют на нормы, которые, в свою очередь, могут автономизироваться и радикализироваться, а нормы влияют на структуру (например, автономизация и радикализация сообщества способствуют его закрытости и замкнутости). Кроме того, можно проследить социальные механизмы, посредством которых сообщество, понимаемое как сетевая структура, будет связано с сообществом-отношением[5].В результате функционирования таких механизмов в сообществах воспроизводится следующий ряд явлений:
— доверие — члены сообщества доверяют друг другу больше, чем внешним людям;
— терпимость — члены сообщества готовы больше времени и энергии тратить на то, чтобы понять других членов сообщества, чем на то, чтобы понять внешних людей;
— взаимность — у членов сообщества более высокая готовность «отдавать» другим членам сообщества, чем готовность «отдавать» тем, кто находится за его пределами (они обладают более высокими ожиданиями по отношению друг к другу, чем по отношению к внешним людям);
— совместное делание — члены сообщества чаще и охотнее поддерживают деятельность друг друга;
— гражданское участие — сообщество становится, с одной стороны, площадкой для обсуждения событий «большого общества», с другой — элементарной единицей участия в жизни последнего;
— использование социального капитала сообщества — индивиды используют социальные связи для привлечения ресурсов, которые отсутствуют у них самих;
— вложение — члены сообщества инвестируют в проекты, которые касаются всех членов сообщества;
— нормализация — члены сообществ совместно переживают сложный опыт и преобразуют его в приемлемый;
— создание общих смыслов — сообщество является зоной более интенсивного общения, в рамках которого выкристаллизовываются общие представления о мире.
Эти характеристики в свою очередь обеспечивают работу механизмов сообщества.
В рамках исследования сообществ мигрантов в Москве перед нами стояла задача фиксировать такого рода явления, а также структурные и смысловые характеристики сообществ. Описание сообщества в рамках нашего исследования разбивается на шесть этапов:
1. Идентификация сообщества. Сообщество нужно найти: в ходе этого этапа на основании различных критериев фиксируется наличие сообщества, показателем которого является интенсивность связей между индивидами. Именно это понимание, согласно которому сообщество — это фрагмент социальной сети с высокой интенсивностью связей между его элементами, стало рабочим определением сообщества в рамках исследования. Для последующей работы было необходимо создать систему индикаторов, указывающих на интенсивность связей. Для нас таковым было знакомство посетителей кафе, в которых мы искали сообщества, между собой, на что, в свою очередь, указывали приветствия, рукопожатия и общение между столами.
2. Создание социального профиля сообщества. Это этап, в рамках которого создается описание сообщества, содержащее значимые социальные характеристики его участников.
3. Описание сетевой структуры сообщества. Сообщества могут иметь довольно сложную внутреннюю структуру, и третий этап предполагает идентификацию «подсообществ» и внутренних границ сообщества, фиксацию ядра и периферии, а также описание структуры лидерства.
4. Описание истории сообщества и объяснение механизма его появления.Каждое сообщество появляется в результате действий различных акторов с различными установками и ресурсами, обнаруживаемых в социальной структуре. Объяснить механизм появления сообществ — значит выявить акторов и структуры, приведшие к появлению сообщества.
5. Описание механизмов функционирования сообщества. Сообщества воздействуют на поведение индивидов, которые в них состоят, и на поведение внешних людей. В рамках этого этапа ставится задача объяснить это воздействие, описав элементарные каузальные цепочки, связывающие акторов и структуру сообщества.
6. Описание смыслов, циркулирующих в сообществах. Каковы ценности членов сообщества, какова их система релевантности? В силу относительной замкнутости, определяющей сообщество, именно эти ценности неизбежно становятся значимым элементом жизненного мира членов сообщества. Это связано с элементарными механизмами гомофилии и ксенофобии — сообщество часто складывается на основе сходства и стремится это сходство поддерживать. Смыслы в сообществе, таким образом, становятся общими, и именно такие смыслы требуют описания.
Проект, цель которого состояла в описании сообществ мигрантов, существующих в Москве, реализовывался во взаимодействии со слушателями МВШСЭН в рамках курса «Качественные методы социологии»[6] методом «длинного стола»[7]. Пространственная организация Москвы, в отличие от организации многих городов Европы и Северной Америки, не способствует формированию этнических районов, которые в зарубежных исследованиях рассматриваются как «контейнеры» сообществ. Вследствие этого нужно было создать особый подход к исследованию сообществ мигрантов в городе и было решено сконцентрироваться на поиске сообществ в «этнических» кафе, тех публичных пространствах, где некоторые из этих сообществ функционируют.
На первом — пилотном — этапе был разработан базовый алгоритм поиска сообществ, а также была составлена база предположительно «этнических» кафе, которые посещались исследователями и которые являлись точками поиска и описания сообществ. Кафе в рамках проекта признавалось «этническим» в случае выполнения трех условий: (1) наличия блюд национальной кухни; (2) присутствия среди посетителей представителей «видимых меньшинств»[8] (как минимум, в рамках отдельных событий или с некоторой регулярностью); (3) «видимые меньшинства» должны были присутствовать и среди работников кафе. В проекте основной акцент был сделан на сообщества мигрантов из Средней Азии, Закавказья и Северного Кавказа, и, таким образом, индикатором принадлежности к мигрантам являлось не иностранное гражданство, а возможность соотнесения с «видимыми меньшинствами». Посещения «этнических» кафе на первом этапе были организованы так, что каждое кафе посещали двое исследователей, как минимум два раза, проводили там наблюдение и интервью с владельцами, работниками и посетителями в течение двух и более часов. Всего в таком формате участники проекта посетили около пятнадцати кафе; по итогам каждого посещения исследователем готовился отдельный дневник, содержащий около тысячи слов и, по возможности, сопровождаемый фотографиями. Результаты каждого посещения анализировались в ходе регулярных встреч проектной группы. По результатам первого этапа были сформулированы индикаторы сообщества первого и второго порядков[9].
Задачей второго этапа стала проверка первоначальной классификации сообществ, насыщение всех выделенных типов единицами описания. В рамках этого этапа мы пытались ответить на вопрос о том, какие сообщества мигрантов существуют в Москве. В результате выделения индикаторов сообщества был выделен новый формат работы — «экспресс-посещения». «Экспресс-посещения» позволяют за короткое время составить представление о большом числе кафе в отношении наличия или отсутствия сообщества и в случае наличия такового определить его тип и создать краткое его описание. Для ликвидации смещения выборки кафе «в пользу» центральной части Москвы члены исследовательской группы совершили походы по удаленным от центра районам с «экспресс-посещениями» расположенных там кафе (65 кафе, 13 дневников). По итогам второго этапа классификация была скорректирована. Сообразуясь с методологией теоретической выборки А. Стросса, мы закрыли этот этап в тот момент, когда стало понятно, что каждое сообщество может быть помещено в тот или иной тип, и долгое время не встречалось сообществ, которые бы не находили места в созданной классификации.
Третий этап предполагал подробную работу с сообществами каждого типа. Для этого из каждого типа был выбран один или несколько кейсов, которые изучались с помощью этнографических методов. Задача состояла в том, чтобы сделать полное описание сообщества, удовлетворяющее предложенной методологии: необходимо было описать профиль сообщества, механизмы его появления и функционирования, элементы его структуры, а также циркулирующие в нем смыслы. В среднем этнографическая работа по одному типу длилась около тридцати часов и была отражена в десятке полевых дневников.
В результате в ходе проекта в разных режимах было описано около восьмидесяти кафе по всей Москве.
2. КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА
Исследование носило преимущественно дескриптивный характер, однако позволило сформулировать ряд аналитических обобщений.
Сообщества не складываются по этническому принципу. Несмотря на то что нередко члены исследованных сообществ говорили о том, что предпочитают общаться с другими членами их «этнической группы» (например, киргизами или азербайджанцами), реальные механизмы возникновения сообществ среди мигрантов редко связаны с этничностью: люди оказываются в одном сообществе по семейным или земляческим сетям, в связи с работой в одном месте или религией, и во всех этих случаях этничность и общий язык являются дополнительным, но не ведущим фактором для формирования сообщества. При этом существенная часть сообществ по факту моноэтничны, но чаще всего это связано с тем, что сообщества состоят из людей, знакомых по стране происхождения — напрямую или через третьих лиц.
Диаспоральные организации не представляют сообщества. Представление о том, что мигранты живут диаспорами, у которых есть лидеры, не соответствует действительности. Чаще всего совокупность мигрантов из одной страны будет иметь гораздо более сложную структуру, в рамках которой будет выделяться элита, практически не связанная с остальными мигрантами — разве что в рамках земляческих или семейных сообществ — и в большей степени связанная с истеблишментом страны происхождения, в то время как бедные и низкостатусные мигранты будут формировать свои сообщества, отделенные от элит. Диаспоральные организации, представляющие собой, как правило, формализованные клубы элит, претендуют на роль представителя всей совокупности мигрантов из определенной страны, однако таковыми не являются, не вырабатывая институтов коммуникации между разными группами мигрантов. Исключение составляет, пожалуй, фонд Ага Хана, который своей деятельностью во многом дает жизнь сообществам памирцев в Москве.
Сообщества являются пространством интеграции мигрантов. Сообразно теории сегментной ассимиляции[10], мигрантские сообщества действительно являются пространством интеграции для части мигрантов. За счет особых отношений и механизмов — доверия, контроля, социального капитала и нормализации — сообщества способствуют модификации сети личных знакомств, обретению ресурсов, а также динамики идентичности. В то же время далеко не все мигранты включены в сообщества и находятся на пути интеграции через сообщества.
Структура сообщества определяет те отношения и институты, которые в нем возникают, а именно доверие, социальный контроль, концентрированный социальный капитал, нормализацию, терпимость, взаимность, совместные действия, гражданское участие и создание смыслов. Эти отношения в том числе характерны для сообществ мигрантов. В исследовании наиболее ярко высветились первые четыре типа, которые мы рассмотрим подробнее.
Сообщества складываются по-разному и существенно отличаются друг от друга. Относительно замкнутая общность, состоящая только из мигрантов, может складываться в результате действия совершенно разных механизмов и логик. В результате и «содержимое» сообществ — гомогенность и происхождение членов, тип связей внутри, механизмы функционирования и связанные с ними сферы жизни — будут существенно отличаться. В ходе исследования нам удалось выделить четыре типа таких сообществ и «общество» киргизов в Москве. Каждый из них — это идеальный тип со своей логикой возникновения и функционирования сообщества, и конкретные сообщества в кафе могут соответствовать нескольким типам. Впрочем, были зафиксированы случаи, приближавшиеся к идеальным типам. Ниже представлено описание этих типов.
Сообщества шаговой доступности. Сообщества шаговой доступности формируются из людей, которые живут и/или работают вместе или просто недалеко друг от друга. В силу этого сообщества шаговой доступности могут возникать на основе тех отношений, которые складываются на рабочем месте или по месту жительства помимо встреч в кафе. Кафе же могут служить для членов сообщества и зоной отдыха, и переговорной, и информационным центром, и банковской ячейкой, и многим другим.
Земляческие сообщества. На первый план в складывании этих сообществ выступают идентификация по региону происхождения и механизмы сетевой миграции, связанные с общностью региона: например, в сообщество самаркандцев включаются и «узбеки», и «таджики» из этого города. Отношения, укорененные в контексте отправляющего сообщества, воспроизводятся в контексте Москвы. Члены сообщества в Москве активно поддерживают связи с посылающей страной, что придает сообществу транснациональный характер[11], и в Москве мы видим, вероятно, только часть этого сообщества — локализованную «по эту сторону границы». Такое положение вещей предопределяет возможность высокого социального контроля и соответственно высокого уровня доверия. Наличие этих транснациональных связей, кроме того, может обеспечить и более легкое вхождение новоприбывших мигрантов в это сообщество по прибытии в Москву, поскольку им о нем будет известно заранее. В то же время перекраивание смыслов, привнесенных «оттуда», является важным занятием для членов сообщества — и может стать основой существования сообщества и в итоге отделения его от других, оставшихся «там».
Исламские сообщества. Исламские сообщества Москвы возникают в связи с двумя установками, предполагаемыми исламом как религией: установкой на сбор общины и установкой на всеобщность. Согласно первой установке, как минимум раз в неделю община должна собираться на намаз; кроме того, поощряется интенсивное общение мусульман между собой. Согласно второй, исламское сообщество — это принципиально полиэтничное сообщество, в рамках которого любая «племенная» или «национальная» идентичность должна быть оставлена в пользу идентичности исламской, поскольку в исламском утопическом государстве, Халифате, все мусульмане состоят в одной большой общине — умме. Исламское сообщество, консолидируя группы, отличающиеся по уровню обеспеченности ресурсами, является логичным направлением интеграции для групп, в меньшей степени обеспеченных ресурсами, — например, мигрантов из центральноафриканских стран, в которых распространен ислам. Исламские сообщества в Москве локализуются поблизости от объектов официальной (мечети) и неофициальной (молельные дома «альтернативного» ислама, халяльные кафе) исламских инфраструктур.
«Азербайджанский бизнес». Азербайджанские антрепренеры Москвы (бизнесмены и связанные с ними люди) формируют социальную сеть с высокой плотностью связей. Пространственная основа функционирования этого сообщества обеспечивается в том числе кафе и ресторанами, которые довольно равномерно распределены по Москве. В этих точках общепита регулярно собираются азербайджанские антрепренеры, при этом конкретный их «набор» меняется изо дня в день. Сообщество «азербайджанского бизнеса» — это важное пространство и направление интеграции для новых и старых мигрантов из Азербайджана, которые могут получить работу, а также поддержку для открытия и ведения бизнеса.
«Киргизтаун». В выборку попали несколько заведений, которые в разных режимах посещают только мигранты из Кыргызстана. Частью это — кафе, частью — ночные клубы. Приходят туда небольшими группами, танцуют с партнерами противоположного пола, разъезжаются, иногда — сложившимися парами. Посетители между собой в большинстве незнакомы, и кафе/ клуб используется, в том числе, как площадка для знакомства. «Киргиз- таун» — названный так по аналогии с американскими «чайнатаунами» — не является сообществом, поскольку сообщество, по определению, это сеть плотных связей. Напротив, можно сказать, что киргизы в Москве формируют город, который воспроизводится на рабочих местах и по месту жительства, когда киргизы из разных регионов, ранее не знавшие друг друга, знакомятся и устанавливают связи. Кафе и ночные клубы, как и прочие киргизские организации, «площадки» и события, существующие в Москве, выполняют вспомогательную функцию в формировании этого «города»[12].
3. ЭТНОГРАФИЯ СООБЩЕСТВ МИГРАНТОВ В МОСКВЕ
Приведенные результаты дают общее представление о сообществах мигрантов в Москве, далее мы приводим этнографические описания сообществ двух типов — земляческого и исламского, — которые были созданы в результате наблюдений и интервью, проведенных авторами статьи. Земляческое сообщество исследовалось на материале сообществ самаркандцев в кафе, расположенных в трех разных местах Москвы, исламское сообщество — в районе, где сконцентрирована исламская инфраструктура, — в нескольких кафе и рядом с мечетью.
3.1. Земляческие сообщества
Кейсом для изучения земляческих сообществ послужили сообщества самаркандцев в следующих местах: (1) одно кафе на рынке на юго-западе Москвы, (2) три кафе на рынке на северо-западе Москвы, (3) одно кафе в спальном районе на северо-западе Москвы.
Первая точка — большое кафе, работающее круглосуточно и расположенное в зоне интенсивных потоков людей, которые связаны с двумя торговыми центрами, тремя рынками и транспортным узлом, соединяющим Москву и Подмосковье. Кафе стоит на «улице», соединяющей два рынка. На этой «улице» — парикмахерская с таджикскими мастерами и киоск, где продаются музыкальные диски популярных в Средней Азии исполнителей. «Случайные» люди, не связанные с оптовым рынком, расположенным поблизости, почти не бывают в этих местах. По словам старшего официанта, «кафе — халяль», что относится в первую очередь к еде; алкоголь подают, потому что «без алкоголя кафе нет», а не курят в силу требований пожарной безопасности.
Вторая точка находится на крупном строительном рынке на северо-западе. Самаркандцы на рынке стали активно появляться с начала 2000-х; «возраст» «самаркандских» кафе — немногим больше пяти лет; они являются своего рода меткой «самаркандской» части рынка, поскольку расположены там, где идет торговля брусом, что является специализацией самаркандцев.
Третий центр никак не связан с рынками — это кафе, упрятанное глубоко в спальном районе северо-запада Москвы, далеко от любых станций метро, так что добираться туда удобно автомобилистам и жителям этого района.
Ничего «привычно этнического», способного предсказать характер кафе и его посетителей, рядом нет. И все же большинство посетителей кафе, как и работники, — «видимые меньшинства».
Самаркандские сообщества, сконцентрированные вокруг этих трех точек, имеют слабую связь между собой. В отличие от киргизов, которые если ходят в кафе, то часто знают (и посещают) сразу несколько киргизских кафе в разных точках Москвы, самаркандцы знают только об одной, максимум — двух точках. Из трех точек самая известная, она же самая старая, — вторая, та, что располагается на рынке на северо-западе. О ней знают посетители двух других точек, которые между собой связаны слабо: посетители одной плохо осведомлены о существовании другой.
Распределение посетителей по этим точкам происходит в соответствии с двумя основными принципами: (1) географическое положение кафе, (2) социальный статус посетителей.
1. Даже проживающие в Москве больше десяти лет посетители кафе сильно связаны с одним районом или округом Москвы, выстраивая в его границах свою жизнь: находя здесь и работу, и жилье — и кафе. В силу такого географического постоянства визиты в кафе, расположенные в другой части Москвы, — скорее исключения, недостаточные для поддержания контактов в тех сообществах. Соответственно, кафе, расположенные в разных округах, привлекают разных посетителей, и сообщество на юго-западе Москвы слабо связано с двумя другими сообществами — на северо-западе.
2. Несмотря на то что разница в ценах между рассматриваемыми кафе невелика, посетители различаются по социальному статусу. «Рыночные» точки ориентированы в первую очередь на сообщества, основанные на земляческих связях и работе на рынке «плечом к плечу». Напротив, третья точка, никак не связанная с рынками, позиционируется как место «более приличное» и потому способное привлечь не только «рыночников», но и более состоятельных людей: нерыночных бизнесменов, рантье и «золотую молодежь» (показательно, что в третьем кафе работает «Wi-Fi» и нередко можно увидеть посетителей, которые сидят в Интернете и разговаривают в «Skype»).
Единственная группа, способная выполнять роль поддержания связей между всеми тремя центрами, — это таксисты, хотя часть из них точно так же «локализуется» лишь в одной части города.
3.1.1. Структура сообщества
Каждое сообщество имеет ядро, где связи наиболее тесные, частые и интенсивные, и периферию, где связи слабые и куда относятся те посетители кафе, кто приходит туда нерегулярно и/или нечасто. Сообщества, которые возникают на пересечении корпоративных и земляческих связей, способны создавать кафе под себя. Так возникли «рыночные» самаркандские кафе: были найдены подходящие люди, способные создать этот бизнес, но сами не всегда принадлежащие ядру сообщества. В разговорах с членами ядра сообщества складывается впечатление, что они сами владеют этим кафе или, по крайней мере, выступают его «мажоритарными акционерами», рассматривая кафе как предприятие, в которое они вложили собственные инвестиции (не обязательно денежные): «Когда обсуждали, что у кафе появился навес и уличные столики, Дж. говорил: "У меня тут большие перспективы". Говорил, что сегодня уже с 7.30 тут, каждое утро он привозит работникам кафе наполеон или другие пирожные» (Дневник от 05.06.2013).Такая позиция позволяет «акционерам» модифицировать работу кафе под свои потребности, предлагать и реализовывать изменения. Так, владельцу одного из изучаемых кафе, выходцу из Чечни, представители самаркандского сообщества предложили пригласить на работу отдельного человека, которому нужно платить большую, по меркам заведения, зарплату, — и хозяин эту кандидатуру принял: «Тут обычно делают плов — они специально договорились с хозяином кафе, чтобы пригласить "известного пловщика" — который берет 100 $ в день зарплату. Готовят 20 кг риса — этого хватает на 100 человек. Из этих 100 человек М. знает всех в лицо, но не знает всех лично. В 11.30 плов начинается, в 12.30 его уже нет» (Дневник от 08.06.2013).
Третье кафе, располагающееся в спальном районе Москвы, возникло как бизнес-проект, когда его владельцы-несамаркандцы выбирали целевую аудиторию, пробовали работать для бухарских мигрантов, но в итоге «нащупали» самаркандское сообщество. Поваров и администратора из Бухары сменили работники из Самарканда, после чего была проведена «рекламная акция», когда таксистов-самаркандцев бесплатно кормили в течение нескольких дней. Ставка на самаркандцев оказалась верной, и владельцам удалось привлечь посетителей в достаточном количестве, чтобы из них сформировалось ядро сообщества и его периферия. Можно ожидать, что, если работа с ориентацией на самаркандское сообщество перестанет удовлетворять хозяев своими экономическими результатами, они сменят профиль кафе еще раз. Создание кафе под сообщество — рабочая бизнес-модель, которую можно тиражировать. При этом такое кафе не является «этническим бизнесом»[13]: в нем обеспечивается разнообразие работников для коммуникации с разными посетителями. Администратор-самаркандец поддерживает сообщество самаркандцев, русская бухгалтер-администратор обсуждает банкеты и прочие вопросы с «местными» посетителями (именно она вышла к нам, «русским» или «москвичам», для разговора при первом посещении, когда мы попросили кого-нибудь из старших). Каждодневное поддержание функционирования сообщества — обязанность администратора, однако сама хозяйка постепенно втягивается в это сообщество: она учит таджикский, бросила курить и собирается держать пост в этом году, что является нормой внутри самаркандского сообщества. Удержание сообщества в кафе — ключевая задача для бизнеса, которой обычно занимается администратор, а в крайних случаях — сама хозяйка. Одним из таких крайних случаев стал визит СОБРа в кафе, после которого хозяйка в качестве меры по «реанимации» бизнеса сама проводила время за столом с гостями, принадлежащими ядру сообщества, чтобы не потерять в качестве клиентов их, а вместе с ними и все сообщество.
Члены ядра сообщества рассматривают кафе как «свою» территорию, где можно передохнуть, провести переговоры и распоряжаться, давая нестандартные задания напрямую официантам без контактов с хозяевами / управляющими кафе: «Когда я пришла, Дж. в кафе не было; я спросила одного из официантов, будет ли он сегодня; тот набрал на своем мобильном номер Дж., они о чем-то поговорили, он передал мне трубку. Мы договорились о встрече, а пока Дж. предложил мне мороженого (а мороженого в меню не было) — я отказываться не стала; он снова попросил передать трубку официанту и, видимо, дал указания» (Дневник от 03.06.2013). При контакте с новым информантом косвенный показатель его принадлежности к ядру сообщества — то, что он без оглашения исследовательской легенды уже знает, кто ты и зачем ты здесь.
Периферия, в свою очередь, необходима для поддержания работы кафе как бизнес-предприятия, обеспечивая нужный объем заказов. Кроме того, периферия обеспечивает географический охват сообщества, а это повод для повышения собственной значимости, гордости собственными ресурсами и «широтой охвата» («к нам и из Зеленограда ездят»); периферия — потенциал развития этого сообщества, поскольку она обладает новыми ресурсами, возможно интересными для ядра. Соотношение ядра и периферии сообщества в кафе меняется по дням недели: если рабочие дни — время, когда преобладает ядро сообщества, в выходные, напротив, больше «периферийных» посетителей.
Ядро сообществ формируется из самаркандцев, для которых родной язык — таджикский, но в силу проживания в Узбекистане они также говорят по-узбекски. Так, узбек из Самарканда А. знает таджикский, но «говорить на нем не хочет», предпочитая узбекский. Такая — маргинальная — позиция позволяет этим людям быть «своими» и для узбеков из других частей Узбекистана, и для таджиков, которые формируют обширную периферию этого сообщества. Интересно, что посетители-узбеки, в том числе из других частей Узбекистана, маркируют кафе как «свое», рассказывая, что «на самом деле» повара здесь из Намангана, а значит, кафе наманганское, ферганское и самое что ни на есть «узбекское». Для ядра же сообщества основная идентификация — региональная самаркандская, которая перекрывает прочие, этнические, идентификации.
Расположение кафе и его окружение во многом определяют логику социальной жизни, происходящей в нем. В частности, сообщества в кафе на рынках являются органичным продолжением того, что происходит за их стенами, и таким образом, становятся площадками для торговцев «левой» парфюмерией и попрошаек. Они занимают маргинальную позицию: с одной стороны, связей в кафе они не завязывают, с другой стороны — появляются в них так часто, что могут обмениваться дежурными шутками с владельцами кафе. Так, чернокожий молодой человек из Камеруна шутит, что он таджик из Камеруна, и это раз за разом вызывает улыбку владельца кафе, оказываясь для торговца «пропуском» в это заведение. Напротив, в третьем кафе, представляющем собой островок в спальном районе Москвы, за счет оторванности от рыночной среды отсутствуют такие маргинальные члены сообщества.
3.1.2. Функционирование сообществ
Описанная в русскоязычной литературе[14] по миграции прагматика социальных сетей, связанная с поиском работы и жилья, не актуальна для земляческих сообществ. Это обусловлено тем, что их ядро формируется участниками «старой» миграции, у которых все эти первичные вопросы решены: «Жилье и работу тут не ищут — кто сюда ходит, им это не нужно» (Дневник от 07.06.2013). Для этих земляческих сообществ самым важным оказывается то, что они функционируют как референтные группы. Здесь можно встретить тех, кто обладает схожим опытом, который расценивается как девиантный с точки зрения посылающего и принимающего общества, но обладание которым не редкость для мигрантов в России. Наличие двух жен или отказ помочь кому-то делать карьеру на рынке — те ситуации, которые требуют переговоров, обсуждения и последующей нормализации. Земляческое сообщество тесно оплетено транснациональными связями с посылающими сообществами. То, что происходит в жизни мигранта из Сельского района Самарканда в Москве, становится известно членам сообщества в кафе и значит — всем, кто входит в эту социальную сеть в Самарканде. Жены по разные стороны границы могут заочно быть знакомы, что не ослабляет накала страстей и напряженности взаимоотношений этого сложно устроенного домохозяйства и распределения доходов мужа между частями семьи. Все это либо обсуждается всерьез членами сообщества, которые находят рациональные и эмоциональные доводы в пользу такого устройства семьи, либо же облекается в шутку. В любом случае эта ситуация — повод для того или иного представителя сообщества лишний раз подтвердить, что он не является «ненормальным», а кроме того, для сообщества это возможность проверить свою однородность и целостность в плане взглядов и смыслов.
Потоки, соединяющие Самарканд и московские рынки, уже достигли той точки насыщения, когда верхние позиции рыночной иерархии в большей или меньшей степени устоялись. Миграция «стареет», и те, кто приехал в Москву давно и уже достиг определенной позиции, начинают подвергать сомнению ожидания/обязательства, накладываемые посылающим обществом, в отношении помощи новоприбывшим. В разговорах, которые ведутся внутри сообщества, нежелание помогать землякам сразу занимать высокие позиции (например, открывать свои торговые точки) легитимируется тем, что последние нарушают правила взаимности, идут против сложившейся иерархии: «На пару Дж. с Н. жаловались, что люди стали без уважения: приедет, "будь отцом, помоги", поможешь им, — а через полгода здороваться перестают» (Дневник от 03.06.2013); «Племянников он контролирует <...> не "крышует", но и не просто присматривает за ними; "потому что им тут легко в сторону уйти"; если они спорят, он им напоминает: "Ты откуда пришел? Ты по-русски говорил? Тебя кто научил? Кто твой преподаватель?" (при этом Дж. брал себя за губы и как будто их отрывал — этим самым как будто срывая с губ племянников слова, которые ему неприятны). Сейчас Дж. уже не помогает тем, кто хочет открыть точку, потому что надо будет отвечать за них» (Дневник от 05.06.2013).
Сообщества — это пространства безопасности и в другом смысле. Один пятничный вечер в кафе на северо-западе был примечателен тем, что на столе, за которым сидели участники «ядра» сообщества, стоял коньяк и слепленные вручную домашние мелкие пельмени. Их приготовила и отправила в кафе как гостинец жена одного из сидевших за столом. В ситуации, когда «московские» представления о соседских отношениях отличаются от таковых у мигрантов из Средней Азии и эти отличия вкупе с ксенофобией приводят к тому, что предложенное «с уважением» угощение отвергается, роль соседей, которых можно угостить, берут на себя такие сообщества.
Сообщество может функционировать и на институциональном уровне, принимая на себя представительские функции «самаркандцев в Москве». При оторванности официальных представителей диаспоральных организаций от реальных людей, которых они тщатся репрезентировать, сообщества начинают представлять совокупность мигрантов. Иллюстрацией этому может служить работа кафе как центра потерянных самаркандцами вещей: «Однажды потерял самаркандец в аэропорту барсетку с документами — ее нашел другой самаркандец, привез в это кафе; У. по своим знакомым по телефону нашел владельца, вернул паспорт и документы на машину» (Дневник от 07.06.2013).
Основа исследованных самаркандских сообществ — те связи, которые сформировались еще до приезда в Россию между их членами, которые жили рядом и ходили в одну школу. Для поддержания этих связей важно не только общее прошлое, но и наличие более или менее крепких транснациональных связей, соединяющих тех, кто сейчас живет в Москве и Самарканде. Таким образом, зафиксированные в московских кафе сообщества самаркандцев — это только часть некоторого большего транснационального сообщества- «айсберга», другую часть которого можно обнаружить в Самарканде. Однако вопреки транснациональным связям земляческие сообщества в Москве сохраняют «смысловую автономию», благодаря чему обеспечивают смысловую безопасность для своих членов — пространство для обсуждения тех вопросов, которые появляются у людей схожего бэкграунда в связи с опытом миграции и проживания в Москве и которые не всегда смогут понять люди, лишенные подобного опыта. Именно это, а не решение прагматических задач вроде поиска жилья и работы выходит на первый план в самаркандских земляческих сообществах.
3.2. Исламские сообщества
Этнографическое исследование исламских сообществ мы начали, локализовав «кластер» исламской инфраструктуры в одном из районов Москвы. Эта инфраструктура включает как официальные исламские учреждения (связанные с Духовным управлением мусульман), так и неофициальные — в том числе и несколько кафе, в которых проводилось этнографическое исследование.
Проведенные на первом этапе наблюдения в четырех кафе показали, что в них преобладают «видимые меньшинства» и по ряду признаков можно сделать вывод о наличии сообществ. Следующий вопрос состоял в том, насколько обнаруженные сообщества автономны или, напротив, являются фрагментами одного большого сообщества, существующего поверх границ кафе и связанного в первую очередь с мечетью. Чтобы это выяснить, были проведены дополнительные наблюдения возле мечети, и на эти результаты были наложены результаты первичных наблюдений в кафе. Обнаружилось два автономных исламских сообщества. Первое ориентировано на мечеть и связано с двумя кафе, располагающимися рядом с ней (по пятницам с притоком молящихся количество таких кафе увеличивается до трех). Второе сообщество в кафе, расположенном дальше от мечети и ближе к станции метро, с мечетью не связано — оно включает мусульман, которые заняты на разнообразных рабочих местах поблизости и регулярно заходят в кафе — поесть и помолиться. Залог складывания этого сообщества — в регулярности посещений (как сказал «бармен» этого заведения, постоянные посетители друг друга знают, поскольку «примелькались») и в наличии «духовных скреп» — регулярной молитвы рядом друг с другом в молельной комнате, оборудованной в кафе.
Костяк первого, «мечетнего», сообщества составляют бывшие жители восточной части Северного Кавказа с очень разными миграционными историями; типичная история, однако, заключается в том, что, приехав с Кавказа, человек живет в Москве 7—10 лет. Пример нетипичного члена сообщества — мигрант из Кыргызстана, который, работая на востоке Москвы, снимает с другими киргизами квартиру в центре в непосредственной близости от мечети, чтобы регулярно ходить молиться. Среди посетителей кафе есть и москвичи: русские, обратившиеся в ислам, составляют отдельный кластер; их у мечети немного, и они держатся вместе. А кроме этого, есть некоторое количество мигрантов из мусульманских стран Черной Африки — из Сенегала, Гвинеи и т.д.
Во втором сообществе также есть бывшие жители Северного Кавказа, но они не преобладают, а больше всего мигрантов из Средней Азии, преимущественно из Узбекистана. Владелец этого кафе — узбек, все официанты — узбеки, и громче всего в кафе звучит именно узбекская речь.
Наблюдения на этом этапе, в четырех кафе и возле мечети, позволили составить общую картину сообществ и определиться с локацией для проведения дальнейшего наблюдения. В соответствии с этим дальше речь пойдет в большей степени о первом, «мечетнем», сообществе.
3.2.1. Структура сообщества
Исламское сообщество внутренне неоднородно. В него входят люди с разным миграционным опытом, этнической идентификацией, классовым положением и религиозными взглядами. Насколько эти потенциальные линии разделения находят отражение в реальном существовании сообщества?
Можно говорить о существовании внутри сообщества «кавказского» ядра с проходимыми границами между группами. Большинство компаний за столами в кафе, о которых нам удалось что-то узнать, происходили либо из одной и той же, либо из разных республик Кавказа. Между сформированным ими ядром сообщества и составляющими периферию мигрантами из Средней Азии наблюдалась «яркая» граница (в терминах Ричарда Альбы)[15]. Так, мигрант из Кыргызстана утверждал, что ему рано начинать общаться в мечети, потому что он плохо знает русский. Информанты с Кавказа говорили, что в их кругах нет мигрантов из Средней Азии, потому что «друзей выбирают по менталитету и у всех народов он свой». Мигранты из Черной Африки выделяются в особую группу, и степень их интегрированности в сообщество может быть различной. Например, мигрант из Гвинеи А. ходит в мечеть прежде всего молиться и не рассматривает ее как источник социального капитала, а мигрант из Сенегала Ю., наоборот, использует мечеть и как источник надежной работы, и как место досугового времяпрепровождения: «Он все свое свободное время проводит у мечети, где и общается с людьми просто так, и молится, и ищет работу. Практически всю работу, которую он находит, он находит через мечеть. Не кидают ли с деньгами? Он рассказал один случай, но это был случай про украинца. Мусульмане не кидают. И у него почти всегда есть работа — не от одного, так от другого. В момент интервью он многих в кафе знал» (Дневник от 24.05.2013).
Этот случай особенно важен, поскольку изначально Ю. полагался на своих земляков из одной из африканских стран, однако по прошествии семи лет круг его контактов сменился, и теперь этот круг — исламский, полиэтничный, обретенный в мечети. В ходе нашего разговора Ю. поздоровался с вошедшим в кафе по-русски, потом перешел на незнакомый нам язык, затем — снова на русский. Выяснилось, что это был его родной язык, приветствию на котором он научил одного из своих кавказских работодателей, и мы присутствовали при обмене приветствиями между ингушом и сенегальцем на родном для сенегальца языке. Впрочем, как правило, некавказские мигранты находятся на периферии сообщества или за его пределами, и интенсивность использования мечети как источника социального капитала сильно разнится.
Религиозное разнообразие проявляется в «трансплантированном» (по Чарльзу Тилли)[16] преимущественно из Дагестана конфликте между «салафитами» и «суфиями». По характерным тюбетейкам можно узнать мюридов покойного Саида афанди Чиркейского. Есть салафитские группы, представители которых держатся обособленно и не являются частью сообщества, но, хотя у них существует своя исламская инфраструктура, распределенная по Москве, их можно встретить и у мечети. Основная масса прихожан, судя по всему, находится в стороне от этого религиозного противостояния.
В сообщество входят, с одной стороны, наемные работники, а с другой — бизнесмены разного уровня — от «олигархов», автопарк которых с удовольствием описывает владелец кафе, до мелких торговцев. Классовые границы в сообществе не ярки и контекстуальны. За столом могут сидеть только бизнесмены, например, в тот момент, когда за столом идет обсуждение дел. Кроме того, в случае, если этничность связана с определенным занятием, наблюдаемый круг может быть гомогенен по обоим критериям. Скажем, складывается впечатление, что вряд ли в этом сообществе можно встретить чеченца, который был бы занят наемным трудом. Таким образом, за столиками будут собираться компании чеченских бизнесменов, которые на самом деле могут представлять собой семейный круг. При этом классовые различия игнорируются при наличии общей темы для беседы (а общая и острая тема — судя по количеству разговоров — это религия). Тем более, что интеграция — социальная и этническая — занимает важное место в исламском дискурсе, согласно которому умма должна быть едина, и эта установка является постоянно действующим интегрирующим фактором, противостоящим поддерживанию социальных границ.
3.2.2. Функционирование сообщества
Сообщество мечети в сравнении с прочими сообществами, которые были зафиксированы в ходе исследования, обладает высокой мерой реальности, наиболее высоким из всех исследованных сообществ: это сплоченное сообщество, которое не было бы таковым, если бы не предоставляло своим членам определенные возможности. Нам удалось выделить несколько плоскостей, в которых сообщество «действует» в позитивном для своих представителей ключе.
1. Сообщество работает как рынок труда. Упомянутый Ю. проводит много времени у мечети, в том числе потому, что знает, что рано или поздно он найдет там работу. Есть «доска объявлений», на которой время от времени появляется информация о работе. Кроме того, сообщество, предположительно, объединяет и повышает уровень доверия друг к другу у прихожан, связанных рабочими связями, которые знакомы помимо мечети, но встречаются также в ней или рядом с ней. Основной механизм поиска работы и поддержания доверия в таких случаях будет земляческим, однако не исключено, что факт принадлежности земляков также и к «мечетнему» сообществу усиливает связи и делает их более надежными.
2. Сообщество связано с разнообразными институтами благотворительности, которые делают положение мусульман-мигрантов, «затерявшихся» в Москве, не столь безнадежным. Во-первых, присутствует официальная благотворительность, осуществляемая через мечеть. Во-вторых, находится место для неформальной благотворительности, в рамках которой прихожане мечети делятся с нуждающимися. Например, владельцу одного из кафе передают деньги люди из его круга, на которые он кормит неимущих прихожан мечети в своем кафе: «У Х. есть несколько личных друзей-знакомых (он называет их "свои"), которые скидываются на то, чтобы время от времени Х. мог кормить неимущих. [Например, тех,] которые не могут снять жилье и ночуют в мечети. <...> Бывают дни, когда они <...> могут бесплатно поесть. А на уразу они пытаются кормить всех бесплатно каждый день. Интересно, что благотворительность организуют через кафе ТОЛЬКО те люди, которые находятся в тесной связи с владельцем. Он говорит, что коробочку с садакой[17]ставить он не хочет, потому что могут сказать, что он неправильно тратит деньги, и он не хочет брать на себя такую ответственность» (Дневник от 22.05.2013).
3. Важной функцией сообщества является формулировка и поддержание экзистенциальных смыслов. Атомарное существование в городе обрекает людей на стремление находить такие смыслы и поддерживать их актуальность самостоятельно. Подобные «доморощенные» смыслы в большинстве случаев не выдерживают «проверку реальностью» — фактами жизни и альтернативными смыслами. В результате человек оказывается в бытийном вакууме — он не знает, что ценить, не понимает, что хорошо, что плохо. Социологический термин для такого рода общественных состояний — аномия, однако на индивидуально-психологическом уровне результатом может стать депрессия. Неудивительно, что человек ищет возможность примкнуть к группе, в которой он может обрести готовые смыслы. Исламские смыслы в этом отношении, во-первых, внутренне консистентны, а во-вторых, содержат в себе руководство по взаимодействию с альтернативными смыслами и их носителями, в результате чего они оказываются устойчивыми как к индивидуальным передрягам, так и к коллективным «пропагандистским атакам». Один из модусов разговора прихожан у мечети можно назвать «практической теологией», в рамках которой рядовые участники сообщества рассуждают о Боге и исламе, рассказывают друг другу хадисы из Сунны, а также пытаются интерпретировать собственные жизненные коллизии через призму ислама и понять, как правильно поступать, руководствуясь исламскими нормами.
«Мечетнее» сообщество — это сплоченное сообщество людей, которые постоянно поддерживают исламские нормы в своем кругу. Неудивительно, что появление чужака заставляет актуализироваться защитную систему сообщества, действующую как в дискурсивной плоскости, так и в социальной.
3.2.3. Смыслы сообщества
Ислам «объясняет» членам сообщества, как относиться к тем или иным жизненным коллизиям, к самим себе и к окружающему миру. Один из сегментов исламского дискурса конструирует границы между «нами» и «ими». В его рамках «мы» — это исламская умма, вся совокупность верующих, которая вынуждена постоянно осмыслять границы внутри и снаружи себя. Именно этот дискурс позволяет мигрантам из Средней Азии и стран Черной Африки при должной энергии свободно вливаться в сообщество мечети. С другой стороны, такая установка ориентирует это сообщество на внешние исламские образцы, которые стабильно воспроизводятся в разных странах и на разных языках.
Ислам — прозелитическая религия, поэтому особое место в общеисламском дискурсе занимает коммуникация с немусульманами, которые готовы слушать об исламе как о лучшей религии. В этом дискурсе существует ряд «канонических» историй, которые объединяет целевая аудитория — современные атеисты-рационалисты — и которые призваны доказать, что ислам не только не противоречит современной науке, но во многом предвосхищает ее: «...узнав одну из таких историй, [я] начал рассказывать информантам те истории из этого "канона", которые я услышал в свое время от египетских "салафитов". К моему удивлению, они эту историю не узнали. Она — о том, как Нил Армстронг, оказавшись на Луне, услышал диковинную музыку, а затем, будучи с лекциями в Саудовской Аравии, узнал ее в азане[18]. В результате он уверовал в Аллаха и принял ислам. Я рассказал эту историю и вдруг услышал голос владельца кафе: "А Армстронг не был на луне — это все американцы придумали". Такое высказывание — тоже внешнее по отношению к этому сообществу и является типичным элементом общемирового антиамериканского дискурса, носителем которого "на мировой арене" часто являются мусульмане» (Дневник от 21.05.2013). Другим важным элементом в дискурсе о собственной группе является тема дискриминации мусульман. Такие высказывания, как правило, апеллируют к тому, что подобная дискриминация происходит по всему миру, в том числе и в местном, «мечетнем» сообществе. Пример — рассказ о визите ОМОНа, в ходе которого «клали на пол и женщин, и стариков», но ничего не нашли. Такие рассказы всегда вписаны в контекст историй о притеснении ислама по всему миру.
Все это — включая еще одно наблюдение, в рамках которого имам подробно отвечал на вопросы о том, как правильно относиться к событиям в Турции, — позволяет говорить о том, что мусульмане сообщества на концептуальном и дискурсивном уровне являются частью мировой исламской уммы и воспринимают локальные события как часть глобальной истории существования ислама в контексте современности.
Представители изучаемого исламского сообщества отличаются от большинства москвичей характеристиками, на основании которых социальные границы выстраиваются чаще всего религией и этничностью. Яркая граница, возникающая между московскими мусульманами и русскими «этническими» христианами, требует конструирования различия, которое может быть «горизонтальным», когда заявляется о разнице, но не утверждается, что одна из сторон лучше, и «вертикальным», когда акцент ставится на преимуществе одной из сторон над другой. В отношении окружающего большинства конструируется скорее вертикальное различие. Основная претензия мусульман сообщества к окружающему обществу состоит в том, что последнее состоит из нерелигиозных людей. В рамках этого элемента дискурса заявляется, что, если бы русские верили в бога, они бы были ближе, понятнее и договороспо- собнее, даже будучи христианами, потому как последние, как и мусульмане, покорны Аллаху. Из этого различения выводятся и другие — которые в целом находятся в логике дихотомии «религиозность / традиция / патриархальность» vs. «неверие / современность / размывание гендерных ролей».
Другая значимая для конструирования смыслов сообщества этническая категория — это категория «еврей». Значительная часть раннеисламской текстовой традиции «обращается» к евреям, при этом они выступают в двух ипостасях — как люди Книги и предшественники ислама, которые являются союзниками мусульман в борьбе против язычников, и как предатели ислама, перевравшие послание Аллаха. Оба этих понимания находят место в представлении мусульманского сообщества о евреях, но интереснее то, что это понимание доминирует над любыми альтернативными и, как следствие, евреи в сообществе мусульман воспринимаются, прежде всего, как конфессия, а не как национальность, объединяющая как религиозных, так и нерелигиозных людей: «После того как я представился евреем, несколько раз ко мне обратились с выражением, начинавшимся со слов "Ну вот вы, евреи.", при этом дальнейшее касалось как иудейских практик, так и политики Израиля на Ближнем Востоке. Я достаточно эмоционально объяснял им, что я не имею отношение ни к первому, ни ко второму, однако сложилось четкое ощущение, что они не понимают, как это возможно, представляя евреев связной социальной целостностью: они похожи друг на друга, знакомы между собой и координируют свои действия» (Дневник от 21.05.2013).
Таким образом, можно зафиксировать, что исследованное исламское сообщество является своего рода фабрикой по производству смыслов, благодаря которым определяются роль человека в мире, границы между своими и чужими, а также прочие категории, позволяющие человеку ориентироваться в окружающей действительности. Кроме того, сообщество является площадкой для интеграции разных групп мусульман в московскую действительность и дает своим представителям инструменты для успешной интеграции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное нами исследование позволяет прийти к следующим выводам. Во-первых, сообщества не складываются по этническому принципу — в их основании лежат другие характеристики. Во-вторых, диаспоральные организации не представляют сообщества, а являются отдельными, оторванными от основной массы мигрантов образованиями. В-третьих, сообщества являются пространством интеграции мигрантов. В-четвертых, структура сообщества связана с отношениями и институтами, которые в нем возникают. В-пятых, сообщества складываются по-разному и существенно отличаются друг от друга. В ходе проекта было выделено четыре идеальных типа сообществ: исламские полиэтнические сообщества, земляческие, сообщества шаговой доступности и «азербайджанский бизнес». Результатом проекта также является выделение не сообщества, но общества — «киргизтауна», не локализованного в какой-либо точке Москвы, но рассеянного по всему городу.
В рамках исследования были проведены этнографические описания двух типов сообществ — земляческих сообществ самаркандцев и исламских сообществ. Самаркандские кафе разбросаны по трем основным точкам Москвы, две из которых связаны с рынками, а одна — напротив, дистанцируется от них. Земляческие сообщества возникают, когда связи, образованные еще до миграции, переносятся в Россию. Интенсивные родственные, соседские связи, даже старые конфликты — все это становится основой для выстраивания земляческих связей в условиях, когда необходимо наращивать социальный капитал в новом месте. Земляческие сообщества могут быть эффективным буфером для новоприбывших, плохо знающих русский язык, не ориентирующихся в социальном, да и географическом пространстве большого города. Самаркандские земляческие сообщества — это в первую очередь пространства символической и смысловой безопасности, достигаемой за счет высокой однородности. В меньшей степени в них выражены другие, прагматические, отношения — хотя и эти сообщества являются аккумуляторами социального капитала, доступ к которому имеют те, кому доверяют, — а значит, те, на кого распространяется социальный контроль сообщества.
В рамках исламской инфраструктуры, существующей в одном из районов Москвы, особую роль играют халяльные кафе, вокруг которых возникли два не связанных между собой сообщества. Два кафе рядом с мечетью служат точкой притяжения для сообщества мусульман-мигрантов преимущественно с Северного Кавказа, на периферии которого находятся мигранты из Средней Азии, стран Черной Африки и других мусульманских регионов. Вокруг другого кафе складывается исламское сообщество «шаговой доступности», связанное с наличием рабочих мест поблизости и скрепляемое ежедневной молитвой в отведенном для этого помещении. Это сообщество полиэтнично, однако в нем доминируют мигранты из Узбекистана и Северного Кавказа. «Мечетнее» сообщество позиционирует себя как часть мировой исламской уммы, однако погружено в местный контекст, что позволяет ему сформировать собственный взгляд на окружающее общество, основной претензией к которому оказывается его нерелигиозный характер.
[1] Brubaker R. The «Diaspora» Diaspora // Ethnic and Racial Studies. 2005. Vol. 28. № 1. P. 1 — 19.
[2] См.: Bertotti M.,Jamal F, Harden A. Connected Communities. A Review of Conceptualizations and Meanings of «Community» within and across Research Traditions: a Meta-Narrative Approach // http://www.ahrc.ac.uk/Funding-Opportunities/Research-funding/Connected-C....
[3] Smith M.K. «Community» in the Encyclopedia of Informal Education //http://infed.org/mobi/community/.
[4] Бурдьё П. Различение: социальная критика суждения // Экономическая социология. 2005. Т. 6. № 3. С. 25—48.
[5] Social Mechanisms: An Analytical Approach to Social Theory/ P. Hedstrom, R. Swedberg (Eds.). Cambridge University Press, 1998; Hedstrom P., Swedberg R. Social Mechanisms // Acta Sociologica. 1996. Vol. 39. № 3. P. 281—308.
[6] Участники проекта: А. Алхасов, Э. Белан, Е. Бик, П. Дяч- кина, М. Ерофеева, Е. Киселев, С. Кукол, М. Мотыльков, А. Мурадян, И. Напреенко, К. Пузанов, К. Смоленцева. Преподаватель — И.Е. Штейнберг.
[7] «Длинный стол» — это методика работы, предполагающая регулярные встречи исследовательской группы для обсуждения хода проекта: от постановки проблемы и теоретических вопросов до методических сложностей и аналитической работы. «Длинный стол» одновременно служит «производству» исследования и исследователя, поскольку предполагает выявление и заполнение лакун в знаниях, и выполняет функцию «интеллектуальной поддержки» для участников проекта. См.: Шанин Т. Методология двойной рефлексивности в исследованиях современной российской деревни // Социологический журнал. 1998. № 3/4. С. 101—116; Ковалев Е.М., Штейнберг И.Е. Качественные методы в полевых социологических исследованиях. СПб.: Алетейя, 2009.
[8] «Видимые меньшинства» — это категория канадского законодательства, обозначающая людей, которые не относятся к белым, за исключением аборигенов (Employment Equity Act. S.C. 1995. C. 44). Термин, который впервые был употреблен в 1984 году (Equality in Employment: A Royal Commission Report), появился в ответ на необходимость практических действий по борьбе с дискриминацией на рынке труда для уязвимых групп, в числе которых были выделены «видимые меньшинства» наряду с женщинами, аборигенами и людьми с ограниченными возможностями. Эта категория изначально использовалась применительно к канадцам китайского и африканского происхождения, которые в одинаковой степени сталкивались с проблемой неравных возможностей на рынке труда. На тот момент эта категория работала, поскольку выделяла действительно «проблемную» группу, отделяя ее от «непроблемной». Несмотря на изменившуюся ситуацию, категория до сих пор используется в канадской статистике, что подвергается критике. Во-первых, она создает искусственную группу, которая в современных условиях оказывается неоднородной (одни меньшинства оказываются гораздо успешнее, чем общий «белый» мейнстрим, и потому не могут более быть отнесены к категории уязвимых видимых меньшинств); во-вторых, критерии причисления к этой группе нечеткие (в США и Канаде люди относятся к этой группе в силу разных причин). Подробнее о критике использования этой категории см.: Woolley Fr. Visible Minorities: Distinctly Canadian. 2013 //http://worthwhile.typepad.com/worthwhile_canadian_initi/2013/05/visible-.... Мы будем использовать этот термин, поскольку он позволяет подчеркнуть разницу восприятий, имеющую структурный смысл, при которой «таджики», «узбеки» и «кавказцы» объединяются в сознании «местных» в одну группу.
[9] Подробнее о методологии исследования: Варшавер Е.А., Рочева АЛ. Сообщества в кафе как среда интеграции иноэтничных мигрантов в Москве // Сборник статей по результатам конференции «Пути России 2013» (в печати).
[10] Portes A., Zhou M. The New Second Generation: Segmented Assimilation and its Variants // The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 1993. Vol. 530. № 1. P. 74—96.
[11] Nations Unbound: Transnational Projects, Postcolonial Predicaments, and Deterritorialized Nation-States / L. Basch, N.G. Schiller, C.S. Blanc (Eds.). Routledge, 2013.
[12] Детальнее о «киргизтауне» можно прочесть в публикациях Центра исследований миграции и этничности РАНХиГС за 2014—2015 гг. ЦИМЭ провел отдельное исследование, посвященное «Киргизтауну», в 2013—2014 гг.
[13] Waldinger R. et al. Ethnic entrepreneurs: Immigrant Business in Industrial Societies // University of Illinois at Urbana- Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship. Newbury Park; London; New Delhi: Sage Publications, 1990.
[14] Бредникова О., Паченков О. Этничность «этнической экономики» и социальные сети мигрантов // Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 2. С. 74—81; Зотова НА. Трудовая миграция из стран Средней Азии в Россию. Положение в принимающей стране и адаптация сезонных мигрантов // Гастарбайтерство. Факторы адаптации. М.: Старый сад, 2008. С. 153—176; Фофанова К., Борисов Д. Сетевой ресурс как фактор интеграции иностранных трудовых мигрантов в региональный социум // Журнал исследований социальной политики. 2013. Т. 11. № 2. С. 189—206.
[15] О понятии «яркой» границы см.: Alba R. Bright vs. Blurred Boundaries: Second-Generation Assimilation and Exclusion in France, Germany, and the United States // Ethnic and Racial Studies. 2005. Vol. 28. № 1. P. 20—49.
[16] Tilly C. Transplanted Networks. New School for Social Research, 1986.
[17] Садака — милостыня, которая собирается и распределяется по определенным правилам.
[18] Азан — призыв к молитве в исламе.
Опубликовано в журнале:
«НЛО» 2014, №3(127)
Еврейская космополитичная художественная диаспора во Франции в первой половине ХХ века: механизмы самосохранения и конструирования памяти
Алек Эпштейн
Еврейская космополитичная художественная диаспора во Франции в первой половине ХХ века:
МЕХАНИЗМЫ САМОСОХРАНЕНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЯ ПАМЯТИ[1]
I
Одной из самых резонансных выставок, прошедших в 2012—2013 годы во Франции и в Италии (вначале она была открыта в Париже, затем — в Милане и в Риме), стала экспозиция «Модильяни, Сутин и проклятые художники». Учитывая, что как во Франции, так и в Италии культурно-выставочная жизнь происходит почти исключительно на государственных языках этих стран, не приходится удивляться тому, что каталоги и буклеты были изданы лишь по-французски и по-итальянски; не только на русском, но даже и на английском никаких публикаций организаторами выпущено не было. Об этом можно лишь сожалеть, ибо речь идет об экспозиции поистине исключительной. В ней были представлены работы целой группы художников (помимо указанных в названии), в основном — выходцев из стран Восточной и Центральной Европы, которые активно участвовали в художественной жизни Франции начала ХХ века и которых теперь принято относить к так называемой «Парижской школе».
Почти никто из художников, работы которых были представлены на этой выставке, не родился во Франции, т.е. все они — представители художественных диаспор. Проблема, однако, состоит в том, что определить, к каким же диаспорам принадлежали художники «Парижской школы» и где располагались те метрополии, с которыми имеет смысл их идентифицировать, весьма затруднительно. Сегодняшнее понимание диаспор и метрополий исходит, как правило, из актуальных границ государств, причем государств ныне существующих, что крайне запутывает ситуацию, затрудняя понимание места различных социально-культурных феноменов в их эпохах. Италия может гордиться Амедео Модильяни, причисляя его к «своей» диаспоре, но австро-венгерской диаспоры не существует в связи с исчезновением этой империи с карты мира, поэтому непонятно, какая страна должна гордиться «своим» Моисеем Кислингом (который, вообще говоря, родился и вырос в Кракове, т.е. на территории современной Польши, но тогда, когда Краков входил в состав Австро-Венгрии)? Можно ли считать этого художника представителем польской диаспоры? Какая страна должна считать «своим» Рудольфа Леви, родившегося в Штеттине и выросшего в Данциге, бывших тогда частью Германии, но в настоящее время являющихся польскими городами Щецин и Гданьск? Мыслимо ли относить его, никогда не жившего в Польше и не владевшего польским языком, к деятелям искусства польского зарубежья — и разумно ли считать его по факту рождения «немцем», если именно вследствие того, что немцы не признали его таковым, он был в 1944 году депортирован в Освенцим, где и погиб? Правомерно ли относить к «русскому зарубежью» Мане-Каца, родившегося в Кременчуге и учившегося в художественной школе в Киеве, на территории нынешней Украины, Исаака Анчера, родившегося в бессарабской деревне Пересечино, или Хаима Сутина, выросшего в Смиловичах под Минском, на территории нынешней Беларуси? С другой стороны, мыслимо ли в принципе относить этих — и других — людей к представителям украинской, молдавской и белорусской художественных диаспор, если в период их жизни в Кременчуге, Пересечине и Смиловичах ни украинской, ни молдавской, ни белорусской государственности не существовало в принципе?
Всего в экспозиции были представлены 122 работы, собранные почти столетие назад одним-единственным человеком — Йонасом Неттером (Jonas Netter, 1868—1946). Куратор выставки Марк Рестеллини так охарактеризовал художников, работы которых экспонировались на ней: «Их мятущиеся души выражали себя с помощью живописи, которая питалась их отчаянием. В конце концов, их искусство было не польским, болгарским, итальянским, русским или французским, а абсолютно оригинальным, в Париже они нашли свои особенные средства выражения, с помощью которых смогли передать свое видение, чувства и мечты. Эти годы были годами эмансипации и потрясений, подобных которым было немного в истории искусства. Везде в Европе продолжалась эстетическая революция, послужившая прелюдией для эволюции морали. И это в Париже — в единственном месте на земле, где повстанческое движение имеет право на гражданство. Сначала на Монмартре и Монпарнасе, где эти художники — все евреи — вытянули свой счастливый билет. Евреем был и Йонас Неттер, влюбленный в искусство и живопись, ставший увлеченным коллекционером и проницательным открывателем новых талантов, благодаря встрече с польским арт-дилером и поэтом Леопольдом Зборовским, также евреем по происхождению»[2].
Вообще, такого рода анализ — сам по себе большая редкость. Сложилась парадоксальная ситуация: так называемая «Парижская школа» первой трети ХХ века «школой» не была ни в каком смысле слова, а художники, традиционно относимые к ней, не были объединены вокруг какой бы то ни было институции; даже в легендарном ныне «Улье» на Монпарнасе жили отнюдь не все. «Искусствоведы придумали этикетку "Парижская школа"; пожалуй, вернее сказать — страшная школа жизни, а ее мы узнали в Париже», — точно обозначил проблему отсутствия какого-либо общего эстетического знаменателя умудренный жизнью Илья Эренбург (1891 — 1967)[3]. Общим для значительного большинства этих художников был факт их принадлежности к некоей общности, к которой они как раз принадлежности чувствовать не хотели, а именно — к восточно- и центральноевропейской еврейской диаспоре. Марк Шагал и Михаил Кикоин, Пинхус Кремень и Хаим Сутин, Осип Цадкин и Ханна Орлова, Жюль Паскен и Исаак Анчер, Мане-Кац и Исаак Добринский, Абрам Минчин и Иссахар-Бер Рыбак, Айзик Федер и Анри Эп- штейн, Моисей Кислинг и Амедео Модильяни — к этой диаспоре принадлежали они все, ибо все до единого родились в еврейских, как правило, очень традиционных семьях, причем все до единого — далеко от Парижа, за пределами Франции. Почти про всех них можно сказать, что они уехали в космополитичный Париж, чтобы перестать быть евреями в традиционном смысле этого слова. Иудаизм запрещает всякое изображение человека. Заповедь «не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли» подавляла развитие изобразительного искусства в еврейской среде. В Средние века иудейские религиозные законы против искусства стали еще более жесткими: был введен запрет на изготовление выпуклых изображений не только человека, но также льва, орла и быка; запрещались также изображения солнца, луны и звезд. В Еврейской энциклопедии, выходившей с 1906 по 1913 год, как раз когда во Франции оказались почти все художники и скульпторы, которых постфактум стали относить к «Парижской школе», справедливо отмечалось: «Обозревая всю еврейскую историю, мы видим, что пластическое искусство только временами проникало к евреям из соседних стран, но никогда не находило среди них благоприятной почвы для своего развития. Исторические судьбы еврейского народа, политический и религиозный быт его и характер его миросозерцания препятствовали тому, чтобы искусство этого рода свило себе гнездо среди него»[4]. Учитывая, что еврейство в традиционном понимании это одновременно и конфессия, и этнос (в иврите нет разделения между словами «еврей» и «иудей»), уроженцы еврейских семей, выбиравшие путь художников и скульпторов, фактически уже самим этим выбором порывали с той этнокон- фессиональной средой, к которой они принадлежали.
Натали Хасан-Брюне отмечала, что «нигде, кроме Парижа, эти еврейские художники не могли оторваться от своего происхождения»[5]. Двое из этих художников — Айзик Федер (Aizik Feder, 1885—1943) и Анри Эпштейн (Henri Epstein, 1891—1944), три работы которых представлены на выставке, были депортированы и погибли в Освенциме, остальные, среди которых Михаил (Мишель) Кикоин, Пинхус Кремень, Исаак Анчер, Зигмунт Ландау и другие, смогли выжить в годы Холокоста, продолжив творить и на протяжении многих лет после окончания Второй мировой войны.
В результате сложилась удивительная ситуация: символом космополитичного духа художественной Франции первых десятилетий ХХ века была объявлена «Парижская школа»: тут и уроженец Италии Амедео Модильяни, и выходцы из Австро-Венгрии Моисей Кислинг, Александр Хеймовиц и Вилли Эйзеншитц, и приехавшие из Российской империи Марк Шагал (настоящие имя и фамилия — Мойше Сегал), Хаим Сутин и Мане-Кац (Мане Лейзерович Кац), и эмигрировавший из Болгарии Жюль Паскен (Юлиус Мордехай Пинкас), и родившийся в Германии Рудольф Леви, есть даже отдельные коренные граждане Франции, в частности Макс Жакоб, — воистину интернационал![6]Однако то, что предстает примером дивной полифонии с точки зрения гражданского происхождения, оказывается почти полностью однородным с точки зрения этноконфессиональной: в Париж заниматься искусством бежали (иногда в прямом смысле слова) в основном евреи, пусть и из разных стран Восточной и Центральной Европы. Речь идет о диаспоре, чья идентичность была сконструирована постфактум, исходя из доминирующей сегодня как во Франции, так и в США концепции «гражданской нации». Национальное многоголосие «Парижской школы» — в значительной мере иллюзия, являющаяся следствием того, что в английском и французском языках понятие «нация» означает то, что в русском языке принято называть «гражданством». Когда разные авторы пишут о космополитичной атмосфере «Парижской школы», они фактически анализируют очень своеобразное и характерное явление — еврейский космополитизм эпохи, оказавшейся периодом, предшествовавшим Холокосту, жертвами которого стали и несколько десятков живших и работавших на Монпарнасе и на Монмартре художников, в том числе и Макс Жакоб (Max Jacob, 1876—1944), погибший то ли в связи с тем, что был евреем, то ли из-за того, что был гомосексуалом. В годы нависшей над ними смертельной опасности Франция смогла — и захотела — защитить очень немногих из художников «Парижской школы», даже когда речь шла об уроженцах страны.
При этом вышеупомянутая Натали Хасан-Брюне не сильно погрешила против истины, указав, что в целом «художники, прикованные к своей этнической принадлежности, редко ассоциировались с французским искусством, а если они становились известными, то чаще всего благодаря своей жизни и легенде, которую она порождала (как это было с Модильяни, Сутином, Паскеном), нежели своим произведениям»[7]. Обойдя книжные магазины всех крупнейших парижских музеев, замечу, что самая представительная подборка книг об этих живописцах, без сомнения, находится не в Лувре, не в Музее Орсэ и не в Центре Помпиду, а в киоске Музея искусства и истории иудаизма. Однако этот музей посвящен не просто еврейской, а французской еврейской истории. Значит ли это, что Амедео Модильяни, проживший в Италии двадцать с половиной из тридцати пяти лет своей жизни, или Рудольф Леви, не только родившийся в Германии, но и служивший в Первой мировой войне в немецкой армии, а в 1930-е годы последовательно живший в Германии, Испании, США и Италии (где он, собственно, и был арестован и откуда депортирован в Освенцим), посмертно оказались причислены к французскому еврейству и французскому искусству в силу того, что пребывание в этой стране оказало огромное влияние на развитие их художественных дарований? Что все-таки определяет принадлежность к той или иной диаспоре, какая страна — или какие страны — были для этих художников метрополиями?..
II
Коль скоро «школа», пусть и никогда не существовавшая, была названа искусствоведами «Парижской», а парижский Музей искусства и истории иудаизма предлагает книги и альбомы едва ли не обо всех художниках, к этой «школе» относимых, постараемся все же разобраться, какое место занимали эти люди во французском искусстве. Рассмотрение вопроса о том, как эти художники при жизни находили свое место в среде музеев и галерей Франции, приводит к небезынтересным выводам. Точнее — и честнее — было бы сказать, что этого места они при жизни почти не находили. У Амедео Модильяни (Amedeo Modigliani, 1884—1920) не было фактически ни одной прижизненной выставки, кроме экспозиции, открытой лишь на несколько часов в галерее Берты Вейль. Первая персональная выставка Хаима Сутина (Chaim Soutine, 1893—1943) состоялась в 1935 году в Чикаго, во Франции же она прошла только в 1945 году, после окончания Второй мировой войны, когда художника уже не было в живых, выставка же в парижском музее (а не в частной галерее) впервые прошла в Музее Оранжери лишь в 1973 году[8]. Не намного лучше обстояли дела у остальных художников, за исключением, правда, более успешного Марка Шагала. За девяносто лет жизни и более чем шестьдесят лет творческой деятельности Пинхуса Кременя (Pinchus Kremegne, 1890—1981) ни в одном французском музее не было организовано ни одной его персональной выставки, его картины экспонировались только в галереях, хотя и сравнительно часто: с 1919 по 1936 год в Париже были организованы девять экспозиций его работ, после чего последовал десятилетний перерыв[9]. В отсутствие интереса к их творчеству со стороны государственных и региональных музеев судьбоносное значение для этих художников имело присутствие в их жизнях коллекционеров и галеристов, ценивших и готовых поддерживать их. Об этих людях пишут незаслуженно редко, хотя, как представляется, изучение их судеб и систем их взаимоотношений с художниками позволяет понять многое.
Коль скоро отправной точкой для настоящей статьи стала выставка картин, происходящих из собрания Йонаса (Жака) Неттера, уместно попробовать реконструировать личность этого человека. Хотя он умер менее семидесяти лет назад, о нем известно очень немногое. Й. Неттер родился в семье преуспевающего страсбургского коммерсанта еврейского происхождения. Когда ему было шесть лет, семья перебралась в Париж. В ходе подготовки выставки организаторы смогли найти лишь одну его фотографию, причем и ее не удалось точно датировать, но, по всей видимости, она была сделана около 1900 года, т.е. задолго до того, как было положено начало его поразительной коллекции. Насколько известно, молодой человек был большим меломаном и сам играл на фортепиано, но занимался бизнесом, был торговым представителем — до тех пор, пока случай не изменил его жизнь.
В 1915 году Йонас Неттер отправился в префектуру полиции для того, чтобы продлить действие своих документов. Его принял префект Леон Замарон (Leon Zamaron, 1872—1955), в кабинете которого он увидел полотно Мориса Утрилло (Maurice Utrillo, 1883—1955) и выразил восхищение этой работой. Л. Замарон, о котором в книге «Повседневная жизнь Монпарнаса в великую эпоху, 1905—1930» говорится, что «он действительно любил искусство и, не имея лишних денег, во многом отказывал себе, чтобы покупать картины»[10], оживился, признавшись, что Й. Неттер — первый, кто обратил внимание на эту картину и оценил ее. Мы не знаем доподлинно, задумывался ли Й. Неттер до этого о коллекционировании картин (ему было 43 года, юношеского сумасбродства быть уже не могло), или же встреча с Л. Замароном действительно стала для него неожиданным поворотным моментом. Как бы то ни было, именно после этого начинается история Й. Неттера — коллекционера и мецената. Оценив вкус своего посетителя, префект пообещал познакомить его с Леопольдом Зборовским (Leopold Zborowski, 1889—1932) — коллекционером и арт-дилером, который был знаком со многими художниками. Состоявшееся вскоре знакомство стало началом многолетнего сотрудничества двух поклонников живописи.
Людьми они при этом были очень и очень разными. Эмоциональный и общительный Л. Зборовский, поэт, приехавший изучать словесность в Сорбонне, которого знала вся парижская богема, не умел рационально обращаться с деньгами, вел несдержанный образ жизни, вследствие чего нередко оказывался в долгах, несмотря на то что зачастую недоплачивал художникам. В России о нем первым написал в своих знаменитых мемуарах Илья Эренбург: «Зборовский сам был неудачником: молодой польский поэт приехал в Париж, мечтал о рейсе на волшебную Цитеру и оказался на мели — перед чашкой кофе в "Ротонде". Денег у него не было; он жил с женой в маленькой квартире; Модильяни там часто работал. А Зборовский брал под мышку его холсты и с утра до ночи рыскал по Парижу, тщетно пытаясь соблазнить работами итальянского художника настоящих торговцев картинами»[11]. Как раз Й. Неттера он этими картинами и «соблазнил»; И.Г. Эренбург, видимо, не знал об этом, потому даже не упомянул его имя в своей многотомной книге воспоминаний. Прагматичный, сдержанный, вежливый, организованный и честный Й. Неттер был во многих отношениях антиподом Зборовского. Мы практически ничего не знаем об их взаимоотношениях, но, по всей видимости, Л. Зборовский подкупил Й. Неттера собственной глубочайшей убежденностью в талантах художников, с которыми он сотрудничал. Первоначально Й. Неттера привлекали полотна художников-импрессионистов, однако они к тому времени стоили дорого и были ему уже не по карману. В то же время работы А. Модильяни, Х. Сутина и других монпарнасских художников того времени практически ничего не стоили — не забудем, что в последнем «Осеннем салоне», в котором он участвовал, прошедшем в 1919 году, А. Модильяни выставил четыре работы, из которых не была продана ни одна. Й. Неттер был в то время практически единственным человеком, не принадлежавшим к числу родственников А. Модильяни, Х. Сутина и М. Утрилло, который финансово поддерживал их, исходя из убежденности в масштабности их художественного дарования. Именно в связи со встречными обязательствами художников перед Й. Неттером появились многие работы, входящие сегодня в пантеон наследия того, что позднее было условно объединено под названием «Парижской школы».
Совместно с Л. Зборовским Й. Неттер начал поддерживать бедствовавших художников, получая взамен их работы. Ценил он работы художников не только еврейского происхождения (сведений об отце вышеупомянутого Мориса Утрилло нет, но его мать, Сюзан Валадон, еврейкой не была, при этом в единственном прижизненном интервью, которое Й. Неттер дал о его отношениях с художниками и собранных им работах, имя М. Утрилло звучит чаще остальных[12]), но все же почти все живописцы, работы которых он приобретал, кого поддерживал и с кем переписывался, родились в еврейских семьях.
Л. Зборовский с Й. Неттером платили художникам что-то вроде зарплаты — за обязательство поставлять определенное число картин определенного размера каждый месяц, и хотя эти условия, очевидно, ограничивали свободу творческого самовыражения живописцев, отказаться они не могли, ибо никто другой не предлагал им даже этого, особенно в трудные годы Первой мировой войны. Художники писали Й. Неттеру довольно-таки сервильные письма, спрашивая, сколько работ в каком жанре он ждет от них в этом месяце, а сколько — в следующем. Рассматривая шедевры, экспонировавшиеся на выставках в Париже, Милане и Риме, стоит помнить о том, в каких условиях они создавались. Й. Неттер изначально не был филантропом, он платил вперед за создание работ художникам, которых смог оценить раньше, чем их оценили другие, в том числе много более состоятельные, коллекционеры.
Первым живописцем, которому он начал оказывать поддержку вместе со Зборовским, стал Амедео Модильяни. Самая ранняя работа А. Модильяни в коллекции Й. Неттера — небольшой рисунок «Кариатида», датируемый 1913 годом. В начале 1910-х годов А. Модильяни выполнил несколько подобных рисунков, в которых в той или иной степени обыгрывается обнаженная женская фигура, заключенная в узкие композиционные рамки. Рисунок из коллекции Й. Неттера отличается подчеркнутой выразительностью; выполненный в синем карандаше, он характеризуется крайне декоративной подачей фигуры. Пространственная глубина в рисунке показана опосредованно — фон лишь немного обозначен вдоль контура фигуры.
Кто именно познакомил А. Модильяни с Л. Зборовским, толком неизвестно — по одним сведениям, это был М. Кислинг, по другим — первая жена художника Фужиты, Фернанда Барри[13]. Как бы там ни было, в 1915 году А. Модильяни поселился в квартире Леопольда и Ханки Зборовских. Художник также получал от Л. Зборовского содержание в размере пятисот франков в месяц, а также оплату расходов на услуги натурщиц и художественные материалы. По всей видимости, основную часть этих расходов в реальности нес Й. Неттер, передававший деньги Л. Зборовскому. Первоначально деньги предоставлялись Л. Зборовскому в форме займов, которые последний, не всегда имея возможность вернуть, порой возмещал за счет полотен, создаваемых А. Модильяни.
В 1917 году Л. Зборовский сделал попытку организовать первую выставку работ А. Модильяни, сумев заинтересовать его творчеством владелицу магазина художественных изделий Берту Вейль, которая в то время только что переехала со своей галереей в новое помещение близ Оперы. 3 декабря 1917 года в этой галерее собралась группа гостей, приглашенных на вернисаж; это была первая персональная выставка 33-летнего А. Модильяни, на которой было представлено около тридцати рисунков и картин. Чтобы привлечь больше публики, Л. Зборовский выставил на витрину два созданных художником обнаженных женских портрета, в самом деле обративших на себя внимание прохожих. К несчастью для организаторов выставки, помещение галереи находилось прямо напротив полицейского участка, куда сразу же вызвали Берту Вейль. Под угрозой конфискации работ полицейскими она была вынуждена снять все картины с экспозиции. Сложно сказать, что именно так возмутило чопорных полицейских, поскольку вся история мировой живописи полна обнаженных женских портретов: достаточно вспомнить «Венеру Урбинскую» Тициана, «Маху обнаженную» Гойи, «Большую одалиску» Энгра, «Олимпию» Эдуарда Мане... Однако полицейские редко имеют склонность к ведению искусствоведческих дебатов, а влиятельных покровителей, которые бы могли и хотели вступиться за А. Модильяни и его творчество, не нашлось.
Берта Вейль (Berthe Weill, 1865—1951) приехала в Париж из Эльзаса и училась у антиквара, а когда тот умер, заняла у его вдовы 375 франков и открыла свое дело. Сначала она выставляла старинные вещи, серебро, миниатюрные изделия, приносимые ей на хранение, а потом начала продавать литографии Оноре Домье, Анри Тулуз-Лотрека, Одилона Редона. Вскоре, однако, она пошла значительно дальше, благодаря чему вошла в историю искусства как первый человек, еще в самые первые годы ХХ века выставлявший работы Рауля Дюфи, Пабло Пикассо и Анри Матисса — тогда, когда они были еще совсем никому не известны, а она только открыла свою первую галерею — крохотный магазинчик в доме 25 по улице Виктора Массе. 8 марта 2013 года мэрия Парижа открыла на этом доме мемориальную доску, на которой высечены следующие слова: «По этому адресу Берта Вейль открыла в 1901 году первую художественную галерею для продвижения молодых художников. Ее поддержка стала условием обретения известности самыми передовыми современными художниками». Ж.-П. Креспель отмечал: «Исключительно честная, она однажды отказалась купить у пьяного Утрилло гуаши по пять франков за штуку, потому что не хотела пользоваться его состоянием. Весьма неприхотливая, она спала в чуланчике, питалась овощами и компотом, которые варила тут же, в галерее». При этом «денег у нее всегда было в обрез, и ей часто приходилось закладывать свои не слишком богатые драгоценности»[14].
Ее галерея просуществовала до 1939 года. Берта Вейль выставляла, конечно, не только художников еврейского происхождения, но все же нельзя не отметить, что она пропагандировала многих их них. Среди живописцев и скульпторов, работы которых она выставляла, — Осип Цадкин и Макс Жакоб, Вилли Эйзеншитц (1889—1974) и Александр Гарбель (1903—1970), Марк Шагал и Амедео Модильяни...[15] Не будет лишним упомянуть и то, что значительное влияние на формирование интереса Берты Вейль к современной живописи и графики оказал искусствовед Роже Маркс (Roger Marx, 1859—1913) — как и она, он был уроженцем Франции, а не эмигрантом (он родился в Нанси), но также еврейского происхождения.
Так сложилось, что в памяти потомков Берта Вейль долгие годы находилась в тени другой женщины еврейского происхождения, ставшей широко известной именно в силу поддержки ею парижских художников, в особенности, хотя и не только, фовистов и кубистов — речь идет, конечно, о Гертруде Стайн (Gertrude Stein, 1874—1946). Вместе со старшим братом Лео (1872— 1947) они приехали в Париж из США в 1903 году, уже попутешествовав по Европе, и, не будучи стесненными в средствах, начали в больших количествах приобретать произведения искусства. Начав с покупки работ Поля Гогена, Поля Сезанна и Огюста Ренуара, брат и сестра быстро переключились на более молодых художников. По словам Ж.П. Креспеля, «Лео, человек большой эрудиции и тонкого ума, находил новаторов, отбирая у них наиболее значительное и оригинальное»[16]. В 1905 году брат и сестра купили первые полотна Анри Матисса (его работы также активно покупали их старший брат Майкл с супругой Сарой, жившие в Париже более тридцати лет, до 1935 года) и Пабло Пикассо (с ним Гертруда сохранила близкие отношения на протяжении последующих сорока лет, а созданный им ее портрет широко известен), за которыми последовали многие другие: интерес к кубизму Гертруда Стайн сохранила на всю жизнь[17]. В 1914 году брат и сестра разъехались: она осталась во Франции, он перебрался в Италию; насколько известно, за всю последующую жизнь они встретились всего единожды, причем случайно. По своему социальному происхождению Стайны были бесконечно далеки от нищих выходцев из «черты оседлости» Сутина, Кременя и Кикоина, но при этом целый ряд художников «Парижской школы» еврейского происхождения вызывал живой интерес Гертруды: она была в дружеских отношениях и многие годы переписывалась с Максом Жакобом, приобретала, среди других, работы Марка Шагала, Амедео Модильяни, Жюля Паскина... Прошедшая в 2011— 2012 годах во Франции и в США (в Музее современного искусства в Сан- Франциско, в Grand Palais в Париже и в музее Метрополитен в Нью-Йорке) масштабная выставка «The Steins Collect: Matisse, Picasso, and the Parisian Avant-Garde», в рамках которой были фактически реконструированы салоны домов и квартир, в которых жили в столице Франции Гертруда, Лео, Майкл и Сара, адекватно представила ту роль, которую сыграли члены семьи Стайн в поддержке современного искусства в Париже в первой половине ХХ века[18]. Хочется надеяться, что будет организована и аналогичная экспозиция, реконструирующая выставки, проведенные Бертой Вейль в ее галерее.
История со срывом выставки А. Модильяни в галерее Б. Вейль не поколебала веру Й. Неттера в его талант. В марте 1918 года, когда Париж обстреливала германская артиллерия и снаряды разрывались то здесь, то там, наводя ужас на немногочисленных оставшихся в городе жителей, Л. Зборовский обратился к Й. Неттеру за помощью. На выделенные коллекционером деньги смогли уехать в Кань-сюр-Мер на Лазурный берег А. Модильяни с беременной Жанной Эбютерн и ее матерью, Х. Сутин, сам Л. Зборовский с супругой Ханкой, а также Леонар Фужита со своей женой Фернандой Барри. Й. Неттер был не из тех, кто наживался на бедах художников в годы войны, но благотворительностью тоже не занимался — за выданные на эту поездку две тысячи франков коллекционер, насколько известно, получил двадцать картин А. Модильяни. В коллекции Й. Неттера есть и две работы Жанны Эбютерн (Jeanne Hebuterne, 1898—1920) — любимой женщины и музы А. Модильяни, прожившей очень короткую жизнь, творчество которой практически совершенно неизвестно: «Интерьер с фортепиано» (1918) и «Адам и Ева» (1919).
Однако отношения Й. Неттера со Л. Зборовским вскоре дали трещину: по всей видимости, Й. Неттер считал, что Л. Зборовский передает ему существенно меньшее количество работ А. Модильяни, чем было оговорено между ними. В 1919 году в письме Л. Зборовскому Й. Неттер оговорил условия продолжения своей поддержки. Он соглашался оплачивать половину расходов на содержание художника в сумме до 500 франков в месяц, которые был готов выплачивать А. Модильяни или напрямую, или через Л. Зборовского. В обмен на это Й. Неттер требовал от Л. Зборовского предоставлять ему все работы, которые создавал художник, из которых Й. Неттер хотел иметь право отобрать половину по собственному усмотрению. Ссылаясь на слова Л. Зборовского о том, что А. Модильяни создавал в то время 12—14 полотен разного размера в месяц, Й. Неттер оговаривал свое право на участие в разделе работ А. Модильяни, выполненных в любой технике. Когда Й. Неттер формулировал эти условия, жить А. Модильяни оставалось меньше года (он скончался 24 января 1920 года), и мы не знаем, сколько картин и рисунков А. Модильяни находилось у Й. Неттера на момент смерти художника. Самая поздняя работа А. Модильяни из представленных на выставке — портрет «Неизвестной в голубом», написанный в 1919 году.
В 1915 году А. Модильяни познакомился с художником, ставшим его глубинным душевным другом, несмотря на огромные различия между ними, — Хаимом Сутином. Х. Сутину было всего девятнадцать лет, когда они познакомились, — А. Модильяни был на целых десять лет его старше, но ни это, ни еще большая разница в уровне культуры, ни противоположность темпераментов, словом, ничто не мешало их сближению. «Они сумели разглядеть друг в друге и сущность таланта и сущность души — разглядеть, понять и принять, — писал В.Я. Виленкин. — По отношению к Сутину это редко кому удавалось, потому что обычно такому сближению противилась помимо его воли вся его болезненно сложная, недоверчиво замкнутая натура. Многие считали Сутина дикарем, сторонились его, порой даже боялись. Когда он, напялив на себя что попало, бледный, насквозь пропахший масляной краской и скипидаром, с прилипшей к потному лбу прядью и мрачно сосредоточенным взглядом ломился подряд во все двери "Улья" в надежде поживиться хотя бы объедками, от него, бывало, старательно запирались. Но на другой день он мог гордо отказаться от добровольно предложенных кем-нибудь из товарищей нескольких су, в которых он так нуждался»[19].
Эту странную в глазах обывателей дружбу между денди и красавцем Амедео, родной брат которого Джезуппе Эмануэль Модильяни (Giuseppe Emanuele Modigliani, 1872—1947) был, начиная с 1913 года, депутатом итальянского парламента, и нищим увальнем из местечка Смиловичи, не получившим образования ни на одном языке, думается, понял культуролог Михаил Герман, заметивший, что двух художников роднило «ощущение жизни как боли, умение сострадать и ощущение это реализовывать в искусстве. ...Пульсирующая плоть живописи Сутина, созданные из нее и почти физически ощущаемой печали персонажи решительно не похожи на строгую линеарность картин Модильяни с их филигранной фактурой и продуманной плоскостностью. Но в картинах обоих — словно бы общий аккомпанемент, общая эмоциональная тональность, они говорят на разных пластических языках, но примерно об одном и том же и прежде всего — о горьком страдании. Сутин выплескивал на поверхность холста весь свой неистовый темперамент, боль и весь восторг перед зримым и пережитым, Модильяни отливает свои впечатления в отточенную, сдержанную, покорную выработанному стилю систему»[20]. В 1915—1916 годах А. Модильяни не менее четырех раз рисовал Х. Сутина[21]; один из портретов находится в Национальной галерее в Вашингтоне и поэтому широко известен; в собрании Й. Неттера представлена другая, не менее значимая работа.
Х. Сутин в то время буквально бедствовал. Он ночевал то у одних, то у других знакомых — то у Михаила Кикоина (1892—1968), то у Леона Инденбаума (1890—1981), то у Оскара Мещанинова (1884—1956), то у Хаима-Яакова (Жака) Липшица (1891—1973). Все они, как и сам Х. Сутин, были выходцами из еврейских семей, живших в Российской империи, добравшимися до Парижа, чтобы заниматься искусством, что лишний раз демонстрирует: «Парижская школа» была не просто сообществом художников, но этнонациональной диаспорой. Чтобы не умереть с голоду, Х. Сутин нанялся рабочим на завод «Рено», но вскоре он поранил себе ногу и был уволен. Ближайшими товарищами Х. Сутина были М. Кикоин и П. Кремень, вместе с ним учившиеся живописи в Вильно, а теперь, как и он, пытавшиеся обустроиться в Париже. Иногда им удавалось получить заказ на оформление вывески, иногда — подсобную работу при монтаже чужих выставок, зачастую же приходилось разгружать вагоны по ночам. Нередко в них была рыба, запах которой преследовал Х. Сутина всю жизнь, определив тематику десятков его полотен. Однажды Х. Сутин, измученный нищетой и отчаявшийся, пытался повеситься; к счастью, в комнату зашел П. Кремень и спас друга от неминуемой смерти. О том, что они держались вместе, вспоминал и Илья Эренбург: «Неизменно в самом темном углу [кафе "Ротонда"] сидели Кремень и Сутин. У Сутина... были глаза затравленного зверя, может быть, от голода. Никто на него не обращал внимания»[22].
И.Г. Эренбург завершал свои воспоминания о Х. Сутине риторическим вопросом: «Можно ли было себе представить, что о работах этого тщедушного подростка, уроженца белорусского местечка Смиловичи, будут мечтать музеи всего мира?..»[23] Если и был человек, который уже тогда мог себе это представить, то это А. Модильяни, которого, впрочем, тогда тоже никто не считал достойным музейных залов. «Его не понимали даже просвещенные ценители живописи, — честно свидетельствовал полвека спустя все тот же И.Г. Эренбург. — Для тех, кому нравились импрессионисты, Модильяни был несносен равнодушием к свету, четкостью рисунка, произвольным искажением натуры. Все говорили о кубизме; художники, порой одержимые идеей разрушения, были в то же время инженерами, архитекторами, конструкторами; а для любителей кубистических полотен Модильяни был анахронизмом»[24]. В 1916 году А. Модильяни познакомил Х. Сутина, которого считал великим художником, с супругами Зборовскими. Но их не заинтересовало творчество Х. Сутина, а сам он, вследствие пристрастия к алкоголю и гашишу, вызвал у Ханки Зборовской резкую антипатию. Напротив, Х. Сутина, о котором критик Вальдемар Жорж писал, что «за заносчивостью и вспыльчивостью пряталась натура скрытная и застенчивая», необычайно ценил А. Модильяни, вследствие чего едва ли не самый бурный его скандал с супругами Зборовскими стал результатом того, что в отсутствие хозяев, не найдя под рукой холста, он украсил одну из дверей их квартиры живописным портретом Х. Сутина. Однако Й. Неттер оценил талант Х. Сутина; те средства, которые он выделял ему, были чуть ли не единственной гарантированной материальной поддержкой совершенно непризнанного в те годы художника. За исключением одной более поздней работы, созданной в 1928 году, все остальные картины Х. Сутина, представленные на выставке в Риме (а до этого — в Париже и Милане), были созданы между 1915 и 1923 годами — когда Х. Сутин никого больше из тех, кто за искусство был готов хоть что-то заплатить, не интересовал. Ситуация изменилась только в 1923 году, когда американский коллекционер Альберт Барнс (Albert Barnes, 1872—1951) скупил у Л. Зборовского все работы Х. Сутина, которые у того имелись. Опять- таки, учитывая довольно сложную систему отношений между Й. Неттером, Л. Зборовским и художником, в данном случае — Х. Сутином (формальное соглашение между Л. Зборовским и Х. Сутином было заключено в 1919 году, письменного договора с Й. Неттером у Х. Сутина, скорее всего, не было, хотя именно деньгами Й. Неттера Л. Зборовский преимущественно расплачивался с ним), мы не знаем, были ли среди приобретенных А. Барнсом работ Х. Сутина те, которые до этого находились у Й. Неттера.
Учитывая все вышесказанное, пожалуй, две важнейших для истории искусства работы из представленных на выставке — портреты Х. Сутина и Л. Зборовского, созданные А. Модильяни в 1916 году, когда его стиль уже сформировался окончательно. В портрете Х. Сутина четкое графическое видение предмета, которое акцентируется едва заметным черным контуром, сочетается с живописной трактовкой цветовой плоскости. Художник выстроил портрет на эмоциональном и цветовом конфликте, который определяют две основные цветовые плоскости: охристо-красный цвет одежды и черно-бордовый фон. Совершенно в ином ключе написан великолепный портрет Л. Зборовского, построенный на противопоставлении холодного тона голубовато-серого фона и теплой гаммы человеческого лица. На раскрытие образа работает и прозрачный легкий фон, противопоставляемый почти осязаемой живописи персонажа.
В отличие от А. Модильяни и Х. Сутина, с которыми Й. Неттер общался в основном через Л. Зборовского, с Моисеем Кислингом (Moi'se Kisling, 1891—1953), как и с М. Утрилло, у него сложились независимые и очень глубокие человеческие отношения, о чем свидетельствует обширная переписка между ними. Во время Первой мировой войны М. Кислинг находился на юге Франции и приглашал своего покровителя погостить у него в Сен-Тропе.
В середине 1920-х годов Л. Зборовский, все больше тяготившийся зависимостью от Й. Неттера, стал стремиться к большей самостоятельности. Он, в частности, заключил соглашение о сотрудничестве с художником Эженом Эбишем (Eugene Ebiche, 1896—1987), и имя Неттера в этом соглашении не упоминается, хотя последний также коллекционировал работы уроженца Люблина Э. Эбиша (на выставке их представлено три, причем во всех случаях указано, что они созданы около 1930 года). Й. Неттер все меньше доверял своему партнеру, вследствие чего разрыв их отношений был лишь вопросом времени.
Последним художником, которого поддерживали Л. Зборовский и Й. Неттер, стал Исаак Анчер (Isaac Antcher, 1899—1992). Сотрудничество между спонсорами и живописцем началось в 1928 году. По условиям соглашения, каждый из спонсоров должен был выплачивать И. Анчеру по тысяче франков ежемесячно. При этом полотна должны были сначала доставляться Й. Неттеру, а затем уже распределяться между ним и Л. Зборовским. Однако Л. Зборовский, со своей стороны, выплачивал И. Анчеру только двести франков в месяц, при этом требуя от него предоставлять еще две работы для себя, сверх тех, что предназначались для раздела между коллекционерами. Когда Й. Неттер узнал об этом, то потребовал от Л. Зборовского возмещения всех невыплаченных сумм. На этом отношения между ними прекратились. Уже после этого Й. Неттер в конце 1931 года перечислил И. Анчеру единовременный платеж в размере трех тысяч франков — насколько можно судить, это был последний раз, когда кто-либо из художников получил финансовую помощь от него. В первой половине 1930-х годов между художниками так называемой «Парижской школы» уже существовали очевидные статусные различия: работы Модильяни, Шагала и Сутина приобретали всё большее число поклонников, вследствие чего стали восприниматься как объекты для выгодных инвестиций. На смену людям, не стремившимся к наживе, помогавшим художникам и ценившим их поиски, приходили собиратели совсем иного толка. Остальные живописцы и скульпторы пусть и не нищенствовали, но жили, в целом, трудно, а выставлялись нечасто. «Передовыми новаторами» считались в 1930-е годы уже другие люди, поэтому те, кто искал возможности патронировать талантливую молодежь, поддерживали других художников.
III
Пытаясь оценить в ретроспективе судьбу еврейской по происхождению и космополитичной по духу художественной диаспоры во Франции в первой половине ХХ века, необходимо хотя бы вкратце рассмотреть, во-первых, судьбы художников, во-вторых, судьбы меценатов и коллекционеров, поддерживавших их как финансово, так и верой в их талант, и, в-третьих, судьбы их творческого наследия.
Что касается самих художников, то последний из тех, чей талант успел оценить Й. Неттер, — И. Анчер — пережил ушедшего из жизни раньше всех А. Модильяни более чем на семьдесят лет! Амедео Модильяни умер от туберкулезного менингита 24 января 1920 года, в тот же день покончила с собой Жанна Эбютерн, находившаяся на девятом месяце беременности. Спустя десять лет, 2 июня 1930 года, в отчаянии покончил с собой в Париже «князь Монпарнаса» Жюль Паскен. 25 апреля 1931 года умер от инфаркта совсем молодой (ему не было и тридцати трех) Абрам Минчин. 21 декабря 1935 года, как и за пятнадцать лет до этого А. Модильяни, умер от туберкулеза 38-летний Иссахар-Бер Рыбак. Айзик Федер, Макс Жакоб, Рудольф Леви, Анри Эпштейн и многие другие — таких имен хватило, к сожалению, на целую книгу «Депортированный Монпарнас», вышедшую, увы, лишь по-французски[25], — погибли в огне Холокоста. Хаим Сутин умер 9 августа 1943 года, не имея возможности получить квалифицированную медицинскую помощь.
Моисей Кислинг, Марк Шагал, Осип Цадкин и Мане-Кац спаслись, бежав в начале 1940-х годов в США. После окончания войны все они вернулись во Францию. Оскар Мещанинов, уехав в США, во Францию уже не вернулся; он умер в Лос-Анджелесе в 1956 году. Жак Липшиц, с 1941 года живший в США, в 1946 году приехал в Париж, провел персональную выставку в галерее Maeght и был удостоен ордена Почетного легиона. Однако, расставшись с женой, он вернулся в США и с 1947 года жил в пригороде Нью-Йорка Хастинг-на-Гудзоне. С 1961 года ежегодно проводил лето на собственной вилле в Италии, где и умер в мае 1973 года.
Мане-Кац на склоне лет проводил довольно много времени в Израиле, где и умер в 1958 году; спустя почти двадцать лет, в 1977 году, в его доме в Хайфе был открыт музей, существующий и поныне. Музей Шагала был открыт в 1973 году, еще при жизни мастера, в Ницце, музей Цадкина — спустя пятнадцать лет после смерти скульптора, в 1982 году в Париже. В Израиле же в 1968 году умерла Ханна Орлова, спасшаяся от Холокоста в нейтральной Швейцарии.
Эжен Эбиш в 1939 году вернулся в Польшу. Он сменил имя, и ему удалось, скрыв свои еврейские корни, преподавать в Академии изящных искусств Кракова, которую он в 1945 году возглавил. Позднее он преподавал в Академии изящных искусств Варшавы, принимал участие в выставках по всей Польше и умер в 1987 году, перешагнув 90-летний рубеж.
Пережили Холокост во французской провинции, вернулись и еще несколько десятилетий работали в Париже Исаак Добринский, Пинхус Кремень, Леон Инденбаум, Вилли Эйзеншитц (был арестован, депортирован и погиб его сын, вступивший в движение Сопротивления). Михаил Кикоин и Исаак Анчер были интернированы в трудовые лагеря (И. Анчер успел до этого служить во французской армии, откуда он был демобилизован в 1941 году), но смогли выжить — и после окончания войны вернуться к искусству. По всей видимости, именно кончина И. Анчера в 1992 году, спустя два года после его ретроспективной выставки в галерее Кати Гранофф в столице Франции[26], ознаменовала собой конец жизненного пути последнего из художников «Парижской школы».
Судьбы упомянутых в этой статье четырех покровителей этих художников еврейского происхождения также сложились очень по-разному. Леопольд Зборовский скончался в 1932 году в бедности. Он был погребен в общей могиле, а работы из его галереи разошлись в различных направлениях. Йонас Неттер прожил еще почти пятнадцать лет, при этом мы, к сожалению, ничего не знаем о том, какую роль занимало коллекционирование произведений искусства в его жизни в те годы. Самые поздние работы, представленные в экспозиции и ее каталоге, датированы, точно или приблизительно, 1930 годом. Й. Неттер пережил нацистскую оккупацию Парижа, ведя в годы войны полуподпольный образ жизни с фальшивыми документами. Все ли картины художников, большинство из которых относились по нацистской классификации к «дегенеративному искусству», ему удалось сохранить и как — этого мы тоже не знаем. События столь недавней истории непостижимым образом почти неизвестны нам, хотя, к счастью, главное, что могло остаться от художников, с которыми сотрудничал Й. Неттер, — их картины — не только сохранилось, но и стало наконец доступным всем поклонникам искусства. Гертруда Стайн, которая открыто поддерживала режим маршала Петена, как до этого — фалангистов Франко в Испании (в 1941 году она даже перевела 180 речей маршала Петена на английский язык), провела годы войны вместе со своей де-факто супругой Элис Токлас (Alice Toklas, 1877—1967), также американской еврейкой по происхождению, в небольшом городке Кюло в предгорьях Альп[27]. Хотя многие евреи — жители этого городка, включая детей, были депортированы в Освенцим, Гертруда и Элис не подвергались преследованиям. Их покровителем был стародавний знакомый, профессор американской истории в Коллеж де Франс Бернард Фаи (Bernard Fay, 1893— 1978), ставший в мае 1941 года руководителем Национальной библиотеки и видным функционером режима Виши[28]. Спустя год с небольшим после окончания Второй мировой войны Гертруда Стайн умерла. Берта Вейль не нажила богатств, хотя картины, которые когда-то проходили через ее руки, стали стоить баснословных денег. Некоторым утешением могло быть общественное признание ее заслуг: за три года до кончины, в 1948 году, она была удостоена ордена Почетного легиона. Ордена Почетного легиона был удостоен и сын Роже Маркса и Эльзы Натан (Elisa Nathan, 1859—1933) Клод (1888—1977), также ставший художественным критиком. Ему удалось спастись в годы Хо- локоста (он покинул Париж, перебравшись вначале в Марсель, а затем скрывался в окрестностях Гренобля), но вот его сын, внук Рожера Маркса, был арестован гестапо и погиб.
Что же касается творческого наследия живописцев и скульпторов «Парижской школы», то кажущийся очевидным вывод о всемирном триумфе, вероятно, будет излишне поспешным, причем по трем причинам. Во-первых, насколько широко известны Модильяни, Шагал и, пусть и в несколько меньшей степени, Сутин, работы которых продаются на торгах ведущих аукционных домов за огромные деньги, настолько же мало кто помнит об Анри Эпштейне, Исааке Добринском, Вилли Эйзеншитце и многих других живописцах этого круга. Даже три созданные еще до войны картины Михаила Кикоина — художника все же сравнительно известного, выставлявшиеся на торгах Christie's в Лондоне 22 июня 2012 года, были проданы дешевле, чем за десять тысяч фунтов каждая, т.е. они не интересуют коллекционеров, выстраивающих собрания музейного типа. Единая «ткань существования» космополитически ориентированных художников «еврейского Монпарнаса» в памяти потомков оказалась разрушенной, отдельные «звезды» были вычленены и вознесены, тогда как остальным угрожает забвение.
Во-вторых, у большинства художников «еврейского Монпарнаса» никогда не выходили обобщающие каталоги, вследствие чего множество их сохранившихся работ (не забудем о том, что сотни холстов погибли в дни Первой и Второй мировых войн) вообще неизвестны любителям искусства. Как это ни удивительно, хотя отдельные работы из собрания того же Й. Неттера публиковались в различных изданиях, вся коллекция была показана в 2012 году впервые, при этом целый ряд произведений ни разу не воспроизводился в каких-либо альбомах или каталогах. Некоторые работы знакомы в несколько других редакциях: так, на выставке была представлена «Красная лестница в Канье» Хаима Сутина, иная версия которой находится в собрании парижского Музея Оранжери (всего же художник написал пять вариантов «Красной лестницы», один из которых ныне находится в собрании российского коллекционера Вячеслава Кантора). В целом же эта выставка свидетельствует об удивительном феномене: важнейшие работы А. Модильяни, Х. Сутина, М. Кислинга и других художников, признанных к настоящему времени крупнейшими представителями изобразительного искусства первой половины ХХ века, на протяжении многих десятилетий были скрыты от заинтересованных зрителей. Напрашивающиеся гипотезы о причинах этого явления не выдерживают критики: отсутствие у этих работ выставочной истории не было следствием их перехода из рук в руки (они не перепродавались, оставаясь в семье того, кем были приобретены изначально), равно как и не было вызвано какими-либо политическими или цензурными запретами, так как выставки художников «еврейского Монпарнаса», в особенности — самых известных среди них, проходили уже многие десятки раз, в том числе и в Москве (монографическая выставка А. Модильяни прошла в ГМИИ на Волхонке в 2007-м, а групповая выставка художников «Парижской школы» — в 2011 году). То, что и в отсутствие видимых причин из истории искусства были на десятилетия изъяты 17 сохранившихся живописных и графических работ А. Модильяни, 19 полотен Х. Сутина, 7 — М. Кислинга и т.д., является исключительно наглядным свидетельством беззащитности творений даже признанных гениев перед лицом факторов, которые толком не ясны до сих пор: о наследниках коллекционера и причинах принимаемых ими решений в каталоге выставки и в вышедших о ней публикациях не говорится ни слова. Являлось ли это многолетнее сокрытие работ от публики следствием желания Йонаса Неттера, который и при жизни был исключительно непубличным человеком, либо же решение об этом принимали его наследники, и не представляет ли собой проходящая в настоящая время выставка, по сути, предаукционную экспозицию — этого мы не знаем. Неизвестно и то, где и в каких условиях хранились все эти работы, благополучно пережившие (как, кстати, и их владелец) не только оккупацию нацистами Парижа, но и отсутствие контроля за их состоянием со стороны музейных работников и реставраторов. Нельзя сказать, что о коллекции Йонаса Неттера не было известно вообще, однако адекватного представления о ее масштабах не было, а имя этого собирателя практически не появлялось даже в искусствоведческой, не говоря уже о более массовой, литературе.
При этом и выставленная экспозиция не дает ответа на три важнейших вопроса. Во-первых, какие еще произведения входили в нее, но были проданы самим Й. Неттером при жизни, когда и кому и где сейчас эти работы — исходя из сохранившихся писем и договоров можно предположить, что у коллекционера было значительно больше картин А. Модильяни и Х. Сутина, чем представлено сейчас. Во-вторых, какие из сохраненных Й. Неттером произведений живописи и графики были проданы его наследниками? (Достоверно известно о реализованной в феврале 2009 года на аукционе Christie's картине Амедео Модильяни «Две девочки» и о проданной там же в июне того же года картине Мориса Утрилло «Затерявшийся тупик», а также о трех произведениях Михаила Кикоина и «Городском пейзаже» Анри Хайдена, проданных этим же аукционным домом в июне 2012 года, все они происходят из коллекции Йонаса Неттера — единственные ли это случаи? Как случилось, что один из двух известных портретов самого Й. Неттера, созданный в 1915 году Анри Хайде- ном, не находится в настоящее время в представленной коллекции, когда и кому он был продан или подарен?) В-третьих, какие еще работы хранятся у наследников, но не включены в экспозицию (о том, что выставлены не все работы, а только «большая часть» собрания, обмолвился сам куратор Марк Рестеллини). Возможность увидеть 122 работы, оригиналы которых были скрыты от любителей искусства на протяжении более чем полувека, крайне важна сама по себе, но все же важно понять полные масштабы собрания Й. Неттера и того, что сохранилось от него к настоящему времени, а этого выставка и ее каталог сделать не позволяют. Хочется верить, что эта коллекция не будет продана по частям, а станет основой постоянно действующего музея, куда попадут и другие работы, разбросанные ныне по миру, и который, в свою очередь, будет вести научные и архивные изыскания, посвященные уникальному миру космополитической по духу, но преимущественно еврейской по происхождению причисляемых к ней художников «Парижской школы».
В-четвертых, несмотря на наличие отдельных монографических музеев живописцев и скульпторов «Парижской школы» (Шагала, Цадкина, Мане-Каца и других), единого центра, который бы ставил своей задачей изучение и сохранение памяти об этой художественной диаспоре как о едином целом, нет нигде в мире. Такой музей собирался создавать в Харькове бизнесмен и государственный деятель Александр Фельдман, но летом 2013 года было объявлено о проведении экспозиции, озаглавленной «Последняя выставка мастеров Парижской школы из собрания Feldman Family Museum». Анонс выставки гласил, что по окончании ее работы, 15 сентября 2013 года, все 110 выставленных работ сорока художников будут проданы[29], а на вырученные средства будет построен Центр реабилитации детей с психическими расстройствами. Вообще говоря, депутат Верховной Рады Украины V и VI созывов (вначале — от Блока Юлии Тимошенко, а с 2011 года — от Партии регионов) Александр Фельдман — мультимиллионер, очевидно, располагающий средствами на строительство детского реабилитационного центра и без продажи произведений художников, которые, как можно предположить, перестали быть для него интересными в той мере, которая оправдывает их коллекционирование. Продажа этой коллекции ставит крест на единственном на постсоветском пространстве реально возможном проекте создания музея и научно-исследовательского центра художников «Парижской школы», большинство из которых, как указывалось выше, родились в Российской империи. Нет такого музея и центра и в Израиле (этим художникам посвящен лишь один зал в Тель-Авивском музее), несмотря на то что почти все эти художники — еврейского происхождения, а Израиль как государство претендует на то, чтобы быть национальным домом и духовным центром всего мирового еврейства. Во Франции же отдельных выставок проводится не так мало, но комплексно это искусство не представлено, не сохраняется и не изучается нигде, а работы многих упомянутых выше живописцев не представлены в Париже ни в одном музейном собрании. Я бы сказал, что именно диаспоральный характер этой группы художников преимущественно восточноевропейского еврейского происхождения стал причиной того, что они постфактум оказались «ничьими». В отличие от импрессионистов (среди которых, впрочем, тоже был один живописец еврейского происхождения — Камиль Писарро), родившихся, живших и работавших во Франции, для сохранения, экспонирования и изучения наследия которых в Париже был создан ставший очень популярным Музей Орсэ, открытый в 1986 году, альбомы художников так называемой «Парижской школы», как указывалось выше, в наибольшем количестве представлены в столице Франции в Музее искусства и истории иудаизма. Парадоксальным образом, люди, оказавшиеся в столице Франции для того, чтобы уйти от иудаизма, именно в созданном там два десятилетия назад музее иудаизма обрели свое последнее пристанище.
При этом справедливым будет вывод о том, что эти люди так ни в какой стране и не обрели чувства Родины, на всю жизнь сохранив диаспоральное самосознание. Для большинства из них родным языком был идиш, при определенном знании русского, и даже изучая французский и английский, они редко когда знали эти языки настолько, что могли в полной мере наслаждаться богатством их лексикона; достаточно вспомнить в этой связи Марка Шагала, книга воспоминаний которого была написана по-русски, а основные выступления, опубликованные на десятке языков, были произнесены на идише. Мане-Кац и Ханна Орлова окончили свои дни в Израиле (Х. Орлова жила в подмандатной Палестине еще до того, как оказалась во Франции), Оскар Мещанинов — в США, но в полном смысле слова ни израильтянами, ни американцами никто из них (а в США долго жил и Мане-Кац) не стал. В годы Холокоста эти художники скрывались, пытались эмигрировать, а кому это не удалось — были депортированы и погибли в лагерях смерти сугубо как евреи, и лишь единицы среди французов стремились помочь этим людям в беде, и еще меньшее число их новых соотечественников видели в них «своих». Практически речь идет о людях, внесших огромный вклад в мировое искусство, но при этом не принадлежащих ни одной стране, а на всю жизнь оставшихся на пересечении диаспор и сохранявших диаспоральное сознание в самих себе.
[1] Автор благодарит Андрея Кожевникова за большую помощь в поиске и переводе с французского языка материалов, сыгравших существенную роль в подготовке статьи. (L'auteur tient a remercier Andrey Kozhevnikov pour son assistance a la recherche et a la traduction des textes qui ont large- ment contribue a la preparation de cet article.)
[2] Здесь и далее цитаты извлечены из каталога выставки: Restellini M. Jonas Netter et l'aventure de Montparnasse. Aux Origines de L'Ecole de Paris // La Collection Jonas Netter. Modigliani, Soutine et l'aventure de Montparnasse. Paris: Pi- nacotheque, 2012. Р. 9—26.
[3] Эренбург И. Люди. Годы. Жизнь. М.: Текст, 2005. Т. I. С. 148. Цитируемая здесь первая книга была написана в 1961 году.
[4] Крупицкий З. Искусство и иудаизм // Еврейская энциклопедия. СПб.: Брокгауз и Ефрон, 1911. Т. VIII. С. 326—327.
[5] Цит. по: Хасан-Брюне Н. Еврейская Парижская школа — обрести себя в избранной стране? Пер. с франц. // Парижская школа. 1905—1932. М.: ГМИИ им. Пушкина, 2011. С. 26.
[6] Биографии этих и других художников см. в книге: Niesza- wer N, Boye M, Fogel P. Peintres juifs a Paris. 1905—1939, Ecole de Paris. Paris: Denoёl, 2000.
[7] Хасан-Брюне Н. Еврейская Парижская школа. С. 26.
[8] См. список его экспозиций в каталоге выставки, прошедшей в Париже в 2008 году: Restellini М. Soutine. Paris: Pi- nacotheque, 2008. Р. 231.
[9] См. список его экспозиций в посвященном этому художнику масштабном альбоме: Diehl G. Pinchus Kremegne. Sublimated Expressionism. Paris: Navarin Editeur, 1990. Р. 228—229.
[10] Цит. по: Crespelle J.-P. La vie quotidienne a Montparnasse a la Grande Epoque, 1905—1930. Paris: Hachette, 1976; Пер. на рус. яз.: Креспель Ж.-П. Повседневная жизнь Монпарнаса в великую эпоху, 1905—1930. М.: Молодая гвардия, 2000. С. 95.
[11] Эренбург И. Люди. Годы. Жизнь. Т. I. С. 155.
[12] См.: Gros GJ. Les Grands Collectionneurs; Chez M.J. Net- ter // L'art vivant. 1929. № 97. P. 14—15.
[13] Цит. по: Augias С. Modigliani. L'ultimo romantico. Milano: Ar- noldo Mondadori Editore, 1998; пер. на рус. яз.: Ауджиас К. Амедео Модильяни. М.: Молодая гвардия, 2007. С. 181.
[14] Цит. по: Crespelle J.-P. La vie quotidienne a Montmartre au temps de Picasso, 1900—1910. Paris: Hachette, 1978; пер. на рус. яз.: Креспель Ж.-П. Повседневная жизнь Монмартра во времена Пикассо, 1900—1910. М.: Молодая гвардия, 2000. С. 204.
[15] Сведения о художниках, с которыми работала Берта Вейль, содержатся в единственной посвященной ей биографической книге, пока выпущенной только на французском языке: Le Morvan М. Berthe Weill, 1865—1951: La petite ga- leriste des grands artistes. Paris: L'Harmattan, 2011.
[16] Креспель Ж.-П. Повседневная жизнь Монмартра во времена Пикассо, 1900—1910. С. 222.
[17] См. каталог выставки: Four Americans in Paris: The Collections of Gertrude Stein and Her Family. New York: Museum of Modern Art, 1970.
[18] См. каталог выставки: The Steins Collect: Matisse, Picasso, and the Parisian Ava^-Gad / J. Bishop, C. Debray, R. Ra- binow (Eds.). New York: The Metropolitan Museum of Art, 2012.
[19] Виленкин В. Модильяни. М.: Искусство, 1970. С. 93.
[20] Цит. по: Герман М. В поисках Парижа, или Вечное возвращение. СПб.: Искусство, 2005. С. 349—350.
[21] См.: Паризо К. Модильяни. М.: Текст, 2008.
[22] Эренбург И. Люди. Годы. Жизнь. Т. I. С. 144.
[23] Там же. С. 145.
[24] Там же. С. 155.
[25] См.: Buisson S., Nieszawer N., Lachenal L., Jarasse D. Mont- parnasse deporte: Artistes d'Europe. Paris: Musee du Mont- parnasse, 2005.
[26] См. каталог этой выставки: Antcher. Retrospective. 1927— 1981. Paris: Galerie Katia Granoff, 1990.
[27] См.: Malcolm J. Two Lives: Gertrude and Alice. New Haven: Yale University Press, 2007. P. 25 и далее, а также p. 106.
[28] Одержимый в своем преследовании масонов, во всемирный заговор которых он верил, Бернар Фаи был лично виновен в гибели сотен людей, вследствие чего уже в августе 1944 года был арестован, судим и приговорен к бессрочной каторге с конфискацией имущества; ему удалось бежать в 1951 году и добраться до Швейцарии при помощи Элис Токлас. Он был помилован президентом Франции Рене Коти в 1959 году.
[29] См.: Дикань Ф. Парижская школа в Харькове. В последний раз // Портал «Медиапорт» (Украина). 17.07.2013 (http://www.mediaport.ua/parizhskaya-shkola-v-harkove-v-posledniy-raz).
Опубликовано в журнале:
«НЛО» 2014, №3(127)
«Спецконтингент» как диаспора? Спецпереселенцы из Литвы на пересечении множественных сообществ
Эмилия Кустова
Одним из парадоксов сталинской национальной политики было то, что наметившийся еще в 1930-е годы и ставший отчетливым в послевоенный период курс на «унификацию и заметное нивелирование этнонационального разнообразия»[1] сопровождался массовыми депортациями, которые вели в том числе к насильственному воспроизводству в изгнании групп, определяемых — прежде всего, но не всегда исключительно — как этнические. Политика выделения и стигматизации членов этих сообществ, которая до второй половины 1950-х годов носила институционализированный характер, опирающийся на систему спецпоселений, препятствовала их интеграции в общество и способствовала формированию механизмов, многие из которых напоминают диаспоральные. Среди этих механизмов — внутриэтническая солидарность, обособленность, особая роль представлений о родине и связей с ней, надежда на возвращение как политический проект.
Позднейшее описание этого опыта в свидетельствах депортированных и создаваемой на их основе историографии ставило акцент именно на этих аспектах, закрепляя представления о массовых депортациях (в том числе о послевоенной высылке из Литвы, которая будет интересовать нас в первую очередь[2]) как о репрессиях этнического характера (вплоть до геноцида), которые вели к насильственному созданию диаспор. В конце 1980-х — начале 1990-х годов в Литве память о репрессиях выдвинулась в центр публичных дебатов, став одним из инструментов политической мобилизации в ходе борьбы за независимость и фундаментом для конструирования нового исторического нарратива. В результате фреймирования, т.е. прочитывания и конструирования, этого опыта в национально-этнических терминах[3] получили распространение представления о депортации как общенациональной трагедии, коллективном опыте, когда-то пережитом всем народом, а теперь составляющем ядро его идентичности[4]. Это сопровождалось сглаживанием различий — этнических, религиозных, политических — среди репрессированных, что закрепляло представление об общей судьбе всех жертв депортаций и грозило вытеснением памяти о депортированных согражданах другого этнического или религиозного происхождения.
В рамках такого прочтения особое распространение в Литве получали представления об обособленности депортированных, исключавшей какую бы то ни было интеграцию с чуждым, враждебным окружением; о солидарности, сплоченности и патриотизме ссыльных литовцев, которые выдерживали испытания благодаря духовным связям с родиной и осознанию коллективного характера выпавших на их долю страданий[5].
Конструированию и воспроизводству этих тем способствовало то, что центральное место внутри формировавшегося с конца 1980-х годов корпуса свидетельств занимали воспоминания представителей первой волны депортаций (1941 года), прежде всего, «лаптевцев»[6], чей крайний по своей жестокости опыт ссылки стал олицетворением страданий, выпавших на долю всего литовского народа[7]. Особенно тяжелые условия и трагические последствия, характерные для репрессий 1941 года, а также заметное место, которое занимали среди их жертв представители литовских политических и интеллектуальных элит, — все это обуславливало значительную героизацию и национализацию нарратива, с одновременным вытеснением как плохо согласующихся с этим образом фактов и представлений, так и памяти об иных, несколько отличных опытах депортации. Даже такое авторитетное свидетельство, как свидетельство Дали Гринкявичюте, могло ставиться под сомнение в том, что касается отображенных в ее воспоминаниях случаев отсутствия взаимовыручки и конфликтов среди «лаптевцев»[8]. Маргинальное пространство в историографии и литовском нарративе занимает история и коллективная память тех, кто так и не вернулся в Литву, оставшись жить в местах ссылки. Соответственно слабо звучит тема, с одной стороны, определенной интеграции на чужбине, а с другой — трудного возвращения и отторжения со стороны прошедшей советизацию родины (что даже толкнуло некоторых ссыльных на повторный, теперь уже добровольный переезд в места бывшей ссылки).
Эти и другие темы так или иначе звучат во многих свидетельствах, в том числе в интервью, записанных в рамках проекта «Звуковые архивы — Европейская память о Гулаге» (CNRS/EHESS/RFI, Франция)[9]. Среди в общей сложности более 200 интервью с бывшими депортированными из стран Центральной и Восточной Европы около 40 принадлежит выходцам из Литвы. В силу возрастного фактора большинство среди них составляют те, кто был выслан на спецпоселение[10] в Сибирь в первые послевоенные годы. Часть из них после снятия со спецучета во второй половине 1950-х годов остались жить в России, в частности в Иркутской области, где нами было записано около 15 интервью.
Эти свидетельства в сочетании с архивными документами[11] позволят нам рассмотреть сложный мир советских спецпоселений и противоречивые процессы «выхода» из сталинизма с точки зрения (само)определения и функционирования групп, конструируемых в ходе депортаций, а также формирования у депортированных множественных идентификаций с различными сообществами[12].
Создавая четко идентифицируемые и дискриминируемые группы, сталинский режим оставлял некоторые возможности для выхода из них (например, благодаря учебе) и частичного стирания границ, отделявших их членов от окружающего населения. Эти противоречивые тенденции усилятся после 1953 года, когда на протяжении почти десяти лет будет идти демонтаж системы спецпоселений. Постепенный и двусмысленный характер этого демонтажа: попытки включить — еще до освобождения — молодых спецпереселенцев в «тело» советской нации путем призыва в армию; поэтапное снятие с режима спецпоселений отдельных категорий депортированных, в большинстве случаев без признания репрессий в их отношении ошибочными и потому без возврата собственности и даже без автоматического разрешения вернуться на родину — все это приведет к усилению многообразия жизненных траекторий (бывших) депортированных, изнутри подрывая модель «общей судьбы» и в то же время способствуя встраиванию индивидов в различные сообщества.
Таким образом, в этой статье меня будут интересовать, в первую очередь, процессы реконструкции и функционирования национальных микросообществ в вынужденном изгнании; роль, которую играет в очерчивании их контуров, конструировании или сглаживании отличий взгляд извне (как «сверху», так и «сбоку», со стороны окружающего населения); формы и роль связей с родиной, а также другие механизмы сохранения и передачи представлений и практик, поддерживающих этнически или национально окрашенную идентификацию; их адаптация и эволюция, в том числе в результате взаимодействия с окружающей средой и встраивания в другие сообщества.
1. КАТЕГОРИЗАЦИЯ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ВОСПРИЯТИЕ ДЕПОРТИРОВАННЫХ: ВЗГЛЯД ИЗВНЕ И ИЗНУТРИ
В результате карательных операций 1940-х годов вплоть до конца следующего десятилетия в ряде регионов Сибири наблюдалось массовое присутствие депортированных из Литвы. По данным на 1 октября 1949 года, в Иркутской области на спецучете состояло в общей сложности 67 110 человек, в том числе 36 270 литовских «спецпереселенцев» и «выселенцев»[13] (11 283 семьи). Депортированные из Литвы составляли, таким образом, наиболее многочисленную группу внутри местного «спецконтингента»; на втором месте после них стояли «оуновцы» (8243 чел.)[14]. В эти годы, в отличие от довоенной «кулацкой» ссылки[15], спецпереселенцев обычно расселяли по уже существующим деревням, лесным и рабочим поселкам. Настаивая — с целью упрощения надзора — на их компактном размещении, репрессивные органы потенциально способствовали созданию микросообществ из тех, кто был депортирован в рамках одной карательной операции, что, впрочем, не исключало контактов со спецпереселенцами, прибывшими сюда в ходе других волн репрессий. Прежде чем говорить о том, как функционировали эти микросообщества, я остановлюсь на вопросе категоризации и (само)определения депортированных из Литвы.
1.1. КОНСТРУИРУЯ «СПЕЦКОНТИНГЕНТ»
В ходе подготовки и осуществления репрессий сталинский режим конструировал группы, одновременно объединяя и дробя социальную материю. В случае депортаций с западных территорий подсказываемый или навязываемый способ категоризации и восприятия соответствующих групп отнюдь не всегда являлся (только) этническим. При этом за образом единой группы («спецконтингента», «народа в изгнании»... ) зачастую скрывалась заметная разнородность ее членов.
Репрессии в западных регионах Советского Союза осуществлялись на основе не столько этнического, сколько национально-территориального принципа, с целью «зачистки», интеграции и советизации присоединенных территорий. Их главной мишенью являлись репрессивным образом конструируемые категории населения, которым приписывались те или иные общие социально-экономические и/или политические характеристики: принадлежность к буржуазии или зажиточному крестьянству, участие в националистическом движении и т.п.
Объединяя представителей этих различных конструируемых репрессиями групп в один «спецконтингент» (в масштабах одной карательной операции, а затем внутри одних и тех же спецпоселков), режим теоретически не отказывался от исходного деления. На практике, однако, во время жизни на спецпоселении зафиксированная в личном деле категория, видимо, не играла сколь-либо важной роли. Коменданты, осуществлявшие надзор за спецпереселенцами и влиявшие на многие аспекты их жизни (трудоустройство, передвижение, материальное обеспечение), классифицировали поднадзорное население по «окраскам [учета]», порой объединяя вместе не только «литовцев», т.е. высланных с территории Литовской ССР, но и в целом «прибалтов»[16]. Тем не менее во второй половине 1950-х годов исходные репрессивные категории («кулак», «бандпособник») сыграют важную роль, став основой для определения сроков и условий освобождения.
Административная разнородность «спецконтингента» сочеталась с разнообразием социальных, культурных, этнических, религиозных принадлежностей включенных в него индивидов. Это разнообразие было особенно сильным в случае депортации 1941 года, когда в рамках одной операции репрессиям подверглись городские элиты (литовского, польского, еврейского, русского и др. происхождения), крестьянство и сельская интеллигенция Литвы[17].
Наконец, сами условия и контекст депортации становились источником дифференцирования дальнейшего опыта ссылки (не говоря уже о важнейших различиях в положении, условиях жизни и судьбе заключенных Гулага и спецпереселенцев). В гораздо более сложных условиях оказались жертвы первой волны массовых депортаций из Прибалтики, высланные в июне 1941 года и вынужденные бороться за выживание в условиях военного времени. Следующие большие волны депортаций из Литвы (1948 и 1949 годы), несмотря на всю их тяжесть, будут осуществляться в несколько иных условиях: начиная с того, что многие семьи не будут разлучены (тогда как в 1941 году большая часть мужчин была отправлена в лагеря, а женщины с детьми — на спецпоселение), до существенно более короткого срока пребывания в изгнании, пусть и в голодной, но уже не воюющей России. Более того, сам социальный состав депортированных этих различных волн мог накладывать отпечаток на их адаптацию и шансы на выживание (горожане / крестьяне).
1.2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТИГМАТИЗАЦИЯ И ЭТНИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЗАЦИЯ
Как влияла категоризация, осуществляемая репрессивными органами, на восприятие литовского «спецконтингента» местным населением? В какой степени она обуславливала их стигматизацию и определяла формы последней? Какие стратегии могли использовать депортированные, чтобы обойти навязанные им категории и стигматизацию? Ответить на эти вопросы нелегко в силу недостаточности информации. Здесь я ограничусь несколькими замечаниями, касающимися, прежде всего, природы стигматизации.
Имеющиеся у нас материалы свидетельствуют о явном преобладании политически и идеологически окрашенной стигматизации, отразившейся в использовании по поводу литовских спецпереселенцев таких понятий, как «фашисты», «бандиты», «кулаки». При этом упоминания враждебности со стороны местного населения встречаются гораздо чаще у депортированных первой волны. Они попали на спецпоселение в самом начале войны, с этикеткой «фашистов», что, видимо, обрекло многих на враждебное отношение со стороны окружающих[18].
Иначе обстояло дело в послевоенные годы. В интервью с этой категорией депортированных литовцев редко и неохотно звучат упоминания проявлений открытой враждебности, за исключением, может быть, стычек между детьми в первое время после приезда[19]. Означает ли это, что высылка в качестве «кулаков» и даже «бандитов» была сама по себе чревата менее сильной стигматизацией? Сказывалось ли на восприятии депортированных их крестьянское происхождение, обусловившее их более быструю адаптацию и встраивание в систему коллективного труда в колхозах? Сыграл ли определенную роль тот факт, что за годы войны сибирские деревни увидели не одну волну массовых депортаций и присутствие спецпереселенцев самых различных категорий стало для многих районов привычным?[20] Какое влияние оказывает то, что часть наших информантов живет сегодня в России?
Несмотря, с одной стороны, на неоднородность состава депортированных из Литвы, а с другой — на идеологический характер их стигматизации, их выделение и категоризация окружающими опирались, прежде всего, на этнический принцип. В интервью как с бывшими депортированными, так и с их соседями (местными жителями и представителями других «спецконтингентов», в частности «оуновцев») они определялись как «литовцы» и неизменно наделялись рядом характеристик, отсылающих к представлениям о «национальном характере» и другим этнически окрашенным культурным стереотипам[21]. Интересно, что описание и (положительная) оценка такого «национального характера» и обусловленного им повседневного поведения являются, по-видимому, предметом консенсуса не только среди самих бывших депортированных из Литвы, но и среди тех, кто окружал их в изгнании: во всех интервью литовцы характеризуются как непьющие, трудолюбивые, рачительные хозяева, крепко стоящие на ногах и владеющие редкими или неизвестными местным жителям ремесленными и пр. навыками.
Этот набор представлений служит для отличения и описания литовцев, причем в некоторых случаях он оказывается сильнее категорий, например, биологического характера. Один из бывших литовских спецпереселенцев, в начале 1990-х годов вновь оказавшийся в местах, где прошла его сибирская юность, так описывает одну из произошедших там встреч:
Еду в Иркутскую область, в свой поселок. В одном из городков оглядываюсь на автобусной остановке, как мне дальше путешествовать, и слышу за спиной: «Ты кто такой? Откуда?» Оборачиваюсь — бурят какой-то. «Я — литовец, — говорю.— А ты кто?» — «Я тоже литовец!» — в ответ. «Как бы не так! — смеюсь. — Так и поверю...» По лицу, по всему — самый настоящий бурят. А он обиделся: «Я и вправду литовец. Мой отец литовец». — «Так веди меня к нему», — говорю. Отца у него уже не было, но был дядя. Повел. Идем к его дому — сразу видно, что живет литовец: изба краше, окна больше, двор просторнее, забор выше. Действительно, дядя литовец.
Чуть дальше, по поводу уже другой встречи он высказывает сожаление об утере «литовскости» детьми спецпереселенцев. Признаками этого являются незнание родного языка и утрата тех черт национального характера, которые когда-то, как он считает, отличали литовцев от местных жителей (в частности, умеренное употребление алкоголя): «По-литовски совсем не умеет, в ссылке родился, здесь рос, с местными повелся и вот куда скатился... Так грустно было смотреть...»[22]
2. (РЕ)КОНСТРУИРУЯ СВЯЗИ, ИДЕНТИФИКАЦИИ И СООБЩЕСТВА В ИЗГНАНИИ
2.1. Предметы и практики повседневной этничности
Принципы организации быта, повседневные практики и предметы обихода были ключевыми инструментами конструирования, репрезентации и выявления этничности. В качестве таковых они занимают порой немаловажное место в рассказах бывших спецпереселенцев и их соседей[23]. Кстати, именно образы, связанные с повседневной жизнью, используются литовскими депортированными для того, чтобы описать свои первые впечатления после приезда в ссылку. Они нередко характеризуют местное население через нищету и скудость быта, отмечая почти полное отсутствие необходимых вещей или несоответствие нормам и представлениям о допустимом. По воспоминаниям одной из наших информанток, взрослые литовки, обсуждая поразившую их бедность в сибирской деревне, приводили в качестве примера местных женщин, которые «ходят: черная юбка, белые заплатки...»[24].
Тот же прием, но с обратным знаком применяется местными крестьянами. За исключением одного — воспринимаемого, однако, как чрезвычайно характерный — предмета, вещный мир литовцев ассоциируется в их рассказах с достатком, несмотря на испытываемые в момент приезда материальные трудности. Вещи, привезенные с собой в изгнание, присылаемые впоследствии родственниками или изготавливаемые на месте (например, перины, городская одежда, швейные машинки, варенье, сало), зачастую ассоциируются с более богатой и «культурной», в том числе городской, повседневностью[25]. Единственное исключение здесь — клумпесы, деревянные башмаки литовских крестьян, которые местные жители называют «колодками» и упоминают как признак неприспособленности депортированных, уязвимости и трудности их положения[26]. Интересно, что в рассказах самих литовцев этот предмет имеет двусмысленный статус. Для одних он является бесспорным атрибутом литовской этничности, воспринимаясь одновременно как один из традиционных национальных предметов быта и как удобная, практичная вещь, которую стоит сохранить в изгнании. Так, живя на спецпоселении в Иркутской области, отец Йозаса М. продолжал не только носить, но и изготавливать клумпесы[27]. Другие литовские респонденты, напротив, отрицали использование такой обуви, подчеркивая, что у них на родине она была уделом крестьянской бедноты[28].
Таким образом, в этом скудном на вещи мире предметы быта могли представлять собой сложный, многослойный и многозначный текст, степень доступности и интерпретация которого зависели от статуса наблюдателя: один и тот же предмет для «чужаков» служил неоспоримым маркером, признаком принадлежности к тому или иному сообществу, воспринимаемому как этническое целое, тогда как внутри него тот же предмет мог, напротив, напоминать о социопрофессиональных, культурных и других различиях.
Чаще, однако, мы имеем дело с более однородными образами этнически окрашенных предметов и связанных с ними практик. Литовские музыкальные инструменты и национальные костюмы, пиво и сало, которое начали делать литовцы, как только им удалось завести поросят, — эти и другие предметы, вопринимаемые как часть традиционной материальной культуры, нередко занимают важное место в воспоминаниях бывших депортированных, олицетворяя в них верность традициям, материализуя символическую связь с родиной и подчеркивая сохранность этнонациональных идентификаций.
Впрочем, отсылая к общим корням и служа этническим маркером, предметы обихода делали возможными встречи и обмены, в ходе которых индивид включался в сеть многосторонних взаимоотношений за пределами локального этнического сообщества.
Прежде всего, речь идет об обменах в узком смысле слова — тех, что в первые дни и месяцы пребывания в изгнании помогали депортированным выжить, выменивая такие редкие в послевоенной сибирской деревне вещи, как городское платье, перины, вышитые покрывала, на менее престижные, но абсолютно необходимые для выживания вещи: продукты, картофель на посадку, теплую обувь[29].
Со временем эти обмены приобретут более сложный и не всегда напрямую материальный характер: по воспоминаниям местных жителей, литовские спецпереселенки будут угощать своих русских соседок и напарниц по работе в колхозе национальными блюдами, а потом, с появлением необходимых ингредиентов, например сахара, научат их делать варенье, масло, тушенку, сало. Для литовцев местные жители станут важным источником локальных знаний и «ноу-хау», помогавших адаптироваться и выжить: они покажут им грибные и ягодные места, научат делать «чирки» (местная обувь), будут одалживать ружье, иметь которое спецпереселенцам было запрещено.
В нищих послевоенных деревнях обмен навыками и услугами был, возможно, еще более важной и распространенной практикой, чем обмен предметами. В рассказах бывших депортированных и их русских соседей нередко отмечается, что литовцы владели особыми, редкими или неизвестными здесь навыками и ремеслами: от столярного и бондарного дела до пошива платьев «городского фасона» или особо ловкого способа резать и разделывать поросят (помимо постоянно упоминаемого копчения сала...)[30].
Если условия, на которых осуществлялся обмен предметами, нередко четко проговариваются респондентами (одна перина на два мешка картошки и т.п.), то режим (безвозмездный? предполагающий вещный или нематериальный ответ на подарок?) этих более сложных обменов услугами и «ноу-хау» в большинстве случаев не уточняется, а в ответ на прямой вопрос описывается уклончиво, подразумевая отсутствие немедленного материального вознаграждения. При этом настойчиво звучит тема моральной выгоды от таких контактов, обеспечивавших спецпереселенцам уважение со стороны местного окружения. В ходе таких обменов конструировались представления о литовцах как умелых, рачительных хозяевах, носителях более развитой или зажиточной материальной культуры.
2.2. Спецпереселенцы на пересечении множественных сообществ
Сложный характер этих обменов, выходивших за рамки однократного акта и подразумевавших долгосрочную перспективу и потому требовавших взаимного доверия, свидетельствовал о возникновении сети связей и взаимоотношений, простиравшихся за пределы местной этнической общины и способствовавших включению индивидов в другие сообщества.
Что касается локального литовского сообщества, то оно занимает неодинаковое место в воспоминаниях бывших депортированных. С этой точки зрения интересен рассказ Римгаудаса Рузгиса[31], который рисует образ своего рода литовской колонии, ведущей в бурятской глубинке относительно автономное существование, по крайней мере в том, что касается организации повседневной жизни: в первый же год пребывания в ссылке литовцы строят школу, за которой следуют клуб и магазин, а впоследствии пытаются рационализировать и механизировать работу местного кирпичного завода[32]. Лейтмотивом через все это интервью проходит идея активного и самостоятельного налаживания жизни, происходящего благодаря предприимчивости, трудолюбию и солидарности литовских спецпереселенцев. Таким образом, образ литовцев как трудолюбивых и умелых индивидов переносится на все этническое сообщество.
В этом интервью особенно ярко и развернуто проявляются представления о литовских спецпереселенцах как о сплоченной группе, чье присутствие проявляется в самых разных сферах, от труда до досуга и общения[33]. Одновременно акцентируется и идея собственной включенности в этот мир. В большинстве других интервью образ этнического сообщества является, однако, менее ярким, отношения внутри него — менее разнообразными, а сфера распространения этнически окрашенных практик — более узкой. Последние связаны, главным образом, с досугом, общением и религиозными практиками, тогда как, например, такая важнейшая тема, как труд, связывается скорее с участием в коллективных, внеэтнических его формах, которые способствуют включению спецпереселенцев в более широкие сообщества.
Вне работы, по словам свидетелей, общение среди взрослых происходило, главным образом, внутри этнических сообществ, по крайней мере до возвращения значительной части спецпереселенцев на родину в конце 1950-х годов[34]. Особую роль играла религия: она обуславливала сильный и специфический бэкграунд, являлась важным фактором консолидации и отличительным маркером литовцев как католиков. Во многих интервью встречаются также упоминания национальных праздников и других традиционных форм досуга, на которые собирались спецпереселенцы одного происхождения; участие в посиделках с исполнением национальной музыки[35]. Кое-где спецпереселенцам удавалось организовать подобие воскресной школы, где дети обучались чтению и письму на родном языке[36].
Все это способствовало не только сплочению национальной общины на местном уровне, но и сохранению символических связей с большим национальным сообществом. Связи с ним поддерживались и благодаря рассказам старших, письмам и посылкам с родины, присутствию в жилищах спецпереселенцев фотографий и предметов, напоминающих о родном доме[37]. О том, насколько сильной могла быть в изгнании идентификация с почти незнакомой младшему поколению спецпереселенцев родиной, косвенным образом свидетельствуют встречающиеся иногда упоминания разочарования, пережитого по возвращении, когда выросшие в изгнании дети обнаруживают, что родные края — это не (только) рисовавшаяся им в изгнании страна вечного лета и изобилия[38].
Большинство этих социальных и культурных практик, способствующих сохранению национальных идентификаций, существовали на «краю» советского общества, балансируя между дозволенным и запретным. Точные границы допустимого в значительной мере зависели, видимо, от времени (в частности, до или после 1953 года) и местных условий. Часть респондентов говорит о том, что петь песни на родном языке можно было только в пределах дома, тогда как другие подчеркивают, что никто не таился, устраивая национальные праздники, в том числе на улице или, например, собираясь в чьем- то доме на коллективную молитву.
Интересны упоминаемые в интервью и архивах случаи включения некоторых национальных культурных практик в сферу официальной советской культуры, например в форме участия спецпоселенческой молодежи в местной самодеятельности. Так, Римгаудас Рузгис рассказывает о музыкальных и театральных выступлениях литовского ансамбля, созданного в его селе, и даже упоминает поездки на районный слет литовской самодеятельности.
Эти и подобные ситуации свидетельствовали о постепенном включении — пусть ограниченном — части спецпереселенцев, прежде всего молодежи, в поле официальных советских практик. Чаще всего это происходило в рамках коллективного труда[39]. Многие навыки, которыми владели литовские спецпереселенцы, оказывались востребованными в сибирских колхозах, леспромхозах и других предприятиях. Прежде всего, речь идет о навыках механизированного труда (вождение трактора или грузовика, опыт использования электропил и пр.), которые позволяли, например, получить доступ к более престижной и лучше оплачиваемой работе тракториста или шофера или повысить производительность, а следовательно, и оплату труда спецпереселенцев в леспромхозах[40]. Но спецпереселенцам могло пригодиться и владение такими традиционными ремеслами, как строительное, плотницкое, столярное дело; будучи востребованными на предприятиях и в колхозах, они могли позволить получить более квалифицированную и чуть лучше оплачиваемую работу[41].
Интересно отметить происходящие в этой области перенос и приспособление традиционного крестьянского культурного бэкграунда к новым условиям и новому окружению, в том числе к советской системе ценностей. Уважение к труду является, наверное, почти единственной точкой соприкосновения между, с одной стороны, «раскулаченными» литовскими хуторянами, с другой — местными крестьянами, выживающими в колхозах ценой непосильного труда, а с третьей — местными властями, которые (чаще) принуждают и (реже) поощряют к участию в коллективном труде. Поэтому в рассказах бывших депортированных так причудливо смешиваются знаки признания и улучшения положения, отсылающие к этим различным измерениям и системам ценностей. Это и талон на покупку сапог, полученный Еленой Т. за хорошую работу (после первой сибирской зимы, проведенной в галошах), и почетные грамоты Йозаса М., и знаки уважения со стороны русских соседей, и связанная с этим возможность включиться в сложную систему неформальных связей, в которой было место и для работы за плату, и для натурального обмена товарами и услугами, и для проявлений солидарности.
Подобным образом в интервью отразилось и многообразие тактик, используемых спецпереселенцами для адаптации и улучшения своего положения. Они свидетельствуют о постепенном овладении широким спектром норм и стратегий советского населения: от выбора таких официально санкционированных механизмов, как учеба и повышение квалификации[42], до использования неформальных, а порой и официально осуждаемых тактик, как те, что задействовали знакомства и «блат», например для получения менее тяжелой или лучше оплачиваемой работы[43].
В рассказах младшего поколения спецпереселенцев (особенно когда они вспоминают о своих отношениях со сверстниками) такие связи настолько сильны, что контуры национального и наднациональных сообществ нередко стираются в отсутствие упоминаний этнической принадлежности и статуса окружающих. Так, Антанас К., Йозас М. и другие информанты говорят о «ребятах», с которыми они общались, не уточняя, были ли они местными или нет. Только благодаря деталям или уточняющим вопросам можно иногда понять, что речь идет скорее о литовских (латышских, украинских... ) или русских детях, а чаще всего — о тех и других вместе[44]. Именно в ходе общения со сверстниками многие дети спецпереселенцев выучивали русский язык и, например, открывали для себя таинственный, одновременно пугающий и чарующий мир сибирской тайги, о котором даже те, кто давно вернулся на родину, до сих вспоминают с особым чувством[45].
Такая включенность в местные сообщества и у кого-то привязанность к тому месту, которое — пусть и не по их воле — стало новым домом, проявятся, в частности, во второй половине 1950-х годов, когда станет возможным возвращение на родину. В то время как большинство освободившихся спецпереселенцев уедет в Литву, для кого-то возвращение окажется невозможным: из-за семейных связей, возникших за годы депортации, в силу отсутствия средств и контраста между с трудом налаженным в Сибири бытом и перспективой полной материальной неустроенности на родине, из-за угрозы более сильной, чем в Сибири, стигматизации, связанной с их прошлым, а также других причин, в том числе, возможно, из-за по-разному выражаемой, но звучащей у многих идентификации с тем окружением, в котором они выросли в ссылке[46].
3. ОСВОБОЖДЕНИЕ ИЗ СПЕЦПОСЕЛЕНИЯ И КОНЕЦ «ОБЩЕЙ СУДЬБЫ»
Демонтаж сталинской репрессивной системы приводит к массовому, хотя и растянутому во времени отъезду литовских спецпереселенцев[47]. Это ведет не только к распаду сложившихся в местах ссылки локальных этнических сообществ, но и к существенной индивидуализации жизненных траекторий бывших депортированных, росту их многообразия, которое невозможно вместить в представления об «общей судьбе» литовских ссыльных.
Многообразным будет дальнейший жизненный путь и опыт как тех, кто вернется на родину, так и меньшинства, оставшегося жить в Сибири. Процесс отъезда, именуемый на языке МВД «убытием», растянулся на несколько лет. С 1953 по 1959 год число литовских спецпереселенцев, стоявших на учете, сократилось примерно со 105 до 5 тыс. человек[48].
Речь, однако, пока шла только об освобождении с режима спецпоселения, что в большинстве случаев означало возможность покинуть место ссылки, но не вернуться на родину. О последнем необходимо было ходатайствовать в индивидуальном порядке, и процедура нередко затягивалась на многие месяцы, а то и годы (в случае повторяющихся отказов). Таким образом, факт вхождения в одну и ту же категорию депортированных («кулаков», «бандпособников» и пр.), проживания в одном и том же месте, а порой и принадлежности к одной семье не означал возможности уехать из ссылки одновременно. На родине бывшие депортированные сталкивались со множеством препятствий: от невозможности получить прописку и найти жилье до бытовой стигматизации и дискриминации на работе[49]. Преодолевать их каждому приходилось самостоятельно. Так опыт депортации становился потенциально отягчающим фактом личной биографии, которым каждый управлял по-своему, за рамками «общей судьбы».
Такое индивидуальное выстраивание жизненных траекторий начиналось, в действительности, еще до отъезда из спецпоселения: когда одни возвращались на родину тайком, без официального разрешения[50], другие, наоборот, решали остаться здесь еще на несколько лет, дожидаясь, например, выхода на пенсию или окончания школы детьми. Кто-то из молодежи отправлялся учиться в областной центр, а кого-то призывали в армию[51]. А кому-то из бывших спецпереселенцев, как окажется, суждено было остаться в Сибири на всю жизнь.
В бывших местах ссылки оставались, таким образом, «осколки» былых литовских сообществ, но связи с ними — в тех случаях, когда они хоть отчасти сохранялись, — по-видимому, все в меньшей степени определяли повседневную жизнь бывших спецпереселенцев, их стратегии адаптации и формы идентификации. Интервью с бывшими литовскими депортированными, оставшимися жить в Иркутской области, свидетельствуют об их значительной интеграции в окружающее общество. Она проявилась в успешной профессиональной деятельности, дружеских и семейных связях, а также, например, во взгляде на собственное прошлое. В их рассказах конец репрессивного эпизода редко определяется с точностью. В отличие от начала депортации, датируемого днем высылки, он теряется среди других важных событий, не связанных с репрессивным контекстом, но зато вписанных в окружающую жизнь: служба в армии, женитьба, переезд на одну из гигантских сибирских строек или затопление деревни, в которой прошла юность. Таким образом, годы, проведенные на спецпоселении, отчасти растворяются в последующей жизни индивида, а его рассказ о своем прошлом, в том числе репрессивном, оказывается в значительной мере вписанным в представления о судьбе всего советского или российского общества, в частности благодаря сближению собственного опыта с испытаниями, выпавшими в период войны и первые послевоенные годы на долю всей страны.
[1] Советская национальная политика: идеология и практики, 1945—1953 / Отв. сост. Л.П. Кошелева, О.В. Хлевнюк. М.: РОССПЭН, 2013. С. 5.
[2] В 1945—1953 гг. из Литвы было депортировано свыше 100 000 человек. О подготовке и осуществлении этих операций см.: Blum А. Deportes en Union sovietique (1930—1953): decision politique et articulation bureaucratique — L'operation «Printemps» en Lituanie // Revue d'histoire moderne et con- temporaine (в печати); Strods H, Kott M. The File on Operation «Priboi»: A Reassessment of the Mass Deportations of 1949 // Journal of Baltic Studies. 2002. Vol. 33. № 1. Р. 1—36. Среди работ более общего характера, посвященных принудительным перемещениям населения и советской политике в Прибалтике: Народы стран Балтии в условиях сталинизма (1940— 1950-е годы). Документированная история / Под ред. Н.Ф. Бугай. Штутгарт, 2005; Полян П.Н. Не по своей воле... История и география принудительных миграций в СССР. М.: ОГИ, 2001; Warlands: Population Resettlement and State Reconstruction in the Soviet — East European Borderlands, 1945—1950 / P. Gatrell, N. Baron (Eds.). Basingstoke, 2009.
[3] См. размышления Р. Брубейкера о фреймировании насилия и травматического опыта в качестве этнических и роли этих процедур в повышении уровня «групповости» (Брубей- кер Р. Этничность без групп. М.: Издательский дом ВШЭ, 2012. С. 40).
[4] Возникновение таких представлений анализируется В. Да- волюте: Davolinte V. «We Are All Deportees». The Trauma of Displacement and the Consolidation of National Identity during the Popular Movement in Lithuania // Maps of Memory: Trauma, Identity and Exile in Deportation Memoirs from the Baltic States / T. Balkelis, V. Davoliute (Eds.).Vilnius, 2012. Р. 109, 132—135.
[5] Balkelis Т. Ethnicity and Identity in the Memoirs of Lithuanian Children Deported to the Gulag // Maps of Memory: Trauma, Identity and Exile in Deportation Memoirs from the Baltic States. Р. 54.
[6] Летом 1942 года более 2 тысяч спецпереселенцев из Литвы (в том числе большое количество матерей с детьми) было перевезено в устье Лены, на берег моря Лаптевых и фактически брошено там на произвол судьбы. По сведениям, приводимым председателем Общества «лаптевцев» Йона- сом Маркаускасом, «лаптевцами» опубликовано свыше двух десятков воспоминаний (Литовцы в Арктике / Сост. Й. Маркаускас и Й. Пуоджюс. Вильнюс, 2011).
[7] Тенденция прочитывать историю депортаций сквозь призму представлений и категорий, сформированных воспоминаниями «лаптевцев», сохраняется и сегодня, несмотря на увеличение количества и разнообразия доступных свидетельств. Так, авторы большинства статей из недавно опубликованного сборника, посвященного литовской памяти о депортациях, продолжают использовать, в первую очередь, воспоминания «лаптевцев», нередко распространяя подсказанные ими наблюдения на историю всех депортированных. См., например: Balkelis Т. Ethnicity and Identity... Р. 46—71.
[8] Balkelis Т. Ethnicity and Identity... P. 55.
[9] Подробную информацию о проекте и методике сбора интервью можно найти на сайте: http://museum.gulagmemories.eu/, а также на русском языке в статье: Блюм А., Кустова Э. Звуковые архивы — Европейская память о Гулаге // Mиграционные последствия Второй мировой войны: этнические депортации в СССР и странах Восточной Европы / Под ред. Н. Аблажей и А. Блюма. Новосибирск, 2012. С. 124—168. Cм. также коллективную монографию, опирающуюся на материалы этого проекта: Deportes en URSS: Recits d'Europeens au Goulag / A. Blum, M. Craveri, V. Nivelon (Eds.). Paris, 2012.
[10] Подчеркнем, что в этой статье не рассматривается судьба заключенных лагерей.
[11] Из фондов российских (ГАРФ, ГАНИИО) и литовских государственных архивов (LYA, Литовский особый архив).
[12] Одной из особенностей проекта «Звуковые архивы — Европейская память о Гулаге» было то, что в ходе полунаправленных интервью респондентов просили рассказать о всей своей жизни, начиная с первых детских воспоминаний и вплоть до сегодняшнего дня. Респонденты знали, что к ним обратились как к бывшим депортированным, но интервью отнюдь не ограничивалось историей их высылки и годами, проведенными в лагере или на спецпоселении. Возможность проследить за всей траекторией бывших депортированных позволяет вписать их репрессивный опыт в длительную — в масштабах человеческой жизни — перспективу.
[13] Здесь и далее различные категории «спецконтингента» («выселенцы», «спецпереселенцы» и «ссыльно-посе- ленцы») рассматриваются вместе.
[14] Докладная записка о выполнении указаний МВД от 19 августа 1949 г. № 3825/к о работе среди выселенцев-спецпереселенцев (ГАРФ. Ф. 9479. Оп. 1. Д. 471. Л. 220—231).
[15] Красильников С.А. Серп и молох. Крестьянская ссылка в Западной Сибири в 30-е годы. М.: РОССПЭН, 2003; Красильников СА, Саламатова М. С., Ушакова С.Н. Корни или щепки. Крестьянская семья на спецпоселении в Западной Сибири в 1930-х — начале 1950-х гг. М.: РОССПЭН, 2010; Viola L. The Unknown Gulag: The Lost World of Stalin's Special Settlements. Oxford, 2007.
[16] В учетных делах спецпереселенцев встречаются и такие более дробные категории, как «литовские кулаки», «литовцы 1951 г.» и др. (LYA. ДД. 30964/5, 29465/5 и др.).
[17] Среди примерно 17 500 жителей Литвы, депортированных в июне 1941 г., этнические литовцы составляли 70%, поляки — 18%, евреи — 9%, русские — 2%. Около трети из них составляли крестьяне, остальные были государственными служащими (17%), рабочими (14%), учителями (9%) и т.д. (Birauskaite B. Lietuvos giventoju genocidas. Vol. 1. Vilnius, 1991. P. 782—784 (цит. по: Balkelis Т. Ethnicity and Identity... P. 50)).
[18] См. случаи, упоминаемые в: Balkelis Т. Ethnicity and Identity... Р. 63—65.
[19] Интервью с Антанасом К., с. Тангуй (Иркутская обл.), январь 2010 г.; интервью с Еленой Т., г. Братск (Иркутская обл.), август 2009 г.; интервью с Марите К., г. Вильнюс, июнь 2011 г.
[20] О меньшей по сравнению с Киргизией стигматизацией калмыков в Сибири, объясняемой массовым присутствием ссыльных, см.: Гучинова Э.-Б. У каждого своя «Сибирь». Ссыльные калмыки в Средней Азии // Диаспоры. 2008. № 1. С. 202, 212.
[21] Интервью с Еленой Н., с. Калтук (Иркутская обл.), август 2009 г.; интервью с Александрой и Иваном Б., с. Калтук (Иркутская обл.), август 2009 г.; интервью с Йозасом М., г. Братск (Иркутская обл.), август 2009 г.; интервью с Римгаудасом Р., г. Вильнюс, июнь 2011 г.
[22] Записки Й. Казлаускаса, цит. по рукописи на русском языке. Опубл. текст (в англ. пер.): KazlauskasJ. Fotografija. Vilnius, 2010. P. 195.
[23] Следует, правда, заметить, что чем тяжелее была повседневная жизнь спецпереселенцев, чем в большей степени она носила характер борьбы за выживание, тем более стертым кажется «этнографическое» измерение их рассказов. Как лаконично сказала одна из наших респонденток в ответ на настойчивые попытки интервьюера (автора этой статьи) узнать, какие «национальные» или иные блюда они с матерью готовили и какие продукты употребляли, попав в ссылку в Красноярский край: «что было, то и готовили... » (Интервью с Еленой Т., г. Братск, Иркутская обл., август 2009 г.).
[24] Там же.
[25] В ходе депортаций 1948—1949 гг. каждой семье разрешалось взять с собой до 1500 кг груза (Приказ министра внутренних дел СССР № 00225 «О выселении с территории Литвы, Латвии и Эстонии кулаков с семьями, семей бандитов и националистов», 12 марта 1949 г. // История сталинского ГУЛАГа. Т. 1. М.: РОССПЭН, 2004. С. 519—522). Мало кому удалось полностью реализовать это право, но взятые с собой и присылаемые впоследствии родственниками вещи и деньги сыграли важную роль в судьбе многих спецпереселенцев, особенно в первый год жизни на спецпоселении (интервью с Антанасом К., Вильнюс, октябрь 2009 г.; интервью с Еленой Т., г. Братск (Иркутская обл.), август 2009 г.).
[26] Супруги Александра и Иван Б., русские соседи литовских спецпереселенцев, следующим образом отзываются о клумпесах: «...деревянные колодки... Как они в них ходили? А потом они быстро их сбросили...» (интервью с Александрой и Иваном Б., с. Калтук, Иркутская обл., август 2009 г.). Нельзя, разумеется, не заметить пенитенциарной коннотации слова, используемого для обозначения этой обуви, которая, таким образом, могла восприниматься как напоминание о подневольном положении их владельцев.
[27] Интервью с Йозасом М., г. Братск (Иркутская обл.), август 2009 г.
[28] Интервью с Еленой Т., г. Братск (Иркутская обл.), август 2009 г.
[29] Там же.
[30] Интервью с Александрой и Иваном Б., с. Калтук (Иркутская обл.), август 2009 г.; интервью с Еленой Н., с. Калтук (Иркутская обл.), август 2009 г.; интервью с Марите К., г. Вильнюс, июнь 2011 г.
[31] См. посвященные этому свидетелю страницу виртуального музея «Звуковые архивы — Европейская память о Гулаге» и главу (MaciuliteJ. Une ame de paysan) в коллективной монографии: Deportes en URSS. Recits d'Europeens au Goulag / A. Blum, M. Craveri, V. Nivelon (Eds.). Paris, 2012. P. 251—266).
[32] Интервью с Римгаудасом Р., Вильнюс, октябрь 2009 г.
[33] См. также, например, интервью с Марите К., г. Вильнюс, июнь 2011 г.
[34] Интервью с Антанасом К., с. Тангуй (Иркутская обл.), январь 2010 г.; интервью с Еленой Н., с. Калтук (Иркутская обл.), август 2009 г.; интервью с Александрой и Иваном Б., с. Калтук (Иркутская обл.), август 2009 г.
[35] Именно эти особые моменты часто оказываются запечатленными на фотографиях, сделанных в ссылке. См. фотоматериалы, размещенные на сайте виртуального музея «Звуковые архивы — Европейская память о Гулаге»: http:// museum.gulagmemories.eu/.
[36] Интервью с Марите К., г. Вильнюс, июнь 2011 г.
[37] Подробно об образе родины у ссыльных литовцев (главным образом, первой волны депортации) см.: Balkelis Т. Ethnicity and Identity... Р. 67—69.
[38] Ibid.
[39] Подробнее об этом см.: Кустова Э. Труд и адаптация спецпоселенцев на примере послевоенных депортаций из Восточной Европы // История сталинизма. Принудительный труд в СССР. Экономика, политика, память. Материалы международной научной конференции. М.: РОССПЭН, 2013. С. 65—77.
[40] Там же; интервью с Йозасом М., г. Братск (Иркутская обл.), август 2009 г.; интервью с Антанасом К., с. Тангуй (Иркутская обл.), январь 2010 г.; интервью с Римгауда- сом Р., Вильнюс, октябрь 2009 г.
[41] Интервью с Марите К., г. Вильнюс, июнь 2011 г.; интервью с Антанасом К., с. Тангуй (Иркутская обл.), январь 2010 г.
[42] Интервью с Йозасом М., г. Братск (Иркутская обл.), август 2009 г.; интервью с Антанасом К., с. Тангуй (Иркутская обл.), январь 2010 г.; интервью с Римгаудасом Р., Вильнюс, октябрь 2009 г.
[43] Интервью с Юлианой З., Каунас, июнь 2009 г.; интервью с Марите К., г. Вильнюс, июнь 2011 г.; интервью с Антана- сом К., с. Тангуй (Иркутская обл.), январь 2010 г.
[44] Интервью с Марите К., г. Вильнюс, июнь 2011 г.; интервью с Антанасом К., Вильнюс, октябрь 2009 г.; интервью с Еленой Н., с. Калтук (Иркутская обл.), август 2009 г.; интервью с Антанасом К., с. Тангуй (Иркутская обл.), январь 2010 г.; интервью с Йозасом М., г. Братск (Иркутская обл.), август 2009 г.; интервью с Феликсом К., г. Братск (Иркутская обл.), август 2009 г.
[45] Интервью с Марите К., г. Вильнюс, июнь 2011 г.; интервью с Антанасом К., Вильнюс, октябрь 2009 г. Cp. статью Ж. Де- ни о лесе в воспоминаниях бывших депортированных на сайте виртуального музея «Звуковые архивы — Европейская память о Гулаге» (http://museum.gulagmemories.eu/ru/salle/les) и главу того же автора (DenisJ. Les images de l'enfance) в коллективной монографии: Deportes en URSS. P. 109—131.
[46] Среди наших информантов есть и те, кто сделал попытку вернуться на родину, а затем в силу возникших там трудностей разного рода (от отсутствия прописки и жилья до явных препятствий в карьере) вновь приехал жить в места бывшей ссылки: Йозас М., Анна К.-Т., Йонас К.
[47] Процессам возвращения из депортации посвящено наше текущее исследование, осуществляемое совместно с А. Блюмом.
[48] Данные рассчитаны А. Блюмом по: ГАРФ. Ф. R9479. Оп. 1. Д. 905, 932, 949, 967; Земсков В.Н. Спецпереселенцы в СССР. 1930—1960. М.: Наука, 2003. С. 161, 211—212, 226—227, 240—241.
[49] О трудностях, с которыми сталкивались бывшие ссыльные на родине, см.: Davoliate V. «We Are All Deportees». The Trauma of Displacement. Р. 125—128.
[50] Об этом свидетельствуют многочисленные ходатайства с просьбой разрешить проживание на территории республики, на которых в качестве обратного указан адрес в Литве: см. многочисленные протоколы Комиссии Президиума ВС ЛССР по рассмотрению заявлений о разрешении проживания в ЛССР гражданам, ранее выселенным за ее пределы (LYA. Ф. V135. Оп. 7. Д. 437 и др.).
[51] Интервью с Римгаудасом Р., Вильнюс, октябрь 2009 г.; интервью с Марите К., г. Вильнюс, июнь 2011 г.
Опубликовано в журнале:
«НЛО» 2014, №3(127)
Декосмополитизация русской диаспоры: взгляд из Бруклина в «дальнее зарубежье»
(пер. с англ. А. Горбуновой)
Дэвид Лэйтин
Декосмополитизация русской диаспоры:
ВЗГЛЯД ИЗ БРУКЛИНА В «ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ»[1]
По мере того, как диаспоральные общины культурно и политически встраиваются в жизнь приютивших их стран, особое значение — по собственному ли желанию или по необходимости — они придают различным аспектам, выделенным из общей совокупности присущих им культурных черт. Одни выдвигают на первый план свою расу (чернокожие из стран Карибского бассейна в Соединенных Штатах), другие — свою религию (мусульмане из Алжира во Франции), а третьи — свою основанную на языке этническую принадлежность (англичане в Южной Африке). Угадать, какой аспект идентичности «победит», — задача, долгое время ставившая в тупик тех, кто занимается этнической проблематикой. Но со временем значительная часть каждой диаспоральной общины и их потомков объединяется вокруг какого-то одного аспекта различия, обусловливающего их социально-политическое поведение
как членов определенной категории (скажем, католики) в отношении выделенного аспекта (в данном случае религии)[2].
Такой выбор в вопросах идентичности нельзя считать несущественным. Как показала Мэри Уотерс, второе поколение мигрантов из стран Карибского бассейна не смогло получить ожидавшегося жизненного дохода — отчасти потому, что они идентифицируют себя (и идентифицируются людьми за пределами своей общины) как «черные». Национальная идентичность выходцев из стран Карибского бассейна имеет более высокий статус в глазах американских работодателей, чем идентичность чернокожих американцев, однако, несмотря на это, региональная идентичность уступила место расовой. Это имеет важные последствия. Результаты политики в области идентичности в значительной степени определяют возможных социальных и политических союзников, а также то, через какие каналы можно обращаться за поддержкой.
В этой статье описывается процесс, вследствие которого русско-еврейские иммигранты, осевшие в Нью-Йорке (по большей части на Брайтон-Бич в Бруклине), стали объединяться вокруг доминирующей религиозной идентичности[3]. У русскоговорящих (по большей части еврейских) эмигрантов из России в последней четверти прошлого века был выбор, когда они добрались до Вены: либо эмигрировать в Израиль, либо ждать более долгое время, но в конечном итоге добраться до Соединенных Штатов (через Италию). По- видимому, те, кто выбрал Соединенные Штаты, были более светскими и менее проникнутыми религиозными идеалами, чем те, кто уехал в Израиль. Тем не менее — заостряя различие между ними ради подразумеваемого сопоставления — русскоговорящие евреи в Брайтоне идентифицировали себя главным образом как «евреев»[4], в то время как русскоговорящие евреи в Израиле идентифицировали себя главным образом как «русских»[5].
В таком итоге есть очевидная ирония. В одном и том же ряду русскоговорящих евреев, покинувших Советский Союз в конце 1970-х (так называемая третья волна) и в конце 1980-х (четвертая волна, которая принесла многих этнических русских вместе с русскоговорящими евреями), есть две категории: те, кто влился в религиозное государство (Израиль), основывают свое политическое поведение на светских ценностях, тогда как те, кто влился в государство, не придерживающееся какой-то одной религии как государственной (Соединенные Штаты), основывают свое поведение на религиозной идентичности.
Рассмотренный с точки зрения определенных теоретических подходов, такой итог вовсе не удивителен. Здесь могут быть применены простые демографические модели политической идентификации. Русская идентичность имеет не столь высокую ценность, чтобы оказывать влияние на американскую и/или нью-йоркскую политику. Однако объединившись с американскими евреями, русскоговорящие евреи могут обеспечить себе позицию во влиятельном меньшинстве в обеих сферах. Демография в Израиле говорит о противоположном: идентификация с евреями-израильтянами не дает их лидерам какого-то дополнительного голоса, в то время как идентификация себя как русских израильтян стала заметной и привлекательной, по крайней мере для людей, вовлеченных в политику, ищущих поддержку со стороны этого демографически значительного избирательного блока. Эта расстановка показывает, что диаспоры не обязательно делают упор на самые глубинно значимые элементы из совокупности присущих им культурных черт; скорее, после «подсчитывания товарищей» — потенциальных союзников — они выбирают тот аспект своей идентичности, который позволяет им максимально увеличить свое влияние на выборах[6].
Подходы, принимающие во внимание политическое пространство, в которое прибывают иммигранты, также помогают понять эти результаты. В Соединенных Штатах, как следует из концепции Алексиса де Токвиля в его классическом исследовании Америки (том 1, глава 2), имеет место глубоко укоренившееся убеждение, что языковое разнообразие представляет угрозу для общественного блага, в то время как религиозное разнообразие безопасно. Неудивительно, что такие ученые, как Уилл Херберг, Хелен Эбо и Джанет Чафетс, периодически отмечали, что американские иммигранты объединяются в религиозные общины (к чему в обществе относятся с уважением) и избавляются от своих языковых отличий (которые рассматриваются как угроза доминирующему англоговорящему обществу). Между тем, в Израиле, при том что значительный процент мигрантов из стран бывшего Советского Союза не являются евреями (по статистике Министерства внутренних дел), ни одна группа не может получить жирный кусок от государства, или его кошерный эквивалент, идентифицируя себя в первую очередь как евреев. Таким образом, иммигранты, возвращаясь на свою воображаемую родину, объединяются вокруг черт идентичности, связанных со страной, откуда они эмигрировали.
Эта статья не ставит своей первоочередной задачей объяснить, почему русскоговорящие евреи в Нью-Йорке выстраивают свою политическую и социальную жизнь вокруг религиозной идентичности. Скорее, ее цель — описать на уровне семейных перипетий, как возник этот результат. Для этого я обращусь сначала к «модальной истории жизни» двух последних волн русскоговорящих мигрантов из бывшего Советского Союза. Мой тезис состоит в том, что эти жизненные истории наглядно показывают космополитичное сообщество, в которое встроились русскоговорящие евреи, и не предвещают результат, возникший вследствие их поселения в Нью-Йорке[7]. Затем я обсужу вопрос, каким образом русскоговорящая диаспора в «ближнем зарубежье» (то есть в странах — бывших республиках СССР) приняла «русскоговорящую» идентичность[8]. Напротив, эта базирующаяся на языке идентичность не стала основой или первостепенной причиной формирования идентичности рассматриваемых лиц в Нью-Йорке. В-третьих, я обсужу возникновение на повседневном уровне религиозно ориентированной еврейско-американской идентичности именно среди этих — прежде светских — космополитичных евреев. В заключительном разделе прослеживается механизм культурной передачи религиозной идентичности от родителей детям.
Для анализа менталитета одной диаспоральной общины, проживающей в «дальнем зарубежье», я провел весной 2004 года исследование среди русскоговорящих (в основном еврейских) мигрантов, приехавших в конце 1970-х годов и позднее, в большинстве своем проживающих на Брайтон-Бич. Интервью, в которых я опросил три поколения, представляют нам двадцать пять различных семейных историй. Вначале рассматривается поколение, которое приняло решение эмигрировать, затем — поколение их родителей, потом — их дети. Конечно, в изложенных свидетельствах сочетаются пересмотр фактов и риторические стратегии, используемые интервьюируемыми для обоснования событий их бурной жизни. Моя интерпретация этих интервью поэтому должна выйти на уровень более глубинного осмысления изложенных фактов[9]. Для дополнения этих историй с точки зрения более широкого видения проблемы, чем возможно с опорой исключительно на этнографию, я также обращался к вспомогательным источникам, газетным архивам и к данным массовых опросов.
I. МОДАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ПОКОЛЕНИЙ ТРЕТЬЕЙ И ЧЕТВЕРТОЙ ВОЛН СОВЕТСКОЙ ЭМИГРАЦИИ В США
Очертания большинства историй, охватывающих несколько поколений семей мигрантов, имеют много общего. Старшее поколение родилось в черте оседлости на западных границах Российской империи — в узкой зоне, простирающейся от Черного до Балтийского моря, где цари разрешали селиться евреям, которые выплачивали налог; однако быть собственниками земли им не дозволялось. Местные этнические группы, укорененные на территории черты оседлости, как правило, относились с презрением к этим «защищаемым властью» евреям и были готовы терроризировать их, когда центральная власть ослабевала. При советской власти все быстро изменилось. Евреи начали принимать космополитическую идентичность, в которой их религия не имела принципиального значения[10]. В данных мне интервью старшее поколение рассказывает, вспоминая свой опыт жизни в ранний советский период, что в то время евреи стали частью широких социальных и профессиональных сообществ. И после нападения Германии в 1941 году многие евреи были эвакуированы с территории бывшей черты оседлости и переправлены в Центральную Азию ради их безопасности; так они смогли пережить холокост. После войны, более не привязанные к проживанию на территории бывшей черты оседлости, советские евреи продвинулись профессионально — по крайней мере, в процентном отношении — не меньше, чем другие советские народности. Тем не менее в период экономического застоя в 1970-х их дети начали ощущать дискриминацию, ограничивающую их возможности. Именно это поколение стремилось эмигрировать, и единственным путем к эмиграции было подчеркивание своей еврейской идентичности. Когда они обратились за документами, которые бы позволили им эмигрировать в Израиль, Советское государство стало ставить им бюрократические препоны и принимать против них репрессивные меры. Те, кто пошел на риск и добился получения визы, вытащили своих нерелигиозных космополитичных родителей за рубеж. Учитывая огромную социальную поддержку этих еврейских эмигрантов (со стороны сопровождавших их родителей, частных агентств, а также закона о беженцах в Соединенных Штатах), высокий уровень их человеческого капитала и предоставляемые американской экономикой возможности, среднее поколение быстро продвинулось в экономическом плане. Их дети в целом преуспели в учебе и интегрировались социально в американскую культуру. Именно эта модальная история является основанием для трактовки вопроса о том, какой аспект из общей совокупности присущих уехавшим евреям культурных черт станет их доминирующей политической идентичностью в американском контексте.
Начнем — и это касается многих из моих респондентов, которых я опрашивал в рамках их миграционной истории, — с трагедии немецкой оккупации в 1941 года и переезда с территории бывшей черты оседлости на Урал и в Казахстан. Вот, к примеру, одна такая история.
Респондентка рассказывает о том, что в 1941 году она закончила десятилетнюю школу, где языком обучения был украинский. Немцы разбомбили мост через Днепр, и респондентка участвовала в строительстве временного моста. Их семья была эвакуирована. Она вспоминает, как они ждали поезда на открытой железнодорожной платформе вместе с больными и престарелыми и как их разместили в вагонах. Семья рассказчицы состояла из четырех человек, ее саму вместе с матерью, братом и сестрой эвакуировали в Казахстан; отец был на фронте. Затем рассказчица оказалась на Урале и работала в Министерстве черной металлургии; их отдел занимался демонтажем фабрик на западе и реконструкцией их на Урале, занимался двигателями и прочим оборудованием, которое могло быть использовано после войны. Все оборудование учитывалось и классифицировалось, рассказчица делала списки и отправляла их в Москву. Таким образом, они могли посылать запчасти на заводы, работающие по всей России во время войны. Они жили в палатках, пока делали эту работу, по двадцать человек в палатке. Рассказчица сообщила, что ее начальника направили в Москву, и тогда рабочие стали подавать прошения о том, чтобы вернуться в свои родные места, но для этого требовалось получить разрешение. Начальник рассказчицы возглавлял комсомольскую организацию (ВЛКСМ). Он сказал, что возвращаться слишком опасно, что все разрушено. Сама рассказчица подавала прошение дважды, и ей было отказано, потому что считали, что некому будет делать ее работу. Я спросил ее, не в том ли было дело, что она еврейка. Она засмеялась и сказала: «Никого тогда не заботили эти вещи. Нас было восемьдесят процентов украинцев и двадцать процентов евреев, но никто не знал, кто какой был национальности, все мы говорили по-украински. Только после войны религия стала иметь значение». Затем рассказчица вступила в коммунистическую партию. Начальник посоветовал ей тогда «просто уехать» и не беспокоиться о разрешении и бумажной волоките. Она вернулась на Украину в октябре 1943 года, дорога заняла месяц. Вместе с матерью и маленькой сестрой они вернулись в свою старую квартиру, за которой присматривал друг, оставшийся на Украине. Брат рассказчицы умер на Урале. Отец отправился из Польши на японский фронт и затем вернулся на Украину. Молодой человек рассказчицы погиб в Сталинграде (интервью 9)[11].
В лагерях и в армии ситуация была похожей. Как объяснил один из интервьюируемых, в армии не было антисемитской дискриминации. Она появилась позднее. Ко всем в армии относились одинаково — ни у кого не было времени тогда выяснять, кто какой национальности (интервью 13).
После войны евреи чувствовали, что возможности для них открыты. Это подтверждают воспоминания следующего респондента. Он говорит о том, что уехал из Киева не по финансовым причинам. В материальном плане у него все было хорошо. В Киеве он жил через дорогу от центрального стадиона, на центральной площади. Во время перестройки там проходили многие массовые митинги, и до респондента доносилось множество угроз, в том числе, что евреев будут убивать (также присутствовали угрозы в отношении русских). Он начал бояться, так как многие его друзья сравнивали Украину того времени с Германией 1932 года; можно было услышать однотипные высказывания в Кременчуге, в Харькове, да где угодно на Украине. Друзья рассказчика начали уезжать, и он решил последовать за ними, в значительной степени из любопытства — это было что-то вроде прыжка с парашютом. Рассказчик отмечает, что, хотя он и ошибался насчет будущего, все равно это были страшные времена, вызванные ослаблением советской власти. И, отмечает рассказчик, с развалом СССР в независимой Украине, в связи с отсутствием денег, больше нет культурной жизни. «В Советском Союзе мне было хорошо. Я был из бедной семьи, но получил образование и пошел в технический институт» (интервью 8).
Как следует из приведенных рассказов, антисемитизм оказался новым шокирующим явлением для советских евреев в 1970—1980-е годы. Русскоговорящие еврейские иммигранты, которых я интервьюировал, были единодушны в том, что антисемитизм открыто выражался во время застоя 1970-х и нарастал во время перестройки в 1980-е. В одном опросе русско-еврейских иммигрантов, живущих в Нью-Йорке, восемьдесят пять процентов респондентов оценили угрозу антисемитизма в странах бывшего Советского Союза на том этапе как серьезную (RINA 32—33).
Мои респонденты сообщали о чувстве антисемитской угрозы как о неотъемлемой части повседневной жизни во время застоя, когда проявились прежде скрытые предрассудки. «В России даже самые маленькие дети ненавидят евреев, я не знаю почему», — рассказал респондент. «Я сказал моим детям, что они должны учиться в школе лучше всех, потому что их оценки будут занижать. Когда я попытался сдать экзамен в Ленинградский университет, это было трудно, потому что специальный "трибунал" в течение двух с лишним часов задавал мне вопросы (только мне), после чего глава комиссии сказал: "К сожалению, я не нашел вопрос, на который вы бы не смогли дать ответ", и они были вынуждены поставить мне "отлично"... Но даже с самыми высокими оценками, из-за особой ситуации для евреев, было трудно найти работу».
В газете «Новое русское слово»[12] Яков Смирнов, уроженец Одессы, приехавший в Соединенные Штаты в 1977 году в возрасте двадцати шести лет, рассказывает следующий анекдот, обобщающий чувства, которые испытывали евреи в советские времена. В продуктовом магазине стоит длинная очередь за колбасой. Из-за дефицита продуктов заведующий магазином просит уйти всех евреев. Через три часа он говорит, чтобы ушли все некоммунисты. Еще через три часа он сообщает, что колбаса кончилась и теперь все могут возвращаться домой. Один из оставшихся коммунистов жалуется: «Опять евреям повезло больше всех» (Ярмолинец, «Возвращение»). Сегодня одесский юмор Смирнова, простой и интеллектуальный одновременно, высоко ценят в Нью-Йорке.
Обзорное исследование Сэмуэля Клигера схватывает подлинную иронию устоявшегося мнения об антисемитизме: «Те евреи, что сейчас живут в Москве (включая "наполовину евреев"), составляют значительную часть новой русской элиты <...> их вес в российской политике и бизнесе гораздо больше, чем в любой другой христианской стране...» (Kliger 150). Таким образом, согласно Клигеру, это была предполагаемая дискриминация, а не действительный факт того, что евреям было хуже, чем другим, в Советском Союзе. И эта предполагаемая дискриминация провоцировала беспокойство евреев.
Беспокойство, наряду с новой политической возможностью эмигрировать для тех, кто заявлял о том, что он пострадал от антисемитизма, повлияло на то, как евреи в Советском Союзе воспринимали свою социально-экономическую ситуацию. Ряд неформальных соглашений между Советским Союзом и США открыл путь новому потоку эмигрантов в Израиль. Их обращения за визой, однако, в первые годы рассматривались как измена советскому государству и имели тяжелые последствия для тех, чьи обращения отклонялись (и кто, таким образом, получал статус «отказника»). Например, один из респондентов сообщает, что, подав заявление на получение визы, он сразу же потерял свою должность в Академии наук. Он выживал посредством написания диссертаций для аспирантов из Центральной Азии, которые платили ему, потому что недостаточно владели русским языком, чтобы написать серьезный труд и получить ученую степень (интервью 25).
Отказники создали новый образ жизни в Советском Союзе. Они присоединялись к «еврейским кругам», тогда как до этого многие из них совершенно не интересовались своими этническими традициями. У них возникла этническая идентичность, они начали следовать еврейским традициям (необязательно из религиозных убеждений, скорее потому, что это был обычай их народа). Только небольшое число из них стали по-настоящему религиозными; остальные соблюдали еврейские праздники просто как этнические традиции: «Как отказники, мы пытались отмечать еврейские праздники, но это было очень опасно. Мы пытались изучать иврит и иудейскую религию, потому что правительство стремилось подавить такие стремления. Каждый раз мы меняли место встречи нашей группы, изучавшей иврит, потому что боялись, что милиция запретит нам встречаться» (интервью 2).
Но возобновленная связь с этническими традициями вряд ли была их главной целью. Многие из них использовали свои сбережения, чтобы изучать английский язык. Как сообщает один из отказников, они изучали английский в течение многих лет еще до того, как приехали в Соединенные Штаты. Преподавание его было, конечно, на посредственном уровне. Пока они ждали приглашения, они начали брать частные уроки, договорившись с преуспевающей преподавательницей английского из Ленинграда, обучившей несколько поколений эмигрантов. У респондента были связи с преподавателями из Соединенных Штатов, которые отправляли ему учебные материалы. С этой преподавательницей они занимались в течение года. Они не изучали иврит — все они собирались в Нью-Йорк.
Однако, чтобы попасть в Соединенные Штаты, они сначала должны были получить приглашение из Израиля. Чтобы быть приглашенными в Израиль, потенциальные мигранты должны были получить документы из Израиля, доказывающие, что они родственники, желающие воссоединиться со своими семьями. В девяноста процентах случаев (эту цифру указывает респондент 22) эти родственные связи были ложными, но советские власти не обращали на это внимания, так как все знали, что такие документы не соответствовали истине.
Рассказчица вспоминает, что они получили такое приглашение от «двоюродных братьев» и принесли его в специальный отдел КГБ, заполнили подробные анкеты и должны были указать семейные связи с приглашающей стороной. И тогда они получили статус потенциальных эмигрантов. Сразу же возник риск потерять работу — с того самого момента, как они получили приглашение. Ее мужа, ученого-физика, уволили. Сначала ему отказали в допуске к архивам секретных документов. Затем получилось так, что британский ученый обратился в его лабораторию за консультацией. Они пригласили его к себе домой вместе с сотрудниками лаборатории. Такие вещи запрещалось делать без разрешения КГБ, и это было использовано как предлог для увольнения. Рассказчица тогда преподавала латынь, французский язык и историю в медицинском училище, и ее тоже уволили. После увольнения мужа они подали документы на выезд. Этот шаг привел к драматическим последствиям. Свекр рассказчицы имел доступ к секретным стратегическим военным документам и с юности состоял в коммунистической партии. После того как его сын с невесткой подали заявление, он, будучи честным человеком, отправился к начальнику отдела, чтобы поставить того в известность об этом, хотя у него самого не было намерения эмигрировать и он не разделял взглядов рассказчицы и ее мужа на будущее (но, как дедушка, он их «понимал»). На следующий день его отправили на пенсию, хотя он руководил крупным проектом (интервью 22).
В конце 1980-х началась четвертая и последняя волна русско-еврейской эмиграции. По соглашению между Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым открылись ворота для евреев, желающих уехать в Израиль для воссоединения со своими семьями. Те, кто приносил приглашения от фальшивых родственников, получали визы, а Горбачев — американскую пшеницу! В 1989 году конгресс США объявил советских евреев категорией, имеющей право въехать в США в качестве беженцев, если они могут представить убедительные свидетельства того, что они подвергнутся преследованиям, если останутся в СССР (Kliger 149).
Те, кто получил визы, отправлялись из Москвы в Вену, чтобы оттуда переправиться в Израиль. В Вене те из них, кто хотел эмигрировать в США, получали поддержку от Общества помощи еврейским иммигрантам (ХИАС). Оттуда они направлялись в Рим (месторасположение штаб-квартиры ХИАС), где подавали заявление на получение статуса беженца в США.
Как объяснила одна респондентка, вначале они отправились в Австрию за счет ХИАС. У них уже были планы ехать в Нью-Йорк — они хотели присоединиться там к своим друзьям, эмигрировавшим два года назад. Они отправились из Вены в Рим. Все было хорошо организовано. В августе они остановились на две недели в окрестностях Рима (в прелестном городке Монтичелло). Получив дотацию от ХИАС, им нужно было найти и снять квартиру. Сын рассказчицы хорошо знал римскую историю, помнил все наизусть и любил бродить по Риму. «Каждый стремился продлить свои итальянские каникулы благодаря ХИАС» (интервью 22).
Мигранты обычно путешествовали в составе представителей трех поколений, хотя в большинстве случаев бабушки и дедушки следовали неохотно: «Я отправился в США из-за дочери. Я не хотел ехать, потому что у меня была работа на Украине и я был членом Союза адвокатов в СССР, это был высокий статус. Но здесь я не могу работать юристом, пока не буду знать английский язык достаточно хорошо. Язык для меня — очень большая проблема» (интервью 4).
И другой похожий случай: «Я был военным офицером, полковником, отслужил двадцать девять лет в армии, ветеран Великой Отечественной войны. Я закончил свою военную службу в Ташкенте. Там процветал антисемитизм. Мои дети не хотели там жить и переехали сюда. Что мне оставалось делать? Я переехал вместе с ними» (интервью 10).
Еще: «Материнское сердце заставило меня быть с моим младшим сыном. Старший сын (который тоже не хотел эмигрировать) поехал с нами, чтобы сохранить единство семьи» (интервью 19).
В США эти объединенные семьи быстро осваивали язык, и их материальное состояние улучшалось. В 1990 году средний доход русскоговорящих семей в Соединенных Штатах составлял примерно 32 500 долларов по стране. «Процесс адаптации стал быстрым и относительно безболезненным для большинства из них — две трети находят работу во время первого же года пребывания в стране» (Supian)[13].
Это неудивительно. Автономные семейные единицы объединились для обеспечения ухода за детьми и оказания поддержки тем, кто был задействован как рабочая сила. Более значимым является уровень человеческого капитала. Уровень образования и навыков этой диаспоры — один из самых высоких среди тех, кто когда-либо въезжал в Соединенные Штаты. В одном опросе шестьдесят процентов интервьюируемых русско-еврейских иммигрантов указали, что имеют высшее образование, полученное за пять или более лет, в отличие от тридцать пяти процентов у американских евреев (RINA 12). В другом опросе дети русско-еврейских иммигрантов, прибывших после 1965 года, сообщили об образовании своих родителей: восемьдесят четыре процента имели по крайней мере одного родителя с высшем образованием, и шестьдесят один процент — двух родителей с высшим образованием (Kasinitz et al. 13). В еще одном исследовании, спонсированном Национальным фондом американской политики, рассматривались успехи детей недавних иммигрантов из разных стран. У них были лучшие результаты в математике и естественных науках, и многие дети родителей с визами H-1B (выданными лицам, имеющим ученую степень) — 100 000 человек прибывают ежегодно по таким визам со всего мира — вышли в финал национального конкурса «научных талантов», проводившегося корпорацией «Интел» в 1994 году. По данным этого исследования, опубликованным в нью-йоркской русскоязычной прессе, второе место занял Борис Алексеев, отец которого прибыл из России по визе H-1B. На международной олимпиаде по физике, проходившей в Южной Корее в 2004 году, американская команда включала двух недавних иммигрантов; единственной участницей-женщиной была Елена Удовина, отец которой также приехал по визе H-1B (Anderson)[14].
В самом деле, местная русскоязычная пресса наводнена историями об экономическом успехе русскоговорящих иммигрантов. История, озаглавленная «Золотых рук учитель» (Ярмолинец), рассказывает о Владимире Деминге, эмигрировавшем двадцать семь лет назад из Ленинграда, где он работал ювелиром. Его страстью была реставрация, и, оказавшись в США, он самостоятельно обучился этому ремеслу. Сейчас он преподает эти навыки в Нью-Йоркском институте моды и технологии и направляет американских студентов в Россию работать по реставрационным проектам. В «Новом русском слове» появилось интервью Александра Гранта с Семеном Захаровичем Кислиным. Кислин родился в 1935 году в Одессе и уехал из СССР в 1972-м. В СССР он был директором универсама, а сейчас возглавляет компанию «Trans-com- modity» с годовым доходом 1,1 миллиарда долларов. Когда Кислин приехал в Нью-Йорк, он не говорил по-английски, зарабатывал мытьем автомобилей и чисткой овощей. Его компания в настоящее время — крупнейший в мире поставщик литейного чугуна (Грант).
Амбиции иммигрантов «зашкаливают». Например, в интервью 13 мать гордо рассказывает о том, что ее ребенок сдал вступительный экзамен в школу Стайвесант, престижную манхэттенскую общеобразовательную школу, в которую можно поступить, только успешно сдав экзамены. Родители знали, что они уезжают из города, и поэтому их сын не сможет быть принят в эту школу. Тем не менее они заставили его сдать экзамен как свидетельство его академических успехов.
Кроме того, русскоязычная еврейская диаспора может похвастаться впечатляющим человеческим капиталом: ее члены имеют также наработанный в Советском Союзе навык пробиваться сквозь бюрократические барьеры — что довольно полезно для иммигрантов, стремящихся преуспеть в новой стране. Как уже говорилось выше, один из опрошенных мною сказал, что после пребывания в Вене «каждый стремился продлить свои итальянские каникулы за счет ХИАС». Рассказчица вспоминает, что их пригласили к консулу Соединенных Штатов в тот день, когда у нее была запланирована платная экскурсия. Эта экскурсия предназначалась в основном для русскоговорящих туристов, многие из которых находились на пособии от ХИАС. Они позвонили в консульство и сказали, что женщина заболела. Семья не пришла на прием. Через неделю они обнаружили, что их лишили субсидии от ХИАС, потому что они не пришли, когда им было назначено. Рассказчица с мужем пришли в ХИАС, чтобы выяснить, в чем дело, и их там приняли совершенно ужасно. В ХИАС знали, что у них двое детей и пожилой родитель, как же они могли лишить семью субсидии без предупреждения? — недоумевала рассказчица. В ХИАС отказались восстановить субсидию. Рассказчица с мужем уселись тогда в офисе и заявили, что не уйдут оттуда, пока финансовая помощь не будет восстановлена. Это сработало, помощь восстановили. Они получили то, что хотели, и вскоре после этого уехали (интервью 22).
В прессе отмечался еще один момент: «Как однажды сказал кто-то из русских комиков: если кто-то научился обкрадывать и обманывать свою собственную страну, ему легко удастся это сделать в любом другом месте. Это как раз касается русской мафии — даже итальянцы поражены их махинациями и бесстрашием» (Пахомов).
Старомодная коррупция вряд ли отсутствует в русско-еврейском обиходе. Американский анализ российских президентских выборов в марте 2004 года, включая данные госсекретаря США Колина Пауэлла, свидетельствует о махинациях. Ряд российских граждан, живущих в Нью-Йорке, отправились голосовать в российское консульство на Манхэттене и в театр «Миллениум» на Брайтон-Бич. Требовались паспорта. Один молодой человек представил сразу два, и сотрудник консульства упрашивал его использовать только один, «действующий» паспорт (Козловский).
Несмотря на то что опрашиваемые мной иммигранты своим успехом были обязаны сочетанию человеческого капитала, амбиций и хитрости, они выразили однозначную благодарность стране, которая предложила им убежище, и были почти единодушны в чувстве общей преданности Соединенным Штатам: «Все русские, которые прибыли сюда в возрасте старше двадцати пяти лет, говорят с акцентом, но они многого добились: они — врачи, юристы, владельцы крупного бизнеса; это великая страна, Боже, благослови Америку» (интервью 4). Один из респондентов жаловался на условия получения социального страхования. Они с группой ветеранов хотели, чтобы социальное страхование называлось «пенсией для ветеранов», поскольку это давало бы им чувство, что они имеют право на такое страхование, что они «заслужили» его. Тем не менее даже на фоне унизительной для него формулировки «социальное страхование» он выпалил: «Я благодарен Соединенным Штатам. Я получаю бесплатные лекарства, социальную страховку и много других преимуществ. Боже, благослови Америку» (интервью 15). Другая иммигрантка с ностальгией вспоминала Крым и Черное море (откуда она уехала, но куда регулярно возвращалась во время отпуска) как более красивое («более естественное») место по сравнению с тем, что она могла увидеть на пляже в Брайтоне. Однако ее преданность Соединенным Штатам не вызывает сомнений. Она вспоминает, как по прибытии в США они сняли комнату в частном доме в Бруклине. Они присоединились к жилищной лотерее и одиннадцать лет стояли на очереди, пока не получили квартиру в центре для пожилых людей. Но когда они получили ее, муж респондентки уже умер. «Мы проходили по Программе 8 и получали также дополнительный социальный доход и продовольственные талоны[15]. Чтобы получать все это, нам не нужно было работать. Боже, благослови Америку» (интервью 19).
В разных интервью постоянно встречалось выражение: «Мы очень благодарны. американскому народу. Мы ничего не дали Америке, а Америка дала нам социальное обеспечение» (интервью 10).
В одной газете репортер опросил русскоязычных иммигрантов, как они праздновали 4 июля. Одна из опрашиваемых так ответила на его вопрос: «Я провела День независимости с моим мужем. Мы пошли на Брайтон- Бич. Я — врач, поэтому я не могу отключать свой мобильный телефон. Но, к счастью, все мои пациенты чувствовали себя хорошо в этот день. Вечером мы встретились с друзьями и отправились в Бэттери-Парк смотреть салют».
Репортер пишет: «Празднование было позади. Я уверен, что все русские иммигранты почувствовали прилив патриотизма и растущее чувство принадлежности к американскому народу в День независимости» (Черноморский).
Я считаю, что иммигрантов подучили произносить «Боже, благослови Америку» для их интервью о гражданстве, потому что практически все они цитировали эту фразу как часть катехизиса. Однако не вызывает сомнений, что они испытывали безграничную благодарность Америке. И действительно, они становились сверхпреданными американцами. Но большинство американцев не «просто американцы», а имеют приставку перед этим словом (афроамериканцы, латиноамериканцы и т.д.). Что значит быть не «просто американцем» для представителей этой волны иммигрантов, которые в основном поселились в Бруклине? Я рассматриваю этот вопрос в следующих двух разделах.
II. НЕ СТАНОВИТЬСЯ «РУССКОГОВОРЯЩИМИ» (КАК В БЛИЖНЕМЗАРУБЕЖЬЕ)
Русскоязычные евреи могли называть себя таковыми и основывать свое социальное и политическое поведение на том, что они — представители «русскоговорящего населения» США. Если бы они это сделали, они стали бы частью надэтнического сообщества, включающего в себя русских, украинцев, белорусов, грузин и молдаван, которые также иммигрировали в Соединенные Штаты. В самом деле, многие евреи в республиках «ближнего зарубежья» после развала Советского Союза сделали выбор в пользу такого самоопределения. И по множеству причин адаптация к Америке в роли «русскоговорящих американцев» могла быть привлекательной.
Прежде всего, в Нью-Йорке имела место особенно сильная поддержка русского языка и сообщества говорящих на нем. В самом деле, в начале 1990-х здесь образовалась критическая масса говорящих по-русски. В 1990 году около 300 000 русскоязычных евреев жили в самом Нью-Йорке и около 400 000 — в прилегающих к нему районах. По данным официальных нью-йоркских источников, бывший Советский Союз был крупнейшим поставщиком иммигрантов в конце 1990-х годов (RINA 1—2). Учитывая размеры и географическую концентрацию русскоговорящей диаспоры, благоприятные условия для русского языка естественным образом распространились на следующее поколение. В отчете 1991 года показано, что пятьдесят три процента мигрантов второго поколения предпочитали говорить по-английски у себя дома, восемьдесят пять утверждали, что говорят по-русски «хорошо», и девяносто три сообщили, что понимают разговорный русский язык (Kasinitz et al. 10).
Один из моих респондентов объяснил, что в Бруклине очень хорошо сохраняется русская культурная жизнь благодаря большому количеству приехавших с четвертой волной. Этот респондент сам считает себя иммигрантом четвертой волны 1989—1992 годов; третья волна была в 1978—1979-м. У представителей третьей волны, с точки зрения респондента, не было ни знаний, ни информации; они страдали больше, чем представители четвертой волны. В 1989 году приток иммигрантов был огромным. Они прибывали по старому маршруту: израильская виза, Вена, Рим (на два месяца), затем — США. Рассказчик вспоминает, что, когда они приехали сюда, поток иммигрантов был такой, что они даже не могли снять квартиру. Теперь эти иммигранты — юристы, врачи, программисты, инженеры и художники. У иммигрантов третьей волны не было театра — в то время еще не открылся «Миллениум» в Брайтоне. Эти люди смогли сохранить русский язык, поддерживать существование русскоязычных газет, театров, двух радиостанций (не существовавших за десять лет до того) (интервью 3)[16].
Институциональная поддержка этого сообщества русскоговорящих была весьма сильной. Как сообщил один из опрошенных, когда он прибыл сюда, в публичной библиотеке Бруклина имелась лишь одна полка книг на русском языке. Сейчас существует огромный раздел русской литературы. Половина посетителей в библиотеке — русские, потому что русские — заядлые читатели. Все они посещают библиотеки и много читают; все местные библиотеки — в Брайтоне, в Шипшеде, в Герритсене — имеют русскоговорящий персонал. Когда респондент только приехал, имелся один-единственный русский книжный магазин, а сейчас их несколько, с множеством книг для детей. Рассказчик вспомнил, что он заплакал, увидев это, потому что в России, чтобы достать детские книжки, нужно было иметь знакомства в книжном магазине, а здесь, в Америке, вы можете купить все что угодно для русских детей, и сам рассказчик сообщил, что собирается покупать очередные книжки для своего внука. В библиотеках есть вся текущая художественная литература из России, включая классику, и вы можете заказать то, что желаете, через Интернет (интервью 1).
Благодаря превосходным библиотечным фондам русскоязычных книг и широкому использованию кредитных карт, с помощью которых можно заказывать книги онлайн, русскоговорящие американцы едва ли нуждаются в книжных магазинах.
Доступны и другие средства информации. Газеты на русском языке многочисленны. Телевещание на русском языке представлено многими каналами, к нему легко подключиться. «У меня есть четыре телеканала на русском языке. Последнее российское кино, которое мы видели, была "Бригада" (популярный в России сериал о бандитах; его можно взять напрокат во всех местных видеосалонах или посмотреть по телевидению)» (интервью 2). Российские радиопрограммы в Нью-Йорке повсеместно доступны, от ток-шоу до музыки и новостей. Театральных представлений тоже много, включая и привозные спектакли, премьеры которых проходили недавно в Москве и Санкт-Петербурге: «Что касается российских шоу, мы иногда ходим на них, потому что это удобно — в нескольких минутах ходьбы от моего дома. В театре "Миллениум" всегда аншлаг» (интервью 1).
Телефонная связь с русскоговорящим миром такая же дешевая, как и звонок в Нью-Джерси: «В 1989 году мы платили два доллара за минуту, сейчас это дешево; сейчас мы платим три цента максимум, звонок в Санкт-Петербург сейчас стоит 1,9 цента за минуту» (интервью 1). Все это — важное доказательство того, что в Нью-Йорке существует сформировавшееся самодостаточное языковое сообщество, члены которого имеют общую идентичность как русскоговорящие. Эти культурные и медийные возможности поддерживают образование сообщества с идентичностью «русскоговорящих». «Мы используем все более популярный термин "русскоговорящие" евреи, который включает людей со всего бывшего Советского Союза, а также формирующиеся "русскоговорящие" еврейские общины в Восточной Европе и Израиле», — сообщается в одном социологическом исследовании. И далее, там же: «Второе поколение все меньше интересуется тем, из какой советской республики происходят они или их друзья, в отличие от первого поколения иммигрантов» (Kasinitz et al. 10—11). В этом отчете есть примеры (и несколько наглядных иллюстраций) того, как дети русскоговорящих родителей отказывались от использования русского языка; однако, став взрослыми, они принялись изучать его в надежде научить ему своих собственных детей.
У некоторых из моих собеседников привязанность к родному языку — очень сильная и устойчивая. Так, один из них рассказывает, что дома они с семьей говорят по-русски — он на этом настоял. Он вспоминает, как в 1998 году взял своего сына в Санкт-Петербург. Город произвел на сына, Джулиана, огромное впечатление. Он отметил с восторгом: «Там все говорят по-русски. Спасибо, что научил меня говорить по-русски. Я могу понимать, что происходит вокруг меня». Рассказчик сообщил также, что его дети в течение трех лет проводили лето в Литве со своей бывшей няней и таким образом совершенствовали свой русский, а дочь рассказчика недавно провела лето со своей бывшей няней в Киеве и частично — на Черном море. Она вернулась, неспособная сказать ни слова по-английски, но при этом хорошо говорила по-русски, хотя все это закончилось примерно через неделю. Она не смешивала два языка, но каждое слово, которое она произносила по-русски, звучало очень забавно. Сын рассказчика загружает современную русскую музыку через Интернет, и они слушают диски на русском (интервью 11).
Русскоговорящие общины живут в определенных районах: Брайтон и Кью-Гарденс в Квинсе. Наиболее успешные русскоязычные евреи из Брайтон-Бич переезжают в более просторные дома и богатые кварталы на Манхэттен-Бич (Бергер). Но при этом стараются держаться вместе. Эстер Шварц, школьная учительница, сообщает, что большинство выходцев из России «липнут» друг к другу, потому что они предпочитают говорить на своем родном языке (Бергер). Чтобы символически увековечить появление такого исторически сложившегося языкового сообщества в Соединенных Штатах, газета «Новое русское слово» предоставила возможность выступить в печати человеку, выдвинувшему идею создать памятник русскоговорящей общине. «Нет достойного памятника, посвященного русскоговорящим иммигрантам», — написал Леонид Оловянников, который описывает иммиграцию как имеющую всемирно историческое значение. «Три поколения иммигрантов, которые принесли в США свои таланты, свои знания и опыт, заслуживают, чтобы их имена помнили вечно», — считает он.
Несмотря на все это, идентификация себя как говорящих по-русски не стала доминирующей политической идентичностью, по крайней мере среди русскоязычных евреев. Это, похоже, обусловлено несколькими взаимосвязанными причинами. Во-первых, имеет место классовое разделение между третьей (по большей части еврейской) и четвертой волнами иммигрантов (состоящей как из евреев, так и из этнических русских), препятствующее созданию общего культурного фронта. Многие из моих респондентов отрицают это разделение, но оно существует. Снова и снова интервьюируемые мной лица среднего поколения (третьей волны) настаивали на том, что у них есть близкие друзья неевреи (поддерживая тем самым представление о себе как космополитах), но, когда я просил их сообщить имена и телефонные номера (что позволило бы мне увеличить «снежный ком» примеров), они направляли меня в другие места, признавая, что у них нет этих номеров в мобильных телефонах. Одна из опрошенных, которая признала это разделение, обосновала его, сделав оговорку, что русские, приехавшие в Брайтон-Бич после 1991 года, были другими. Эти, по большей части русскоязычные неевреи, были бедными и приехали в США по материальным причинам, объяснила она, тогда как предыдущая волна, состоящая в основном из русскоязычных евреев, представляла собой хорошо обеспеченных людей, приехавших по политическим мотивам. Более поздние иммигранты поэтому имели больше трудностей с ассимиляцией, в то время как предыдущие ассимилировались легко (интервью 8). Другая опрошенная из третьей волны сказала то же самое. Она не «винит» представителей четвертой волны за их неудачу в установлении отношений с третьей волной иммигрантов, но находит с ними мало общего (интервью 22). Хотя в самовосприятии представителей третьей волны есть элемент заносчивости, поколение мигрантов-отказников и впрямь было более образованным и политически мотивированным.
Вторая причина того, почему мы не можем говорить о появлении в Нью-Йорке консолидированной и доминирующей идентичности, основанной на русском языке, — постепенная утрата родного языка у последующих поколений. Эта социальная реальность затронула все иммигрантские группы в Америке. Рассмотрим следующий фрагмент из Интернета, где пародируется способность детей второго поколения говорить по-русски. Курсивом отмечены английские слова:
Зарентовал двухбедрумный апартмент.
И для начала взяв полпаунда икры.
Я понял сразу — надо мной не каплет.
Мой велфер даст еще несметные дары («Weekend»).
Подобная смесь русского и английского языков в рамках нового диалекта довольно типична для диаспоральных ситуаций и аналогична развитию «хебраш» (иврита-русского) в Израиле (Remennick) и «спанглиш» (испано-английского варианта) в Соединенных Штатах. Она имеет место даже там, где уровень этнической эндогамии высок. В моих интервью постоянно сообщается об утрате способности читать и писать на языке отцов у поколения, рожденного в США. Родители с печалью признают всеобъемлющую одноязычную реальность английского, характерную для нового поколения: «Лучше всего наш старший сын говорит по-английски, затем по-русски, затем на иврите, который он изучает в школе. За обедом мы говорим по-английски. Если у нас есть силы, мы заставляем его отвечать по-русски; если нет — он отвечает по-английски, и мы просто принимаем это» (интервью 17).
Другой респондент отметил более тонкую особенность. Те, кто родился в Соединенных Штатах или уехал из России в возрасте семи лет и раньше, теряют «душу» языка, и он в большей степени становится средством коммуникации, чем компонентом культуры. Как только это происходит, психологическая мотивация старшего поколения сохранить язык пропадает.
Третья причина того, почему идентичность, основанная на русском языке, не оформилась, — это географические сдвиги. Например, существенно, что многие русскоязычные евреи переехали в Нью-Джерси и другие места США в поисках неограниченного рынка труда. Как только семьи покидают районы с высокой концентрацией русскоговорящих, дети в государственных школах теряют привязанность к языку, особенно в свете существенных экономических и социальных стимулов хорошо знать английский.
Четвертая причина, с точки зрения русскоязычных евреев, — это то, что в Америке распространены антирусские стереотипы, которые давят на психологию молодых людей; стремясь добиться успеха в Америке, они не решаются обнаружить свое русское наследие. Участвовавшие в опросе респонденты, даже из Нью-Йорка, проявляют крайне амбивалентное отношение к тому, чтобы считаться «русскими». Один респондент сказал: «В целом я плохо отношусь к русскому населению в своем районе, в Брайтон-Бич». Другой поправляет друзей, когда те называют его русским, и требует, чтобы его считали «русским евреем». Еще один говорит: «Американцы. смотрят сверху вниз на русских, потому что русские не такие религиозные, а быть религиозным — символ статуса». Одна девушка, с которой я говорил, беспокоится о своей цене на брачном рынке, поскольку многие американцы «смотрят на них (русских) как на стоящих ниже себя» (Kasinitz et al. 49—50).
Последняя причина вымывания русскоязычного культурного сознания в США — это конец «интеллигентской» культуры в американском окружении, которое не поощряет высокую культуру. «В России, — сказал мне один из опрошенных, — мы привыкли быть театралами, а здесь это меньше нас интересует. Поначалу нам не хватало языка для понимания театральных постановок. Кроме того, уровень режиссуры и актерского мастерства в России выше, чем тот, что мы видели в Штатах, особенно за пределами Бродвея и в Челси, поэтому мы перестали ходить в театр» (интервью 1). Или вот более неодобрительное заявление: «Америка скучна, в ней нет интеллектуального или поэтического сознания — того, что цементирует русский язык и что нынче вымывается» (интервью 8).
Подводя итог, можно предположить следующее: классовый разрыв, проходящий в большой степени внутри третьей еврейской волны и преимущественно затронувший русскую четвертую волну; неизбежная утрата языка последующими поколениями — судьба всех иммигрантских групп в Америке; все более широкое географическое распространение русскоговорящей еврейской общины и выделение определенных приоритетных аспектов идентичности (религия в противовес интеллектуальной культуре) — все это привело к снижению привлекательности основанной на русском языке идентичности для русскоязычных евреев.
III. СТАТЬ АМЕРИКАНСКИМИ ЕВРЕЯМИ (К ИХ БОЛЬШОМУ УДИВЛЕНИЮ)
Наши данные показывают, что русскоязычные евреи в Нью-Йорке становятся американскими евреями. В качестве своей доминирующей идентичности они принимают скорее религиозную, чем этническую, еврейскую идентичность. Это удивительно по нескольким причинам. Наиболее впечатляющим является то, что население, живущее в Брайтоне, является подгруппой отказников, которые отказались ехать в Израиль!
Но есть и другие причины, почему этот результат воспринимается как неожиданный. С одной стороны, большая часть этой диаспоры была воспитана в светской советской культуре, довольно несведущей в практике иудаизма. Один иммигрант сообщил мне с юмором, что на рейсе компании «Swiss Air» из Вены в Соединенные Штаты пассажирам-отказникам предложили кошерную еду, поскольку в авиакомпанию поступили сведения, что они еврейские беженцы. Он не знал, что значит «кошерный». Пассажиры пожаловались стюардессам, что они подвергаются дискриминации как евреи и хотят есть ту пищу, которую дают нормальным людям (интервью 25). В другом интервью респондент пытался подчеркнуть свою религиозную ортодоксальность. Однако, когда я спросил его, проходил ли он бар-мицву, оказалось, что он не знал про этот основной ритуал, который знаменует переход от детства к религиозному совершеннолетию (интервью 18).
Американские евреи были ошеломлены сопротивлением русскоговорящих евреев общепринятым в их среде религиозным практикам. Согласно Клигеру (Kliger 152—157), «американские евреи пытались установить контакт с русскими евреями как с иудеями, умаляя роль их особой русской идентичности и не понимая ее». В самом деле, русскоговорящим евреям, которые социализировались в обществе, исповедующем православие и еще недавно коммунизм, идея общинной еврейской жизни была чужда. Многие не могли по прибытии понять, зачем нужно платить за членство в синагоге; точно так же носить кипу было, по мнению многих иммигрантов, стыдно. Русские не говорят о своей религии, в отличие от американских евреев; скорее они говорят о своей вере. Для русскоязычных религия ассоциируется с утомительными ритуалами, тогда как вера опирается на размышления человека о своей судьбе.
В ходе опроса евреев в Санкт-Петербурге только один процент респондентов связал свою еврейскую идентичность с религиозной деятельностью, которая ассоциировалась с «исповеданием иудаизма». Такие же результаты были среди эмигрировавших в Израиль (Kliger 154). И в проводившемся в США исследовании мигрантов только 3,4 процента связывали свою идентичность с «исповеданием иудаизма» (Rliger 154). В Америке они говорят о своей религии таким образом, который не позволяет установить ориентиры для понимания их поведения, образа жизни или убеждений. Русские евреи в Америке не ходят в синагогу, говоря: «Бог может услышать меня и без синагоги».
В другом исследовании-анкетировании, в котором можно было дать один из нескольких ответов на вопрос, что значит быть евреем, только одиннадцать процентов русскоязычных еврейских иммигрантов смогли сказать, что значит «практиковать/исповедовать иудаизм»; семнадцать процентов сказали, что они соблюдают еврейские обычаи. Таким образом, для взрослых мигрантов еврейство имеет светский оттенок, ибо тридцать три процента заявили, что быть евреем — это «чувствовать себя частью [нечетко определенной категории] еврейского народа» (RINA 21). Клигер резюмирует эту ситуацию так: «С точки зрения подавляющего большинства американских евреев, исповедующих иудаизм, русские евреи в Америке продолжают быть столь же безразличными к еврейскому наследию и еврейской общинной жизни, как и тогда, когда они жили в Советском Союзе» (152).
Еврейские общинные практики были чужды этим иммигрантам. Однако есть области общей практики. Пейсах является наиболее соблюдаемым праздником (это отчасти объясняется тем, что община проводит Седер — ритуальную реконструкцию исхода). Тем не менее в публикации 1993 года сообщалось, что менее двадцати процентов евреев в России участвовали в Седере в том году (Шапиро и Червяков, цит. в: Kliger 157). Есть также некоторые данные по Соединенным Штатам, указывающие на активное участие в посте на Йом-Киппур («Судный день»). Однако подавляющее большинство молодых евреев из бывшего Советского Союза не были подвергнуты обрезанию. Раввин, осуществивший около 8000 операций обрезания в этой группе населения, сообщает, что двадцать процентов назначенных операций были отменены, и предполагает, что у русскоязычных евреев имеет место своего рода табу на этот священный еврейский ритуал. Более того, евреи из бывшего Советского Союза изначально не придавали большого значения соблюдению Шабата.
Мало того, что евреи из бывшего Советского Союза были встроены в светское окружение, но они еще и культивировали космополитичные дружеские связи в советское время. Один из опрошенных сказал, что все его ближайшие друзья — русские евреи, хотя в России его ближайшими друзьями были неевреи. Но в Америке практически каждый, кого он знает, и каждый, с кем он общается, — евреи из России (интервью 1). Другой сообщил, что все его родственники в США состоят в браке с лицами из среды русскоговорящих евреев. На Украине многие его друзья и коллеги не были евреями, а в Америке он вовсе не видит никаких «русских». Этот респондент подчеркнул, что ему нравятся русские и украинцы, потому что они хорошие люди, но в Америке он их не встречает (интервью 4)[17].
Несмотря на недостаточную вовлеченность и несерьезность русскоговорящих евреев в Нью-Йорке по отношению к религиозным практикам и вере, они становятся американскими евреями (с религиозным рвением, неожиданным для них самих). Это та идентичность, которая начинает определять их социально-политическое поведение. Почему это происходит? Некоторые ответы вытекают из моих интервью.
Во-первых, это историческая сила пятого пункта в советских паспортах, который классифицировал их как евреев по национальности в контексте советской социально-политической жизни. Однако, благодаря их светскому советскому воспитанию, они разработали светскую версию иудаизма, часто к огорчению спонсировавших их американских евреев. Тем не менее советская паспортная политика помогла материализовать их идентичность как евреев, и эта материализация имела долговременные последствия. Таким образом, советское бюрократическое наследие вполне может быть частью объяснения[18].
Во-вторых, существуют инструментальные причины для появления еврейской идентичности[19]. В конце концов, те, кто смогли заявить, что они евреи, получали бесплатный билет из «дурдома», которым считался Советский Союз. Данные интервью широко представляют эту тему: в 1989 году в СССР впервые было разрешено соблюдение еврейских ритуалов. Люди тогда смогли открыто собираться и изучать вещи, связанные с еврейской культурой. Респондент вспоминает, что в Перми в течение всего пятилетнего периода перед отъездом его семья имела возможность хорошо ознакомиться с разными аспектами еврейской жизни. Раввин приехал в Пермь из Израиля в 1991 году. Он пробыл в Перми три года, и респондент помогал ему, поскольку знал английский язык. Он помог ему получить квартиру и устроиться. Далее в разговор вмешалась жена респондента и сообщила, что еще до того появились три молодых человека из Израиля, из Министерства иностранных дел, и рассказали местным евреям, какие блага они получат, если эмигрируют в Израиль. Люди в Перми просто не могли поверить, что перед ними в их родном городе стоят люди с Запада. В то время сахар можно было получить только по талонам. Они сообщили этим молодым людям свои данные, чтобы получить приглашение из Израиля (интервью 17).
В другом интервью респондент по имени Василий вспоминает, как приехал в США в октябре 2000 года. Мать его жены была еврейкой, а отец жены евреем не был. Это позволило его жене и им обоим получить статус беженцев. Василий боялся уезжать, потому что он неважно знал язык и был стар для этого — даже и сейчас язык представлял для него трудность. Жена Василия вмешалась в разговор и сообщила, что, когда ее мужу исполнилось шестьдесят лет, он, как положено, вышел на пенсию. Пенсия была маленькой, поэтому он продавал найденные в мусорных баках вещи, чтобы хватало на жизнь. Он не хотел уезжать в США, но они получили статус беженцев и в один прекрасный день — телеграмму, разрешающую им уехать до ноября 2000 года. И они уехали. В США они получили добавочное пособие малоимущим (400 долларов в месяц), продовольственные талоны, медицинскую помощь (Василий перенес несколько операций, включая операцию на сердце, и все они были бесплатными) и пятидесятипроцентную скидку на пользование общественным транспортом (интервью 23).
Другой опрошенный (интервью 20) приехал в Соединенные Штаты в 1992 году. Был рабочим на строительстве. У него случился инфаркт миокарда, и он не мог больше выполнять ту же работу. Тогда он устроился в ювелирный магазин. Потом пошел учиться в бизнес-колледж в надежде научиться программированию. Он не закончил его, потому что у него случилось еще два инфаркта. Ему сделали операцию на сердце в госпитале Ленокс-Хилл, оплаченную за счет добавочного пособия малоимущим. В итоге он стал менеджером ювелирного магазина.
Обладая статусом беженца (который в Советском Союзе могли получить представители нескольких религиозных групп, но с наибольшим усердием к нему стремились евреи), русскоязычные евреи получали доступ к бесплатному здравоохранению мирового уровня и другим благам. Это было точно резюмировано в интервью 10: «Мы ничего не дали Америке, а Америка дала нам социальное обеспечение».
В-третьих, в США синагоги, иешивы и другие еврейские ассоциации играют ключевую организационную роль как средства ассимиляции. «По прибытии организация ХИАС встретила нас в аэропорту и проводила в отель» (интервью 7).
Хотя в целом надо отметить низкий уровень участия мигрантов второго поколения в общинной жизни, в целом это участие распределяется следующим образом: семьдесят один процент представителей поколения, рожденного в США, принимают участие в деятельности еврейских общинных центров и тридцать восемь процентов — в еврейских летних лагерях (Kasinitz et al. 30).
Респондент рассказывает: «Было очень интересно, как все это организовано. Нью-Йоркская ассоциация новых американцев (занимающаяся социальным обеспечением евреев) выплачивала арендную плату за первый месяц и залог собственнику, который новоприбывшие не должны были возвращать, поскольку фонд состоял из добровольных взносов. Но мы вернули этим людям то, что они на нас потратили [смеется]. Они списывали со счетов то, что передавали нам в качестве благотворительного пожертвования. Это я узнал позже, и это нормально» (интервью 11).
Уровень поддержки со стороны еврейских сообществ поражал иммигрантов. Анна (интервью 16) прибыла в Соединенные Штаты в 1993 году. Она получила статус беженки и была принята еврейской общиной в Форт-Уэйн, штат Индиана, которая пригласила ее семью. Здесь уже находился ее пожилой брат, у которого не было денег спонсировать других членов его семьи. Он обратился к этой общине в Индиане, которая помогла с деньгами для Анны, ее сына, его жены и их дочери. Община в Форт-Уэйн взяла эту семью под свое крыло на год. Им предоставили красивую, полностью меблированную квартиру с двумя спальнями, шкаф, набитый прекрасной одеждой, полный холодильник и конверт с 300 долларами. Это был маленький городок, но представители общины на машинах возили их повсюду. Во время интервью Анна неоднократно выражала свою благодарность этой общине. Позже она прожила в Нью-Йорке восемь лет, ожидая квартиру в доме для престарелых. Ее очередь подошла, и она проживает в этом доме уже два года. Она платит только 158 долларов в месяц за комнату, получает добавочное пособие малоимущим, продовольственные талоны и лекарства — все это благодаря статусу беженки. Сейчас она изучает английский язык в Еврейском колледже при синагоге каждый четверг, поскольку до сих пор владеет языком только на элементарном уровне.
А вот другой случай. Респондентка рассказала, как Нью-Йоркская ассоциация новых американцев нашла ей работу за четыре недели — продавщицей в лавке, торгующей клубникой; так вместе с коллегой по работе из Боснии она выучила английский. Параллельно она изучала бухгалтерский учет в школе и затем нашла работу клерка в отделе расчетов. Ее младший ребенок родился в Америке и пошел в детский сад. Опрошенная сообщила, что они не обращались напрямую в Еврейский центр. Ее муж Игорь не является зарегистрированным членом Еврейского центра, ему не хватает терпения высиживать чтение молитв. Но в прошлом году они ездили на неделю в Израиль с еврейской организацией (интервью 17).
После чего эта супружеская пара сделала свой выбор в пользу еврейской, а не русской идентичности.
Получив столь весомую социальную поддержку со стороны еврейских организаций, помогающих интегрироваться, диаспоральное сообщество из бывшего Советского Союза начало видеть своей «родиной», из которой они рассеялись по свету, скорее Израиль, чем Россию. Если это так, можно ожидать с их стороны гораздо большего интереса к ближневосточной политике, чем к политике России. Данные моих интервью подтверждают это.
Респондент рассказывает, что у него не осталось никаких связей в России. Он не скучает ни по кому из тех, кто там остался, но говорит, что здесь люди, эмигрировавшие со своей родины, сплачиваются. У опрошенного есть русский телеканал дома, но его не интересует, что происходит на Украине. Он подчеркивает, что, когда уезжал оттуда, никто не беспокоился о нем. Он сталкивался только с антисемитизмом и теперь считает Америку своей страной. Его интересует то, что происходит в Соединенных Штатах, особенно что касается терроризма, и что происходит в Израиле. В прошлом году он помогал собрать 200 000 долларов для Израиля. Он поддерживает людей, которые заботятся о прибывших евреях. Респондент сказал, что знает, что происходит в Чечне, но ему это не интересно. Его волнует положение дел в Ираке, потому что это недалеко от Израиля, и он утверждает, что эта война необходима ради Израиля (интервью 7).
В другом интервью опрошенная рассказала, что у них дома нет русского телевидения, они мало смотрят телевизор, но заходят на русские интернет-сайты. Они не следят внимательно за российской политикой. Муж респондентки Игорь заходит на российские новостные сайты несколько раз в месяц, а вот за израильской политикой следит в Интернете каждый день (интервью 17).
Другая респондентка говорит: «Я интересуюсь тем, что происходит сейчас в России, путинским тоталитарным правлением, но... мои друзья больше интересуются ситуацией в Израиле» (интервью 22).
Эти настроения — не просто интерес. Они отражают глубокое беспокойство за свой народ, и под этим народом понимаются евреи. Например, в разговоре с респонденткой я пошутил, что поток иммиграции продолжится, поскольку следующим поколением еврейских мигрантов, вероятно, будут люди, выселенные с оккупированных Израилем территорий. Ей было не смешно. Она сказала, что Израиль — очень деликатная тема и она не хочет говорить об этом в таком контексте.
Но не только вопрос ближневосточной политики выявил культурную идентичность опрошенных. Усвоив более или менее принятые по умолчанию требования эндогамии, они недвусмысленно обозначили, кто входит в их группу: подходящие потенциальные супруги — это американские евреи. Один респондент явно продемонстрировал то, о чем, в общем-то, можно было и не говорить: «Я мечтаю о том, чтобы мои внуки вступили в брак внутри еврейского сообщества. Мы — еврейская семья. У нас здесь есть возможность продолжить свою "нацию". Это очень важно» (интервью 7).
В поддержку этого стремления к эндогамии сеть еврейских объединений организовала программу совместного досуга для иммигрантов-евреев. Для этого используется, конечно же, синагога.
Один из опрошенных сообщил, что, когда он прибыл в Нью-Йорк, Нью-Йоркская ассоциация новых американцев предоставила его семье номера в отеле на три недели, пока он не нашел квартиру на углу авеню К и 31-й улицы. Он ходил в синагогу за школой Худд каждую субботу в течение двух лет. Респондент признался, что не понимал ничего, но ему переводили. Ему дали Талмуд на английском, и он читал его (интервью 10).
Все в плане помощи происходит именно так, даже когда иммигрантам малоинтересно то, что синагога может предложить. Так, другой респондент рассказал, что, когда он жил в Бейсайде, все свои связи он установил через синагогу, которую посещал всякий раз в Шабат. Он со смехом вспомнил, что был тогда хорошим евреем, куда лучше, чем сейчас. «Они не предоставляли социальных услуг, но я научился читать на иврите, правда, ничего не понимая. Я узнал о еврейских праздниках, что было очень полезно, потому что я не мог узнать о них дома» (интервью 11).
Объединение осуществляется не только через синагогу. Опрошенные рассказали о своем членстве во множестве еврейских организаций: Евреи из бывшего Советского Союза (респондент 4), Объединенная еврейская федерация (респондент 7), Американо-еврейская ассоциация ветеранов (респондент 21, офицер и ветеран Советской армии; члены этой группы заинтересованы в получении ветеранских льгот в США). Эти еврейские объединения дают возможность включить иммигрантов в более широкий социальный контекст, и, даже будучи светскими организациями, они сплачивают своих клиентов как американцев еврейского происхождения.
Еврейско-американская идентичность — центрированная на поддержке Израиля — может быть в высшей степени светской. Но возникающая еврейско-американская идентичность имеет склонность к религиозному складу. Этот путь лежит через детей. Многие иммигранты, имеющие детей школьного возраста, отдают их в иешивы (еврейские религиозные школы), с тем чтобы их дети что-то знали о некогда запрещенной религии. Интервью с еврейскими иммигрантами второго поколения из бывшего Советского Союза, живущими в Нью-Йорке, показали, что восемьдесят три процента опрошенных посещают государственные средние школы, семнадцать процентов ходят в частные, по большей части еврейские, школы (более высокий показатель посещения приходских школ, чем в любых других иммигрантских группах, в рамках более широкого исследования иммигрантов второго поколения в Америке; Kasinitz et al.). Шестьдесят шесть процентов из тех, кто родился в Соединенных Штатах («истинное» второе поколение), посещают иешиву по меньшей мере в течение года, так как большинство иешив не берут плату за обучение с детей-иммигрантов за первый год. Уровень академического обучения в иешивах не столь высок, однако они оказывают эмоциональную поддержку и оставили отпечаток религиозной идеологии на тех, кто посещал их. Иешивы меняли жизнь тех, кто их посещал. Ирен, одна из интервьюированных в социологическом исследовании, посещала иешивы с первого класса до окончания средней школы; она стала — и остается (сейчас ей уже за двадцать) — вполне ортодоксальной. «Это было травматично. Мои родители… не хотели быть религиозными. Они объясняли мне, что у них такое отношение ко всему этому, и они не собирались меняться. Они сказали мне, что, когда я вырасту и у меня будет собственный дом, я смогу делать все, что захочу, но что мне не удастся изменить их жизнь» (Kasinitz et al. 21—22).
Я слышал подобные истории и от своих респондентов. Например, один из опрошенных рассказал, что люди знакомились в Бруклине по большей части в иешиве, где брали уроки английского. Кто-то был из Белоруссии, кто-то из Кишинева, кто-то из Санкт-Петербурга, и все они были русскоговорящими евреями, но среди них не было чистокровных русских (русских русских — как их называли). Иногда русские из России приходили в иешиву, чтобы учить английский, — и они знакомились с ними и с теми, кто происходил из смешанных браков. Но на занятиях в иешиве девяносто пять процентов времени уделяется иудаизму, а пять — английскому (интервью 5).
По прибытии Галина немного говорила по-английски, а Александр по-немецки. Они прошли курс занятий английским до отъезда, но почти безрезультатно. Внучку Галины (которая только что закончила среднюю школу в Бруклине и которой было десять, когда они прибыли в США) отправили учиться в иешиву, потому что считали, что там она выучит английский быстрее, чем в государственной школе (интервью 9).
Другие опрошенные рассказали, что они отдали свою дочь в еврейский детский сад в Бруклине, на углу Кони-Айленд-авеню и авеню У. Они выбрали религиозную школу для своих детей, даже несмотря на то, что полагали, что в государственной школе качество образования выше. Родители чувствовали, что они без проблем могут помочь своим детям в изучении светских предметов, но они ничего не знали о предметах, связанных с иудаизмом, поэтому решили положиться в этом на школу. Они обсуждали этот вопрос с друзьями и много об этом думали. Некоторые друзья опасались, что, если дети станут религиозными, они отдалятся от родителей, потому что у детей будет другая культура. Но потом родители сочли, что этого не произойдет, и рискнули. И этого не произошло. Родители сказали, что они остались так же близки со своим детьми, как и раньше (интервью 24).
Исследования (Kasinitz et al.) демонстрируют, что сильнейшее формирующее воздействие на идентичность мигрантов второго поколения оказывают посещение иешивы более года, окончание иешивы и посещение Израиля. Посещение иешивы оказывало гораздо более сильное воздействие на религиозную идентичность респондентов, чем любой другой фактор. Оно положительно влияло на все аспекты идентичности, но сильнее всего затрагивало религиозный. Благодаря тому, что иешивы обеспечивали новоприбывшим детям мягкий переход к новой жизни, они были популярным выбором. Будучи однажды выбранными (по крайней мере теми, кто оставался в этой системе), они эффективно превращали русскоговорящую молодежь в практикующих иудеев.
Обучающиеся в иешивах или социализированные в рамках программ синагоги дети начинают «обращать» своих родителей, или, лучше сказать, превращать их светское этническое представление об иудаизме в религиозное. Из исследования мы узнаём о восемнадцатилетней Джулиане, родившейся в Соединенных Штатах вскоре после того, как ее родители эмигрировали. После ее рождения мать Джулианы стала все строже исполнять предписания религии и присоединилась к общине ортодоксальных иудеев. Джулиана рассказала, что ее мать хотела, чтобы она получила еврейское образование, так как в России это было бы невозможно. Еврейские школы требовали от женщин, чтобы они были религиозными, соблюдали все законы и покрывали волосы. И мать Джулианы в какой-то мере стала следовать этим правилам. Она делала это для того, чтобы ее дочь могла пойти в еврейскую школу. А затем, когда Джулиана узнала еврейские обычаи, она стала подталкивать к их соблюдению своих родителей (Kasinitz et al. 22).
Эта же тема проходит через несколько моих интервью. Одна пожилая респондентка четко видела тенденции: «При том что мои внуки теряют способность свободного владения русским языком, они вспоминают знания, полученные в синагоге, когда они были детьми». В этот момент в разговор вмешалась ее дочь: «Она пытается сказать, что ее внуки в большей мере иудеи, чем я. Нас не обучали религии, а наших детей обучали» (интервью 4). «Мои ближайшие друзья все-таки стали ортодоксальными иудеями, — отметила респондентка. — Так же, как и их дети. Они соблюдают всё. Их дети под влиянием местной синагоги склонили их к ортодоксальному иудаизму. Их родители последовали за ними» (интервью 22). Другие опрошенные признались: «В США мы стали интересоваться иудаизмом, и он стал частью нашей жизни. Наши же дети не просто им интересуются — они стали религиозными» (интервью 24). Данные, приведенные в таблице, подтверждают идею, что со временем русскоязычное еврейское сообщество в Нью-Йорке все больше начинает определять себя как иудеев.
Моя интерпретация данных таблицы такова: чем дольше русскоязычные евреи остаются в США, тем более религиозными они становятся. Альтернативная интерпретация (ее тоже нельзя исключать) такова: те евреи, которые уехали из Советского Союза раньше, были изначально более религиозны.
Выбор идентичности: отношение русско-еврейских иммигрантов в Нью-Йорке к религии
Процент тех, кто согласен с тем, что
«Новички» (более 3 лет в Нью-Йорке)
«Второкурсники» (3—6 лет в Нью-Йорке)
«Третьекурсники» (6—9 лет в Нью-Йорке)
«Выпускники» (более 9 лет в Нью-Йорке)
быть евреем важно или очень важно
63
65
65
79
иудаизм — наиболее привлекательная религия
41
46
54
64
Источник: RINA 9.
Вот интерпретация авторов исследования: «У нас есть ощущение, что число тех, кто придерживается иудаизма, увеличилось. Это может указывать на реальный рост веры и практики иудаизма или на усвоение американских привычек этнически-религиозной идентификации» (RINA 4). В любом случае мы видим постепенный переход русскоязычного еврейского сообщества к более религиозной идентичности.
Данные об отношении второго поколения мигрантов к религии (Kasinitz et al. 41—48) предполагают нарастающую со временем религиозную консолидацию в плане базовой идентичности:
— 40% второго поколения евреев, родившихся в Соединенных Штатах, в противовес 10%, приехавшим в США детьми, считают себя ортодоксальными иудеями или хасидами;
— 89% второго поколения евреев, родившихся в США, в противовес 65%, приехавшим в США до 1988 г., держат дома еврейские традиционные предметы;
— 63% второго поколения евреев, рожденных в США, в противовес 37%, приехавшим в США до 1988 г., утверждают, что посещают синагогу;
— «Мало вероятно, что те, кто родился в США, сообщат, что большинство их друзей — русские; скорее всего, они сообщат, что большинство их друзей — евреи» (Kasinitz et al. 30).
Эти данные подтверждают мнение, что мигранты второго поколения сильно привязаны к еврейским символам, организациям и еврейскому образу жизни — больше, чем их родители.
Все эти этнографические черты складываются в четкий выбор культурной идентичности. Один из опрошенных выражает это следующим образом: «Все называют нас "русскими евреями". Никто не говорит о нас как о "евреях". В России любой, кто упоминает "евреев", говорит: "Уезжай в Израиль". И вот мы приехали сюда, а они называют нас "русскими". Нас не устраивает определение "русский". Мы хотим быть "евреями", а не "русскими"» (интервью 7).
Русскоговорящие евреи пришли к осознанию себя, как в социальном, так и в культурном отношении, прежде всего «евреями» с сильной религиозной составляющей. Таков парадокс идентичности: происходя из абсолютно светского общества, каким оно было в Советском Союзе, русскоговорящие евреи в США пришли к видению себя социально и культурно прежде всего «евреями» с сильной религиозной составляющей. Между тем, в Израиле с его строгими религиозными установками русскоговорящие евреи пришли к видению себя в социальном и культурном отношении прежде всего русскоязычными и, как правило, нерелигиозными[20].
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Нью-йоркская русско-еврейская диаспора, исследование которой лежит в основе этой статьи, имеет, как и любые группы, основанные на идентичности, множество культурных черт и национальных признаков. В 2000 году в опросе RINA (16—18) респондентам было предложено выбрать свою идентичность из четырнадцати возможных. Результат:
— у 71% респондентов прозвучало слово «еврей» в различных вариантах ответов;
— 31% респондентов просто сказали «еврей». Это безоговорочно была самая безусловная идентичность;
— 6% сказали «американец»;
— 4% сказали «русский»;
— 56% привязали свою еврейскую идентичность к какой-то другой национальности.
В этой статье рассматривался вопрос, какой аспект из общей совокупности культурных черт, присущих русскоязычным евреям, был и остается базовой составляющей главенствующей идентичности; был сделан вывод, что это идентичность американского еврея. Чтобы объяснить этот вывод (в неявном сопоставлении с Израилем и «ближним зарубежьем»), вероятно, достаточно будет модели, подчеркивающей демографию группы и дающей общую схему распределения новоприбывших по категориям внутри принимающей страны. Однако процессы, в силу которых это произошло (а также сильное религиозное влияние в рамках еврейской идентичности), требуют более полного описания. Представленная здесь этнографическая информация показывает, что среднее поколение нашло в своей еврейской идентичности способ отреагировать на ограничение возможностей во время экономического застоя в Советском Союзе. Эта идентичность принесла возможность мигрировать, за которую они ухватились. Сразу по приезде они оказались не в руках политиков Тамани-Холла (как когда-то ирландские иммигранты в Соединенных Штатах), а в руках еврейских организаций, которые помогли направить их в синагоги, а их детей в иешивы. Дети серьезно отнеслись к урокам в иешиве и подтолкнули многих из своих родителей в направлении еврейской идентичности, основанной на религии. Они, как правило, идентифицируют себя с американскими евреями, все более всерьез принимают религиозную привлекательность идентичности и ограничивают социальные связи с российскими неевреями. В результате потомки тех, кто поддерживал космополитический идеал светского еврейства в черте оседлости XIX века, сегодня становятся чрезвычайно успешными декосмополитизированными американскими евреями в Брайтоне.
Перевод с англ. А. Горбуновой
ЛИТЕРАТУРА
Anderson Stuart. The Multiplier Effect // International Educator. 2004. Summer. P. 14—21.
Chandra Kanchan. Why Ethnic Parties Succeed. New York: Cambridge University Press, 2004.
Cohen Rina. From Ethnonational Enclave to Diasporic Community: The Mainstreaming of Israeli Jewish Migrants in Toronto // Diaspora. 1999. № 8. P. 121 — 136.
Ebaugh Helen Rose, Janet Saltzman Chafetz. Religion and the New Immigrants. Walnut Creek, CA: Altamira, 2000.
Gitelman Zvi. Becoming Israelis. New York: Praeger, 1982.
Gitelman Zvi. E-mail to the author. 12 Feb. 2005.
Gitelman Zvi. Immigration and Identity: The Resettlement and Impact of Soviet Immigrants on Israeli Politics and Society. Los Angeles: Wilstein Inst., 1995.
Herberg Will. Protestant—Catholic—Jew. Garden City, N.J.: Doubleday, 1955.
Kalyvas Stathis. The Rise of Christian Democracy in Europe. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1996.
Kasinitz Philip, Zeltzer-Zubida Aviva, Simakhodskaya Zoya. The Next Generation: Russian Jewish Young Adults in Contemporary New York. Russell Sage Foundation Working Paper № 178, June 2001.
Kliger Samuel. The Religion of New York Jews from the Former Soviet Union. New York Glory / Tony Carnes and Anna Karpatakis (Eds.). N.Y.: New York University Press, 2001. P. 148—161.
Laitin David D. Identity in Formation: The Russian-Speaking Populations in the Near Abroad. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1998.
Lipset S.M., Stein Rokkan. Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments. Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives / S.M. Lipset and Stein Rokkan (Eds.). New York: The Free Press, 1967.
Markowitz Fran. Criss-crossing Identities: The Russian Jewish Diaspora and the Jewish Diaspora in Russia // Diaspora. 1995. № 4. P. 201—210.
Posner Daniel. Institutions and Ethnic Politics in Africa. New York: Cambridge University Press, 2005.
Remennick Larissa. The 1.5 Generation of Russian Immigrants in Israel: Between Integration and Sociocultural Retention // Diaspora. 2003. № 12. P. 39—66.
Research Institute for New Americans [RINA]. Russian Jewish Immigrants in New York City: Status, Identity, and Integration. New York: Amer Jewish Committee, 2000.
Suny Ronald G. Revenge of the Past. Stanford, CA: Stanford University Press, 1993.
Supian V.B. Rossiiskaia Emigratsiia v SshA [Российская эмиграция в США]. International Union «United Russia» N.d. 15 July 2004 // http://www.msedina.org/?id=3022.
Waters Mary. Black Identities. New York: Russell Sage, 1999.
«Weekend» // Новый американец. 1989. Январь.
Werth Paul W. Theorizing the Politics of Cultural Identities in Russia and Ukraine. Rebounding Identities: The Politics of Identity in Russia and Ukraine / Dominique Arel and Blair A. Ruble (Eds.). Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press, 2006.
Zisserman-Brodsky Dina. The «Jews of Silence»—the «Jews of Hope»—the «Jews of Triumph»: Revisiting Methodological Approaches to the Study of the Jewish Movement in the USSR // Nationalities Papers. 2005. № 33. P. 119—139.
Бергер Йозеф. Русский десант на Манхеттен-Бич // Новое русское слово. 2004. 22 марта.
Грант Александр. Закон Кислина: деловитость + милосердие = успех // Новое русское слово (без даты).
Козловский Владимир. Одни выборы и два пожара // Новое русское слово (без даты).
Оловянников Леонид. Letter // Новое русское слово (без даты).
Пахомов Александр. Из школы коммунизма выходят профессионалами // Огонек. 1996. 3 июня.
Страна, где расцветают таланты // Новое русское слово. 2004. 26 июля.
Токвиль Алексис де. Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992.
Тринадцать лет спустя // Новое русское слово (без даты).
Червяков Валерий, Шапиро Владимир. Что значит: «Быть евреем»? // Еврейский научный центр (опрос 1992—1993 гг. и 1997—1998 гг.).
Черноморский Владимир. Веселился народ независимый // Новое русское слово. 2004. 7 июля.
Ярмолинец Вадим. Возвращение Якова Смирнова // Новое русское слово. 2003. 23 января.
Ярмолинец Вадим. Золотых рук учитель // Новое русское слово. 2001. 8 мая.
[1] @ Diaspora: A Journal of Transnational Studies. 2004. Vol. 13. № 1. P. 5—35.
Исследование в рамках этой статьи проводилось, когда автор являлся членом Фонда Рассела Сейджа. Первоначально оно было подготовлено для конференции «Изменение и наложение идентичностей: Латвия перед лицом вступления в ЕС», проводившейся в Риге 17—18 сентября 2004 года. Автор благодарит Юриса Розенвалдса за приглашение к написанию этой статьи, ранняя версия которой была опубликована в Латвии. Автор также благодарит Инну Ставицки за материально-техническое обеспечение на Брайтон-Бич, Анну Гурфинкель за помощь в проведении исследования, Цви Гительмана за обмен данными и Канчан Чадру, Виктора Макарова, Инну Ставицки, Ай- варса Табунса, Сидни Тарроу, Цви Гительмана и Хачика Тололяна за критические замечания.
[2] С.М. Липсет и Стейн Роккан опубликовали основополагающую статью на тему социокультурных оснований доминирующих политических разногласий, и за ней последовало огромное количество литературного материала. См. работу Каливаса, в которой он анализирует взлет и падение католицизма в сравнении с секуляризмом как доминирующее разногласие в Западной Европе.
[3] Русско-еврейские иммигранты — термин, используемый ведущими учеными, изучающими эту общность. Но значительная часть этой общности не является ни русскими (по национальности), ни россиянами (гражданами Российской Федерации), поскольку многие иммигранты родом из Украины, Молдовы и других бывших советских республик, которые сейчас — независимые государства. Поэтому, когда я не ссылаюсь на работы других ученых и не пересказываю речь респондентов (где благодаря контексту определяется, какая именно общность описывается термином «русские»), я называю русско-еврейских иммигрантов русскоязычными или русскоговорящими евреями.
[4] Десекуляризация второго поколения русских евреев, о которой здесь говорится, согласуется с выводами Рины Коэн, сообщающей о светских израильских мигрантах в Канаду, чьи дети испытали религиозное пробуждение.
[5] Лариса Ременник показывает жизнеспособность в Израиле идентичности, основанной на русском языке.
[6] О подсчете голосов при возрождении культурных иден- тичностей см.: Chandra (гл. 4) и Posner.
[7] Образ русских евреев, жаждущих исповедовать свою религию, был опровергнут Фрэном Марковицем, чьи данные показывают, что большинство русско-еврейских эмигрантов в США отвергали возможности исповедовать свою религию и изображали из себя космополитов, стремящихся приспособиться к советской идентичности. Мои респонденты сообщили о том же самом. Однако они не поддержали предположение Марковица, что высокая русская культура сохранится в диаспоре как часть транснационального сообщества. Для обзора литературы по этому вопросу см.: Zisserman-Brodsky.
[8] О выборе идентичности русскими в «ближнем зарубежье» см.: Laitin.
[9] В этом Мэри Уотерс (см.: Waters) установила новый стандарт.
[10] «Космополит» — нагруженное многими смыслами слово в советском дискурсе. При Сталине оно ассоциировалось (по контрасту со словом «интернационалист») с буржуазной утонченностью, противоположной равенству. Я использую этот термин в его общепринятом смысле: те люди, которые идентифицируют себя как разделяющих судьбу всех народов мира, а не только собственной группы.
[11] Эта героическая работа по-иному оценивалась после войны. В ежедневной газете «Новое русское слово» опубликованы личные воспоминания о бытовом антисемитизме в послевоенной советской жизни, написанные через тринадцать лет после эмиграции: «Ничто не сотрет воспоминания о моем детстве, из которого я помню горькие антисемитские замечания, что "они"... все уехали в Ташкент, а за них должны были сражаться русские.» («Тринадцать лет спустя»).
[12] Название русскоязычной ежедневной газеты, выпускающейся в Нью-Йорке.
[13] Все переводы из источников на русском языке сделаны автором и проверены Анной Гурфинкель. Г-жа Гурфинкель присутствовала на всех интервью, которые проходили на смеси русского и английского, и переводила, когда это было необходимо.
[14] Об исследовании Андерсона сообщалось в газете «Новое русское слово» 26 июля 2004 года («Страна»). Там же была фотография «нашего соотечественника» Сергея Брина, одного из основателей Google.
[15] Добавочные пособия малоимущим (SSI) — федеральная программа дополнительного дохода, финансируемая за счет общих налоговых поступлений (а не за счет социального страхования). Она предназначена для того, чтобы помочь пожилым людям, слепым и инвалидам, у которых недостаточно или вовсе нет доходов; эта программа обеспечивает их наличными, чтобы удовлетворить базовые потребности в пище, одежде и крове. Потребовалось вмешательство заинтересованных органов, чтобы русско-еврейские иммигранты могли пользоваться этими средствами.
[16] Я изменил нумерацию волн, которую указывали информанты, в соответствии с российской историографией. Обычно принято считать, что первая волна была после революции, вторая — после Второй мировой войны, третья — еврейская миграция 1970-х и четвертая — во время и после перестройки.
[17] Цви Гительман (Gitelman) сообщает по электронной почте, что в соответствии с его исследованием положения евреев на Украине и в России в советское время сплоченные круги евреев вряд ли были более космополитичными, чем те, кто эмигрировал. Но это требует дальнейших исследований.
[18] О сохранении навязываемых Советским Союзом национальных идентичностей см.: Suny. Однако почему советский проект национальной идентичности был столь успешен, в то время как попытка социализировать граждан как «новых советских людей» провалилась — это головоломка, которую предстоит решить.
[19] См.: Werth. После реформ, дозволяющих свободу вероисповедания, последовавших после Революции 1905 года, большое число евреев стремились зарегистрироваться как баптисты. Столыпинское правительство отказывалось признать эти обращения, поскольку они были истолкованы не как конфессиональные, а как инструментальные. Обращенные полагали, что расходы, связанные с присоединением к баптистам, будут низкими, а потенциальные выгоды от возможности торговать в России — высокими.
[20] Более подробную информацию о русских иммигрантах в Израиле см. в исследованиях Цви Гительмана, где автор показывает, что молодежь в Израиле в меньшей степени является носителем «еврейского духа», чем старшее поколение.
Опубликовано в журнале:
«НЛО» 2014, №3(127)
Турецкие армяне в переходном пространстве
Анна Арутюнян
(пер. с англ. О. Михайловой)
...Как многие из них, эти двое пожилых людей, мать и отец, надев праздничное платье, оставались там до последней минуты. Они не могли махать носовыми платками. Прижав большой каравай хлеба к груди, он замер на краю палубы, и в глазах его замерли слезы, будто от ветра или холода; несмотря на это, он долго еще видел свою красную феску с кисточкой, болтающуюся в пальцах отца. Совсем недавно, поднимаясь на борт, он решительно стянул ее с головы и отдал родителям, велев сделать из нее пару тапок. Он попытался рассмеяться, попытался пошутить, они действительно совсем не плакали, давая обещание, и только при таком условии он позволил им подойти к кораблю. Корабль с шумом удалялся от них. Все знали этот корабль, «Керлангедж»... Стамбул исчезал, как воображаемая монета под платком фокусника. Здесь заканчивалась жизнь.
Шаан Шахнур. «Отступление без песни»
ВВЕДЕНИЕ: ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Эта статья посвящена турецким армянам — группе людей, чья идентификация себя как «турецких армян» долгое время казалась невозможным смешением льда и пламени. Почти на сто лет прекратился диалог между двумя сторонами одного конфликта: армянами и турками, армянской диаспорой и Турцией, советской и постсоветской Арменией и Турцией, которые считаются двумя противоположными «полюсами», странами, обществами, народами, культурами, разделенными немеркнущей памятью (с одной — армянской — стороны) и отрицанием (с другой — турецкой) болезненного общего прошлого[1].
То, что произошло после геноцида[2], не только изменило этнический состав Османской империи и наследовавшей ей Турции и стало причиной болезненного расселения и дальнейшего увеличения армянской диаспоры. Эти события также привели к глубоко укоренившемуся неприятию, непризнанию и вражде между сторонами на много поколений вперед. Большинство выживших после геноцида расселились по Среднему Востоку, а позднее по европейским странам и США, образовав сообщества армянской диаспоры. Остальные выжившие направились в восточную Армению, тогда входившую в состав Российской империи, а позднее ставшую частью Советского Союза и, наконец, в 1991 году образовавшую постсоветскую Республику Армению.
Как бы то ни было, были и такие, кто остался и выжил в Турции. Эти люди, пережившие геноцид, спаслись разными способами. Кто-то жил, скрывая свою настоящую национальность, тайно исповедуя христианскую веру, используя армянский язык и придерживаясь армянских традиций лишь в стенах собственного дома. Кто-то выжил, ассимилировавшись с другими этническими и религиозными группами, изменив вероисповедание с христианства на ислам, взяв турецкие имена и пытаясь забыть свое трудное прошлое. Кто-то решил переехать в Константинополь / Стамбул, где еще сохранились остатки армянской культуры и можно было оставаться армянами в армянских сообществах и школах.
Эта статья посвящена поколениям армян, которые выжили и остались в Турции после 1915-го и жили там до 1960-х, после чего переехали в Германию в качестве трудовых мигрантов и там присоединились к армянскому сообществу. Еще точнее: она посвящена поколениям турецких армян, живущих в Германии. Статья основана на данных, собранных в ходе полевых антропологических исследований в Германии в 2006—2010 годах. Полевые исследования заключались в свободных по форме интервью и включенном наблюдении среди турецких армян, живущих в Германии, куда они переселились в 1960-х вместе с турецкими трудовыми мигрантами.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СТАТЬИ
Опираясь на разработанную Хоми Баба и Виктором Тёрнером концепцию лиминальности, или переходности, я рассматриваю переходное пространство между всеобщей глобальной историей и отдельными частными историями, между настоящим и прошлым, реальной и символической родиной (Республика Армения и историческая Армения, утраченная после геноцида), национальным (турецким) и межнациональным (относящимся к армянской диаспоре). По Хоми Баба, именно в результате встречи, столкновения и пересечения различий происходит преодоление индивидуализации и образуются пустые пространства, — пространства, вырывающиеся из дихотомии и формирующие альтернативный, интерсубъективный опыт. Я утверждаю, что турецкие армяне находятся в таком переходном положении в промежутке дихотомий, балансируя между полюсами, но при этом стабильно оставаясь в своем лиминальном пространстве и образуя новое положение в армянской диаспоре.
Вслед за Баба я задаю вопрос: как субъект, или в нашем случае культурное объединение турецких армян, формирует «переходное пространство»? Как формы репрезентации, принятые в сообществах, несмотря на общую травмирующую историю лишений и дискриминации, смену ценностей, значений и приоритетов, могут оказываться не только общими, но и противоположными [Bhabha 1994] или просто разными и непохожими друг на друга, как в случае с армянскими сообществами в Германии?
С другой стороны, в статье затронута концепция диаспоры. Рассматривается разносторонний опыт членов диаспоры и предпринята попытка понять значение «включенности в диаспору» в сообществе, где группа людей (турецкие армяне), которые не считают себя членами диаспоры, вливаются в ее коллектив и учатся «включенности».
В последнее десятилетие использовать концепцию диаспоры достаточно трудно. Приходится обобщать различные пре- и постмиграционные переживания, чувства и действия, опираясь скорее на то, как в целом организованы и институционализированы сообщества, чем на их культурное содержание и локальный уровень отдельного сообщества.
Достаточно часто отношения между родиной и диаспорой рассматриваются с точки зрения так называемой «Солнечной системы» [Levy 2005], где диаспора предстает как «периферия», связанная с единым «центром», родиной. Вот один из критериев классического определения диаспоры: это «группа людей, переселившихся из первоначального центра в по меньшей мере два периферийных пункта» [Safran 1991] и сохранивших чувство принадлежности к исторической родине вместе с «тоской по родине» и мифом о возвращении [Vertovec 1997]. В этом отношении классическую теорию диаспоры можно упрекнуть в том, что в ней больше внимания уделяется удаленности людей от центра, при этом само понятие центра не рассматривается и не ставится вопрос: какой была жизнь людей до переселения, как и где жили люди? И что они взяли с собой, отправляясь в путь? Более того, для многих армян, как в случае с берлинскими армянами, «переезд» мог стать «множеством переездов». Они уезжали и возвращались, расселялись и съезжались из разных центров во множество мест. Таким образом, в этой статье понятие диаспоры трактуется как связанное со множественными сложными процессами позиционирования, относящимися к чувству принадлежности при создании физических, символических и материальных сообществ и «дома» («домов») в местах поселения [см.: Hall 1990].
Социальная наука больше не дает строгих определений таких категорий, как гендер, диаспора, традиция, культура. Мы подошли к точке, где упомянутые и многие другие категории становятся представлениями субъективных переживаний и обозначают все многообразие внутренних различий. В случае диаспоры эта категория становится атрибуцией индивидуального опыта с собственным маршрутом, историей, «правдой», переживаниями и собственной нарративизацией глобального и общего прошлого.
Современные исследователи теоретически определяют диаспору как «не имеющую гражданства силу в момент транснациональности» [Tololyan 1996: 18], как сообщества со смешанной идентичностью между оригинальной культурой и культурой принимающей страны, с подвижным символом «дома» [Bhabha 1994]. При этом подчеркивается необходимость рассматривать диаспору как структуру вне этнической принадлежности, как объект, который надо изучать сквозь многомерную оптику, в том числе гендерную, классовую, по отношению к власти и т.д. [Brah 1996; Anthias 1998].
Как уже упоминалось, турецкие армяне, составляющие ядро современных армянских сообществ в Германии, — это люди, оставшиеся в Турции после 1915 года. Соответственно, если рассматривать диаспору как группу, расселившуюся из единого центра по нескольким местам на периферии [Safran 1991; Clifford 1994; Vertovec 1997], турецкие армяне не попадают в категорию людей, которых можно назвать «диаспорой». Берлинские армяне, так же как все остальные турецкие армяне Германии, оставались в Турции после расселения других армян. И с этой точки зрения я ставлю вопрос, выявляющий недостатки классической теории диаспоры: ко всем ли относится это расселение, описанное в теории? Все покидают центр? А что происходит с теми, кто остается?
Эта статья показывает, как единый центр сообщества становится местом встречи различных культурных идентичностей и как столкновение этих идентичностей приводит к созданию переходных пространств.
Методологически статья опирается на этнографические полевые исследования в армянском сообществе в Германии, в частности в Берлине. Она основана на информации, собранной среди турецких армян, — как связанных с сообществом и принадлежащих к нему, так и не имеющих отношения к армянскому кругу. Центральное место в ней занимают этнографическое исследование и эмические данные, собранные в ходе полевой работы. Это полевое исследование внутри единого сообщества, где антрополог может рассмотреть многообразие представлений, определений, воспоминаний, путей, местоположений, фактов, эмоций и т.д.
Армянское сообщество Берлина — это зарегистрированная религиозная организация, состоящая из официальных членов и насчитывающая до 150 человек, а также люди, не являющиеся ее официальными членами, но посещающие образовательные, культурные и религиозные мероприятия сообщества. Армянское сообщество Берлина представляет интересную культурную разнородность людей с различным миграционным, поколенческим и социальным опытом. Оно не обладает давней историей, как другие сообщества армянской диаспоры. Внутренняя разнородность армянского сообщества в Берлине заключается в представлениях людей о прошлом, настоящем и будущем, об истории своего народа, о том, кто они такие, где их родина, о том, как «мы» описываем родину, к чему «мы» стремимся и что «мы» помним. То знание о себе самих, которым обладают диаспора и родина, часто сконструировано из этих представлений, предлагающих неизменную, однородную и неопровержимую картину того, кто такие армяне, и часто исключающих переходные пространства и все, что находится за пределами принятых категорий.
Имена интервьюируемых, использованные в статье, изменены по желанию респондентов.
ПОСЛЕ 1915 ГОДА В ДИАСПОРЕ И В АРМЕНИИ...
Болезненные воспоминания, гнев, непрерывные напоминания и требования признания геноцида армян турецким правительством передавались из поколения в поколение, формируя ядро идентичности армянской диаспоры. По утверждению Рубины Перумян, говорить об этом, делиться, обсуждать травму было способом облегчить боль [Peroomian 2008].
С другой стороны, обсуждение геноцида в диаспоре и в Армении способствовало прекращению контактов между армянским и турецким миром. Люди в советской Армении жили с представлением, что «по ту сторону горы Арарат ничего нет» [Harutyunyan 2008]. Травмирующее воспоминание о геноциде и закрытая граница способствовали тому, что отрицание другой стороны все больше укоренялось. Гора Арарат возвышалась как напоминание о прошлом, мираж, призрак, существовавший лишь в воображении, за которым жизнь остановилась после 1915 года. В течение многих лет существовало твердое убеждение, что все турецкие армяне были убиты или бежали из Османской империи, кроме небольшого армянского сообщества в Стамбуле.
В «Энциклопедии армянской диаспоры» [Aivazyan 2003] есть глава, названная «Армяне в Турции»[3]. В этой главе дается исторический обзор жизни армян в Османской империи (хотя именуется она Турцией) и нет почти ничего о современности и сегодняшней жизни армянского сообщества в Турции.
Недостаток информации об армянах, оставшихся в Турции после геноцида, начал постепенно восполняться после признания независимости Армении за счет частой трудовой миграции граждан Армении в Турцию и, наоборот, посещений турецкими армянами независимой Армении. Однако лишь недавно появился научный интерес к этой теме и исследователи как из Армении, так и из диаспоры активно занялись изучением того, как жили армяне в Турции с 1915 года до наших дней. Публичный интерес к Турции и турецким армянам также возрос в результате предпринимаемых двумя странами с 2008 года попыток установить дипломатические отношения.
С другой стороны, интерес к турецким армянам вызван пробуждением этнической идентичности и интереса к историческим корням среди турецких жителей: многие в Турции задумываются о своих армянских предках [Peroomian 2008].
В ходе моего исследования в Армении один из самых часто задаваемых вопросов был: «Неужели в Турции после 1915 года остались армяне?» Вопрос этот всегда сопровождался удивлением и даже недоверием к моим источникам информации. Когда я рассказывала о том, что армяне изменили имена на турецкие, плохо знают армянский и используют турецкий в качестве основного языка, это вызывало еще большее удивление и смущение у моих собеседников, задававших в ответ риторический вопрос: «Но как же они могли там остаться?»
Другой интересный инцидент, связанный с моим исследованием темы турецких армян, произошел во время конференции в Армении в 2007 году, когда журналист известной армянской газеты написал провокационную статью под заголовком «Турецким армянам в Германии грозит ассимиляция не с немцами, а с местными турками»[4], после того как послушал мое 10-минутное интервью армянскому телеканалу. Я кратко рассказала о культурном многообразии армянских сообществ в Германии, об их отличии от турецких армян в том, что касается языка, связи с родиной, миграционного опыта и отношений с принимающей страной, а журналист записал и выпустил мое короткое телеинтервью как газетную статью об ассимиляции турецких армян турецким населением Германии.
В своей книге об армянской государственности Джерард Либаридян пишет, что «память о геноциде армян обладает особой ценностью для армянской души как на родине, так и в диаспоре, хотя и с разными нюансами. Она значительно повлияла на национальный дискурс среди армян, как и на мировоззрение, определяющее армянскую внешнюю политику» [Libaridian 1999]. Память о геноциде не только оставила глубокий след в национальной идеологии, но и построила невидимую преграду между Арменией и Турцией, между прошлым и настоящим, между реальным и нереальным.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ПОСЛЕ 1915 ГОДА В ТУРЦИИ…
То, что происходило после 1915 года в восточной (российской), а позднее советской Армении и в диаспоре, очень хорошо описано многими исследователями. То, что происходило после 1915 года в Турции, все еще не описано и требует исследования. Однако в последнее время в Турции произошло многое, что позволяет понять, как жили оставшиеся там армяне. В этом кратком разделе я попытаюсь пролить свет на этот вопрос и реконструировать жизнь турецких армян до переезда в Германию на основе рассказанных мне в Германии историй нескольких семей.
Один из наиболее значительных моментов в жизни турецких армян, как и других немусульман, был связан со сменой имен, которая происходила в 1934 году с принятием Закона о фамилиях. Закон требовал от всех граждан Турецкой Республики отказаться от приставок к именам, таких как «бей», «паша», «эфенди», «ходжа» и так далее, и взять фамилии. Это в особенности касалось мусульман, так как у большинства из них вообще не было фамилий. Однако не только им пришлось менять фамилии — немусульманские фамилии были упразднены, а сами немусульмане должны были взять турецкие фамилии[5]. Некоторые армянские имена сохранили корень, изменив суффикс «-ян» на «-оглу» или другие турецкие суффиксы, например фамилия Шахакян превратилась в Шахакоглу, а Исаян — в Исаоглу. Во многих фамилиях первоначальный корень не сохранился, они были полностью заменены турецкими. Так был реализован один из просветительских планов Мустафы Кемаля Ататюрка по построению современного светского государства путем проведения ряда реформ, в том числе введения Закона о фамилиях.
Мои бабушка и дед поменяли армянские имена на турецкие когда-то в 1930-х. Они это сделали через дедушкиного друга. Изменив фамилию семьи, он пришел домой и уничтожил все документы с их бывшей армянской фамилией. Он сжег документы, бумаги, все в саду. Так что для министерства [внутренних дел] они были уже не армяне. Со временем они попытались забыть семейную историю, события, связи, все, что связано с прошлым. Мы не знали, кто где живет из нашей семьи. После уничтожения бумаг мы не знали, где остальные члены семьи оказались после геноцида[6].
Из полевых материалов, собранных мной среди турецких армян в Берлине, предки которых жили в республиканской Турции, видно, как воспоминания об обыкновенном детстве и взрослой жизни смешиваются с тайными трагическими воспоминаниями старшего поколения, по счастливой случайности выжившего во время массовых убийств.
Арет[7] — один из моих респондентов. Он переехал в Берлин в рядах турецких трудовых мигрантов в конце 1960-х и поступил рабочим на фабрику. Его жена присоединилась к нему позднее, а через несколько лет в Берлине родились их дети. Сидя в гостиной, он показывал мне фотоальбомы, полные милых фотографий их семьи и друзей в Стамбуле тех времен, когда они еще были молодоженами. На мой вопрос, знает ли он, как жили его родители в Турции, он ответил:
Помню, я вечно расспрашивал отца о прошлом. Он никогда не отвечал. Однажды в начале 1980-х он наконец приехал к нам в Берлин. У него были проблемы с сердцем, и врач сказал мне дать ему немного виски. Мы сидели здесь, пили виски, играли в тавла[8]... знаете, по-армянски это «qar»... Я сказал ему: «Папа, я задам тебе несколько вопросов». И он рассказал мне, что мама в детстве была депортирована в Дейр-эз-Зор, а он переехал в Стамбул. Потом я сказал ему: «Теперь расскажи мне, что случилось с мамой. У нее были ужасные шрамы по всему телу, как она получила их?..»
Арет показал мне на карте деревню, откуда родом его мать, и продолжил:
Моя мама... она была из деревни (показывает карту Коньи)... а вы знаете, где Дейр-эз-Зор? В пустыне? Отец рассказал, что она была вместе с семьей депортирована туда. И вот по дороге солдат подошел к моей матери (она была еще ребенком), и ее брат увидел это, поднял что-то с земли и бросил солдату в голову. Так они смогли сбежать. Они нашли небольшое озерцо и спрятались там, в воде. Заметив солдат, они ныряли в воду. В воде были пиявки, и они искусали ее всю.
В ходе моих бесед с турецкими армянами я неизменно слышала два типа историй об их жизни в Турции: приятные воспоминания о детстве, проведенном в Турции, о школе, где они учились, о том, как они примкнули к армянскому сообществу. Второй тип историй связан с воспоминаниями о массовых убийствах и депортации, которые они слышали от родителей, бабушек, дедушек по прошествии времени. Часто в последних рассказах больше не выраженных словами эмоций, смущения и печали на лицах, чем вербализованных деталей того, что там на самом деле произошло. Новое поколение, выросшее в Германии, свободнее говорит о том, что связано с трагическими воспоминаниями. В то же время среднее и старшее поколения более склонны рассказывать о своей спокойной жизни в Турции, нежели говорить о далеком прошлом.
В книге «И те, кто остались жить в Турции после 1915 года» Перумян пишет:
Лишь недавно мы начали осознавать, какую глубокую травму несли в себе выжившие в Турции армяне. Нам позволили заглянуть в их мир и увидеть, как прошлое изменило их самоощущение и самоощущение следующих поколений [Peroomian 2008].
Не только армяне, но и все немусульманское население послевоенной Османской империи не вошло в состав мусульманского этноса и по-прежнему подвергалось дискриминации. В первые годы республиканской Турции дискриминация немусульман усилилась: закрывались школы и религиозные организации, немусульманам запрещено было торговать и путешествовать внутри страны и т.д. [Cagaptay 2006]. Если тяжело было быть армянином в Стамбуле, то еще тяжелее приходилось анатолийским армянам, как писал Сонер Кагаптай в книге «Ислам, секуляризм и национализм в современной Турции: Кто такой турок?». Многие армяне, остававшиеся в Анатолии, в 1930-х бежали в Сирию, спасаясь от гонений и нетерпимости.
Рубен Мелконян в своей книге по истории армянского сообщества в Стамбуле [Melkonyan 2010] отмечает, что уменьшение численности армянского населения можно проследить также по переписи, которая проводилась с первых лет республиканской Турции до 1965 года. Однако, как пишет Мелконян, перепись проводилась на основе принципа родного языка, а не этнической принадлежности, поэтому, возможно, речь идет не об уменьшении армянского населения, а о сокращении численности людей, говорящих по-армянски. Принудительная военная служба и непосильный налог на имущество, которым облагались немусульмане в 1940-х, а также погромы среди греков и других немусульман в Стамбуле и Измире в 1955 году [Melkonyan 2010: 9] еще более способствовали уменьшению численности немусульманского населения.
С другой стороны, в рассказах о жизни в Турции после 1915 года много не только воспоминаний о трагической истории семей. В ходе интервью турецкие армяне много рассказывали о счастливой жизни на родине до переезда в Германию: о друзьях, соседях, праздниках, свадьбах, о простой повседневной жизни.
Двойственность их жизни в Турции — трагические (хотя и скрываемые) воспоминания о семейном прошлом, с одной стороны, и воспоминания о счастливой жизни в Турции, с другой, — стала интересной проблемой для турецких армян в контексте армянских сообществ, где соединяются все эти воспоминания, вопросы причастности, культурной идентичности и традиции.
БЕЗЗВУЧНЫЕ ГОЛОСА, ГОВОРЯЩИЕ И УСЛЫШАННЫЕ
Тем не менее с недавних пор мы все чаще и чаще слышим голоса, говорящие об армянах в Турции и их жизни после геноцида. Турецкие армяне стали заметны не только в Турции, но и в армянской диаспоре. В последнее время армяне, которые остались в Турции после 1915 года, привлекают все больше внимания международных СМИ и научного сообщества как в армянской диаспоре, так и в турецком обществе[9]. Интерес к Турции, ее прошлому и настоящему, ее «невидимым» жителям особенно укрепился с зарождением новых политических контактов между Арменией и Турцией[10].
После убийства Гранта Динка, известного турецкого журналиста армянского происхождения, защитника прав человека, в частности прав меньшинств в Турции, главного редактора двуязычной газеты «Агос» в Стамбуле, вопрос о живущих в Турции армянах встал особенно остро, и наиболее значимые дискуссии прошли в Германии, где значительную часть армянского сообщества составляют именно турецкие армяне. В Турции за последние годы было опубликовано множество новых книг, посвященных последним страницам Османской истории. Одной из самых заметных из них стала автобиографическая книга Фетхие Четин о ее бабушке [Qetin 2004] — история кардинальной перемены и тайной жизни армянской девочки.
Итак, кто такие турецкие армяне? Сами армяне называют их «Trqahayer» или «Tajkahayer». Tajkahayer, или турецкие армяне, или граждане Турции армянского происхождения, — это потомки некогда большого сообщества, на протяжении веков проживавшего в Анатолии[11], и немногочисленные выжившие после геноцида 1915—1918 годов, которые остались в Турции в отличие от армян, бежавших в Сирию, Иран, советскую Армению или на Запад, в европейские страны или США. Оставшиеся в Турции в основном жили в Стамбуле или недалеко от него.
В 1961 году правительство Германии подписало двустороннее трудовое соглашение с Турцией, позволившее немецким работодателям набирать из Турции дешевую рабочую силу [Rist 1978]. Вначале трудовая миграция казалась временной, но в итоге оказалась переселением на новое постоянное место жительства, так как многие мигранты решили обосноваться в Германии и там же воссоединились со своими семьями. Среди них было много этнических армян. Первое и второе поколения турецких армян — трудовых мигрантов переселились в Германию в 1960-х, как и другие граждане Турции, в поисках лучшей жизни. В основном они ехали из сельских областей Анатолии. Они (вос)создавали армянские сообщества в разных городах Германии, в том числе в Берлине, в округе Шарлоттенбург[12]. С тех пор и до настоящего времени турецкие армяне составляют ядро руководства этими сообществами. В конце 1970-х сообщества увеличились за счет иранских и ливанских армян (бежавших от Исламской революции в Иране и гражданской войны в Ливане), а позднее за счет потока беженцев из постсоветской Армении в 1990-х.
МЕЖДУ ПУБЛИЧНЫМ ТУРЕЦКИМ И ЧАСТНЫМ АРМЯНСКИМ
В интервью и турецкие, и другие армяне, говоря о турецких армянах, подчеркивали, что «для многих [из них], приезжавших в Германию из Анатолии, это была поездка в один конец». И несмотря на это, воспоминания о жизни после расселения и во время пребывания в Турции полны самых разных историй: наряду с рассказами об ужасе, дискриминации и расселении турецкие армяне говорят и о любви к родине, Турции:
У них вся жизнь была в Турции, и, конечно, эта привязанность эмоциональная к родине, где ты родился и вырос… холмы, и солнце, и запахи, и травы. и сам воздух, и, потом, язык ума и сердца. все было турецким. Вот почему Турция так близка им[13].
После переселения в 1960-х турецкие армяне создали места, где они могли бы собираться семьями и общаться, играть в нарды, готовить анатолийские блюда. Построить новый дом в Берлине и одновременно организовать «армянский дом» означало по-новому определить для себя, что такое быть армянином. Они приезжали как граждане Турции и для немецких работодателей были турецкими трудовыми мигрантами. Многие армяне на работе вообще не открывали своей этнической принадлежности. Однако особенно тем, кто участвовал в создании сообщества, было важно определить границу, по крайней мере для самих себя, между своим гражданством и религиозной и этнической принадлежностью. Переходность положения — турок на работе и армянин в частной жизни, дома или в армянском сообществе — оказалась важной проблемой для турецких армян того времени. Компромиссным решением стало индивидуальное и негласное разделение между частным и публичным пространством. Для турецких армян, которые сформировали армянские сообщества, начался новый жизненный этап.
Были и люди, сделавшие противоположный выбор, т.е. отказавшиеся от этнической принадлежности. Не все присоединялись к армянскому сообществу, многие турецкие армяне избегали его. Представитель второго поколения турецких армян, родившийся в Германии, рассказал о своем отце, переехавшем в Германию из Стамбула, что тот решил не вступать в армянское сообщество и не поддерживал контактов с другими армянами:
Отец до сих пор не входит в армянское сообщество, потому что никак не связан с этими людьми. Он не чувствует связи с ними. Для него не так важно быть армянином. В Турции соединялось множество культур. Там были персы, арабы, курды, греки, армяне, все жили вместе. И он вырос среди всех этих культур. И все они были похожи, были хорошие люди, плохие люди, умные и глупые. И было это в любой культуре, и разницы между этими культурами он не видел[14].
Одной из наиболее информативных сторон исследования стала работа со вторым поколением тех, кто, как сказано выше, был отделен от своих армянских корней. Некоторые открывали своим детям правду об их армянском происхождении, когда те уже были взрослыми людьми.
Я всего несколько лет назад узнал, что я армянин. Прежде я думал, что мы курды, потому что мои дедушка с бабушкой говорят по-курдски. Мои родители ассимилировались и называют себя не курдами, не армянами, а турками. Мой отец ходил в турецкую школу, и не знаю, чему их там учили, но он считает себя турком. Но я с детства знал, что мы не турки, правда, не знал, кто именно. Позднее мне это стало важно, потому что выглядели мы по-другому, говорили по-другому… мои родители говорили по-турецки совсем иначе, чем другие турки. И я решил узнать у бабушки с дедушкой. Я приехал к ним и увидел, что они говорят несколько слов на турецком, а потом переходят на другой язык, который я не понимаю. Родители тоже говорят на нем, но чаще говорят по-турецки, а на том говорят, когда остаются одни.
Респондент из второго поколения трудовых мигрантов из Турции в Берлин (которые в конечном итоге вернулись в Турцию после окончания трудового договора) сделал открытие, уже будучи взрослым человеком:
Однажды я пришел к дедушке и бабушке, когда они были одни. Я сказал им, что им не надо скрывать, что они курды, и притворяться турками, а что им надо гордиться тем, что они курды. А они рассказали мне совсем другую историю. Они рассказали, что они армяне, принявшие ислам. Они сказали, что многие армяне остались армянами и христианами, но их депортировали. Они показали мне их разрушенные дома.
Рубина Перумян в своей книге пишет, что это было широко распространенное осознанное решение старшего поколения армян не посвящать новое поколение в болезненные воспоминания о прошлом, чтобы не делать их более уязвимыми, чем они есть [Peroomian 2008].
МЕЖДУ ЧАСТНЫМ ТУРЕЦКО-АРМЯНСКИМ И ПУБЛИЧНЫМ АРМЯНСКИМ: МЕЖДУ МИГРАЦИЕЙ И ДИАСПОРОЙ
В 1970-х «Hay Dun» («Армянский дом») пополнился другими армянами, превращаясь из «частного турецко-армянского» в «публичное армянское» пространство. Это было едва ли не первое столкновение турецких армян с ними, говорившими об армянской литературе и языке, отмечавшими армянские праздники и выдвигавшими политические вопросы, которые касались армян. Для ливанских и иранских армян это был беспрецедентный опыт встречи с другими армянами, которые не говорили по-армянски, имели турецкие имена и оставались в Турции после расселения. Культурное разнообразие стало еще ярче, когда в 1980—1990-х начали прибывать армяне из Армении. Однако эта встреча разных армян, или разных культурных сфер, в едином сообществе и все же с доминирующей ролью турецких армян способствовала дальнейшему формированию переходных пространств:
Знаете, вы, армяне, так тоскуете по потерянным землям в западной Армении и представляете их своей символической и исторической родиной, при том что у вас есть Армения, реально существующее место, точно как турецкие армяне ощущают свою связь с Турцией, хотя в их случае символическая родина — это Армения, а Турция — реальная точка отсчета[15].
Турецкие армяне считают Турцию своей родиной, армянские армяне этого не понимают, но стремятся к тому же. Они считают западную Армению своим утраченным культурным достоянием. Но когда они говорят, что не понимают этого, я думаю, они лгут. Потому что они все время думают о Турции. Но они думают о ней с ненавистью и смешанными чувствами. А турецкие армяне, поскольку они выросли там, хотя у них там и были проблемы, испытывают иные чувства. Они часто не чувствуют ненависти к туркам, потому что выросли с ними. У них были друзья, своя культура, свой язык[16].
МЕЖДУ ЯЗЫКАМИ И ЭМОЦИЯМИ
Турецкие армяне все еще сохранили турецкий язык и любовь к нему. Хотя многие из них посещали уроки армянского в сообществе, они все еще говорят друг с другом по-турецки. В некоторых случаях младшее поколение также говорит по-турецки. Турецкий язык особенно очевидно прорывается в моменты сильных переживаний. Большинство респондентов из турецких армян упоминали в интервью, что турецкий язык — это язык их сердец. Один из таких моментов имел место на последних выборах в совет сообщества. Прежний совет, состоявший в основном из турецких армян, не был переизбран. В новый совет вошли самые разные армяне. После оглашения результатов выборов один пожилой турецкий армянин встал и произнес речь. Речь его была короткой, но очень эмоциональной. Половина участников выборов не поняла, что говорил старик, потому что говорил он не на немецком, не на армянском, а на турецком. Позднее мы узнали, что говорил он о ценности братства в сообществе и о том, что в тот день его сердцу было больно.
МЕЖДУ АРМЯНСКОЙ ДИАСПОРОЙ И РЕСПУБЛИКОЙ АРМЕНИЕЙ: НОВАЯ ТОЧКА ОТСЧЕТА
В то же время нельзя не упомянуть о том, что возрастает роль Республики Армении в сообществе как Центра и Родины. Одновременно сообщество становится все более публичным, и можно сказать, что увеличивается публичное пространство армян Армении. Более того, в сообществе существует разделение между Родиной и теми местами, откуда люди родом. Категория Родины и ее образ становятся для разнородной армянской диаспоры в сообществе все более национализированными и в то же время более политизированными. Они все больше связываются с Республикой Арменией. Связь с общей родиной укрепляется по ряду причин: постоянный поток людей, прибывающих из Армении или уезжающих туда, передачи спутникового телевидения из Армении, культурные программы артистов из Армении, присутствие представителей Армянской апостольской церкви в сообществе, растущая тенденция участия армянских армян в мероприятиях сообщества, так же как регулярные визиты студентов и специалистов из Армении с рабочими и учебными целями.
Через процесс сближения и знакомства с новой родиной не только само сообщество меняется, но и армяне диаспоры изменяют свое представление о том, кто такие Hayastantsi — армяне Армении.
ЭХО СТАМБУЛА И СИМВОЛИЧЕСКОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ
Тем не менее отголоски жизни в Стамбуле также хорошо слышны. Убийство Гранта Динка, как и другие новости, связанные с армянами в Турции, например заявления армянского патриарха Турции Месропа II, новости о положении турецких меньшинств, опубликованные в Стамбуле книги и т.д., каждый раз вызывают волну обсуждений жизни армян в Турции на онлайн-форумах Армении и диаспоры. На них ставится вопрос о присутствии армян в современной Турции и об их отношении к Турции, проводится граница между отношением к жизни армян в Турции и политическими устремлениями армянской диаспоры. Подобные обсуждения ведутся и на форумах армян в Германии.
В берлинском сообществе подобные обсуждения ведутся и онлайн, и офлайн, обновляя и укрепляя позиции турецких армян. Берлинские армяне провели протестную демонстрацию и церковную службу в память о Гранте Динке. Кроме мероприятий, организованных армянами, прошли также демонстрации, инициированные левыми турками, греками, курдами и ассирийцами. Все вместе они провели «круглый стол» на тему убийства Гранта Динка, на котором затрагивались также вопросы о признании геноцида, о положении меньшинств в Турции в целом и об армянах в Турции в частности. Эти дискуссии продолжаются до сих пор, вызывая новый интерес к Турции, или, как называют ее члены сообщества, «армянской Турции». Более того, турецкие армяне стали направляющей силой или призмой, сквозь которую другие армяне берлинского сообщества хотят приблизиться к своей «исторической Родине».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: УТВЕРЖДЕНИЕ ПЕРЕХОДНОГО ПРОСТРАНСТВА
Армяне, которые прибыли в Германию в рядах трудовых мигрантов из Турции, прошли долгий путь сомнений, отрицаний и пересмотра своей национальной идентичности. Негласные представления стали более заметны и публичны после переезда в Германию. Их «исход» из Турции и новая жизнь в Германии, как и более поздняя встреча с армянами другого культурного происхождения, остро поставили вопрос их национальной принадлежности, а их самих поместили в промежуточное положение между глобальной и местной историей, между прошлым и настоящим, между разными воспоминаниями, культурными практиками и т.д. Эти символические пространства или промежуточные позиции создали множество «обрядов перехода», по словам Арнольда ван Геннепа [Gennep 1960]: вначале быть турком в публичной жизни и армянином в частной, потом армянином в публичной и турецким армянином в частной, затем балансировать между армянской диаспорой и своей особой идентичностью и, наконец, утвердить принадлежность к турецким армянам и заявить о легитимности этой идентичности в контексте сообщества армянской диаспоры.
Конечно, на этом трудном пути восстановления идентичности произошел ряд событий, способствовавших названному процессу. Одним из таких событий стала трагическая гибель Гранта Динка в Стамбуле в январе 2007 года.
Как это ни прискорбно, именно после своей смерти Грант Динк стал известен не только армянам в Турции, но и турецким армянам за ее пределами, и особенно в Германии, где проживает много турок. В берлинском сообществе усилился интерес к Стамбулу, деревне Мусалер и другим lieu de memoire. Турецкий язык, который часто звучит в сообществе, стал восприниматься не как враждебный говор, а как культурная ценность. Интерес к Турции, поездки в Турцию, семинары об армянах деревни Мусалер, армянах «Bolis» (Стамбула) и т.д. для турецких армян берлинского сообщества означают признание собственного статуса турецких армян и символическое возвращение на Родину, в Турцию.
Пер. с англ. Ольги Михайловой
ЛИТЕРАТУРА
[Aivazyan 2003] — Armenian Diaspora: The Encyclopedia / Ed. by H. Aivazyan. Yerevan: Armenian Encyclopedia Publishing House, 2003.
[Anthias 1998] — AnthiasF. Evaluating «Diaspora»: Beyond Ethnicity // Sociology. 1998. Vol. 32. № 3. P. 557—581.
[Bhabha 1994] — Bhabha H. The Location of Culture. London; New York: Routledge, 1994.
[Brah 1996] — Brah A. Diaspora, Border and Transnational Identities // Brah A. Cartographies of Diaspora: Contesting Identities. London; New York: Routledge, 1996. P. 178—211.
[Cagaptay 2006] — Cagaptay S. Islam, Secularism and Nationalism in Modern Turkey: Who is a Turk? London; New York: Routledge, 2006.
[getin 2004] — Qetin F. My Grandmother. Istanbul: Metis Publishing House, 2004.
[Clifford 1994] — CliffordJ. Diasporas // Cultural Anthropology. 1994. Vol. 9. № 3. P. 302— 338.
[Cohen 1997] — Cohen R. Global Diasporas. London: University College London Press, 1997.
[Gennep 1960] — Gennep A. van. The Rites of Passage. Chicago: University of Chicago Press, 1960.
[Hall 1990] — Hall S. Cultural Identity and Diaspora // Identity: Community, Culture, Difference / Ed. by J. Rutherford. London: Lawrence & Wishart, 1990. P. 222—237.
[Harutyunyan 2008] — Harutyunyan A. Hinter den Ararat schauen. // Internationales Studienzentrum Berlin. Jahrbuch 2007/08. Berlin, 2008. S. 73—74.
[Hofmann 2005] — Hofmann T. Armenier in Berlin — Berlin und Armenien / Mit Beitragen von D. Akhanli und Yelda. Berlin: Der Beauf-tragte des Senats fur Integration und Migration, 2005.
[Levy 2005] — Levy A. A Community That Is Both a Center and a Diaspora: Jews in Late Twentieth Century Morocco // Diasporas and Homelands: Holy Lands and Other Places / Ed. by A. Levy and A. Weingrod. Stanford: Stanford University Press, 2005. P. 68—96.
[Libaridian 1999] — Libaridian GJ. The Challenge of Statehood: Armenian Political Thinking Since Independence. Watertown, Mass.: Blue Crane Books, 1999.
[Melkonyan 2010] — Melkonyan R. Review of History of the Armenian Community in Istanbul (1920 — till present days). Yerevan: VMV-Print, 2010.
[Peroomian 2008] — Peroomian R. And Those Who Continued Living in Turkey after 1915: The Metamorphosis of the Post-Genocide Armenian Identity as Reflected in Artistic Literature. Yerevan: Armenian Genocide Institute-Museum Publishing House, 2008.
[Rist 1978] — Rist R.C. Guest Workers in Germany: The Prospects of Pluralism. New York: Praeger Publishers, 1978.
[Safran 1991] — Safran W. Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return// Diaspora: A Journal of Transnational Studies. 1991. Vol. 1. № 1. P. 83—99.
[Tololyan 1996] — Tdldlyan Kh. Rethinking Diaspora(s): Stateless Power in the Transnational Moment // Diaspora. 1996. Vol. 5. № 1. P. 3—36.
[Vertovec 1997] — Vertovec S. Three Meanings of «Diaspora»: Exemplified among South Asian Religions // Diaspora: A Journal of Transnational Studies. 1997. Vol. 6. № 3. P. 277—299.
[1] В 1915—1918 годах правительство Османской империи инициировало беспрецедентное систематическое уничтожение армянского населения в Анатолии (современная Восточная Турция) путем массовой депортации и убийств. Выжившие беженцы расселились по миру, образовав классический пример диаспоры [Safran 1991; Cohen 1997]. Трагедия армянского народа в Османской империи признана во многих странах мира первым геноцидом XX века, международные организации говорят об этнической чистке, а международное научное сообщество исследует явление геноцида, и тем не менее эта трагедия до сих пор не признана правительством Турции, наследницы Османской империи. Политика отрицания, которой придерживается турецкое правительство, создает почву для вражды между турками и армянами. После распада СССР и признания независимости Армении в 1991 году дипломатические отношения между Турцией и Республикой Арменией остаются крайне холодными.
[2] Массовые убийства армян проводились Османским правительством систематически с 1915-го по 1918 год. 24 апреля 1915 года считается важной датой в истории геноцида, когда были арестованы, депортированы и убиты около 300 представителей армянской интеллигенции — поэтов, писателей, музыкантов, священников, врачей и т.д., выходцев из Константинополя, в то время столицы Османской империи.
[3] Авторы энциклопедии совершают грубую ошибку, называя армянское сообщество в Турции диаспорой. Для армян Османская империя и наследующая ей Турция никогда не были принимающей стороной, это их историческая родина, где они жили веками. Более того, память об исторической родине все еще играет центральную роль в создании и поддержании этнического мифа как диаспоры, так и Армении.
[4] Газета «AZG», июль 2007 года.
[5] См. об этом: tr.wikipedia.org/wiki/Soyadi_Kanunu (на турецком); en.wikipedia.org/wiki/Surname_Law_(Turkey) (на английском). Дата обращения по обеим ссылкам: 15.05.2014.
[6] Отрывок из интервью (Берлин, 2008 год).
[7] Имя изменено.
[8] «Нарды» по-турецки.
[9] Репортеры «French 24» рассказывают о семьях турецких армян, которые скрывали свою национальность более 90 лет: www.youtube.com/watch?v=h69Zz0sV0GY (дата обращения: 15.05.2014). Другие примеры — книга Фетхие Четин «Моя бабушка» [Qetin 2004] или книга Рубины Пе- румян «И те, кто остались жить в Турции после 1915 года» [Peroomian 2008], изданные под эгидой Музея-института геноцида армян.
[10] В апреле 2009 года Армения и Турция выработали «дорожную карту», нечто вроде программы последующих шагов по нормализации отношений.
[11] В настоящее время — восточная Турция.
[12] Первое армянское сообщество, зарегистрированное в Берлине, — «Армянская колония в Берлине» — было учреждено в 1923 году. Довольно активное вначале, сообщество закрыло регистрацию в 1955 году и вскоре прекратило существование. После закрытия «Армянской колонии в Берлине» армяне в 1966 году сплотились, объединенные идеей восстановить сообщество; см. книгу «Армяне в Берлине» Тессы Хофман [Hofmann 2005].
[13] Интервью с представителем второго поколения турецких армян (Берлин, май 2008 года).
[14] Хикмет (имя изменено), второе поколение турецких армян (Берлин, май 2008 года).
[15] Интервью с членом сообщества (Берлин, март 2008 года).
[16] Интервью с представителем второго поколения турецких армян (Берлин, май 2008 года).
Опубликовано в журнале:
«НЛО» 2014, №3(127)
Литература Третьей волны: границы, идеология, язык
(пер. с англ. Д. Харитонова)
Ольга Матич
Памяти Андрея Синявского
Название воспоминаний Романа Гуля «Я унес Россию» (1981—1989) подчеркнуло значение России как места памяти. Важное различие между первыми тремя волнами эмиграции было связано с тем образом России, который каждая из них уносила с собой. Поэт из Третьей волны Дмитрий Бобышев писал: «У первой волны Россия буколически-усадебная, у второй — страшная сталинская, а у третьей — брежневская, скучно-постылая»[1].
В своем эссе «Меньше единицы» Иосиф Бродский определил память как «замену хвоста, навсегда утраченного нами в счастливом процессе эволюции. Она управляет нашими движениями, включая миграцию. Помимо этого, есть нечто явно атавистическое в самом процессе вспоминания — потому хотя бы, что процесс этот не бывает линейным. Кроме того, чем больше помнишь, тем ты ближе к смерти. Если это так, то хорошо, когда твоя память спотыкается. Чаще, однако, она закручивается, раскручивается, виляет — в точности как хвост; так же должно вести себя твое повествование, даже рискуя показаться бессвязным и скучным. <...> Пусть писатель во всеоружии таланта готов перенести на бумагу мельчайшие флуктуации сознания, все равно, попытки воспроизвести сей хвост во всем его спиральном великолепии обречены, ибо эволюция не прошла даром. Перспектива лет спрямляет вещи до точки полного исчезновения. Ничто не воротит их назад, даже рукописные слова с их кручеными буквами. И тем более обречена такая попытка, когда твой хвост кончается где-то в России. <...> У меня, по крайней мере, такое впечатление, что все пережитое в русском пространстве, даже будучи отображено с фотографической точностью, просто отскакивает от английского языка, не оставляя на его поверхности никакого заметного отпечатка»[2].
Память как замена хвоста, утраченного в ходе эволюции, как некая рекурренция, не согласуется с ностальгией, которая зиждется на идеализации утраченного дома и прошлого; остается только язык. «...Выброшенный из родного языка, [писатель-эмигрант] или брошен или же отступает в него, — пишет Бродский в другом эссе. — И из его, скажем, меча язык превращается в его щит, в его капсулу. То, что начиналось как частная, интимная связь с языком, в изгнании становится судьбой.»[3]
Если старые эмигранты заявляли ностальгически, что унесли Россию с собой, то представители Второй и Третьей волн этого не делали. Политика коллективной ностальгии как реакции на утрату (по-гречески «ностос» значит «возвращение домой», а «альгия» — «боль»), ключевая, как полагал Джеймс Клиффорд, составляющая диаспорической идентичности[4], характеризовала постреволюционную диаспору; ее культурный миф предполагал не только возвращение на родину, но и реставрацию той России, какой она была до большевиков. Среди старых эмигрантов немногие верили в то, что большевики — это надолго, а те, кто отбыл с Белой армией, были готовы сражаться с ними, когда придет время. Отсюда — троп «сидеть на чемоданах», избыточное применение которого приводило к дистанцированию от принимающих культур. Тогдашняя диаспора видела свою задачу в том, чтобы сохранять за рубежом «настоящую» русскую культуру, по-разному понимаемую многочисленными политическими и культурными объединениями в диапазоне от монархистов до социалистов. Знаменитые слова Нины Берберовой «Я не в изгнаньи — я в посланьи» («Лирическая поэма», 1924—1926)[5] отражали культурную и/или политическую установку интеллигенции на сохранение и передачу «настоящей» русской культуры в диаспоре. Сконструированная миссия возвращения с ее многочисленными проявлениями не только относилась к области фантазий — все это быстро сделалось анахронизмом; она подпитывала диаспорическую ностальгию в одном поколении за другим, укрепляя, в частности, нежелание диаспоры ассимилироваться.
Анахронистична была их навсегда исчезнувшая «воображаемая родина»; в зависимости от политических убеждений представителей постреволюционной диаспоры этой родиной была или царская Россия, или Россия после Февраля; для некоторых она была связана с идеей небольшевистской социалистической революции. По определению Светланы Бойм, ностальгия — это тоска по «упущенным возможностям»[6]; оно применимо к чувствам тех, кто тосковал по краткому промежутку между царской властью и победой большевиков. Так или иначе, старую эмиграцию характеризовали анахронистичность, пребывание в своем собственном историческом времени, и в прошлом, и в настоящем. Разумеется, это — стереотипическое представление о первой русской диаспоре, но я и говорю об определившем ее культурном мифе.
Если в основе этого культурного мифа лежала мечта о возвращении, даже ожидание его, то частью коллективной идентичности Третьей волны она отнюдь не была; не была ею и ностальгия. Бродский назвал ее «простым неумением справляться с реальностью настоящего и неопределенностью будущего»[7], а Андрей Синявский в своем автобиографическом романе «Спокойной ночи» (1984) писал о ней так: «Размышляя об эмиграции и о чувстве ностальгии по России, повествователь признается, что он бы туда не вернулся, даже если бы ему дали свободно писать: Если очень хочется, слетай во сне. <...> Не отсюда ли у нас — от невозможности вернуться — появляются мемуары?..»[8] Линда Хатчеон описала ностальгию как увековечение «невозвратимого по своей природе прошлого»; это описание может быть применено к противоречивому представлению о ностальгии Синявского[9].
Впрочем, распад Советского Союза вполне неожиданно сделал возвращение в Россию возможным. Одни русские писатели вновь там обосновались — например, Александр Солженицын и Эдуард Лимонов, исповедовавшие весьма различные почвеннические (чтобы не сказать — националистические) взгляды. Другие — например, Андрей Синявский, Наум Коржавин, Алексей Цветков — наезжали в отечество и потом возвращались в принявшие их страны. Третьи — например, Владимир Войнович и Василий Аксенов — жили на несколько стран, то есть имели дом и в Европе, и в России, тем самым реализуя диаспорическую практику пространственной промежуточности. Современные исследователи диаспор окрестили бы их мигрантами-космополитами, теми, кто перемещается между культурными кодами[10].
Бродский был единственным писателем из диаспоры Третьей волны, которому по-настоящему удалось пересечь границу нового языка и прижиться в новой стране. Он был единственным, кто писал по-английски и даже сделался частью культурной элиты, близко сдружившись с одним из знаменитых американских интеллектуалов, Сьюзен Сонтаг, и известным карибским поэтом Дереком Уолкоттом. Принято считать, что Бродский повлиял на политические взгляды Сонтаг, вследствие чего она в 1982 году приравняла фашизм к коммунизму, вызвав негодование у нью-йоркского левого культурного истеблишмента.
В этой статье речь пойдет о литературной диаспоре 1970—1980-х годов, многие представители которой отбывали из Советского Союза в Израиль вне зависимости от того, были у них еврейские корни или нет (впрочем, Третья волна состояла в основном из евреев). В их числе были Бродский (1972), Наум Коржавин (1973), Эдуард Лимонов и Юрий Мамлеев (1974), Александр Зиновьев (1977), Сергей Довлатов (1978). Изгнан в прямом смысле этого слова был один Солженицын (1974); Синявского пригласили в Сорбонну (1973), Аксенова — в Мичиганский университет (1980). Последним из уехавших больших писателей был Владимир Войнович, которого, как и многих других, скорее принудили это сделать (в конце 1980 года). В 1975 году австрийский канцлер Бруно Крайский помог получить выездную визу Саше Соколову.
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦ И ТЕКСТУАЛЬНОСТЬ
«Пространственный поворот» в философии и социальной теории 1970— 1980-х годов, зачинателями которого были Мишель Фуко, Анри Лефевр и Мишель де Серто, имел одним из своих предметов отношения между временем и пространством. «Мы живем в эпоху сопоставления, в эпоху близкого и далекого, примыкающего, рассеянного, — писал Фуко. — Мне представляется, что мы живем в такой момент, когда мир воспринимается не столько долгой жизнью, длящейся во времени, сколько сетью, вбирающей всякого рода точки и пересечения в свою ткань»[11]. «Пространственный поворот» — концепция, принадлежащая географу-постмодернисту Эдварду Сойе[12], — со временем оказал сильное влияние на изучение диаспор и миграций, главным образом в аспектах, связанных с пересечением границ, мобильностью, дистанцированием, вопросами пространства и места, памятью. Мирия Джорджиу писала, что пространство — это «центральная категория идентичности и репрезентации в контексте диаспоры и миграции»[13]. Первая эмиграция, настойчиво повторявшая слова «русское зарубежье» и «зарубежная Россия», означавшие рассеяние русских за границами отечества, «вписала» пространство в свою самоидентификацию. В книге «Русская литература в изгнании» Глеб Струве определил русскую литературу как «временно отведенный в сторону поток общерусской литературы, который — придет время — вольется в общее русло этой литературы»; его воды содействуют ее обогащению[14]. Словосочетания «эмигрантская литература» и «зарубежная литература» в первой диаспоре были взаимозаменяемы; возможно, оттого, что второе стало в Советском Союзе относиться к литературе иностранной, в последующих поколениях осталось только первое.
Для трех волн эмиграция, пересечение границ, означала, по существу, совершенно разные вещи. Если для первой и второй это было внезапное решение, вызванное историческим катаклизмом и смертельной угрозой, то для большинства людей брежневской эпохи миграция представляла собой процесс, который подолгу обдумывали. К тому же разрыв с отечеством оказался для них неполным: были возможны переписка, телефонные разговоры, для тех, кто не был связан с политикой, — даже посещение Советского Союза, приезды родственников и друзей. В результате сложилась диаспора, прочнее соединенная с отечеством и более мобильная, чем прежние, — хотя и в 1920-е годы, главным образом в первой их половине, когда границы были еще проницаемы, некоторые выехали за рубеж и потом вернулись: среди самых заметных фигур были Андрей Белый, Виктор Шкловский, Максим Горький и Илья Эренбург. Сюда же относится и Алексей Толстой, чье возвращение было связано со сменовеховством и новой экономической политикой, предполагавшей сочетание социализма с капитализмом.
Большинство писателей из Третьей волны начинали с «подрывного» пересечения границ своими текстами — практики, которая стала называться тамиздатом; она, как я полагаю, и породила «промежуточное» состояние их авторов, определяющее для диаспорической идентичности — вне зависимости от того, оказались сами авторы в конце концов за границей или нет. Опубликоваться «там» для писателей брежневской эпохи, выходивших за рамки официально дозволенного, означало вырваться за советскую границу в чужое пространство. Тамиздат Третьей волны начался со статьи Синявского «Что такое социалистический реализм» (1959), впервые опубликованной на чужом языке — по-французски.
В середине 1980-х годов в частном разговоре Синявский описал свою эмиграцию так: сначала границу тайно пересекли тексты, написанные Абрамом Терцем, а несколько лет спустя за ним/ними последовал Синявский. Он сравнил написанное Терцем с гоголевским Носом, отпавшим от своего владельца и собиравшимся бежать за границу; получилась метафора разделения корпуса текстов и писательской идентичности. Иными словами, «текстуально» Синявский обладал двумя телами — в соответствии с советской институциональной практикой разделения творчества писателей на «печатное» и «непечатное». В романе «Спокойной ночи» повествователь описывает Терца приблатненным сорвиголовой: юный, крепкий, красивый, ироничный, с ножом в кармане — противоположность Синявского, истинного академического интеллектуала, склонного к созерцанию и компромиссу того рода, что требовало советское общество. Существенно, что Синявский сохранил свою раздвоенную писательскую идентичность и в диаспоре — как в литературном, так и в политическом отношении. Разделение на Синявского и Терца послужило прообразом того болезненного противоречия между общественным и частным, которое будет характеризовать значительную часть советской интеллигенции, проводившей различие между своей общественной и частной идентичностями, имевшими также пространственное измерение. Арест Синявского в 1965 году — пример криминализации советской властью того, что я определила как диаспорическую идентичность; его результатом стали пересечение Синявским границ внутри страны и попадание в место, названное Солженицыным «Архипелагом ГУЛАГ», а затем, после освобождения в 1973 году, в эмиграцию.
Вскоре после прибытия в Париж иронический двойник Синявского написал статью о литературе, которую сопряг с побегом, бегством, пересечением границ и криминализацией текстов на границе. В ироническом ключе: «Новый подъем русской литературы лучше всего прослеживается на таможне. Что ищут больше всего? — Рукописи. Не бриллианты и даже не советского завода план, а — рукописи!»[15]; в серьезном: «Всякое — даже без отношения к власти — писательство запретно, предосудительно, и в той беззаконности, собственно, и заключается весь восторг и весь вопрос писательства. <... > Возьмем ли мы "Евгения Онегина" или выберем для солидности "Воскресение" Льва Толстого, мы заметим, что все они построены на побеге, на нарушении границы. Что сама душа писателя просит — к побегу»[16].
В «Спокойной ночи», как в любом автобиографическом или мемуарном сочинении, память изображена хронотопом; Синявский с оглядкой на себя представлял письмо в пространственных категориях, отсылая к знаменитой метафоре Пруста — книге, строящейся, как собор[17]: «Я был мальчишкой со своей страстью к писательству по сравнению с этим стосильным, тысячеглавым эхом, которое разносилось по гулким сводам собора»[18]. Синявский превратил готический собор Пруста в собор-тюрьму — топос лагеря с его лабиринтами стал для него приличествующим ХХ веку символом «пространства прозы»: «Сама словесная масса обладает пространственными параметрами, которые свойственны архитектуре и изобразительному искусству»[19]; темпоральность нарратива принимает пространственную форму.
Совсем другим был путь в диаспору Аксенова. Его представление о пространстве отличалось от представления о нем Синявского; оно занимало его еще на рубеже 1950—1960-х годов: неограниченное западное «там», противопоставленное ограниченному советскому «здесь», было воображаемым объектом желания Аксенова со времен «Звездного билета». Мирия Джорджиу писала, что «диаспорический транснационализм имеет отношение не столько к месту, сколько к пространству, не столько к границам, столько к воображению»[20]; эти слова можно применить и к этой повести. Текст полон примет американской и французской действительности; юные герои повести создают для себя воображаемый Запад в Прибалтике, куда они приезжают летом за тем, что можно назвать лучшим суррогатом транснационального опыта. Хотя Эстония является частью Советского Союза, в течение одного волшебного мига она воспринимается ими как экстерриториальное, неограниченное пространство. Если диаспорическая идентичность, по определению, транснациональна, то «Звездный билет» был первой попыткой Аксенова ее, так сказать, примерить. Писатель, создавший шестидесятническое представление о Западе как о развеселом карнавале, основывавшемся на личной свободе, принципе удовольствия, популярной культуре и эстетике потребления, начал «проговаривать» свою воображаемую транснациональную идентичность еще до того, как попал на «настоящий» Запад. Первым опубликованным в тамиздате текстом Аксенова, связанным с поэтикой пересечения границ, был «Ожог» (1980)[21], некоторые персонажи которого, русские и иностранцы, практически неотличимы друг от друга, словно граница между «здесь» и «там» стерлась.
«Ожог» и последующие книги Аксенова выходили под знаком издательства «Ардис», основанного в 1971 году двумя замечательными американскими славистами, Карлом и Эллендеей Проффер, в Анн-Арборе (Мичиган)[22]. Помимо издания великих произведений русской литературы ХХ века, которые в Советском Союзе были запрещены цензурой и которые приходилось возвращать туда контрабандой, «транснациональной» задачей «Ардиса» было публиковать современную литературу, имевшую прежде всего художественное, а не политическое значение. «Криминализированные» тексты, в свою очередь, незаконно возвращались в отечество: такой была возвратно- поступательная траектория тамиздата.
Если созданное Синявским альтер эго, Абрам Терц, пересекло границу для того, чтобы опубликоваться, то инаковость Аксенова определилась «советским» желанием войти в транснациональную культуру. Предположу, что идеологические основания его гедонистического транснационализма можно также рассматривать в связи с возникшей в середине ХХ века оптимистической теорией сближения Соединенных Штатов с Советским Союзом, капитализма с социализмом[23]. Ее выдвинул социолог из первой эмиграции Питирим Сорокин[24]; по другую сторону геополитического разлома идею сближения поддержал Андрей Сахаров, чьи «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» (1968) были опубликованы в тамиздате.
В остроумной джеймс-бондовской фантазии Аксенова «Остров Крым», написанной в России и изданной «Ардисом» в 1981 году, изображен крах мечты о сближении. Пародируя эмигрантский миф о возвращении (жители острова называются врэвакуанты, то есть временные эвакуанты, по аналогии с Временным правительством), Аксенов создал ироническую альтернативную историю постреволюционной диаспоры. Она живет в космополитической, капиталистической, демократической, даже мультикультуралистской утопии, напоминающей Южную Калифорнию, где Аксенов в 1975 году провел несколько месяцев при Калифорнийском университете. Утопически-либеральная диаспора разрушается изнутри — главным героем романа, эмигрантом, альтер эго автора, наивно верящим в сближение острова с «большой землей», которое оборачивается советской оккупацией Крыма[25]. Разочарование Аксенова в идее сближения и западном либерализме (недостаточно действенно противостоящем коммунизму), выразившееся в романе, в котором демифологизировалась ностальгическая идея возвращения, которой жила первая диаспора, предшествовало его эмиграции — хотя роман был издан после: как и Синявский, Аксенов последовал за своим текстом за границу.
ЯЗЫК, РУСОФОБИЯ, ИРОНИЯ
Русский язык брежневской эпохи существенно отличался от дореволюционного русского, сохранившегося в диаспоре, представителям которой первый казался грубым, отражающим вульгарность советской культуры; к тому же они зачастую не понимали особой иронии позднесоветской интеллигенции[26]. Неудивительно, что читатели из первой диаспоры в большинстве своем предпочитали реалиста Солженицына Синявскому, чье творчество уходило корнями в авангардистские, нарушающие табу эксперименты с языком. Неудивительно и то, что нравоучение и антисоветские взгляды Солженицына были им ближе Терцевой эстетики провокации и расположенности к «искусству фантасмагорическому, с гипотезами вместо цели и гротеском взамен бытописания», о котором он писал еще в статье «Что такое социалистический реализм». К тому же читатели-эмигранты объявили Синявского русофобом после слов Терца: «Россия-мать, Россия-сука, ты ответишь и за это очередное, вскормленное тобою и выброшенное потом на помойку, с позором — дитя!..»[27]Читатели эти не увидели иронической отсылки к советским репрессиям, следствием которых стала третья эмиграция.
Книга «Прогулки с Пушкиным», написанная в лагере, была опубликована лишь в 1975 году, после того как Синявский эмигрировал; слово «прогулки» предполагало сладостное бесцельное хождение, противопоставленное неумолимо целесообразным перемещениям зэка. Если суд над Синявским и вынесенный ему приговор возмутили и русскую диаспору, и Запад, то «Прогулки с Пушкиным» возмутили только диаспору. В результате состоялся так называемый «второй суд над Абрамом Терцем», начало которому положил старый эмигрант Роман Гуль, автор довольно грубой отповеди под названием «Прогулки хама с Пушкиным». Как и другие читатели его поколения, Гуль не понял художественной декларации пошедшего против табу автора — зэка, постигающего «тайны искусства» через «недозволенную» любовь к Пушкину. В манере Василия Розанова, чей парадоксальный стиль повлиял на стиль Синявского, Терц объявил Пушкина воплощением «чистого искусства», соединившим в себе глубину и пустоту, серьезность и легкомыслие (или легкость), любовь к жизни и смерти. Вместо того чтобы увидеть в этом тексте попытку оживить образ Пушкина, остановить инерцию общеупотребительного культурного мифа посредством розановской парадоксальности, Гуль приписал автору «потребность предать надругательству наши традиции и святыни». «...В этой, на мой взгляд, именно хамской (в библейском смысле, конечно!) книге примечательно не то, что о Пушкине написал Абрам Терц, а как он пишет о Пушкине»[28], — Гуль отнес то, что ему представилось поразительной вульгарностью стиля, на счет советской вульгаризации языка вообще. Стилистика авангарда, «фантастическое литературоведение» (термин Синявского) и советский русский язык — все это Гулю и его поколению эмигрантов было чуждо.
Многие представители Третьей волны, в первую очередь Солженицын, моралист на страже священных русских мифов, тоже были возмущены. В 1984 году в своем запоздалом отзыве Солженицын обвинял Синявского и его последователей в желании «развалить именно то, что в русской литературе было высоко и чисто. Распущенная и больная своей распущенностью, до ломки граней достойности, с удушающими порциями кривляний, [враждебная Солженицыну «литературная ветвь»] силится представить всеиронию, игру и вольность самодостаточным Новым Словом, — часто скрывая за ними бесплодие, вспышки несущественности, переигрывание пустоты»[29]. Издание «Прогулок с Пушкиным» в Москве в 1989 году тоже сопровождалось метафорикой криминализации, с той разницей, что дисциплинарную роль судьи и обвинителя сочинения Абрама Терца, которую в 1966 году играло государство, взяла на себя интеллигенция.
Что же до слов Солженицына о «разрушающей всеиронии» Синявского, то Терц еще в 1956 году писал, что «ирония — неизменный спутник безверия и сомнения»[30]. Если Солженицын отвечал на советские репрессивные практики нравственным возмущением, то Синявский избрал субверсивную, дистанцирующую иронию, которой характеризовались отчуждение Терца от официальной культуры и сопротивление ей. В позднехрущевскую и брежневскую эпохи ирония стала дискурсивным средством сопротивления в тех кругах интеллигенции, которые создали иллюзию отделения, воображаемого пространственного разрыва между ними и официальной культурой. Предположу, что эта практика внутри круга посвященных походит на специфически советскую форму дендизма, отграничившего себя от официальной эстетики и политики, которые посвященными дискурсивно отвергались. Тонкая ирония и остроумие характерны для дендизма как способа отмежевания себя от морализаторского общества и утверждения своего над ним превосходства. В эпоху застоя эта речевая установка позволяла ее носителям одновременно существовать в советском обществе и дискурсивно противостоять ему, не рискуя понести наказание в виде увольнения с работы или, хуже того, ареста. Тексты Синявского, скрывавшиеся под именем его иронического приблатненного денди, были предвестниками этого стиля, но, в отличие от практики позднейших интеллигентских кругов, его ирония находилась под пристальным наблюдением, потому что ее «текстуализация» вышла за границы частной жизни и сделалась достоянием общественности в криминализированном чужом пространстве.
Ирония, которая, как известно, есть понятие ускользающее, трудноопределимое, часто использовалась представителями интеллигенции Третьей волны для дистанцирования от культуры принявших их стран. Вместо коммуникативной манеры, которая была бы направлена на сужение разрыва между ними и теми, у кого они были «в гостях», они выбрали основанную на иносказании-иноговорении иронию, известный им одним код, вывезенный из отечества, который только сильнее бередил травму перемещенности. Возможно, поэтому они сетовали на отсутствие иронии в их новом окружении; их иронический репертуар был продуктом советского опыта, зачастую с трудом понимаемого теми, чей иронический дискурс сформировался в совсем других социополитических обстоятельствах. Коммуникативная манера эмигрантов нередко отражала «тоталитарную» манеру советских диссидентов (чью систему ценностей большая часть интеллигенции Третьей волны разделяла), во многих отношениях походившую на официальный язык, только с «обратной полярностью». Часто это означало непоколебимые убеждения и суждения, не соответствующие западному либеральному дискурсу. Вместо того чтобы прибегать к более тонким формам иронии, к непрямому, неоднозначному высказыванию, они предпочитали высказывания резкие. Разумеется, это относится к стереотипической повседневной иронии третьей диаспоры. В литературе Третьей волны ирония была распространена не менее широко; в лучших ее образцах, например у Синявского (из «старших») и Соколова (из «младших»), она релятивизирует смыслы, порождая подрывную неодномерность.
Если ирония, направлявшаяся эмигрантами на свой новый дом, отделяла их от него, то внутри диаспоры они использовали ее для преодоления своего маргинального положения посредством установления дистанций — например, между теми, кто принадлежал к культурной элите, и прочими членами сообщества. Из субверсивной антисоветской практики ирония превратилась в чисто социальный инструмент самоидентификации. В то же время она означала невысказанную, неосознанную даже ностальгию по утраченному культурному контексту — иноговорению, узкому кругу, социокультурному статусу; Линда Хатчеон называла это «тайным герменевтическим родством» иронии и ностальгии[31]. Напряжение между иронией и ностальгией — предмет знаменитых соц-артовских работ Комара и Меламида; в них показательны одновременно иронические и «увековечивающие» изображения Сталина.
Ирония как утверждение фундаментальной относительности характеризовала московский концептуализм — русский вариант постмодернизма. Одним из его провозвестников можно считать того же Синявского: его гибридная, пересекающая границы текстуальная идентичность — это деконструкция, раздробление авторской идентичности, типичное для постмодернизма. Я очень хорошо помню, как в 1982 году впервые читала со студентами «Что такое социалистический реализм» и думала о том, что программный призыв Терца к литературе «с гипотезами вместо цели» и его нескрываемая ирония напоминают о постмодернистской эстетике, а раздвоение авторского голоса — о концепции «смерти автора» Ролана Барта, которая тогда была у всех на слуху. В статье, написанной по поводу смерти Синявского в 1997 году, Михаил Эпштейн объявил «Прогулки с Пушкиным» его «вторым, после трактата о соцреализме, постмодернистским манифестом. <...> То, что Дер- рида впоследствии назвал "рассеянием и осеменением" смыслов в языке, а Делёз и Гваттари — "детерриторизацией" (перемещением), у Синявского раньше того выразилось простой формулой ("искусство гуляет"[32]). <...> Отсюда "подвижность, неуловимость искусства, склонного к перемещениям"». Иными словами, Эпштейн соотносит метафорическое «опространствовление» текста у Синявского с постмодернистскими теоретическими установками; он цитирует начало «Голоса из хора»: «.текст как пространственная задача не может быть ни статичной площадкой, ни движущейся в одном направлении лентой. Он ближе к кругам по воде. Антиномии <...> заставляют слова разбегаться по радиусам, повторяя и исключая друг друга, производя вращение речи». Это вращение знаков вокруг пустой воронки центра-значения, пишет Эпштейн, «одна из устойчивых, "коллективных" метафор всего корпуса текстов западного постструктурализма»[33].
Синявский-Терц пересмотрел образ Пушкина, а в противоречивой книге «Gesamtkunstwerk Stalin» (1988) состоялся пересмотр образа Сталина; ее автором был философ и ученый, эмигрант Борис Гройс, идейно связанный с московским концептуализмом — Комара и Меламида он назвал «лучшими учениками Сталина». В России книга была опубликована в 1993 году под названием «Стиль Сталин»; в ней утверждается, что построение абсолютно нового общества, предложенного, с одной стороны, авангардом, а с другой — Октябрьской революцией, поместило сталинский проект в художественный контекст: «Художник в своей новой, авангардной функции строителя нового мира сменяется не мыслителем, а неким военно-политическим начальником над всей "насыщенной искусством действительностью", мистической фигурой "великого разводящего", вскоре реализовавшейся во вполне реальной фигуре Сталина»[34]. Если «Прогулки с Пушкиным» возмутили диаспору, то Гройс возмутил еще и западную академическую среду — он заявил, что русский авангард был предшественником социалистического реализма, оспорив устоявшееся мнение, согласно которому сталинская эстетическая доктрина авангард задавила[35]. Роман Соколова «Палисандрия» он представил постутопическим текстом, в котором «сталинская культура предстает как исторический рай, как породнение всего исторического в едином мифе. Крах этой культуры в то же время означает и окончательное поражение истории[36]». (О «Палисандрии см. ниже.)
Книга Гройса была написана в 1987 году; отдельные ее положения он напечатал в журнале «Синтаксис». В том же году там появилась статья Синявского «Сталин — герой и художник сталинской эпохи»: «Оглядывая сталинскую эпоху, я не нахожу в ней художника, который был бы достоин Сталина и отвечал бы его грозному "ночному" иррациональному духу. Таким художником при жизни Сталина мог быть, очевидно, лишь сам Сталин»[37]. Следующие утверждения также схожи с утверждениями Гройса: «От одного имени "Сталин" все зазвучало в стране по-сталински и стало стилем. Этот стиль Сталин назвал социалистическим реализмом» (с. 107); «Очевидно, Сталин и верил и не верил своему воображению, как и подобает истинному художнику» (с. 114). Ранее Синявский объявил социалистический реализм возвращением к классицизму, при этом назвав Маяковского «самым социалистическим реалистом». Гройс писал о родстве соцреализма с авангардом; тем не менее соцреалистическая идеализация Сталина в ностальгическом китче его «лучших учеников», Комара и Меламида, отсылала к неоклассицизму.
ДИАСПОРА И ПОЛИТИКА
Дроблению на кружки, идеологическому разобщению подвержена любая диаспора. Бродский видел в этом неизбежный результат перехода «метафизического состояния» изгнания в политическую повседневность диаспоры[38]. Большинство диаспорических сообществ характеризуются также попытками воздействовать на политические дела в отечестве и в стране пребывания. Солженицын даже взялся наставлять Запад в вопросах морали; самый знаменитый пример — его самоуверенная речь в Гарварде 1978 года, обращенная к культурным элитам; в ней он говорил об упадке либеральной демократии: не обладая в достаточной мере нравственным мужеством и духовностью, та погрязла в материализме, индивидуализме и легализме. Бродский с Синявским не давали уроков морали и политики, а стремились усвоить терпимость и уроки западной демократии.
Первый номер «Континента», важнейшего политического и литературного журнала Третьей волны, который читали не только в России, но и во всей Восточной Европе, вышел в 1974 году. Его редактором был писатель Владимир Максимов, а ответственным секретарем — искусствовед Игорь Голомшток, московский соавтор Синявского. В объединенном общим опытом советских и эмигрантских злоключений номере из русских приняли участие Солженицын, Синявский, Бродский, Сахаров, а также Зинаида Шаховская, редактор парижской газеты «Русская мысль» — связующее звено между первой и третьей диаспорами[39]. Транснациональную идентичность, подразумевавшуюся названием журнала, представляли Милован Джилас и Эжен Ионеско, а также Роберт Конквест, автор книги «Большой террор», чьи антилиберальные взгляды совпадали с позицией Солженицына и Максимова, отрицательно оценивавших западный либерализм, главным образом в лице интеллектуалов-марксистов.
Хотя главными принципами «Континента» были провозглашены безусловный религиозный идеализм, антитоталитаризм, демократизм и беспартийность, различия в политических и эстетических убеждениях, существовавшие между его первой редколлегией и между его авторами, — не говоря уже о самолюбиях и стилях, — быстро разрушили единство. Главная разделительная черта прошла между консервативной фракцией Солженицына—Максимова и демократической — Синявского. Если обобщать, то для первой творчество отождествлялось с абсолютным этическим императивом, что часто приводило к дидактическому морализаторству; вторая настаивала на первичности эстетической задачи и выступала за политический ли- берализм[40]. Увидев в деятельности «Континента» перерождение советской редакторской манеры, Синявский и Марья Розанова в 1978 году основали «Синтаксис», провозгласив эстетический и политический плюрализм; название журнала, в противовес «Континенту», предполагало ограниченную установку: на язык, стиль. Другое отличие «Синтаксиса» от «Континента», который щедро финансировал немецкий медиамагнат-консерватор Аксель Шпрингер, состояло в том, что «Синтаксис» существовал на скудные средства самих Синявских.
Если «Прогулки с Пушкиным» спровоцировали первый большой литературный скандал в диаспоре, то второй — менее, впрочем, громкий — был вызван «Сагой о носорогах» Максимова (1979), посвященной, что неудивительно, Ионеско. В ней сатирически изображались те европейские интеллектуалы, которые, по мнению Максимова, потакали Советскому Союзу или закрывали глаза на тамошние нарушения прав человека, предпочитая порицать их случаи в других странах. Выведенные в памфлете люди не назывались по именам (вполне в советском духе), но некоторых узнать было легко — например, немецкого писателя Генриха Бёлля. Также Максимов обрушился на предателей-плюралистов — это «писатели без книг, философы без идей, политики без мировоззрения, [сделавшие] моральную эластичность своей профессией, начисто выхолостив из памяти цели и пафос того самоотверженного движения, из которого вышли»[41]. «Сага о носорогах» была напечатана не только в «Континенте», но и в старых эмигрантских газетах «Русская мысль» и «Новое русское слово» — это говорит о том, что критика Максимовым западных и русских либералов нашла там отклик.
Атаку на «Прогулки с Пушкиным» возглавил Роман Гуль; в случае «Саги о носорогах» аналогичную роль сыграл литературовед Ефим Эткинд, преподававший в Париже русскую литературу[42]. После того как ни «Русская мысль», ни «Новое русское слово» не напечатали его отзыв, он опубликовал его в «Синтаксисе» под названием «Наука ненависти». Эткинд сосредоточился на том, что ему показалось ненавистью, с которой Максимов выступил «против "интеллектуалов". Против интеллигенции»: «Те, кого Максимов именует носорогами, составляют половину Германии, половину Франции, половину Италии, половину Англии (преувеличено для вящего эффекта. — О. М.). Я испытываю ужас перед этой проповедью ненависти»[43]. Эткинда также потрясло то, что Максимову не было дела до несправедливости за пределами Советского Союза — словно внимания заслуживали одни советские граждане. Иными словами, Эткинд инкриминировал ему полное отсутствие либерального дискурса — того, что в «Синтаксисе» обозначалось как плюрализм. Лев Копелев, еще не эмигрировавший, там же назвал дискурс Максимова тоталитарным: «Такая публицистика не может содействовать духовному и нравственному обновлению и оздоровлению нашей страны: это лишь вывернутая наизнанку сталинская идеология нетерпимости»[44].
«С таким гневом свободные плюралисты никогда не осуждали коммунизм, а меня эти годы дружно обливали помоями — в таком множестве и с такой яростью, как вся советская дворняжная печать не сумела наворотить на меня за двадцать лет. Очень помогло им, что западная пресса, особенно в Штатах, в руках левых — и легко, и охотно эту травлю переняла и усвоила» — такой бесцеремонный выпад сделал Солженицын в статье «Наши плюралисты», появившейся в «Вестнике русского христианского движения» старого эмигранта Никиты Струве, где Солженицын регулярно публиковался[45]. Обвинил он русских плюралистов и в русофобии; Синявский откликнулся статьей «Солженицын как устроитель нового единомыслия» и т.д.
Самым вопиющим аргументом Максимова в этой полемике стало обвинение Синявских в сотрудничестве с КГБ; впрочем, когда архивное свидетельство показало, что он был не прав, он взял свои слова обратно, опубликовал соответствующий документ в «Континенте» и публично попросил у Синявских прощения. Они втроем подписали письмо протеста против применения Ельциным силы против парламента в 1993 году[46]. Остается, однако, вопрос — почему Максимов использовал без всяких доказательств самые постыдные обвинения против своих врагов и конкурентов?[47] Ответ — обвинение в сотрудничестве с органами в кругах диссидентской и околодиссидентской интеллигенции было самым страшным оружием.
Я отчасти наблюдала эту распрю, когда организовывала конференцию «Русская литература в эмиграции: Третья волна» в Университете Южной Калифорнии в 1981 году. Ее задачи можно свести к трем: собрать главных ее представителей, относящихся к различным, в том числе враждующим друг с другом, направлениям; дать высказаться тем писателям младшего поколения, которых не издавали в Советском Союзе и которые, в отличие от Бродского, не имели особенных возможностей публиковаться на Западе; свести писателей-эмигрантов с литературоведами. Выполнить вторую и третью задачи мне удалось, но идея наладить диалог между враждующими фракциями диаспоры была по меньшей мере наивной: к тому моменту они были уже непримиримы. Возможно, это мое желание отражало западную либеральную веру в силу посредничества. Наступление на свободу слова в Советском Союзе и как следствие — писательская эмиграция тогда живо обсуждались в Америке, поэтому на конференцию выделили необыкновенно много денег Национальный фонд развития гуманитарных наук, фонды Рокфеллера и Форда, а также мой университет и Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA).
Из главных писателей эмиграции были приглашены Солженицын, Бродский и Синявский, а также эмигрант из Польши Чеслав Милош, в 1980 году получивший Нобелевскую премию; американскую литературу представлял известный драматург Эдвард Олби. Максимова пригласили как представителя «Континента». Солженицын, как можно было ожидать, не ответил; Бродский ответил, что приедет, но затем отказался (он, в общем, не участвовал в эмигрантских мероприятиях); Синявский и Олби приглашение приняли, Максимов тоже — но отказался, узнав, что вступительное слово будет говорить Синявский, а также потому, что, в отличие от своего соперника, приглашен он был не как писатель, а как редактор (его заменил Виктор Некрасов). Отличался Максимов от других участников и тем, что вел подрывную закулисную работу, например уговаривал некоторых приглашенных не ехать: думается, что Милош, принявший приглашение, отказался именно под давлением Максимова[48]. Аксенова, который тогда преподавал в Университете Южной Калифорнии, он тоже уговаривал бойкотировать конференцию[49].
Отношение к западным институтам и связанным с ними людям, выраженное в письмах Максимова Аксенову в связи с лос-анджелесской затеей, было сходно с тем, что вдохновляло «Сагу o носорогах». В нем были неприязнь к либеральному мышлению, негодование и паранойя: «Эту конференцию можно назвать не конференцией "писателей третьей эмиграции", а совещанием авторов "Ардиса" с двумя-тремя приглашенными из посторонних (этот выпад в адрес Профферов очень много говорит о той важнейшей роли, которую они играли как издатели). Только, уверяю тебя, напрасно устроители взялись составлять свой список русской литературы за рубежом и определять, кто в ней есть кто. Списки эти составляет время и непосредственный литературный процесс, а не Карл Проффер (при всем моем уважении к нему) и не Ольга Матич. <...> Эти люди и стоящие за ними "благотворители" пытаются столкнуть нас лбами и затем пользоваться нашими распрями для своих, далеко не безобидных целей. Но, поверь мне, люди эти (я знаю это по своему горькому опыту) циничны и неблагодарны. Как только отпадет нужда, они бросят вас на произвол судьбы»[50].
Такие страсти бушевали за кулисами. Получилось, что из главных российских «знаменитостей» присутствовали только Синявский и Аксенов, что, разумеется, уменьшило число скандалов на конференции, но и лишило ее скандального успеха. Из старшего поколения, кроме уже упомянутых, в ней участвовали Юз Алешковский, Войнович, Коржавин и Анатолий Гладилин, из младшего — Довлатов (как редактор нью-йоркской газеты «Новый американец»[51]), Соколов, Лимонов, Цветков и Николай Боков (как редактор авангардного парижского журнала «Ковчег»).
Во вступительном докладе на волновавшую эмиграцию и хорошо ей знакомую тему «Две литературы или одна?» Синявский, разумеется, отстаивал единство русской литературы. Главным недостатком эмиграции он назвал отсутствие серьезной литературной критики и, как следствие, сведение литературы к политике: «Разделение литературы по партийно-политическому признаку, с какой бы стороны оно ни исходило, вызывает у меня чувство протеста. <...> Самая хорошая политика — это еще не критерий художественности»[52]. Более всего его смущали «промежуточная литература и критерий подлинности» — так называлась статья эмигранта Юрия Мальцева в «Континенте». (Мальцев приписывал промежуточность не диаспорическому сознанию, а подцензурным текстам вроде «Дома на набережной», в котором вытесненное из памяти говорит само за себя.) Синявский не соглашался с тем, что «промежуточные» Трифонов, Шукшин и Распутин не являются «подлинными» писателями по простой причине подцензурности их произведений. Важнее всего было то, что Синявский отдал предпочтение сошедшим со «столбовой дороги», проложенной Солженицын и его последователями: «искусство гуляет»[53].
Поэт Алексей Цветков в своей лекции «По ту сторону Солженицына» повторил сетования Синявского на разлагающие отношения между литературой и политикой. Назвав литературную диаспору «инцестуальной», он заявил, что критики из этой среды в лучшем случае практиковали «иконоборческий конформизм» и неизбежно подчинялись незыблемым представлениям о том, кто есть кто. Показательным было отсутствие отзывов на блистательный роман Соколова «Между собакой и волком», сказал Цветков, хотя он вышел больше года назад. Он заклеймил литературоведов, предпочитавших литературу, напрямую связанную с советскими политическими обстоятельствами, и привел ряд иронических примеров того, что западная аудитория отчасти грешит тем же самым: когда Бродского позвали на популярное ток-шоу, ведущий говорил с ним не о его стихах, а о суде над ним; западный обозреватель отмечал, что стиль, которым написана «Школа для дураков» Соколова, отличается от стиля «"другого блестящего изгнанника", Солженицына, [как будто] вся нонконформистская русская литература, в той или иной степени, ориентируется на него. <...> Как бы выглядело, если бы русский рецензент объявил, что стиль, скажем, Джона Апдайка вовсе не похож на стиль Хемингуэя?»[54] В случае с Бродским очевидная ирония заключается в том, что у него была мировая слава лучшего русского поэта второй половины ХХ века, демонстрировавшего силу поэзии именно как поэзии.
Вместо того чтобы отвечать Цветкову по существу, писатели старшего поколения, бывшие членами Союза советских писателей, перешли на личности: Цветков говорил, что ССП обеспечивал своим членам «готовую» славу на Западе, в особенности в случае изгнания из него, и что некоторые из них производили «второразрядную продукцию»; в пример он привел Коржавина, которого стали защищать Гладилин и Войнович, подтвердив правоту слов Цветкова об инцестуальной атмосфере в литературной диаспоре. В конечном счете участники конференции не обсуждали то, что Бродский назвал «метафизикой изгнания», а выясняли отношения и концентрировались на политике в жизни диаспоры.
Из эмигрантских сочинений больше всего внимания (в основном сочувственного) со стороны литературоведов привлек роман Лимонова «Это я — Эдичка»; на заключительных прениях автор поблагодарил всех за то, что ему «на этой конференции оказали незаслуженное, непропорциональное. внимание». При этом Лимонов дерзко отказался от своего места в русской литературе: «Я <... > не хочу быть русским писателем, не хочу заключить себя в унылое литературное гетто. <...> Быть в наше время русским писателем очень трудно. Потому что русскую литературу норовят использовать все, кому не лень. Используют ее здесь на Западе, используют ее в России. Быть русским писателем — значит оказаться между двух гигантских жерновов — России и Запада». Соколова, Цветкова, Юрия Милославского и себя Лимонов назвал представителями «русской литературы вне политики (курсив Лимонова. — О.М.): «Нас трудно использовать и с той, и с другой стороны. Ну как, скажите мне, использовать прозу Соколова в интересах геополитической борьбы двух великих держав?»[55] Знал бы Лимонов, что через пятнадцать лет будет выступать именно с политических позиций!
Несмотря на художественную значимость Соколова, ему было уделено значительно меньше внимания — скорее всего, потому, что его проза действительно вне политики. В спорах он не участвовал, на одном из «круглых столов» был готов уступить свои пять минут Науму Коржавину, который всякий раз просил себе больше времени. В своем выступлении Соколов сказал, что его волнуют прежде всего литературное слово и вопросы повествования. Это подтвердил Дон Джонсон, делавший доклад о «Между собакой и волком»: «Художественность у него замкнута на себе самой, очищена, а затем очищена еще раз — до еще большей чистоты». Соколов, впрочем, отдал дань политике, рассказав в своем витиевато-ироническом стиле об очередном допросе на американо-канадской границе[56]: «У нас заходит душещемительная беседа на предмет сердечной привязанности. В Канаде, говоришь, родился? А пишешь, говоришь, по-русски? А сердце, говоришь, — где? Мое сердце — летучая мышь, днем висящая над пучиной кишечной полости, а ночью вылетающая сосать удалую кровь допризывников с целью ослабления ваших вооруженных сил, сэр». Распри в эмигрантской среде он свел к «безобразию сплетен об истине. <...> На улице неотложных вопросов — праздник и ярмарка. В балагане политики, идеологии и тщеславия, где витийствуют околоведы и вещают пророки — полный сбор. Главный номер программы: пара коверных с брандспойтами обдает умиленную публику густопсовой дресней, а потом вся в белом на белом коне на арену выезжает сама Посредственность. Спешите видеть»[57].
Два рассказа Довлатова, опубликованные незадолго до конференции в престижном журнале «Нью-Йоркер», придали вес его докладу о том, как печататься на Западе. Конференцию и себя как ее участника он иронически описал в «Филиале», а в коротком рассказе о ней назвал Аксенова кумиром своей юности — правда, с легкой иронией, направленной и на себя самого. На конференции русские говорили по-русски, американцы — по-английски. Не владевшим одним из рабочих языков (у Довлатова, например, английский был плохой) синхронно переводили переводчицы из ООН и Госдепартамента. Предлагались наушники и слушателям. Их в первый день было свыше 400 человек; многие прибыли издалека, что помогло писателям хотя бы на некоторое время избавиться от ощущения своей «маргинальности».
НОВЕЛЛИЗАЦИЯ ДИАСПОРЫ
В том, что писал о нью-йоркской русской диаспоре Довлатов («Иностранка»), было типичное для него сочетание легкой иронии с юмором, нравившееся его читателям-эмигрантам и ничем не грозившее их самоощущению. Совсем другое дело — скандальный роман «Это я — Эдичка», в котором диаспоральная идентичность была представлена посредством нарушения литературных и других табу. Нечего и говорить, что сцена гомосексуальной связи в ночном Нью-Йорке тех же самых читателей шокировала. Если Довлатов был осторожен в изображении эмигрантской травмы перемещенности, то Лимонов действовал противоположным образом, выставляя напоказ бесстыдное самоутверждение и сексуальные похождения своего героя, о которых рассказывал от первого лица в манере, которую я назвала «поэтикой раздражения»[58]: главное в ней — раздражающе самовлюбленный, резкий и вместе с тем жалобный голос рассказчика. Не менее существенной причиной неприятия романа «Это я — Эдичка» были выраженные в нем неинтеллигентские, даже антиинтеллигентские, взгляды: вместо того чтобы присоединиться к антисоветски настроенному эмигрантскому сообществу, Эдичка ищет новой политической идентичности среди нью-йоркских маргиналов- троцкистов и чернокожих бродяг, сочувствия у эмигрантов не вызывавших. Их также задел чуждый им индивидуализм героя, который тот предпочитает привычной для них диаспорической идентичности.
Роман может читаться как иронический отклик на доэмигрантскую ироикомическую фантазию Лимонова «Мы — национальный герой», в которой одержимый манией величия, иронически изображенный русский национальный поэт и герой покоряет Запад. Одна из пространственных траекторий в «Эдичке» — падение героя с воображаемого пьедестала, воздвигнутого в прозаической поэме, на социоэкономическое дно принявшей его страны, выразившееся в утрате языка, статуса и предмета любви (жена героя уходит от него в мир богатых и знаменитых). Подобно герою романа Ральфа Эллисона «Человек-невидимка»[59], Эдичка превращается в невидимый (по Юлии Кристевой — «отброшенный», или абъектный) субъект, чей нарциссический кризис развивается в декорациях Нью-Йорка, локусе невероятного богатства, а также нищеты и расовой напряженности на социальной периферии города, с жертвами которых отождествляет себя герой; человек улицы, он бесконечно бродит по Нью-Йорку, зачастую — без всякой цели, «опространствляя» свой иммигрантский опыт.
Экзистенциальный локус промежуточности в романе выражен также в гендерной неопределенности героя, явленной в гомосексуальном эпизоде, состоявшемся в таинственном нью-йоркском «нигде», a травматическая утрата языка передается остранением. Помещая поэта-неудачника в неустойчивое диаспорическое междупространство, Лимонов изображает языковую неуверенность своего субъекта-иммигранта посредством наложения английского языка на русский, создающего языковой гибрид, который напоминает непрестижный пиджин. Эпилог романа открывается метаописанием приема двойной экспозиции как демонстрации разрыва между мифологизированной «американской мечтой» и жизнью Эдички на пособие. Герой приносит в свое бедное жилище глянцевый журнал о роскошной американской жизни, чтобы изучать по нему английский язык: «"Вы имеете длинный жаркий день вокруг бассейна и вы склонны, готовы иметь ваш обычный любимый напиток. Но сегодня вы чувствуете желание заколебаться. Итак, вы делаете кое-что другое. Вы имеете Кампари и оранджус взамен..."»[60]. Таков буквальный перевод рекламы престижного напитка кампари. Жизнь преуспевающих американцев, чье благополучие подчеркивается грамматически неправильным русским «иметь», доступна ему только на словесном уровне.
Бродский «по-диаспорически» определил родной язык как меч, щит и капсулу[61], Лимонов же поступил радикально иным образом, подав его через утрату без обретения-компенсации. Нет нужды и указывать на то, как резко его нескладный языковой палимпсест отличается от знаменитой своим изяществом двойной экспозиции русского и английского у Владимира Набокова, отражавшей элитарное двуязычие. Его двуязычная игра была доступна лишь тем, кто не только уверенно владел обоими языками, но и понимал скрытые тонкости этой двойной экспозиции. В «Это я — Эдичка» диаспори- ческая идентичность изображена в иммигрантском ракурсе, а не с позиции эмигранта, ощущающего себя изгнанником, чью тайну знают лишь немногие избранные, а состоит она в том, что он «вписал» свой родной язык в язык своего новоприобретенного пристанища.
ДИАСПОРА: ДРУГИЕ ТЕЛА И СКАНДАЛ
Снова взглянем на Синявского как на путеводную звезду: он не только придумал не убоявшегося опасностей тайного пересечения границ Терца, но и применил творческие силы Терца к остранению советской жизни через вселение в чужое тело. Речь о рассказе «Пхенц», в названии которого прочитывается «Терц». Изгнанник с другой планеты, Пхенц скрывает свое чудовищное растениеобразное тело (напоминающее кактус, но нуждающееся в огромном количестве воды) от обитателей его нового дома. Наглядное воплощение отличия, его тело — символ инакомыслия как чудовищной потусторонности. Герой стилистически изысканной «Палисандрии» Соколова, романа, представляющего собой пир интертекстуальности[62], напоминает в том числе Пхенца — как и он, физически «чудовищный» герой этой книги проводит много времени в ванне с водой. Его символ отличия — гермафродитизм. Этот пародийный и решительно постмодернистский роман транснационален, география в нем подвижна: от иронически поданного воображаемого Запада — к столь же иронически поданному воображаемому отечеству[63].
Несмотря на то что знатоки считают «Между собакой и волком» лучшим романом Соколова, он практически не был замечен эмигрантской критикой, не говоря о западной (кроме славистской): на иностранные языки он не переводился. Предположу, что усилившееся ощущение своей «невидимости» как писателя после успеха «Школы для дураков» сыграло роль в принятии Соколовым решения обыграть традиционное для диаспоры письмо, спародировав жанр политически и социально ангажированной литературы свидетельства. «Палисандрия», написанная как бы в будущем (в 2044 году), — это псевдовоспоминания человека из Кремля, изгнанного из круга элиты. Его состояние иронически называется и «изгнанием», и «посланием» (отсылка к знаменитой максиме Берберовой); второе переосмыслено как воссоединение диаспоры с отечеством (намек на «Остров Крым»). Время-история изображено в романе как изгнание из представленной идиллически советской истории в состояние, названное «безвременьем». Переживание Палисандром времени можно сравнить с тем анахронистическим представлением об истории, которое было у первой диаспоры, с ее ощущением «выброшенности» из истории отечества. Называя дежавю словом «ужебыло», Палисандр подразумевает, что после его изгнания история прекратилось. Он ждет конца ее повторений: «И однажды наступит час, когда все многократно воспроизведенные дежавю со всеми их вариациями сольются за глубиной перспективы в единое ужебыло»[64]. Ужебыло отсылает ко времени, дежавю, этимологически, — к зрению (уже виденное; это отсылка дополняется «перспективой»); в этой фразе они соединяются: время и пространство становятся одним. Если говорить о желании преодолеть время и пространство, то роман свидетельствует о желании Соколова преодолеть литературу о советской истории, поместив своего героя в постмодернистское пространство по ту сторону истории.
Иронически описанные в куртуазном, или декадентском, fin de siecle-стиле, «геронтологические» сексуальные излишества героя напоминают (по контрасту) о педофилии Гумберта Гумберта из набоковской «Лолиты», одного из интертекстов «Палисандрии». Они также метят в «Эдичку», которого Палисандр по части сексуальных приключений обходит. Соколов сам обозначил автора «Эдички» как объект иронической пародии, поселив Палисандра в одном из его бесконечных путешествий на Rue des Archives (один из парижских адресов Лимонова). Стремясь затмить скандальную славу «Эдички», Соколов изобразил все возможные виды, чтобы не сказать — перформансы, сексуальности своего героя: от инцестуальной, садомазохистской, трансвеститской и гомоэротической — до некрофилии и проституции, а также его беременность и аборт. Гермафродитизм Палисандра определенно оставляет позади гомосексуальные связи Эдички; если истолковывать неустойчивую сексуальную идентичность Эдички в терминах теории гендерной перформативности Джудит Батлер[65], основанной на нарушении социосим- волической бинарности и выходе за ее пределы, туда, где нет ничего определенного, то Палисандр и тут оставляет Эдичку позади. Главное, впрочем, то, что Соколов превзошел Лимонова в изображении психологического кризиса, с блеском переместив его в пространство постмодернистской игры.
Наверное, самым необыкновенным ходом Соколова, сделанным для того, чтобы превзойти современников из диаспоры, было создание своего героя гермафродитом, древним символом полноты и самодостаточности. Потенциальную способность гермафродита к наслаждению, сексуальной и политической власти, а также к остранению через грамматический род мифический герой «Палисандрии» использует полностью.
Существенно, что о его чудовищном теле читатель узнает лишь в конце романа, что может быть связано в том числе со страхами мигранта, относящимися к адаптации и инаковости[66]. Подобно тому, как гибридное тело Пхенца сохраняется в тайне в пространстве изгнания, гибридное тело Палисандра содержится в тайне в его отечестве, пародируя засекреченность советской истории; по иронии автора, эту тайну знают не только родители Палисандра, но и Берия со Сталиным, который является для героя одной из родительских фигур в кремлевской идиллии. В изгнании эту тайну раскрывает не кто иной, как Карл Юнг, считавший гермафродита «символом творческого союза противоположностей, [который, несмотря на свою чудовищность, означает] разрешение конфликта и исцеление»[67]. Перефразирую Бродского: транссексуальное тело Палисандра, символизирующее промежуточность, становится и щитом, и мечом, являя собой инструмент преодоления травмы изгнания.
Повествование в этом романе, имитирующем воспоминания, ведется от первого лица. Оно, как приличествует «гермафродитическому» случаю, в конце переходит в средний род, изображая трансгендерность изгнания: «Свершилось — бита и эта карта. Отныне пусть ведают все: я — Палисандро, оригинальное и прелестное дитя человеческое, homo sapiens промежуточного звена, и я горжусь сим высоким званием. <...> Я никогда не страшилось и не страшусь профанации, т. к. образ по-настоящему честного человека настолько высок, что снизить его никому не удастся. И я говорю Вам, Биограф, со всей настоятельностью: "Человечество должно знать суровую правду: я было гермафродитом!" Нет, я не эксгибиционист, любезнейший, как меня, вероятно, трактуют иные ваши хронографы от порнографии; я, скорее, действительно интроверто. Но я хочу — претендую — дерзаю быть тем единственным, кажется, лидером нашей злосчастной эпохи, который всегда и во всех обстоятельствах оставался предан исторической истине — душою и телом. И я хочу быть уверен, что осознание Вами моей двуполости и изучение связанных с нею особенностей моего правления и личного экзистенса не пройдут под грифом "секретно"»[68].
Скандальность как результат нарушения социальных, политических и прочих границ, о котором не раз говорилось в этой статье, — инструмент рекламы. Своим международным успехом Набоков был обязан скандальному успеху «Лолиты». В третьей диаспоре обеспечиваемая скандальностью реклама помогала писателю справиться со страхом невидимости. Лимонов понимал «производственные» отношения между скандальностью и признанием лучше всех своих современников из Третьей волны. В «Палисандрии», ответе на «Эдичку», скандальность имеет пародийный характер, но в то же время Соколов заигрывает с ней ради ее рекламного потенциала; впрочем, поиск скандального успеха спрятан в тексте за беспрестанной словесной игрой и лабиринтообразной структурой.
Реклама, обеспечиваемая нравственным возмущением в отношении советских репрессивных практик (тут лучший пример — Солженицын, которому она принесла мировую известность), связана с совершенно другим типом скандальности. «Архипелаг ГУЛАГ» произвел эффект разорвавшейся бомбы (первые два тома были опубликованы сразу перед изгнанием Солженицына из страны). Джордж Кеннан, игравший важную роль в политике сдерживания во время холодной войны, назвал эту вещь «величайшим и сильнейшим обвинением политического режима, брошенным в современную эпоху»[69]. «Моральной» целью скандальности является изменение того, на что она направлена; главной задачей Солженицына было внедрить в коллективное бессознательное возмущение и ужас перед советской историей. В этом он видел свою нравственную миссию, ощущая себя в долгу перед другими уцелевшими в ГУЛАГе, перед теми, кто там погиб, и перед грядущими поколениями. При том что «Архипелаг ГУЛАГ» также сыграл роль в окончательном отходе большинства западных левых от коммунизма, он возмутил многих марксистов (особенно во Франции), которые отделяли Ленина от Сталина и считали сталинизм аберрацией.
Наконец, писатели постарше в основном предпочитали описанию своего транснационального опыта и осмыслению диаспорической промежуточности сосредоточенность на отечестве. Написанное Солженицыным об ужасах советской истории, представляя огромный интерес для Запада, было все же обращено к своим — как и его ностальгическая идеализация дореволюционного прошлого и заявления о культурном своеобразии России. Ее отличие от остального мира подчеркивала большая часть писателей из диаспоры, наследуя, так сказать, великой традиции Гоголя, Достоевского и Толстого. Оно стало предметом книги Синявского «Основы советской цивилизации», в основу которой лег курс лекций, прочитанный им в Сорбонне по-русски: овладеть французским Синявский не пожелал. Тем не менее эта книга, вышедшая сперва французским изданием и затем переведенная на немецкий и английский, предназначалась для западной аудитории. В предисловии Синявский пишет, что «[советская цивилизация] порою даже людьми, которые выросли в ее недрах и являются, по сути, ее детьми, воспринимается как чудовищное образование, как нашествие марсиан, к которым мы сами, однако, уже принадлежим». История этого образования его не занимает; он пытается понять советскую цивилизацию через «символы, остающиеся величавым памятником эпохи», определившие собой ее метафизику. В пику Солженицыну (что и понятно), Синявский цитирует в этой связи Троцкого, которого называет «пока что непревзойденным историком русской революции»; революция же, по Троцкому, — «самая великая мастерица символов»[70]. Целью Синявского было познакомить тех, кто к этой цивилизации не принадлежал, с ее причудливой инаковостью.
В послесловии (к американскому изданию) Синявский выражал надежду на перестройку — с, я бы сказала, иронически-эксцентрической русской национальной гордостью: «Подумать только: вот была моя страна, где десятилетиями ничего не случалось, где один день было не отличить от другого и можно было загадывать на годы и километры вперед. <...> И вдруг эта страна не знает, что случится на следующей неделе. И весь мир не знает. Мы, русские, снова в авангарде, снова — самое интересное явление на свете, интересное, не побоюсь сказать, в художественном смысле: как роман с никому не известным финалом»[71]. Возможно, эти соображения и чувства принадлежали не столько Синявскому, сколько Терцу.
Исключением был Аксенов, изначально питавший симпатию к американским популярной культуре и культуре потребления, к идеям сближения Востока с Западом и культурного их слияния. Как и в «Острове Крым», в романе «Бумажный пейзаж» (о советской и американской бюрократиях) давался неудачный пример сближения. Но потом Аксенов написал «В поисках грустного бэби» (название отсылает к популярной песне), в котором проявилась ностальгия по «американской мечте» его юности. Еще важнее то, что эта вещь представляла собой попытку укорениться в американской культуре и добраться как до американской аудитории, так и до русской: она была издана одновременно (в 1987 году) по-английски и по-русски. Неудивительно, что существенная критика в адрес Соединенных Штатов в нем относилась лишь к левацкой ориентации их либеральной элиты и тех, кто находился под ее влиянием. В этом отношении Аксенов напоминал представителей фракции Солженицына—Максимова — с той разницей, что в его взглядах не было озлобленности и «тоталитарной» установки. Вне зависимости от того, удалась ему повесть об Америке или нет, она была попыткой передать состояние диаспорической промежуточности в типичной для Аксенова иронической, игровой манере.
Литературовед и культуролог Михаил Эпштейн, уехавший из Советского Союза в 1990 году, осознавал жизнь в диаспоре и диаспорическую идентичность в терминах обретения, а не утраты: «Изгнание и послание — это однонаправленное движение из одной точки в другую. Теперь, когда оба направления открыты и можно двигаться туда и сюда, — важна именно интенсивность проживания здесь и сейчас, на пороге двух культур. <...> Жизнь вдвойне — вот как можно это назвать: на пороге двойного бытия вдвойне заостряются все переживания цветов, звуков, запахов, голосов, языков, <... > наша двойная жизнь, которая сродни искусству в том, что остраняет вещи, заставляет увидеть их впервые. Наша иностранность — это и есть способ остранения, сама заграничная жизнь как прием. <...> Двукультурие — это условие свободы от обеих культур, возможность более глубокого вхождения в каждую из них»[72]. Возможно, основной причиной того, что Эпштейн воспринимал диаспорическое существование в контексте обретения без утраты, была именно свобода передвижения между отечеством и диаспорой, обеспеченная падением Советского Союза. Отсюда — другое представление об остранении, возникшее в связи с этой переменой: оно больше не означает отчуждение от нового пристанища, а дает возможность полнее ощутить состояние промежуточности.
Когда я писала эту статью, я смогла полностью оценить вклад Синявского в постсталинскую русскую литературу и культуру, породивший такое множество литературных и культурных практик как в отечестве, так и за границей, как в его время, так и в будущем. Тут я не стану выяснять, почему его значение кажется недооцененным, но вопрос этот существует. Среди осознававших важность фигуры Синявского был Александр Эткинд, хорошо написавший о его теории метафоры; особое внимание он обратил на образы чудовищного и точно отметил присущее Синявскому тонкое понимание опасности, которой грозит перетекание метафорического чудовищного в жизнь[73]. Я бы добавила, что в разграничении художественного воздействия чудовищного и его чудовищного воздействия в жизни можно увидеть очередной пример защиты литературы от жизни, которой он был озабочен всегда.
В заключение приведу пример чудовищного «черезграничного» языка жестов из доклада под названием «"Я" и "Они"», прочитанного Синявским на симпозиуме в Швейцарии (XXV-es Rencontres de Geneve) на тему «Общение и одиночество» в 1975 году. Среди участников были Жан Старобинский, ведущий специалист по Руссо, Жорж Баландье, видный социолог постколониализма, Джордж Стайнер, известный литературовед и автор противоречивой повести о Холокосте, и Макс Поль Фуше — публичная фигура, интеллектуал, художественный критик и телезвезда; все они высказывались на заданную тему довольно абстрактно. Синявский говорил о крайних случаях тюремной коммуникации, которым он был свидетелем и которые он определил как проявления «последнего, тотального языка» тела, речи, строящейся «наподобие своеобразного спектакля, который разыгрывается перед охраной, перед начальством, перед сидящими здесь же в камере другими арестантами, либо — более отвлеченно — перед всем светом»: заказав себе вино с мороженым, чтобы отметить со своим сокамерником Новый год, зэк «берет железную тюремную кружку и вместо крема вводит туда сперму. Затем вскрывает себе вену и заливает мороженое вином. И оба — с праздником, с Новым Годом. Осмелюсь спросить: что это такое? И осмелюсь ответить: искусство. Искусство и более того — в некотором роде мифотворчество»[74]в соборе-тюрьме ХХ века. Этот театральный перформанс Синявский называет «экспериментом» с языком тела — единственным языком, доступным зэку. Доклад заканчивается в пространстве возвышенного — группа заключенных-«пятидесятников» молится в бане, и этот «перформанс» завершается ангельской глоссолалией: «…они возглашали, они говорили всему миру — сразу на всех языках, — что значит общение в условиях одиночества»[75]. Это общение, по Синявскому, — вид лагерного искусства, а возвышенное тут сродни Богу в «Что такое социалистический реализм»: «Утрачивая веру, мы не утеряли восторга перед происходящими на наших глазах метаморфозами бога, перед чудовищной перистальтикой его кишок — мозговых извилин»[76].
Перевод с английского Дмитрия Харитонова
[1] Бобышев Д. Последний мамонт. Встречи и разговоры с Игорем Чинновым //http://www.thetimejoint.com/taxonomy/term/3097.
[2] Бродский И. Меньше единицы // Бродский И. Сочинения. СПб.: Пушкинский фонд, 1999. Т. 5. С. 25.
[3] Бродский И. Состояние, которое мы называем изгнанием, или Попутного ретро // Бродский И. Указ. соч. 2000. Т. 6. С. 35.
[4] См.: Clifford J. Diasporas // Cultural Anthropology. 1994. Vol. 9. № 3. P. 305.
[5] Берберова Н. Лирическая поэма // Современные записки. 1927. № 30. С. 230.
[6] Boym S. Future of Nostalgia. N. Y.: Basic Books, 2008. Р. xvi.
[7] Бродский И. Состояние, которое мы называем изгнанием. С. 33.
[8] Терц А. Спокойной ночи. Париж: Синтаксис, 1984. С. 389— 390.
[9] См.: Hutcheon L. Irony, Nostalgia, and the Postmodern // Methods for the Study of Literature as Cultural Memory / Ed. by Raymond Vervliet, Annemarie Estor. Amsterdam: Ro- dopi, 1997.
[10] См.: Guesnet F. Russian-Jewish Cultural Retention in Early Twentieth Century Western Europe: Contents and Theoretical Implications // The Russian Jewsih Diaspora and European Culture, 1917—1937 / Ed. by Jorg Schulte, Olga Tabachnikova, Peter Wagstaff. Leiden: Brill, 2012. P. 4. Космополитизмом можно назвать «безгражданственность» старой эмиграции, явленную в нансеновском паспорте — удостоверении личности, полученном большей частью членов диаспоры (они начали их брать в 1921 году); само собой, поехать с ним в Россию они не могли (см.: Lettval R. Cosmopolitanism in Practice: Perspectives on the Nansen Passports // East European Diasporas: Migration and Cosmopolitanism / Ed. by Ul- rike Ziemer, Sear R. Roberts. Routledge, 2012. P. 13—15).
[11] Foucault М. Of Other Spaces // Diacrtics. 1986. № 16. Vol. 1. P. 22.
[12] См.: Soja Е. Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory. New York: Verso, 1989.
[13] См.: Georgiou М. Identity, Space and the Media: Thinking through Diaspora // Revue Europeenes des Migrations Internationales. 2010. Vol. 26. № 1. P. 20.
[14] Струве Г. Русская литература в изгнании. Paris: YMCA Press, 1984. С. 7. Сопоставляя друг с другом советскую и зарубежную литературы с точки зрения их значимости, Струве обнаружил свои староэмигрантские предпочтения, заявив, что, когда они сойдутся в единый поток, вторая будет играть более важную роль в процессе взаимного обогащения.
[15] Терц А. Литературный процесс в России // Синявский А. / Терц А. Литературный процесс в России. М.: РГГУ, 2003. С. 178. Статья была впервые опубликована в первом номере «Континента» (1974).
[16] Там же. С. 180.
[17] В письме к своему другу Жану де Гэньерону Пруст пишет о своем замысле «строить» «В поисках утраченного времени» как собор (см.: Leonard D.R. Ruskin and the Cathedral of Lost Souls // The Cambridge Companion to Proust / Ed. by Richard Bates. Cambridge: Cambridge University Press: 2001. P. 52—53).
[18] Терц А. Спокойной ночи. С. 40.
[19] Синявский А. Пространство прозы // Синтаксис. 1988. №21. С. 27.
[20] Georgiou М. Identity, Space and the Media: Thinking through Diaspora. Р. 21.
[21] В 1975 году Аксенов послал мне рукопись «Ожога» австрийской дипломатической почтой; у нас был пароль для передачи рукописи издателю. Он, что неудивительно, был игровой и взялся из американской популярной культуры: сигналом к публикации служило знаменитое прозвище Франка Синатры «Ol' Blue Eyes».
[22] См. подборку статей: Анн-Арбор в русской литературе // Новое литературное обозрение. 2014. № 125 (1). С. 120— 204, в особенности: Липовецкий М. «Ардис» и современная русская литература: тридцать лет спустя.
[23] См.: Matich О. Vasilii Aksenov and the Literature of Convergence: Ostrov Krym as Self-Criticism // Slavic Review. 1986. Vol. 47. № 4.
[24] См.: Sorokin Р. Russia and the United States. N. Y.: E.P. Dut- ton and Company, 1944. В 1960 году он написал статью «Взаимная конвергенция Соединенных Штатов и СССР в смешаный социокультурный тип», вызвавшую на Западе некоторую полемику.
[25] Аннексия Крыма Россией состоялась, когда я писала эту статью. Одна из поразительных параллелей между этим событием и романом Аксенова — слова «куратора Крыма» Марлена Кузенкова: «Что касается Запада, то в стратегических планах НАТО Крыму сейчас уже не отводится серьезного места, но тем не менее действия натовских разведок говорят o пристальном внимании к Острову как к возможному очагу дестабилизации. Словом, по моему мнению, если бы в данный момент провести соответствующий референдум, то не менее 70 процентов населения высказалось бы за вхождение в СССР» (Аксенов В. Остров Крым. Ann Arbor: Ardis, 1981. C. 232). Сам Крым действительно Запад не интересует, но о теперешнем «крымском вопросе» этого сказать нельзя. Удивительным образом, в «Острове Крым» предсказывается «воссоединение» — к тому же председателем Совета министров Республики Крым стал Сергей Аксенов, однофамилец автора романа.
[26] Своим консервативным русским языком первая диаспора также обязана писателям старшего поколения, которые, если обобщать, были реалистами и поэтами-«нефутури- стами»: представители литературного авангарда в основном остались в России.
[27] Терц А. Литературный процесс в России. С. 200.
[28] Гуль Р. Прогулки хама с Пушкиным // Новый журнал. 1976. № 124. C. 117—122. По иронии случая, в 1966 году Гуль дал положительный отзыв на «Мысли врасплох», в которых он — возможно, первым — увидел влияние Розанова.
[29] Солженицын А. Колеблет твой треножник // Вестник РХД. 1984. № 142. С. 152.
[30] Терц А. Что такое социалистический реализм // Синявский А. / Терц А. Литературный процесс в России. С. 164.
[31] Hutcheon L. Irony, Nostalgia, and the Postmodern // Methods for the Study of Literature as Cultural Memory / Ed. by Raymond Vervliet, Annemarie Estor. Amsterdam; Atlanta, Georgia: Rodopi, 2000. P. 199.
[32] Терц А. Прогулки с Пушкиным / Терц А. Собр. соч.: В 2 т. М.: Старт, 1992. Т. 1. С. 436.
[33] Эпштейн М. Синявский как мыслитель // Синтаксис. 1998. № 36. С. 87—91.
[34] Гройс Б. Стиль Сталин. Утопия и обмен. М.: Знак, 1993. С. 32.
[35] В предисловии к изданию 2003 года Гройс обратился к своим критикам, написав, что «темой этой книги является не столько история советской реальности, сколько история советского воображения» и что его представление о Сталине как о художнике и об авангарде как о предшественнике социалистического реализма имеет отношение не к ужасам сталинизма, а к эпистемологии эстетических программ, предполагавших создание нового мира посредством нового языка.
[36] Гройс Б. Стиль Сталин. С. 95.
[37] Синявский А. Сталин — герой и художник сталинской эпохи // Синтаксис. 1987. № 19. С. 123.
[38] Бродский И. Состояние, которое мы называем изгнанием. С. 30.
[39] Эта связь укреплялась участием в номере православного богослова и священника Александра Шмемана и архиепископа Сан-Францисского Иоанна (Шаховского; он также писал стихи под псевдонимом Странник).
[40] Я не хочу сказать, что Солженицын с Максимовым вовсе не расходились во взглядах, но против Синявского с его когортой они выступали единым фронтом.
[41] Максимов В. Сага о носорогах // Континент. 1979. № 19. С. 39.
[42] Эткинд был дружен с Солженицыным; в Советском Союзе он прятал некоторые его рукописи и помогал ему собирать материал для «Архипелага ГУЛАГ».
[43] Эткинд Е. Наука ненависти // Синтаксис. 1979. № 5. С. 47—48.
[44] Копелев Л. Советский литератор на Диком Западе // Синтаксис. 1979. № 5. С. 160.
[45] Солженицын А.И. Наши плюралисты // Вестник РХД. 1983. № 139. С. 158.
[46] О взаимоотношениях «Континента» и «Синтаксиса» см.: Скарлыгина Е.Ю. «Континент» и «Синтаксис»: К истории конфликта // От Кибирова до Пушкина: Сборник в честь 60-летия Н.А. Богомолова. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 550—568.
[47] Другой пример — Е.Г. Эткинд, которому Максимов инкриминировал сотрудничество с органами.
[48] Милош был членом редколлегии «Континента». Александр Зиновьев, ответивший уклончиво, в итоге тоже не приехал, но на его решение Максимов не влиял. Многие неприглашенные писатели и журналисты, наоборот, просили приглашения — прямо или через посредников, в том числе своих жен.
[49] Еще Аксенову с той же целью звонил Эрнст Неизвестный, заодно сообщивший ему (со слов того же Максимова), что я, вероятно, сотрудник то ли КГБ, то ли ЦРУ — не помню.
[50] Письма Максимова Аксенову. Из архива Василия Аксенова // Вокруг калифорнийской конференции по русской литературе // Вопросы литературы. 2013. № 3 (http:// ebiblioteka.ru/browse/doc/35262802). Также Максимов пишет: «Разумеется, Ваш покорный слуга был приглашен на эти сомнительные литигры только в качестве редактора одного из эмигрантских журналов вкупе с Николаем Боковым и Марией Розановой. Это уж, дорогой Вася, слишком!.. <...> Поэтому я вправе считать приглашение, посланное мне, если не подлой провокацией, то, во всяком случае, оскорбительным вызовом...» (Там же).
[51] Еженедельник «Новый американец» возник в противовес «Новому русскому слову», главным редактором которого бы Андрей Седых; он видел в новой газете конкурента и поэтому с ней боролся. 28 апреля 1981 года Седых опубликовал в своей газете отповедь конференции под названием «Кому это нужно?». Статья объемом в полполосы стала ответом на мое приглашение участвовать в конференции от 15 апреля (письмо он цитирует); кроме обиды на то, что его не пригласили раньше, и удивления тому, что вместо «НРС» и «Русской мысли» на конференции будет представлен еженедельник (имелся в виду, но не назывался «Новый американец»), Седых высказывал мысль о единстве всех волн эмиграции.
[52] Синявский А. Две литературы или одна? // The Third Wave: Russian Literature in Emigration / Ed. by Olga Matich and Michael Heim. Ann Arbor: Ardis, 1984. P. 23—30.
[53] Когда этот доклад обсуждался, Некрасов заявил, что «нельзя придумать позорнее названия, чем "промежуточная литература"». Роль представителя «Континента» (заместителя Максимова и проводника его политики) он выполнял скорее как плюралист, не раз позволив себе критиковать редакторскую практику журнала. В этом отношении Максимову не повезло.
[54] Цветков А. По ту сторону Солженицына (Современная русская литература и западное литературоведение) // The Third Wave. P. 257.
[55] Лимонов Э. О себе // The Third Wave. Р. 219—220.
[56] Соколова всегда на ней допрашивали. Он родился в Канаде, но спустя три года его отец был разоблачен как советский шпион и был вынужден срочно вернуться с семьей в Москву. Полковник (впоследствии — генерал) Всеволод Соколов был одним из главных советских разведчиков, участвовавших в нашумевшем «Деле Гузенко» (1945), связанным с кражей американских ядерных секретов.
[57] Соколов С. О себе // The Third Wave. Р. 203—205.
[58] См.: Matich О. Eduard Limonovs Poetik der Verargerung // Zuruck aus der Zukunft: Osteuropaische Kulturen in Zeitalter des Postkommunismus / Hrsg. Boris Groys et al. Frankfurt: Suhrkamp, 2005.
[59] Matich O. The Moral Immoralist: Edward Limonov's Eto ja — Edicka (Forum: The Third Wave. Part 2) // Slavic and East European Journal. 1986. Vol. 30. № 4. P. 528. «Невидимка» (1952) — роман о чернокожем, чья «невидимость» определяется его происхождением, а самоидентификация (о которой повествуется от первого лица) сложилась под влиянием человека из подполья Достоевского. Это первый написанный чернокожим американцем роман, удостоенный Национальной книжной премии. «Записки из подполья» — один из интертекстов романа «Это я — Эдичка».
[60] Лимонов Э. Это я — Эдичка. М.: Глагол. 1990. С. 318.
[61] В эссе «Полторы комнаты» Бродский пишет, что, хотя и «не следует отождествлять государство с языком», английский как язык политической свободы больше подходит для запечатления памяти о его родителях, которым неоднократно отказывали в визе, нужной им для того, чтобы навестить сына; что хочет, чтобы «глаголы движения английского языка повторили их жесты. Это не воскресит их, но по крайней мере английская грамматика в состоянии послужить лучшим запасным выходом из печных труб государственного крематория, нежели русская. Писать о них по-русски значило бы только содействовать их неволе, их уничижению...» (Бродский И. Полторы комнаты // Бродский И. Указ. соч. Т. 5. С. 324).
[62] Об интертекстуальности в «Палисандрии» см.: Matich О. Sasha Sokolov's Palisandriia: History and Myth // Russian Review. 1986. Vol. 45. № 4; Zholkovsky А. The Stylistic Roots of Palisandriia // Canadian-American Slavic Studies. 1987. Vol. 21. № 3—4.
[63] Изгнанный кремлевский сирота Палисандр Дальберг триумфально возвращается в Россию, чтобы искупить грехи своего сообщества, вернув на родину прах знаменитых русских, похороненных за границей (пародия на староэмигрантский анахронический миф о возвращении).
[64] Соколов С. Палисандрия. Ann Arbor: Ardis, 1985. С. 263—264.
[65] См.: ButlerJ. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. N.Y.; L.: Routledge, 1990.
[66] См.: Trousdale R. Nabokov, Rushdie, and the Transnation Imagination: Novels of Exile and Alternative Worlds. N. Y.: Palgrave Macmillan, 2010. Р. 166.
[67] Jung С. The Archetypes of the Collective Unconscious. Princeton: Princeton University Press, 1969. Р. 174.
[68] Соколов С. Палисандрия. С. 269.
[69] Kennan G. Between Earth and Hell // New York Review of Books. 1974. March 21. P. 10.
[70] Синявский А. Основы советской цивилизации. М.: Аграф, 2001. С. 6.
[71] Sinyavsky А. Soviet Civilization: A Cultural History / Trans. by Joanne Turnbull with Nikolai Formozov. N. Y.: Arcade Publishing, 1990. Р. 273.
[72] Эпштейн М. Амероссия: Двукультурие и свобода. Речь при получении премии «Liberty» (2000) // Эпштейн М. Знак_пробела: О будущем гуманитарных наук. М.: Новое литературное обозрение, 2004. С. 816—817.
[73] Etkind А. Warped Mourning: Stories of the Undead in the Land of the Unburied. Stanford: Stanford University Press, 2013. Р. 124—127.
[74] Синявский А. «Я» и «Они» (О крайних формах общения в условиях одиночества) // Синявский А. / Терц А. Литературный процесс в России. С. 246.
[75] Синявский А. «Я» и «Они»... С. 255.
[76] Терц А. Что такое социалистический реализм. С. 175.
Опубликовано в журнале:
«НЛО» 2014, №3(127)
Разыгрывая «сообщество»: русскоязычные мигранты современной Британии
Энди Байфорд
Разыгрывая «сообщество»:
РУССКОЯЗЫЧНЫЕ МИГРАНТЫ СОВРЕМЕННОЙ БРИТАНИИ[*]
ВВЕДЕНИЕ
В начале 2000-х годов в Великобритании был отмечен значительный рост количества русскоговорящих мигрантов из постсоветского пространства[1]. Произошел он в результате ряда причин: расширившихся возможностей для миграции, предоставленных большинством бывших советских республик своим гражданам, расширения Европейского союза на восток, а также вследствие некоторых послаблений в иммиграционных правилах, принятых из экономических соображений лейбористским правительством Великобритании в 1997—2008 годах[2]. Несмотря на то что эта группа довольно однородна в лингвистическом отношении, русскоязычных мигрантов, о которых пойдет речь в статье, нелегко определить в терминах этнической, национальной или диаспоральной принадлежности. К этой группе относятся выходцы из различных стран постсоветского пространства, принадлежащие к разным «волнам» миграционного потока, да и в целом — это люди, весьма различающиеся по личным, профессиональным и социально-экономическим обстоятельствам миграции. Их этническая самоидентификация, лояльность родному государству, принадлежность к определенному поколению и способы выражения взаимной солидарности могут быть совершенно разными и меняться довольно легко в зависимости от их статуса и жизненных траекторий.
Определение «русскости» этой группы далеко не однозначно, так как по большому счету их идентификация с русским языком, культурой и историей указывает скорее на общее воспитание и происхождение из бывшей советской «империи», чем на этническую принадлежность или гражданство. Действительно, и термин «россияне», обозначающий «граждан Российской Федерации», и термин «русские», имеющий отношение к собственно этническому происхождению, являются слишком узкими и конкретными для того, чтобы применить любой из них к этой мигрантской группе в целом. Термин же «соотечественники», использованный российским правительством в рамках законодательства и программных документов в отношении «диаспоры», является еще более проблематичным из-за его крайне политизированного характера [Byford 2012; см. также: Мурадов 2007]. Чаще всего для этой категории мигрантов используется термин «русскоговорящие» (русскоязычные или руссофоны), так как она включает в себя — говоря нарочито неопределенно и политкорректно [Byford 2009] — гораздо более широкие и смешанные группы бывших советских граждан[3]. Не следует также забывать о влиянии, оказываемом внешней средой: под действием стереотипизированных форм взаимной культурной идентификации в прагматике повседневных взаимодействий феномен «русскости» этого мигрирующего населения невольно упрощается.
Вопрос существования и характера «сообщества» русскоязычных как отдельной мигрантской группы в Великобритании является одним из основных для единственного в своем роде полномасштабного этнографического исследования на эту тему, опубликованного на настоящий момент, — книги «Миграция с востока на запад» Хелен Копниной [Kopnina 2005][4]. Понятие «сообщество» многократно подвергалось критике за частое, порой противоречивое и непоследовательное использование [Suttles 1972; Anderson 1991; Cohen 1997; Delanty 2003]. Особенно проблематичным оказалось использование понятия «сообщество» одновременно как практической и аналитической категории. В подобном «смешении регистров» в работе по русскоязычным мигрантам в Великобритании можно уличить и саму Копнину. Изначально ее этнография фокусируется на упоминаниях и определениях «сообщества», производимых самими социальными субъектами. Анализируя их, она показывает, что в конце 1990-х годов русскоязычные мигранты о существовании большого«сообщества» в их рядах говорили весьма неуверенно, относясь к этой идее довольно скептически. Тем не менее впоследствии, пытаясь объективно описать подгруппы и субкультуры этих мигрантов, Копнина приходит к выводу, что на самом деле русскоязычные жители Великобритании формируют нечто, названное ею «субсообществами» (subcommunities), т.е. небольшие социальные сети, основанные на общности географического положения, проблем интеграции, интересов и обменных потоков. Соотношение же между, казалось бы, вполне реальными, объективно существующими «субсообществами» и довольно иллюзорным, существующим лишь умозрительно, более широким «сообществом» русскоговорящих мигрантов в Великобритании — тем, что я для удобства буду далее называть «большим сообществом» (community-at-large), — в аналитической схеме Копниной остается довольно неясным. Однако это не сильно влияет на ее этнографию в целом, поскольку рассматриваемые ею дискурсы трактуют это «большое сообщество» только как сомнительную гипотезу или, в лучшем случае, как многообещающий проект.
Выполненный Копниной анализ расплывчатых рассуждений о «сообществе» самих русскоязычных мигрантов [Kopnina 2005: 91—95], особенно когда речь заходит об их пояснениях относительно очевидной неудачи социальной и национальной солидарности между ними, отчасти не потерял своей актуальности [Байфорд 2009: 102—103][5]. Однако если учитывать, что полевая работа Копниной проходила в конце 1990-х годов, когда русскоговорящее население Великобритании было еще относительно немногочисленным, то можно сказать, что ее исследование еще не застало тот феномен, который во второй половине 2000-х годов стал настоящим бумом «сообщества» во всех видах его общественных проявлений. Действительно, ее вывод, что русское сообщество в Великобритании можно охарактеризовать как «невидимое» [Kopnina 2005: 83—84], уже устарел. По достижении определенной критической массы многие члены этой иммигрантской группы начали принимать самое активное участие в различных формах институциональной самоорганизации и (пере)опре- деления своей коллективной идентичности. В настоящее время значительное количество различного вида ресурсов вкладывается в театрализованное представление и разыгрывание «сообщества», сопровождаемое беспрецедентным подъемом уровня мобилизации и сценического таланта.
В статье рассматриваются некоторые из ключевых особенностей этой специфической деятельности современных русскоязычных мигрантов Великобритании. Используя различные источники данных, в том числе этнографическое включенное наблюдение, глубинные полуструктурированные интервью[6], русскоязычную мигрантскую прессу, а также некоторые интернет-материалы, я анализирую множество различных практик, дискурсов и идеологий «сообщества», появившихся у русскоязычных мигрантов современной Британии. В частности, я рассматриваю тот ритуал и сопутствующую ему риторику, через которые «большое сообщество» в указанном выше смысле социально и символически конструируется и деконструируется во время исполнения.
Уместность использования термина «исполнение» (performance) в этом контексте заключается в том, что он не подразумевает, что это «сообщество» обязательно основано или создано посредством социальных сетей или связей (например, базирующихся на материальном или символическом обмене), или уз социальной солидарности, или даже некоторой воображаемой коллективной идентичности, — все они видятся проблематичными при анализе проявлений «большого сообщества» у географически удаленных и социально разрозненных постсоветских русскоговорящих мигрантов, в данный момент живущих и работающих в Великобритании. Вместо этого понятие «исполнение» концептуализирует «сообщество» с точки зрения конкретных моментовтеатрального действа, игры и опыта, в рамках которых «сообщество» возникает в первую очередь как перформативный результат сложных случаев театрализованного (само)наблюдения.
Использование мной понятия «исполнение» опирается в этом смысле на целый ряд самостоятельных, но взаимосвязанных традиций. Во-первых, на теорию социального взаимодействия в драматургической социологии Ирвинга Гофмана [Goffman 1990] и антропологии ритуального действа Виктора Тернера [Turner 1987][7]. Во-вторых, мое понимание «исполнения» существенным образом базируется на понятии «перформативности», введенном Джоном Остином в его теории речевых актов [Austin 1975] и разработанном далее в русле постструктурализма (например, Жаком Деррида) и феминизма (например, Джудит Батлер). Подробнее о последней традиции можно прочесть, в частности, у Джеймса Локсли [Loxley 2007], а для более широкого изучения литературы по «перформативности», включая и другие традиции (например, по «искусству перформанса»), см.: [Carlson 2004].
Как станет ясно далее, разыгрывание «сообщества» среди русскоязычных мигрантов в Великобритании производится в первую очередь самими предполагаемыми членами этого «сообщества» для себя: они участвуют в них одновременно как драматурги, актеры и зрители, как постановщики, герои и интерпретаторы. В то же время эти спектакли неизменно разыгрываются среди и для «других» (в данном случае обычно для «коренного» населения Великобритании), во взаимодействии с которыми — зачастую в противопоставлении с ними, но и в их глазах — в этом разыгрывании возникает «сообщество». Этот «перформанс сообщества» я не рассматриваю как стилизованные миметические репрезентации уже существующего «сообщества» (либо фактического, либо воображаемого). Я также не рассматриваю такие представления как ритуализированные церемонии, работающие на укрепление солидарности и идентичности сообщества в процессе его «создания». Мой тезис заключается в том, что в данном контексте «сообщество» проявляется и приобретает свой смысл именно в процессе самого исполнения или, иными словами, что «сообщество» здесь и есть его «исполнение». И самое главное, о чем более чем ясно говорит онтологическое исследование перформативности (см., например: [Butler 1990]): это вовсе не означает, что «сообщество» есть просто «игра», банальное «притворство» или театральная «иллюзия».
ПРАЗДНИК «РУССКАЯ ЗИМА»: «СООБЩЕСТВО» КАК СПЕКТАКЛЬ
Образцовым примером такого перформативного зрелища «большого сообщества» «русских в Великобритании» может стать фестиваль «Русская зима», проводившийся ежегодно в конце 2000-х во второе воскресенье января на Трафальгарской площади в Лондоне[8]. Мой анализ основан на полевых наблюдениях, которые я вел на этом мероприятии в 2008 году. В целях обеспечения безопасности постановка этого фестиваля включала в себя организацию двухуровневого пространства для публики. «Внутренний круг» размещался в середине Трафальгарской площади, вокруг сцены, устроенной с более низкой, южной стороны площади. Вокруг «внутренней аудитории», отделенной невысокими металлическими барьерами, располагалось «внешнее пространство», предназначенное для прохожих, которые могли прогуливаться около «внутреннего круга» и любопытствовать, что происходит как внутри, так и на самой сцене, с возвышенной части площади на северной стороне, по соседству с Национальной галереей.
Аудитория «внутреннего круга» — это не простые зрители, но ключевая часть публично демонстрируемой «русской общины Великобритании». Барьеры, контролируемые охранниками, становились символическими границами этого «демонстрируемого сообщества»: принятие решения о том, чтобы пройти в центр площади (что можно было сделать совершенно бесплатно, только иногда приходилось отстоять небольшую очередь), означало ритуальное присоединение к сообществу или, если говорить точнее, включение в представление этого сообщества. На самом деле, конечно, «внутренняя» и «внешняя» аудитории смешивались, включали в себя как «русских», так и «британцев», представителей других национальностей, а также случайных туристов, хотя во «внутренней аудитории» «русские» обычно преобладали, особенно по мере приближения к сцене. Тем не менее такая градация, определявшая распределение ролей в этом разыгрывании «сообщества», была создана руководством самого мероприятия, а не объективной национальной принадлежностью или субъективными идентичностями собравшихся.
Самое главное заключалось в том, что в оцепленном пространстве «внутренняя аудитория» не просто наблюдала за выступлениями на сцене, но сама играла роль — изображала «сообщество» (под неустанные призывы к этому), поднимая флаги, подпевая и пританцовывая под русскую народную, поп- и рок-музыку, поглощая русские напитки и еду, а также активно общаясь с ведущими и исполнителями на сцене. Большая часть этого представления «сообщества» была задумана как демонстрация для Другого (в данном случае — для «внешней аудитории») и потому включала в качестве ключевых компонентов сценографии всего события легко узнаваемые, стереотипные национальные и культурные образы. Однако некоторые элементы программы (например, музыкальные номера с ностальгическим оттенком или юмористические скетчи с культурно специфической тематикой) намеренно были сделаны непонятными для нерусской части публики, таким образом, выполняя роль в представлении исключительно внутреннем, «для своих». Но вопрос, кто именно участвует в представлении, что именно разыгрывается и для кого, так и остается весьма неоднозначным. Смысл каждого элемента этого спектакля, по сути, множественен и неочевиден.
Чтобы проиллюстрировать свою точку зрения, приведу всего один пример. На фестивале 2008 года первым над головами собравшейся толпы появился красный советский флаг, которым энергично махал совсем молодой человек, которой родился не раньше, чем на самом закате эпохи СССР. Чуть позже к нему присоединился российский триколор, а затем и черно-желто-белый флаг династии Романовых. В чем смысл такого демонстративного появления именносоветского флага в этой ситуации?[9] Три развевающихся вместе флага можно рассматривать как символ примирения разных эпох русской истории, в частности отражающий и стратегическую реабилитацию советского прошлого, а также его возвращение в более жесткую российскую национальную идентичность эпохи Путина в начале 2000-х годов. Но каким образом советский флаг говорит с толпой, собравшейся на Трафальгарской площади, и что он говорит о ней? Возможно, он дает понять, что это событие, хотя и под названием «Русская зима», ни в коем случае не представляет «сообщество» исключительно тех, кто является гражданами современной России, но обращается к общему культурному и историческому прошлому всех бывших советских граждан, которые в настоящее время проживают в Великобритании?
Или это такой же символ, как ветеран советского рока группа «Алиса», чье выступление закрывало это событие, — отчасти ностальгический, но и слегка насмешливый призыв вспомнить «былые времена», которые эти мигранты во многих отношениях оставили позади? Но каков тогда точный смысл этой ностальгии, если флаг реет среди шарфов футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга[10], причем под звуки последних поп-хитов Димы Билана, русской звезды Евровидения, на фоне Национальной галереи, колонны адмирала Нельсона и статуй британских львов, украшающих Трафальгарскую площадь? И все это происходит в день, когда отмечается Старый Новый год — праздник по докоммунистическому, русскому православному календарю?
Или советский флаг — это просто один из предметов привычного реквизита, ничем особо не отличающийся, скажем, от гигантских матрешек, которые также были представлены на событии, т.е. это мотив «экзотической России», который лондонцы, несмотря на его анахронизм, смогут легко переварить как еще один вклад в яркое, мультикультурное разнообразие их города? Но если это так, то происходит ли «переодевание» в культурные стереотипы с долей кокетства или в ироническом ключе? В конце концов, что же означает советский флаг для британского Другого? Холодную войну, идея которой в то время, к раздражению российского дипломатического корпуса, доминировала в статьях британских СМИ как образ российско-британских отношений в свете дела Литвиненко (упоминания о котором на самом событии изо всех сил старались избегать)?[11]Или же флаг относит нас к англо-советскому альянсу времен Второй мировой войны, который Кен Ливингстон, мэр Лондона в 2008 году, известный как Красный Кен за его социалистические взгляды, упомянул в своем выступлении на фестивале, обращаясь к борьбе против фашизма как, кажется, к единственной эпохе в истории российско-британских отношений, о которой стоило бы помнить?
Весьма неочевидно, что же скрывается за таким представлением сообщества, каковы его социальный референт или культурное значение. Различные члены этой мигрантской группы, принимающие участие в этих спектаклях в качестве исполнителей, активных зрителей или более отдаленных наблюдателей из «внешнего круга», выразили бы весьма разную степень своей ассоциации с такой культурной идентичностью и представлением сообщества, а даже если бы и признали эту связь, то их идентификация, вероятно, была бы подана с иронической дистанцией. Однако эта неуловимость смысла происходит не из какой-то внутренней неоднозначности социальной и культурной идентичности отдельных индивидов или этой группы мигрантов в целом, но является следствием непредсказуемых ситуационных случайностей таких представлений как перформансов. Иными словами, неясность того, кто исполняет, что и для кого в каждом таком исполнении, зависит не от неуловимости этих «кого», «чего» и «для кого» самих по себе, но от «плотности» их переплетения в динамике самого исполнения[12].
МЕЖДУ «СУБСООБЩЕСТВАМИ» И «БОЛЬШИМ СООБЩЕСТВОМ»
В конце 2000-х годов публичное представление «русских в Британии» как именно «большого сообщества» стало не просто весьма заметной практикой «сообщества» русскоязычных жителей Великобритании (о чем свидетельствует приведенный выше пример), но и основополагающим видом разыгрывания «сообщества» как такового. Под этим я подразумеваю, что поведение на уровне того, что Копнина [Kopnina 2005: 99—128] называет «субсообществами», в настоящее время тесно связано и зависит от одновременного (явного или неявного, прямого или косвенного) разыгрывания «большого сообщества». Хотя большинство перформансов «сообщества» русскоязычных мигрантов Британии планируется и рассчитано на вполне конкретные группы людей (которые могли бы, следуя Копниной, определить свою практику сообщества только в пределах относительно узких «субсообществ»), в настоящее время они оказываются неизменно вписанными в расширенную сеть взаимосвязанных представлений, которые происходят по всей стране и включают (практически по умолчанию, по срабатывающей ассоциации) «большое сообщество», становящееся неотъемлемой частью их перформативного развития.
Это вовсе не означает формирования у этой группы мигрантов какой-либо общей согласованной социокультурной идентичности или осознания себя как единого целого. Принцип и результат проявления этого «большого сообщества» в том или ином конкретном представлении ощутимо меняются от одного случая к другому. Действительно, если рассматривать культурное содержание различных исполнений «сообщества» русскоязычных мигрантов Великобритании сегодня, то поражает удивительная «солянка» ритуальных форм и помещенных в них противоречивых значений, ровно как мы видели выше в примере с праздником «Русская зима». Разыгрывание сообщества варьирует от коллективных занятий народными танцами (чье региональное происхождение далеко не всегда очевидно) до демонстрирования «высоколобых» знаний по истории советского периода на викторинах и соревнованиях (см., например: [Лондон-Инфо 2006a]); от проявлений православного благочестия на церковных службах и совместных чаепитиях после них до иронического переодевания в костюмы с советской военной атрибутикой для маскарадов; от псевдоцарских балов для «высшего общества» (см., например: [Лондон-Инфо 2004a; 2008b]) до обязательных торжеств по случаю «женского дня» 8 Марта (см., например: [Лондон-Инфо, 2008a; Смирнова 2008]); от беспощадных вечеринок с водкой для загруженных работой яппи Лондонского Сити до постановок детских спектаклей по мотивам традиционных русских сказок на утренниках в школах выходного дня.
Исполнения «сообщества» на местном уровне могут, конечно, демонстрировать вполне конкретные черты «русских в Великобритании» как «большого сообщества». Например, определенное мероприятие сквозь свой общий дискурс и использованный реквизит может подчеркнуть (стратегически детерриториализированную и лишенную исторического контекста)постсоветскую идентичность этого «сообщества», представляя эту диаспору как собрание на британских землях выходцев со всего постсоветского пространства независимо от их этнической принадлежности или гражданства в какой-либо отныне суверенной постсоветской стране. Другое действо может, напротив, подчеркивать англо-русский характер этой диаспоры, отображая его как своего рода «брак» «лучших сторон» русской и британской культур, которые, как правило, представлены в предельно романтизированном и эфемерном виде. Это особенно распространено в контекстах, где преобладают смешанные, русско-британские пары или наблюдается существенное присутствие «русофилов» из британского населения. Другие представления могут актуализировать «русских в Британии» как одну из ячеек глобальной русскоговорящей диаспоры — например, в Великобритании организуются чтения «транснациональной» поэзии, интеллектуальные викторины или спортивные соревнования, для участия в которых прибывают представители русскоязычных сообществ со всего мира. Некоторые из мероприятий могут быть рассчитаны исключительно на экспатов из Российской Федерации, чтобы с должным патриотизмом продемонстрировать их богатство, власть и авторитет на международной арене, в то время как другие, как полная противоположность, показывают «русских в Великобритании» в качестве иммигрантского миноритарного сообщества, следуя британской мультикультурной модели [Betts 2002], — это особенно характерно для тех представлений, которые ставятся при поддержке британских муниципалитетов и зависят от их грантов. Конкретные перформансы сообщества будут сочетать в себе элементы различных изображений «русских в Британии» как «большого сообщества» в зависимости от конкретного перформативного контекста, целевой аудитории и прагматической цели.
Как должно быть ясно из этих примеров, локальные исполнения обычно актуализируют «большое сообщество» по своему (локальному) образцу. Тем не менее «большое сообщество» также может быть представлено более опосредованно, когда «субсообщество» через свое представление вписывается в него, часто создавая отношения взаимного наблюдения. Приведу пару контрастных примеров, иллюстрирующих, что именно я имею в виду.
Сообщество «Русские в Сити» («Russians in the City») — закрытую сеть молодых русскоязычных высококвалифицированных профессионалов, работающих в лондонских инвестиционных банках и фондах, — можно рассматривать как «субсообщество» par excellence «русских в Великобритании», его границы установлены довольно четко и охраняются крайне внимательно[13]. В то же время во многих своих внутренних коммуникациях (например, в периодических бюллетенях) организаторы этой сети с разной долей сарказма комментируют другие публичные проявления «русских в Британии» как «большого сообщества», исполненные другими мигрантами «где-то там», за пределами Лондонского Сити (конечно, скорее как некоей профессиональной, чем сугубо географической территории). Таким образом, в данном случае воспроизводство внутренних связей «субсообщества» заключается в превращении его в удаленную аудиторию наблюдателей и комментаторов, следящих за представлением «большого сообщества» со стороны.
Совсем другой пример представляет школа-сообщество под названием «Дружба», базирующаяся в городе Эрит графства Кент, в пригороде Лондона[14]. Это одна из тех школ выходного дня для детей русскоговорящих мигрантов, которые стали появляться как грибы после дождя по всей Великобритании начиная с середины 2000-х годов[15]. Создание и функционирование таких школ всегда в значительной степени зависит от их саморекламы в качестве ключевых для диаспоры мест. Для этого школы неизменно включают в свою учебную и внеклассную деятельность широкий репертуар «перформанса сообщества», в том числе школьных утренников, празднований традиционных русских праздников, художественных выставок, концертов, песенных и танцевальных конкурсов, спортивных соревнований, культурных экскурсий и так далее, часто стремятся вовлечь в них как родителей, так и детей.
В случае руководства школы «Дружба» перформанс «сообщества» стал, пожалуй, даже более важной миссией, чем работа самой школы. В 2008 году одним из ее самых известных, «фирменных» видов деятельности, в котором принимали участие и взрослые, и дети, стали любительские занятия народными танцами. При этом, однако, деятельность этого «субсообщества» происходила не только во время еженедельных репетиций после уроков, проводившихся в стенах арендованных школой помещений, но и в ряде вполне публичных выступлений, когда танец этот становился вполне отчетливым хореографическим показом «сообщества». Самым амбициозным из таких представлений в то время было участие «Дружбы» в новогоднем параде 2008 года в Лондоне — это шумное и красочное карнавальное шествие различных представительств «сообществ» Великобритании (не обязательно национальных или этнических) призвано иллюстрировать британский мультикультурализм и дух общинности[16].
Хотя разыгрывание «сообщества» «Дружбой» (на этом и других мероприятиях) в первую очередь, причем весьма эффективно, устанавливает подлинность связей внутри конкретного «субсообщества» и хотя эти действа сами по себе не влекут за собой какого-либо прямого указания на «большое сообщество», тем не менее оно создается подспудно, как основная аудитория этих выступлений, наряду с аудиторией из числа британских «хозяев». Получается, что «большое сообщество» «русских в Великобритании» появляется — именно как аудитория— в процессе афиширования участия «Дружбы» в новогоднем параде (как до этого события, так и после него) лондонскими русскоязычными мигрантскими газетами. Они создают для этого события перформативный контекст второго порядка, предлагая ему дополнительную перспективу наблюдения. Эта точка зрения превращает хореографические этюды «Дружбы» о солидарности «субсообщества» в образец практики «сообщества» для «русских в Великобритании» в целом.
«СООБЩЕСТВО» НАПОКАЗ: МИГРАНТСКАЯ ПРЕССА
Представления «сообщества», театральность которых вполне буквальна в большинстве приведенных выше примеров, можно и на самом деле даже должно понимать более широко. Разыгрывание «большого сообщества» мигрантов происходит не только в виде постановочных празднеств, культурных мероприятий или общественных акций, но и в различных других формах[17]. Особенно важную роль в этом контексте, как уже было указано в предыдущем примере, играют русскоязычные еженедельные газеты для диаспоры, которые служат важным средством демонстрации «сообщества» как через свою редакционную, дискурсивную и представительскую стратегию, так и посредством материального присутствия на улицах Лондона[18]. 2007—2008 годы, в течение которых я проводил полевые наблюдения, оказались периодом расцвета этого вида прессы — динамичным этапом бурно развивающейся области деятельности, отмеченным значительной конкуренцией за читателя.
Не все подобные газеты изображали «сообщество» в равной степени или одинаковым образом. Старейшее в Великобритании постсоветское издание «Лондонский курьер» основано в 1994 году. Эта газета лидировала в списке прочих до начала 2000-х годов, однако даже в конце 1990-х ее редакторы давали относительно скромные оценки того, в какой степени их публикации служили «своего рода координационным центром» и «в своем стиле подиумом для сообщества» [Kopnina 2005: 97]. Более того, они, похоже, в принципе не особо верили в проявление такого «сообщества» за пределами своих публикаций [Kopnina 2005: 80—81; см. также: Darieva 2004: 238—250].
Первым конкурентом «Лондонскому курьеру» стала газета «Лондон-Инфо», созданная в 1998 году. Хотя первоначально это была довольно скромная газета объявлений, примерно с середины 2000-х годов она решила воспользоваться значительным ростом числа русскоговорящих мигрантов и стала позиционировать себя более амбициозно — как газетную хронику формирования более широкого «сообщества» «русских в Великобритании». Тем не менее в 2009 году «Лондон-Инфо» прекратила свое существование и была заменена на британскую версию парижской газеты «Русская мысль». В целом этот тип прессы сильно пострадал из-за финансового давления, вызванного рецессией, растущей конкуренцией и расширением области влияния Интернета.
В 2006 году на сцене появились две новые газеты — «Англия» и «Пульс UK», основанные на принципиально иной бизнес-модели бесплатных газет, окупающих себя за счет публикации рекламы. Из них больше ориентировалась на деятельность растущего «сообщества» русскоговорящих мигрантов именно «Англия», которая регулярно публиковала отчеты о расширяющейся сети мигрантских объединений, бизнес-акций и других событий.
Основным форматом демонстрации «сообщества» в таких газетах, как «Лондон-Инфо» и «Англия», была прямая и косвенная реклама. В дополнение к колонкам объявлений, размещенных частными лицами, эта пресса содержит рекламу коммерческих предприятий и общественных мероприятий, а также широко освещает культурные инициативы и общественные проекты мигрантов, фактически работая как та же реклама. Например, глава школы русского языка выходного дня может вести регулярную колонку по педагогической психологии, имеющую отношение к воспитанию детей эмигрантов в новой стране, но одновременно работающую как реклама этой школы[19]. Адвокат может предоставить общие рекомендации по иммиграционному законодательству, в то же время приглашая к себе на консультации[20].
Таким образом, эти газеты посредством прямого или косвенного маркетинга символизируют форму «внутреннего рынка» для мигрантов: они устанавливают и опосредованно укрепляют различные формы коммерческого, социального и культурного обмена в мигрантской среде. Функция подобной демонстрации — не просто механическое агрегирование и передача соответствующей информации. Такие газеты также показывают этот «рынок» именно как «сообщество». Более точно выражаясь, газеты представляют «рынок» и «сообщество» в их соприкосновении и взаимозависимости. «Сообщество напоказ» становится существенным дополнением, катализатором и легитимизирующим фактором всех обменов, происходящих на «рынке» для мигрантов, независимо от того, насколько на самом деле применимым может быть понятие такого «сообщества», и от того, верят ли и проявляют ли заботу о существовании такого «сообщества» те, кто участвует в этих обменах (в том числе и в роли создателей и потребителей газетного дискурса), или же относятся к нему скептически.
Кроме того, учитывая, что эти газеты сами являются формой коммерческого и культурного предпринимательства, они используют проявления такого «сообщества» как часть их собственной рекламы. Однако важно отметить, что британская русскоязычная мигрантская пресса, как правило, систематически избегает роли «голоса сообщества», т.е. не считает себя своего рода представительским органом диаспоры. Вместо этого пресса предпочитает позиционировать себя как нейтральную зону или «сцену», на которой «большое сообщество» представляется другими — как героями-протагонистами, так и персонажами второго плана. Подзаголовок газеты «Англия» — «Наши на острове» — хорошо вмещает в себя эту идею «сообщества напоказ».
«Актерский состав» «героев», которые представляют «русских в Великобритании» и играют на этой «сцене», включает в себя целый ряд «обычных» мигрантов: людей различного происхождения, некоторые из которых представляют более классические примеры определенных ролей, чем другие[21]. Постоянные «актеры», регулярно появляющиеся на страницах этой прессы, — это различные предприниматели из диаспоры, рекламирующие себя и свои проекты, объединения и предпринимательские инициативы, неустанно конкурирующие друг с другом. В список регулярных «героев» также входит ряд таких знаменитостей и высокопоставленных лиц, как посол России или, скажем, принц Майкл Кентский (являющий собой воплощение русско-британских связей по причине его генеалогического родства с российской императорской семьей, а также его коммерческого и культурного интереса к России)[22]. Олигархи Роман Абрамович и Борис Березовский или знаменитые российские футболисты также появлялись на страницах этих газет, хотя и с аурой нереальности, как постоянные персонажи из СМИ, а не люди из плоти и крови (например: [Лондон-Инфо 2003; 2007a; 2007c]).
Среди «героев» этого спектакля нужно также выделить «местных жителей» острова, британцев, как «простых», так и «известных», которые либо играют роль «хозяев» (часто нагруженных всеми клишированными представлениями о британской культуре, которые только возможны), либо сами попадают в лоно русскоязычного «сообщества» в той или иной ипостаси — через брак, работу, бизнес или культурные интересы[23]. Наконец, в качестве важной «актерской» когорты нужно также упомянуть собственных обозревателей и колумнистов газет, которые сознательно принимают конкретные роли комментаторов диаспоры или тех, кто общается с ней напрямую со страниц газет как со своей основной читательской аудиторией. При этом, однако, они обычно говорят от своего имени (или, скорее, от имени своих предполагаемых персонажей), но не от имени самой газеты[24].
Говоря об этих мигрантских газетах как о «сцене», не следует понимать последнюю в упрощенном виде, т.е. в качестве элемента театральной инфраструктуры. «Сцена» в данном случае является метафорой, которая выражает и то, что на ней что-то разыгрывается, но также (что важно) и то, что что-тонаблюдается. Действительно, сам факт того, что на страницах этих газет ставится представление, означает, что они и создают пространство длязрителей, и изображают аудиторию, «наблюдающую» за этим спектаклем. На самом деле то нежелание, которое пресса демонстрирует относительно функции своего рода «голоса сообщества», проявляется именно в избрании приема дистанцированного наблюдения, что выражается, например, в несерьезном, слегка ироническом тоне многих репортажей и редакционных статей, особенно тех, где обсуждаются общие черты русского «сообщества»[25]. И все же эти газеты не относятся к своим читателям лишь как к далекой аудитории: скорее они приглашают их, с одной стороны, узнать и вступить в то «сообщество», которое репрезентируется на их страницах, а с другой — взять на себя роль зрителей, наблюдающих этот спектакль. В общем же то, что здесь происходит, представляет собой двойственное самонаблюдение, которое, как уже отмечалось в предыдущих примерах, является важнейшим компонентом сообщества-в-исполнении.
ТЕАТР «ПОЛИТИКИ СООБЩЕСТВА»
Как должно быть ясно из вышеизложенного, перформанс «сообщества» никогда не бывает просто «частью театра». Решающее значение для разыгрывания «сообщества» имеет не только его театральное или ритуальное воплощение как таковое, но и дискурсивная артикуляция и легитимация (а в некоторых случаях и делегитимация) «сообщества», которое является составной частью этих представлений или же кристаллизуется вокруг них. Перформативная роль этого дискурса по отношению к «сообществу» возникает в той риторике, посредством которой инициируются и инсценируются идея «сообщества» и природа отношений солидарности внутри группы (как фактической, так и воображаемой), причем неважно, подтверждает ли эта риторика существование «сообщества» или, наоборот, опровергает его.
Те, кто проявляет наибольшую активность в разыгрывании «сообщества», как и следовало ожидать, с наибольшей вероятностью будут заинтересованы в риторическом (а значит, и перформативном) наделении «сообщества» легитимностью и реальностью. Их дискурс, как правило, предполагает, что «сообщество», которое они столь удачно разыгрывают, уже существует. Тем не менее можно услышать, как некоторые из них сетуют на отсутствие «настоящего» сообщества русских в Великобритании. Неудивительно, пожалуй, что эта жалоба зачастую исходит от тех, кому не удалась роль «импресарио сообщества», чьи представления в результате прошли не вполне удачно, а также тех мигрантов, которые по тем или иным причинам были вытеснены на периферию действий и, как следствие, больше не испытывают желания принимать участие в похожих перформансах[26].
Кроме того, театрализованное представление «большого сообщества» среди русскоговорящих мигрантов в Великобритании превратилось в настоящую «культурную индустрию» — социально не бескорыстную деятельность, требующую значительных инвестиций, культурного предпринимательства и постоянных «махинаций» от самых амбициозных активистов этой отрасли, что приводит к ожесточенному соперничеству между некоторыми из них и формирует целое поле микрополитики внутри сообщества. Именно это усиление конкуренции вызвало значительную активизацию общественных представлений «сообщества» в конце 2000-х годов, делая их все более амбициозными, и целый ряд организаций начал позиционировать себя (правда, не всегда успешно) в качестве представительских ассоциаций, якобы говорящих от имени русскоязычного «большого сообщества» Великобритании[27].
Наиболее заметным событием такого рода является ежегодный Форум российских соотечественников Великобритании, проходящий в Лондоне с 2007 года, в котором участвуют представители различных русскоязычных объединений и организаций, в том числе русских школ выходного дня, ассоциаций экономической поддержки мигрантов, студенческих сообществ, работники средств массовой информации, центров русской культуры, а также заинтересованные британские русофилы; активно участвует и российский политический истеблишмент, чьим детищем в первую очередь и была эта инициатива[28]. Последующий материал в основном базируется на (анонимных) формальных и неформальных интервью с рядом активистов русскоязычной диаспоры и участниками этих форумов, проведенных в 2007— 2008 годах.
Первый форум в 2007 году закончился выборами так называемого Координационного совета российских соотечественников, хотя это название было стратегически неверно переведено на английский язык как «The Russian- Speaking Community Council», т.е. «Совет русскоязычного сообщества»[29]. Организация этого первого форума не обошлась, однако, без некоторых довольно язвительных обменов мнениями между соперничающими группами активистов диаспоры — в частности, между ассоциацией школ русского языка под названием «Eurolog» и группой, называющей себя «Община». Ссора между ними была вызвана тем, что каждая, публично осуждая соперника в Интернете, полагала себя более достойным кандидатом на получение поддержки российского чиновничества и возглавление инициативы по «консолидации и унификации» русской диаспоры в Великобритании[30]. На форуме 2007 года и после него разгорелись новые распри, с жалобами со стороны некоторых деятелей о якобы недемократических выборах Координационного совета, состав которого, как утверждалось, служил интересам определенных предпринимателей диаспоры за счет других [Byford 2012: 727—732].
В целях повышения легитимности Координационного совета одной из стратегий на последующем форуме 2008 года стал проект формирования этого органа как коллегиального, в идеале состоящего из представителей классических «столпов» диаспоры: православной церкви, аристократии, газет, школ, бизнеса, специалистов и студентов. Несмотря на громкие заявления, этот проект был создан в значительной степени «напоказ» и не репрезентировал ни социальной, ни профессиональной структуры мигрантского населения, ни его интересов[31].
Важным, однако, является то, что разыгрывание этой политики и публичная демонстрация соперничества между основными «импресарио сообщества» как на самом мероприятии, так и во время подготовки к нему сами по себе стали главным представлением. Исполнение «сообщества» тем самым приняло форму театра «политики сообщества». Именно из-за того, что некоторые из активистов стали основными героями в этой публично ориентированной драме, они превратили и себя, и друг друга в соперничающих «лидеров сообщества». И все же, поскольку такое «лидерство» является не более чем театральным эффектом, а также поскольку оно требует познавать реальность через подобные инсценировки, непрерывность их постановки продолжает быть крайне важной для мигрантских инициатив в этой области.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В этой статье были показаны сложность и неоднозначность публичных проявлений диаспорального «сообщества» растущей в последнее время группы постсоветских русскоязычных мигрантов в Великобритании. Акцент был сделан на перформативных исполнениях, через которые в данном случае социально и символически конструируется (и деконструируется) «большое сообщество» «русских в Великобритании». «Сообщество» здесь было проанализировано как перформативное проявление «театрализованного» (в широком смысле) (само)наблюдения. Мой анализ целого ряда подобных ситуаций показал, что социальные референты и культурные означающие таких представлений «сообщества» среди современных русскоязычных жителей Великобритании крайне расплывчаты. Очевидно, это связано с ситуационными случайностями самих представлений — сложным спектром перформативных отношений, которые я пытался определить, отвечая на вопрос о том, кто именно в той или иной ситуации разыгрывает что и для кого.
Этот вопрос поднял следующий: кто за кем наблюдает и с каким результатом? В самом деле, при том что я подчеркнул значимость включения Другого в сложный сценарий проявлений «сообщества», принципиально важной нужно признать именно роль аудитории как таковой. «Инаковость» аудитории не коренится в каких-либо тонких социальных или культурных различиях «идентичности», но кроется в определенной перформативной роли, которая может быть весьма подвижной, пересекая нестабильные границы между «своим» и «чужим». Таким образом, одним из основных выводов этой статьи стало утверждение, что разыгрывание «сообщества» включает в себя частично смещенное самонаблюдение, происходящее за счет сети перекрывающих друг друга перформансов на различных уровнях, особенно с помощью введения неоднозначности и иронического дистанцирования.
Метафора «перформанса» в широком смысле была применена в аналитической и интерпретативной стратегии этой работы не только как инструмент для понимания перформативной динамики собственно постановочных событий, но и как средство изучения других контекстов, где «сообщество» вводилось в действие, — таких, например, как мигрантская пресса. Наконец, это понятие было использовано для переосмысления динамики процесса риторической легитимации самой категории «сообщество», а также для анализа политики разыгрывания «сообщества».
ЛИТЕРАТУРА
[Англия 2007a] — Лондонский новогодний парад // Англия. 2007. № 45. С. 15.
[Англия 2007b] — «Русские — моя любимая нация» // Англия. 2007. № 28. С. 1, 10.
[Англия 2008a] — Матрешки, «Трава у дома» и тяжелый рок в Лондоне // Англия. 2008. № 2. С. 1, 14—15.
[Англия 2008b] — От новогоднего парада до «Русской зимы» // Англия. 2008. № 1. С. 1, 18.
[Англия 2008c] — Школа «Дружба» — участник фестиваля Темзы // Англия. 2008. №35. С. 1.
[Байкальцев 2007] — Байкальцев А. Консолидация общины: старт дан // Лондон- Инфо. 2007. № 44. С. 1, 4—5.
[Байфорд 2009] — Байфорд Э. «Последнее советское поколение» в Великобритании // Неприкосновенный запас. 2009. № 64. С. 96—116.
[Беван 2006] — Беван Т. Подарите себе радость — школа «Дружба» // Лондон-Инфо. 2006. № 27. С. 7.
[Бизнес-Инфо 2004] — Русские в Сити // Бизнес-Инфо. 2004. № 1. С. 3.
[Григорян 2007] — Григорян М. Русские пришли // Лондон-Инфо. 2007. № 15. С. 1, 3.
[Григорян 2008] — Григорян М. Бизнес-саммит RBCC: новый старт, старые традиции // Лондон-Инфо. 2008. № 23. С. 4.
[Зайончковская 2004] — Зайончковская Ж.А. Постсоветская эмиграция из России в западные страны // Studia Slavica Finlandensia. 2004. Т. 21. С. 16—38.
[Лондон-Инфо 2003] — Политический беженец Березовский // Лондон-Инфо. 2003. № 33. С. 2.
[Лондон-Инфо 2004a] — После бала // Лондон-Инфо. 2004. № 24. С. 1—2.
[Лондон-Инфо 2004b] — «...Я должен был быть русским!» // Лондон-Инфо. 2004. №31. С. 5.
[Лондон-Инфо 2005] — Был русский дух и Русью пахло. // Лондон-Инфо. 2005. № 2. С. 1, 3.
[Лондон-Инфо 2006a] — Знатоки в Пушкинском доме // Лондон-Инфо. 2006. № 37. С. 7.
[Лондон-Инфо 2006b] — Русские в Сити: штрихи к портрету // Лондон-Инфо. 2006. № 42. С. 10.
[Лондон-Инфо 2006c] — Сага о Ливенах // Лондон-Инфо. 2006. № 47. С. 1, 8.
[Лондон-Инфо 2007a] — Гламурная битва олигархов // Лондон-Инфо. 2007. № 38. С. 1, 3.
[Лондон-Инфо 2007b] — Караоке на Трафальгаре // Лондон-Инфо. 2007. № 46. С. 4—5.
[Лондон-Инфо 2007c] — Мюзикл про Абрамовича // Лондон-Инфо. 2007. № 42. С. 7.
[Лондон-Инфо 2008a] — 8 марта в Лондоне // Лондон-Инфо. 2008. № 9. С. 12.
[Лондон-Инфо 2008b] — И грянул бал! // Лондон-Инфо. 2008. № 7. С. 12.
[Лондон-Инфо 2008c] — Россия в сердце Лондона // Лондон-Инфо. 2008. № 2. С. 1,3.
[Лондонский курьер 2008] — Кубок Ивана Грозного по водному поло // Лондонский курьер. 2008. № 297. С. 16.
[Макарова, Моргунова 2009] — Русское присутствие в Британии / Под ред. Н.В. Макаровой и О.А. Моргуновой. М.: Современная экономика и право, 2009.
[Мурадов 2007] — Международный опыт поддержки соотечественников за рубежом: Мировая и отечественная практика / Под ред. Г.Л. Мурадова. М.: Русский мир, 2007.
[Печурина 2009] — Печурина А. «Там русский дух...»: Вещи в доме как способ визуализации идентичности мигрантов в Великобритании // Визуальная антропология: Настройка оптики / Под ред. В.Е. Ярской-Смирновой и П. Романова. М.: Вариант, 2009. С. 212—228.
[Печурина 2011] — Печурина А. Матрешки, иконы и Пушкин: Личные вещи и культурная идентичность в эмиграции // Laboratorium: Журнал социальных исследований. 2011. № 3. С. 199—203.
[Пульс UK 2008] — Russian Gig: Зима закончилась // Пульс UK. 2008. № 2. С. 1, 20—21.
[Смирнова 2008] — Смирнова Е. «Женский день» в Лондоне // Лондон-Инфо. 2008. № 10. С. 8.
[Anderson 1991] — Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso, 1991.
[Austin 1975] — AustinJ.L. How to Do Things with Words. Oxford: Clarendon Press, 1975.
[Betts 2002] — Betts G.G. The Twilight of Britain: Cultural Nationalism, Multiculturalism, and the Politics of Toleration. London: Transaction, 2002.
[Black, Markova 2007] — Black R, Markova E. East European Immigration and Community Cohesion. York: Joseph Rowntree Foundation, 2007.
[Butler 1990] — ButlerJ. Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory // Performing Feminisms: Feminist Critical Theory and Theatre / Ed. by S. Case. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1990. P. 270—282.
[Byford 2009] — ByfordA. «The Last Soviet Generation» in Britain // Diasporas: Critical and Interdisciplinary Perspectives / Ed. by J. Fernandez. Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2009. P. 54—63.
[Byford 2012] — Byford A. The Russian Diaspora in International Relations: «Compatriots» in Britain // Europe Asia Studies. 2012. Vol. 64. № 4. P. 715—735.
[Carlson 2004] — Carlson M. Performance: A Critical Introduction. London: Routledge, 2004.
[Cohen 1993] — Cohen A. Masquerade Politics: Explorations in the Structure of Urban Cultural Movements. Berkeley: University of California Press, 1993.
[Cohen 1997] — Cohen A.P. The Symbolic Construction of Community. London: Routledge, 1997.
[Darieva 2004] — Darieva T. Russkij Berlin: Migranten und Medien in Berlin und London. Munster: LitVerlag, 2004.
[Delanty 2003] — Delanty G. Community. London: Routledge, 2003.
[Dietz 2000] — Dietz B. German and Jewish Migration from the Former Soviet Union to Germany: Background, Trends and Implications // Journal of Ethnic and Migration Studies. 2000. Vol. 26. № 4. P. 635—652.
[Geertz 1973] — Geertz C. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic Books, 1973.
[Goffman 1990] — Goffman E. The Presentation of Self in Everyday Life. London: Penguin, 1990.
[Isurin 2011] — Isurin L. Russian Diaspora: Culture, Identity, and Language Change. New York: Walter de Gruyter, 2011.
[Kolst0 2006] — Kolst0 P. The New Russian Diaspora and Russian Identity in Finland // Studia Slavica Finlandensia. 2006. Vol. 23. P. 257—275.
[Kopnina 2005] — Kopnina H. East to West Migration: Russian Migrants in Western Europe. Aldershot: Ashgate, 2005.
[Laitin 2004] — LaitinD.D. The De-cosmopolitanization of the Russian Diaspora: A View from Brooklyn in the «Far Abroad» // Diaspora: A Journal of Transnational Studies. 2004. Vol. 13. № 1. P. 5—35.
[Loxley 2007] — Loxley J. Performativity. London: Routledge, 2007.
[Morgunova 2006] — Morgunova O. Europeans, not Westerners: How the Dilemma «Russia vs. the West» Is Represented in Russian Language Open Access Migrants' Forums (United Kingdom) // Ab Imperio. 2006. № 3. P. 389—410.
[Morgunova 2007] — Morgunova O. Discursive Self-representations in Russian-language Internet Forums: Russian Migrants in the UK. Ph.D. dissertation. Edinburgh, 2007.
[Morgunova, Morgunov 2007] — Morgunova O, Morgunov D. Making Cakes in Scotland: Sweet Memories and Bitter Experiences // Movements, Migrants, Marginalisation: Challenges of Societal and Political Participation in Eastern Europe and the Enlarged EU / Ed. by S. Fischer, H. Pleines and H.-H. Schroder. Stuttgart: Ibidem, 2007. P. 101 — 112.
[Munz, Ohliger 2003] — Diasporas and Ethnic Migrants: Germany, Israel and Post-Soviet Successor States in Comparative Perspective / Ed. by R. Munz & R. Ohliger. London: Frank Cass, 2003.
[Pechurina 2010] — Pechurina A. Creating a Home from Home: Russian Communities in the UK. Ph.D. dissertation. Manchester, 2010.
[Suttles 1972] — Suttles G. The Social Construction of Community. Chicago: University of Chicago Press, 1972.
[Turner 1987] — Turner V. The Anthropology of Performance. New York: PAJ Publications, 1987.
[Turner 2012] — Turner V. Communitas: The Anthropology of Collective Joy. New York: Palgrave Macmillan, 2012.
[*] Оригинальная версия этой статьи на английском языке была опубликована в сборнике под редакцией Люсиль Кэрнс и Сантьяго Фуз-Эрнандеза «Переосмысление "иден- тичностей": Формулирование различия и сопротивления в культуре нового тысячелетия» (Byford A. Performing «Community»: Russian Speakers in Contemporary Britain // Rethinking «Identities»: Cultural Articulations of Alterity and Resistance in the New Millennium / Ed. by L. Cairns and S. Fouz-Hernandez. Bern: Peter Lang, 2014. P. 115—139). Это исследование было частью проекта «Национальная идентичность России с 1961 года: Традиции и детерриториали- зация», осуществлявшегося под руководством профессора Катрионы Келли (New College, Oxford) при финансовой поддержке Британского совета по гуманитарным наукам и искусству (AH/E509967/1). Автор благодарит всех анонимных участников этого исследования, а также выражает особую благодарность за помощь в виде конструктивных замечаний и дополнительной информации Катрионе Келли, Оксане Моргуновой, Анне Печуриной, Ольге Бронниковой и Элизабет Шимпфосл. Я также благодарю Полину Ключникову за помощь в переводе этой статьи на русский язык.
[1] В отчетах за 2007 год указывается цифра в 300 000 — так оценивается приблизительное число мигрантов этой категории Всемирной организацией по миграции (IOM) в демографическом исследовании Соединенного Королевства (с. 6). Та же цифра указывается ею и в отдельных отчетах о сообществах мигрантов из Украины и других стран бывшего СССР:www.iomlondon.org/publications.htm. Исследования по постсоветским русскоязычным мигрантам в Британии см. (в хронологическом порядке): [Darieva 2004; Kopnina 2005; Morgunova 2006; Morgunova 2007; Morgunova, Morgunov 2007; Black, Markova 2007; Байфорд 2009; Byford 2009; Макарова, Моргунова 2009; Печурина 2009; Pechurina 2010; Печурина 2011; Byford 2012]. Также см. проект BBC «Лондонград»: newsvote.bbc.co.uk/hi/ russian/in_depth/2007/londongrad/default.stm. Дата обращения по всем ссылкам в статье: 15.05.2012.
[2] Вполне очевидно, что рост числа мигрантов — феномен общемировой. К сожалению, в силу ограниченного объема эта статья не включает сравнительный анализ и концентрирует внимание только на ситуации Великобритании. Некоторые примеры исследований постсоветской русскоязычной миграции в других западноевропейских странах см.: [Dietz 2000; Munz, Ohliger 2003; Darieva 2004; Laitin 2004; Зайончковская 2004; Kolst0 2006; Isurin 2011].
[3] Многие из тех, кто родился в СССР, но не является русским или россиянином, тем не менее принимают активное участие в мероприятиях, устроенных самими «русскими» или для них, невзирая на свою разную и неоднозначную идентификацию с собственно русской культурой и историей. Разумеется, у остальных бывших советских народов (украинцы, литовцы, грузины, казахи и т.д.) также есть свои отдельные мигрантские сети и сообщества в Британии.
[4] Авторы других работ о русских в Великобритании также обращаются к проблеме определения сущности такого «сообщества». О «русских Британии» как «воображаемом сообществе» см.: [Pechurina 2010]; о значении виртуальных «сообществ» см.: [Morgunova 2007: 116—118].
[5] Однако моя собственная полевая работа подтверждает, что сейчас среди самих русскоязычных мигрантов появилось куда больше различных точек зрения по этому вопросу, чем во время этнографического исследования Копниной, и варьируются они от полного отрицания до страстного уверения в существовании среди них этого «большого сообщества».
[6] Подробнее о моей полевой работе и проведенных интервью можно узнать здесь: Newsletter. 2008. June. № 1. P. 7— 9, — в частности, о проекте «Национальная идентичность в России с 1961 года: Традиции и детерриториализация»: www.mod-langs.ox.ac.uk/russian/nationalism/newsletter.htm. Транскрипты формальных интервью хранятся в Архиве русской живой истории Оксфордского университета: www.ehrc.ox.ac.uk/lifehistory/index.htm.
[7] Однако я не включаю здесь чуть ли не мистические аспекты его совместной с женой Эдит работы, посвященной концепции коммунитас [Turner 2012].
[8] Этот фестиваль проводился в течение нескольких лет в конце 2000-х годов. Организатором была группа компаний «Eventica», а поводом — Российский экономический форум. Инициатива поддерживалась со стороны мэрий Лондона и Москвы. С подробностями проведения четвертого фестиваля в 2008 году можно ознакомиться здесь: www.eventica.co.uk/?p=283. Отчеты о прошедшем мероприятии появились в газетах русскоязычной диаспоры [Лондон-Инфо 2007b; 2008c; Англия 2008a; Пульс UK 2008]. В 2011 году место этого праздника занял весенний фестиваль «Русская Масленица» (www.maslenitsa.co.uk), организованный компанией «Ensemble Productions Co.» (www.ensembleproductions.co.uk), изначально проводившийся в другом месте (в 2009-м и 2010 годах — на Тауэрском мосту), но затем, начиная с 2011 года, переместившийся на Трафальгарскую площадь.
[9] Более подробно об интерпретации поднятия советского флага на этом мероприятии в контексте перформативного конструирования «воображаемого СССР» в дискурсе русскоязычных мигрантов, проживающих в Великобритании, см.: [Байфорд 2009].
[10] На тот момент «Зенит» главенствовал в мировом футболе — в 2008 году команда стала европейским чемпионом и призером Суперкубка УЕФА.
[11] Об Александре Литвиненко см., например, некролог Тома Парфитта в газете «The Guardian» от 25 ноября 2006 года:www.guardian.co.uk/news/2006/nov/25/guardianobituaries.russia.
[12] Я обращаюсь здесь к термину «насыщенное описание» Клиффорда Гирца [Geertz 1973: 3—30], а именно к сложному напластованию несущих смысл структур и внутреннему переплетению интерпретаций как фундаментальному принципу этнографического понимания социального или культурного выражения.
[13] См.: www.russiansinthecity.org. Моя полевая работа в 2008 году включала интервью с одним из организаторов и несколькими членами этой сети. Один из них предоставил мне доступ к информационным бюллетеням и ссылкам на сайт сообщества. Однако провести включенное наблюдение не представлялось возможным в силу строгих критериев членства (как профессиональных, так и национально-культурных). См. также статьи об этой группе в газетах «Бизнес- Инфо» [Бизнес-Инфо 2004] и «Лондон-Инфо» [Лондон- Инфо 2006b].
[14] Со времен моего полевого исследования в 2008 году школа значительно расширилась. Подробнее о ее деятельности можно узнать здесь:www.druzhba.org.uk.
[15] Первой в этом ряду была Лондонская школа русского языка и литературы, учрежденная в 1999 году: www.russian-school.co.uk. В большинстве крупных городов Британии есть по крайней мере одна подобная школа. Вот несколько примеров: www.znaniye.com;camrusschool.co.uk; www.russianedinburgh.org.uk. В ходе полевой работы в 2008 году я посетил шесть школ в Лондоне и две в Оксфорде, где в рамках включенного наблюдения присутствовал как на уроках, так и на внеклассных мероприятиях (включавших праздники и представления), а также провел формальные и неформальные интервью с педагогическим составом, родителями и учениками этих школ.
[16] О новогоднем параде 2008 года и участии в нем «Дружбы» см.: [Англия 2007a; 2008b]. В 2008 году эта школа тоже участвовала в Лондонском фестивале на Темзе [Англия 2008с] и принимала участие в других мероприятиях русскоязычной диаспоры, например в фестивале «Пушкин в Великобритании» [Беван 2006]. Антропологический анализ подобных мероприятий в Великобритании (особенно карнавала в Ноттинг-Хилле) см.: [Cohen 1993].
[17] Это также относится к интернет-сайтам, рекламирующим русскоязычные объединения и СМИ в Великобритании. Интернет-форумы и группы в социальных сетях, учрежденные русскоговорящими жителями Британии, тоже играют роль в театрализованном и ориентированном на показ действе сообщества. Так как моя полевая работа не включала в себя онлайн-этнографии в каком бы то ни было виде, отсылаю за подробным анализом этой сферы к работе Оксаны Моргуновой [Morgunova 2007].
[18] Для ознакомления с форматом этих газет см. статью Константина Рожнова «Газетный мир русскоязычного Лондона»: newsvote.bbc.co.uk/hi/russian/uk/newsid_6394000/ 6394125.stm.
[19] Например, постоянная рубрика «Профессия — родитель» в газете «Лондон-Инфо», которая велась с 2004-го по 2008 год преподавателями школы «Русская гимназия № 1».
[20] Например, постоянный раздел «Юридический ликбез» в газете «Лондон-Инфо», который с 2004-го по 2008 год велся сотрудниками юридической фирмы «Law Firm Ltd».
[21] В 2003—2004 годах газета «Лондон-Инфо» вела регулярную рубрику, которая вначале называлась «Община», затем «Наши на Альбионе», потом «Русский Лондон» и в конце концов «Русская Британия». В ней рассказывалось о разных аспектах жизни «простых» русскоговорящих мигрантов Соединенного Королевства.
[22] См., например, репортаж, освещающий присутствие принца на соревнованиях по поло «Кубок Ивана Грозного» в 2007 году [Лондонский курьер 2008].
[23] Например, Стивен Далзиель, исполнительный директор Российско-Британской торговой палаты [Григорян 2008]; или британский студент, который воскликнул как-то: «Мне нужно было родиться русским!» [Лондон-Инфо 2004b]; или историк, занимающийся Россией, профессор Доминик Ливен [Лондон-Инфо 2006c]; или парламентарий от Челси и Фулхема Грег Хэндс, провозгласивший русских «своей любимой нацией» [Англия 2007b].
[24] См., например, очень разные колонки Михаила Охерова, Михаила Макаренкова и Наташи Мороз в газете «Лон- дон-Инфо».
[25] См., например: [Григорян 2007]. См. также: [Лондон-Инфо 2005] — обзор фестиваля «Русская зима» 2005 года, озаглавленный с аллюзией на «Там русский дух, там Русью пахнет».
[26] Судя по интервью с более чем сотней мигрантов, более 75% которых активно участвуют в деятельности сообщества в том или ином виде.
[27] Два наиболее очевидных примера — это портал русскоязычного сообщества (www.russian-council.co.uk) и «Община» (www.obshina.org). См. обзор истории последней организации, представленный как серия перформансов: www.obshina.org/community/documents/download/istoriya-russkoyazychnoy-ob....
[28] Материалы по первому форуму см., например: [Байкаль- цев 2007]. Анализ более общего политического подтекста этого события см.: [Byford 2012: 727—732].
[29] См.: www.russian-council.co.uk.
[30] См., например: www.obshina.org/news/—otkrytoe-pis_mo-rossiyskih-sootechestvennikov-pr....
[31] Например, форум 2008 года придал большое значение программной речи старой княгини как «представительницы русской аристократии» в Соединенном Королевстве. Тем не менее сама «аристократия», живущая здесь с дореволюционных времен, едва ли является значительной составляющей диаспоры в современной Британии, особенно если сравнивать эту группу, например, с «олигархами». Последние как раз представляют куда более видимую часть русского присутствия в Великобритании, но группа эта, состоящая из обеспеченных бизнесменов, не проявляет ни малейшего интереса к форуму соотечественников и не представлена на нем никаким образом, отдавая предпочтение собственным закрытым кругам общения.
Опубликовано в журнале:
«НЛО» 2014, №3(127)
Поездка была организована в рамках Перекрестного года культуры Великобритании и России. Путешествие продолжило сложившуюся традицию знакомства зарубежных литераторов с сегодняшней Россией, с ее культурой и литературой.
Подобные путешествия уже совершили писатели Франции (путешествие по Транссибирской магистрали и Енисею), Италии (часть Транссиба и Центральная Россия), Китая (Москва и Санкт-Петербург). Результатом стал солидный урожай книг о России (стоитхотя бы назвать великолепный альбом «Сибирь», выпущенный Домиником Фернандезом в содружестве с фотографом Ферранте Ферранти) и многочисленные статьи в зарубежной прессе. Теперь ряды путешествующих по России литераторов пополнили посланцы туманного Альбиона.
Писатели, гости ММКВЯ, прибыли в Москву вечером 5 сентября, и уже 6-ого утром состоялась экскурсия по Московскому Кремлю, с посещением Большого Кремлевского дворца. Таково было единодушное пожелание всех участников поездки – знакомство с Россией следует непременно начать с Кремля и Красной площади. А дальше было участие в мероприятиях ММКВЯ, в литературном фестивале «Букмаркет», встречи в Мультимедиа Арт Музее, где сейчас проходит выставка «Война, покончившая с миром», посвященная Первой мировой войне, посещение торжественной церемонии награждения лауреатов премии ЧИТАЙ РОССИЮ/READRUSSIA за лучший перевод с русского языка.
На следующий день началось своеобразное литературное паломничество. Писатели проехали по местам, знаковым для великой русской литературы, получившей признание во всем мире. Мураново Тютчева и Баратынского, чеховское Мелихово, тургеневское Спасское-Лутовиново, Ясная Поляна,Поленово и Таруса, связанная с именами Марины Цветаевой и Константина Паустовского… Обилие впечатлений, которые еще предстоит осмыслить и описать. В Мураново гостей угостили историческим обедом, состоявшим из блюд, приготовленных по старым русским рецептам. В Ясной Поляне гости оказались в день рождения Льва Николаевича Толстого и приняли участие в торжествах, возложили цветы на могилу писателя. А в Поленово многие не отказали себе в удовольствии искупаться в прохладной воде живописной Оки.Профессиональные экскурсоводы старались сообщить писателям как можно больше полезной и ценной информации. Но главное, конечно, для писателя – это не услышанные имена и даты, но живое прикосновение к миру русской литературы, ощущение своей сопричастности творчеству тех, кто в давно ушедшие времена открывал миру Россию. Свято-Троицкая Сергиева Лавра с толпами паломников, преклоняющих колена пред мощами Преподобного Сергия, и Третьяковская галерея с ее шедеврами по-своему дополнили представление о загадочной «русской душе». А золотая осень средней полосы, фантастические, «левитановские» виды русской природы довершили впечатление. Но главным была, конечно, возможность общения с реальными людьми в столице и провинции, яркие, непосредственные впечатления, создающие живое представление о России, явно отличное от нынешних заголовков британских газет.
В поездке приняли участие как писатели, известные в России по изданным переводам, так и те, кому еще только предстоит встретиться с российским читателем. Писатель и историк Норман Стоун (на русском языке издана его «Краткая история Первой мировой войны»), Бен Макинтайр, писатель, историк, ведущий рубрики в «Таймс», предпочитающий писать о загадочных поворотах мировой истории (на русский язык переведен основанный на документальном материале роман «Фарш» о Второй мировой войне), Флора Фрейзер, пишущая о женщинах, оставивших яркий след в мировой истории, Рэйчел Холмс, писатель и публицист, много сил отдающая благотворительной помощи больным СПИДом, Чарльз Камминг, автор политических триллеров, Александра фон Тунзельман, писатель и историк, ведущая рубрику о кино в газете «Гардиан», Джулиан Гоу, лауреат ряда литературный премий, один из самых читаемых сегодня авторов в Англии и, наконец, Николас Шекспир, автор беллетризованных биографий и дальний потомок великого драматурга – всех их объединило желание ближе узнать Россию в исторической литературной перспективе и Россию сегодняшнюю. А собрали всех вместе в этой уникальной поездке сотрудники издательства «Юнайтед агентс» Дэвид Кемпбелл, известный издатель популярной серии EverymanClassicsи русской поэзии, и Наташа Бистон, литературный агент, способствующая продвижению русской литературы в Британии.
Организовало поездку Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям при поддержке Британского Совета. На прощальном ужине в ЦДЛ гости обменивались впечатлениями, высказывали искренние слова благодарности в адрес организаторов этой удивительной поездки и намерение непременно вернуться еще раз. Одним из ярких впечатлений стало посещение библиотеки в усадьбе «Мураново», где гости наткнулись на старинные книги о Крыме XVIIIвека. «Мы поняли, что для русских история Крыма всегда была частью их собственной истории, и они всегда воспринимали и будут воспринимать Крым как неотъемлемую часть России», - сказал историк Норман Стоун. Тост «За Россию!», предложенный одним из его коллег, единодушно поддержали все участники путешествия.
В Елабуге готовятся к международной конференции, посвященной истории экологии.
Конференция состоится в ноябре этого года. Ожидается, что на мероприятие съедутся признанные ученые из Великобритании, США, Франции, Германии, Украины и 12 городов России, сообщают пресс-служба Елабужского института КФУ.
Судя по разнообразию мнений и географии участников, предстоящая конференция будет значимым событием в историческом мире, а Елабужский институт станет удобной площадкой для обмена мнениями, научных дискуссий и рождения новых идей.
Среди участников конференции – профессор Йоркского университета Дэвид Мун, посвятивший свои труды истории освоения степных регионов России. Его имя стало известно благодаря тому, что он стал одним из первых в мире историков, показавших влияние окружающей среды на формирование Российского государства. Еще один ключевой докладчик конференции Стивен Брэйн, профессор департамента истории Университета Миссисипи, вот уже много лет занимается изучением советского периода. В своих трудах он утверждает, что отношение советской власти к природе далеко не всегда было хищническим, попытки ее охраны не прекращались даже в годы первых пятилеток. Несколько иную точку зрения отстаивают историки Лоран Кумель (Париж, Франция) и Александр Ананьев (Тюбинген, Германия): по их мнению, именно неумелое обращение с окружающей средой стало одной из причин развала СССР. «Несмотря на разные точки зрения, ученые, представившие заявки, сходятся во мнении, что Россия – уникальная по своим природным условиям страна, настолько же интересная для экологических историков, насколько и неизученная ими», - отмечают организаторы конференции.
Зарубежные ученые не только выступят с докладами, но также прочтут лекции студентам Елабужского института и проведут презентацию журнала «Environment and History», который традиционно публикует научные статьи о важнейших историко-экологических исследованиях. В конце 2014 года на его страницах появится заметка о конференции в Елабужском институте, благодаря которой научный мир узнает о нем как об одном из центров экологической истории.
НПО «Микроген» объявил об уходе с украинского рынка вакцин из-за невозможности своевременного валидации производства. Причиной сложившейся ситуации стал конфликт на юго-востоке страны, рассказал РИА Новости генеральный директор производителя Петр Каныгин.
«На Украину мы поставляли анатоксины, вакцину по национальному календарю прививок, занимали там 50% объемов. Украина перешла на GMP, мы GMP не соответствовали, поэтому рынок терялся постепенно, и полностью в этом году его потеряли. События на Украине не позволили провести мероприятия по валидации наших производств», - сказал Каныгин, подчеркнув, что на Украине сложилась крайне сложная ситуация с иммунизацией.
По словам директора «Микрогена», страна «оказалась в заложниках у западных компаний: иностранные вакцины сначала бесплатно раздавались, а потом эти вакцины оказались в 30 раз дороже, чем препараты «Микрогена».
Иммунопрофилактические препараты российского производителя остались на рынке Крыма. Каныгин добавил, что в качестве благотворительной помощи компания поставляет в роддома Крыма противотуберкулезную вакцину БЦЖ. Также Каныгин уточнил, что из-за ограничений по ввозу высокотехнологичного оборудования из США и Европы, «Микроген» ищет поставщиков в Китае, Южной Корее, Малайзии и Сингапуре.
Польские власти поручили антикоррупционному комитету страны расследовать пропажу части гуманитарного груза, отправленного в Украину. Следствие пока установило, что грузовик с помощью благополучно пересек границу двух государств, но в военной части, где должна была произвестись разгрузка обнаружили недостачу товаров.
О пропаже полутора тысяч одеял матрасов сообщил польский офицер, который должен был контролировать разгрузку. Правоохранительные органы считают, что вероятнее всего, товары пропали еще в Польше, когда грузовик находился на дозагрузке на базе в Рембертове.
Пока министр обороны страны только отстранил от выполнения обязанностей начальника этой базы, так как посчитал, что таким образом он мог попытаться скрыть недостачу на своем предприятии.
Министр обороны Польши в очередной раз заверил мировую общественность в том, что страна не занимается поставками оружия в Украину. Томаш Семоняк заявил, что пока польское руководство не принимало подобного решения, так как сначала желает удостовериться в том, совпадут ли возможности польской армии с потребностями украинской стороны.
Стоит отметить, что на недавнем саммите НАТО не было принято окончательного решения относительно поставок вооружения в Украину, а глава военного блока дал разрешение странам-членам самостоятельно решать эти вопросы в двухстороннем порядке.
По информации украинской стороны, они уже получают военную помощь от НАТО, но уточнения, от какой именно страны, так и не последовало.
С начала года в киевском офисе исламской организации Альраид, сертифицирующей продукты из Украины для мусульманских стран, заметно добавилось работы. «Раньше к нам ежемесячно обращалось не более десяти компаний, но с весны этого года их количество выросло вдвое»,- говорит Олег Гузик, руководитель пресс-службы организации.
Наплыв желающих поставлять товары в страны Ближнего Востока и Азии объясняется чередой запретов на поставки украинских продуктов в Россию. С начала года россияне отказались от украинских кондитерских изделий, молока, мяса, рыбных и овощных консервов, картофеля и даже лука. И если в прошлом году в РФ отечественные продовольственные компании поставили продуктов на $1 млрд, то лишь за полугодие экспорт северному соседу сократился на $300 млн.
Вот и приходится украинцам цепляться даже за самые удаленные и экзотические рынки: остров Маврикий и Мьянма сегодня заменяют Москву и Кострому.
Директор Белоцерковской агропромышленной группы Сергей Онокий рассказывает, что его компания продает сухое молоко в любую точку мира, где только может найти покупателя. В Россию группа поставляла продукцию не часто, но сейчас, после ухудшения торговых отношений, даже не рассчитывает на этот близкий, но сложный рынок.
Новые Горизонты: Украинские производители выводят свою продукцию на рынки Ближнего Востока и Азии
Восточные рассказы
Поставлять в исламские страны можно только халяльную продукцию, то есть такую, которая произведена в точном соответствии с законами шариата. В компании Мироновский хлебопродукт (МХП), крупнейшем в Украине производителе мяса курицы (ТМ Наша Ряба), рассказывают, что для этого они подстроили под исламские требования даже процедуру убоя. «Если вкратце, то птица не должна убиваться током, а только оглушаться»,- рассказывает куратор экспортных поставок компании Сергей Горбенко. К МХП прикомандированы два представителя Альраид, которые следят за производством и читают молитвы во время умерщвления птицы.
Все эти ритуалы в МХП практикуются неслучайно — в этом году благодаря этим нововведениям компания вышла на рынки большинства стран Персидского залива, в частности Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Омана, Йемена, Катара, Кувейта и Бахрейна. А рост объема продаж в эти страны сопоставим с тем падением, которое было у компании из-за российских запретов.
Да и в целом украинская птица взяла курс на Азию. Наибольшим импортером мяса курицы в этом году стал Ирак, вытеснив традиционного лидера — Россию. За семь месяцев эта исламская страна увеличила закупки в Украине втрое — до 22 тыс. т, что составляет 28% от всего экспорта курицы, рассказали в Украинском клубе аграрного бизнеса.
Ситуация с мясом птицы — хороший пример отказа от российского рынка без значительных потерь для отрасли за счет диверсификации. Но он далеко не единственный. Всего спустя месяц после того, как Россия закрыла свой рынок для украинских плодоовощных консервов, Нежинский консервный завод, входящий в структуру Fozzy Group, нашел покупателей своей продукции в Таиланде и ОАЭ. Заменить российский рынок, куда компания поставляла порядка 5 тыс. т, эти потребители пока не могут. Но на заводе не теряют оптимизма. Интерес дистрибутора из ОАЭ был настолько высоким, что в первый же заказ он включил половину ассортимента предприятия, рассказала бренд-менеджер компании Ольга Матюшко. Кроме того, завод поставляет свою продукцию еще в десяток стран — наиболее успешно она продается в США и Прибалтике.
Молочные реки
Чтобы сгладить последствия российской блокады, молочным предприятиям, в отличие от компаний из других отраслей, пришлось не только искать новые рынки, но и пересмотреть ассортимент выпускаемой продукции.
В 2013 году украинские молочники экспортировали продукции на $720 млн, из которых $450 млн приносили продажи в России, рассказывает Вадим Чагаровский, член наблюдательного совета компании Терра Фуд и председатель Союза молочных предприятий Украины. Львиную долю экспорта в РФ составляли сыры. Аннексия Крыма и напряжение на востоке Украины минувшей весной насторожило украинских производителей. И они спешно начали уменьшать объемы выпуска сыра. «Компании диверсифицировали риски, нарастив выпуск сливочного масла и сухого обезжиренного молока, востребованных на других рынках»,- говорит Чагаровский.
Сухое молоко и масло заводы выпускали и раньше, в период сезонного увеличения надоев, то есть начиная с мая. Но сейчас они начали эту работу на два месяца раньше. И не прогадали, когда к середине лета россияне практически полностью запретили ввоз молочной продукции. По словам Чагаровского, сухое молоко и масло помогли отечественным компаниям удержать уровень доходов от экспорта на прошлогоднем уровне. Место российского покупателя заняли потребители из Азии, Африки и Ближнего Востока.
Одним из наиболее перспективных рынков Чагаровский называет Алжир. Тонна сухого молока из Украины там стоит на $300 дешевле европейского. Это преимущество появилось не так давно благодаря девальвации гривны.
Помогает молочникам и то, что страны Таможенного союза не имеют консолидированной позиции по отношению к Украине,- Казахстан и Беларусь не спешат следовать примеру «старшего брата» и запрещать ввоз украинского продукта. «Мы увеличили поставки сухих молочных продуктов в Казахстан, ищем покупателей в Центральной Азии»,- сообщил Сергей Трифонов, директор по связям с инвесторами группы компаний Милкиленд. Эта компания экспортирует около трети всего украинского сыра. Свыше 60% внешних продаж компании приходилось на Россию.
Окно приоткрылось
Российская блокада стимулирует украинские компании использовать возможности зоны свободной торговли с ЕС, уверен эксперт УКАБ Игорь Остапчук. Хороший пример: поставки мяса курицы в Голландию, которая сегодня занимает второе место после Ирака по импорту этого продукта из Украины,- более 10% общего объема. А ведь еще год назад туда поставлялись лишь небольшие пробные партии.
Но все равно пока европейский рынок, из-за которого и началось противостояние России и Украины, не слишком гостеприимен для украинских компаний. Сложность сертификации, а также повышенная конкуренция не позволяют им чувствовать себя в ЕС хорошо.
По словам Горбенко из МХП, компания проходила процедуру аккредитации для выхода на рынок ЕС несколько лет и только с 2013-го начала совершать туда поставки.
По словам Трифонова из Милкиленда, предприятие получило много замечаний от европейцев, связанных с производством и продукцией. И несмотря на то что все они уже учтены, украинцы ожидают получения доступа на рынок ЕС лишь через год-полтора.
Впрочем, попытки завоевать Европу отечественные производители все равно предпринимают. Тот же Милкиленд планирует частично компенсировать потери российского рынка за счет своего польского завода Милкиленд Островия. Тот должен расширить поставки сыров, сухой сыворотки и белкового концентрата в ЕС.
Идут в Европу не только молочники. До введения российского запрета около 85% внешних продаж компании Биотрейд (безалкогольные напитки ТМ Биола) приходилось на РФ, остальное — на Беларусь, Молдову, Таджикистан, Грузию, Израиль. Чтобы уменьшить потери, производитель возобновил поставки в Латвию и другие страны Евросоюза.
В Витмарк-Украина (ТМ Jaffa, Наш сок), одной из крупнейших компаний по производству соков и детского питания, также уверяют, что завязали торговые отношения не только в странах Азии, но и в ЕС.
Некоторым компаниям завоевывать этот рынок проще. У кондитерской корпорации Roshen, например, есть свои заводы в Венгрии и Литве, благодаря которым компания расширяет сбыт в Юго-Восточной и Центральной Европе, а также Испании, Италии и Великобритании.
Старые песни
Впрочем, не все предприниматели рассчитывают на новые рынки. Для многих идеальным вариантом было бы возобновление нормальных торговых отношений с Россией.
Владимир Чернышенко, совладелец комбината Тепличный, который специализируется на выращивании овощей, понимает, что свою продукцию он не сможет продать в Европу никогда. Российские запреты пока не затронули его бизнес. «Но если нашу продукцию заблокируют — будет катастрофа, альтернативного рынка не найти»,- говорит предприниматель. Европа закупает более дешевые томаты в Испании, Португалии и Северной Африке.
Подобные пророссийские настроения среди украинских предпринимателей встречаются нередко. Чагаровский, например, не ждет манны небесной от рынка ЕС для своей отрасли: европейский рынок сыра тесный, имеет давнюю историю и предпочтения, а остальная молочка зависит от квот. Годовой объем беспошлинного ввоза этой продукции в ЕС ограничен 8 тыс. т. Для Украины, выпускающей свыше 1 млн т, это мизерный объем. Возврат же к поставкам в РФ позволил бы отрасли чувствовать себя хорошо.
Как и многие другие, Чагаровский надеется, что рано или поздно все вернется на круги своя. Ведь доля украинских сыров на рынке северного соседа внушительная — порядка 14%. Отказ от украинской продукции неизбежно приведет к подорожанию сыров, тем более что дешевый продукт уже и так стоит дороже. Мол, долго на антиукраинской диете Россия не продержится.
Отмены молочного запрета эксперт ожидает уже этой осенью. И тогда о поиске альтернативных рынков можно будет позабыть — до следующего кризиса как минимум.
Москва не намерена вести диалог с США по вопросу введенных антироссийских санкций, так как считает их незаконными, при этом любые ограничительные меры не повлияют на действия, предпринимаемые Москвой в интересах стабилизации ситуации на Украине, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы, конечно, никак не стимулируем обсуждение санкционной тематики с США. Мы не видим здесь предмета для обсуждения. Считаем односторонние санкции, применяемые в экстерриториальном порядке, незаконными, противоречащими международному праву. И договариваться на какой бы то ни было основе по этим вопросам смысла нет. Мы этого делать не будем", — сказал Рябков.
По словам Рябкова, "любой всплеск со стороны США в этой сфере (санкций), будь то собственные решения с американской стороны или попытки подтянуть других членов международного сообщества под ранжир, установленный Вашингтоном", будет восприниматься в Москве "как вызов" и укрепит "уверенность в собственной правоте".
"Твердость и последовательность нашего курса не подлежат сомнению. Санкции или их отсутствие никоим образом не влияют на то, как мы сами действовали и будем действовать в отношениях с Киевом, что мы предлагаем, из чего исходим в интересах стабилизации обстановки на юго-востоке и запуска столь необходимого для Украины внутриукраинского политического процесса", — отметил дипломат.
Совещание с вице-премьерами.
Повестка: о госгарантиях организациям ОПК, выполняющим оборонный заказ; о новом порядке оформления дорожно-транспортных происшествий; об итогах детской оздоровительной кампании и реконструкции центра отдыха «Орлёнок».
Д.Медведев: Несколько слов о документах. Я скоро, послезавтра, проведу специальное совещание по так называемым роботизированным комплексам. Конечно, такого рода комплексы нужны и для оборонки, и для обычной гражданской промышленности, без них невозможна модернизация оборонно-промышленного комплекса. В этом контексте хотел бы отметить, что недавно совсем, 9 сентября, мною подписано постановление, четвёртый уже в этом году специальный документ, распоряжение Правительства о предоставлении предприятиям оборонно-промышленного комплекса гарантий на срок до 5 лет в случае, когда они исполняют государственный оборонный заказ. Такая мера государственной поддержки позволит предприятиям оборонки в полном объёме и в установленные сроки, даже в условиях жёсткого бюджета, выполнить свои обязательства, выполнить гособоронзаказ, привлекая кредиты из внебюджетных источников. Особенно важно, что эта схема неплохо себя показала и будет работать далее. С учётом оптимизации структуры Правительства, включая целый ряд решений по органам управления, Рособоронзаказа и Рособоронпоставки, надеюсь, что это не отразится также на общей согласованной работе всех, кто отвечает за поставку продукции военно-промышленного назначения.
Теперь ещё несколько слов об изменениях в правилах дорожного движения. У нас страна на колесах, что называется, все ездят, поэтому новый порядок оформления дорожно-транспортных происшествий касается очень многих.
До последнего времени у водителей не было чёткого алгоритма, как действовать при соответствующей аварии, в случае ДТП.В большинстве случаев во избежание проблем со страховой компанией участники дорожно-транспортных происшествий предпочитают дождаться сотрудника полиции на месте. В результате это создаёт проблемы и самим им, и на дорогах пробки образуются, не говоря уже о той нагрузке, которая ложится на сотрудников нашей ГАИ.
Я изменил правила, порядок действий при ДТП. Он поможет упростить процедуру, сократить время оформления дорожно-транспортных происшествий. Соответствующие изменения внесены в Правила дорожного движения. Речь идёт о градации, или о делении, такого рода ДТП на различные виды, в зависимости от чего можно принять ту или иную модель поведения.
Игорь Иванович (обращаясь к И. Шувалову), несколько слов на эту тему скажите, потому что вы этой проблематикой в Правительстве занимаетесь. Пожалуйста.
И.Шувалов: Дмитрий Анатольевич, эти правила разрабатывались вместе с готовящимися поправками в закон об ОСАГО, и этот закон уже в новой редакции вступит в силу в октябре текущего года.
По этому закону для тех, кто застрахован в Московском регионе (это два субъекта Российской Федерации – город Москва и Московская область) и ещё в двух субъектах – это город Петербург и Ленинградская область, обязательное страхование, лимит, поднимается до 400 тыс. рублей. В остальных субъектах Российской Федерации будет действовать лимит 50 тыс. рублей.
По этим правилам, которые теперь Вы подписали, можно будет покинуть место происшествия, если между двумя участниками дорожно-транспортного происшествия нет разногласий.
Д.Медведев: Нет спора.
И.Шувалов: Нет спора. Будет произведена фото- или видеофиксация, и стороны будут понимать, что размер вот этого ущерба, как я сказал, в одних субъектах до 50 тыс. рублей и свыше, в других субъектах до 400 тыс. рублей. Если всё-таки спор между ними существует, то необходимо будет вызвать на место происшествия сотрудников полиции. По этим правилам в любом случае необходимо будет вызвать скорую помощь и полицию, если есть пострадавшие. Также вводится новое понятие, что можно оставить место происшествия без оформления, в случае если стороны расходятся таким образом, что повреждения совершенно незначительный характер носят и даже нет никаких материальных претензий – тогда не составляется оформление и не уведомляется полиция.
Д.Медведев: Надеюсь, что это будет применяться разумно и в Москве, и в других регионах. Действительно, когда вред незначительный и носит имущественный характер, нет спора между двумя участниками дорожно-транспортного происшествия, здесь можно разбираться в упрощённом порядке. Но во всех других случаях, в том числе, конечно, и случаях, когда причиняется вред здоровью, естественно, потребуется, как и раньше, вызов сотрудника полиции и, конечно, скорой помощи. Так что, будем надеяться, эти правила помогут разбираться с простыми ситуациями.
И.Шувалов: Дмитрий Анатольевич, как Вы сказали, как раз это применение европротокола в его классическом виде позволит, конечно, избежать вот этих длительных процедур оформления и оставлять место происшествия как можно быстрее, не создавая пробок.
Д.Медведев: Да. Особенно когда действительно почти нет никакого вреда, водитель вынужден стоять, ждать, пока приедет инспектор ДПС. На самом деле поводов для этого нет.
О строительстве и реконструкции объектов Всероссийского детского центра «Орлёнок»
Теперь ещё два документа, которые я подписал. Они касаются центра детского отдыха «Орлёнок». В общей сложности на реконструкцию выделяется свыше 2 млрд рублей. Работа на эту тему шла, я и сам посещал когда-то этот детский центр, наш известный лагерь. Поэтому, естественно, эта работа должна быть доведена до конца. Надеюсь, что уже в следующем году дети приедут в обновлённый, красивый и современный лагерь для отдыха. Ольга Юрьевна, как изменится «Орлёнок» после реконструкции? И можете коротко сказать вообще по итогам оздоровительной кампании. Она у нас завершена, есть определённые итоги.
О.Голодец: Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Действительно, в исполнение Вашего поручения после Вашего посещения лагеря «Орлёнок» была разработана многолетняя программа приведения лагеря в порядок и развития его в соответствии с современными образовательными стандартами. В первую очередь программа рассчитана на то, чтобы создать хорошие условия для занятий ребят в современных творческих кружках, спортивных секциях и так далее. Поэтому первая сумма выделяется на создание центра «Олимпийская деревня». Площадь этого центра будет составлять 10 тыс. кв. м, центр будет включать в себя и кинозал, и новую столовую, и современную библиотеку, и современный спортивный комплекс. Ещё 640 млн предлагается выделить на завершение строительства многофункционального центра «Орлёнок» вместимостью 500 человек в смену. Центр будет введён в эксплуатацию уже в 2015 году, потому что проектные работы завершены, и уже мы преступаем к реальной работе по «Орлёнку».
Я напомню, что в течение года в «Орлёнке» отдыхает 14 тыс. человек, и это один из лагерей, которые являются лагерями федерального значения, где разрабатываются основные образовательные методики организации летней оздоровительной кампании, точно так же, как и в «Океане», и теперь у нас ещё лагерь «Артек».
Д.Медведев: В «Артеке», да.
О.Голодец: Всего за летнюю оздоровительную кампанию у нас отдохнуло 7 млн 410 тыс. детей – эта цифра превышает прошлогоднюю почти на 50 тыс. детишек. Отдых прошёл хорошо: были введены, действительно, новые образовательные программы, были профильные смены, ребятам удалось не только отдохнуть, но ещё и многие получили совершенно новые навыки, которые невозможно получить в условиях школы. Например, только в туристических походах туризмом занималось у нас 806 тыс. детей. В этом году была принята новая беспрецедентная программа отдыха в Крыму. 42 тыс. детей из 71 субъекта Федерации провели отдых в Крыму. Это было для ребят такое событие, и для всей страны это событие.
Д.Медведев: Ладно, хорошо.
На самом деле нам нужно развивать все наши федеральные центры оздоровления детей, и «Океан», и «Орлёнок», по которым я подписал распоряжение о выделении денег, и, конечно, теперь «Артек». На них должны равняться другие. Просто по понятным причинам всегда есть крупные такие, большие оздоровительные учреждения, которые задают планку оказания соответствующих услуг. И попутно хотел бы ещё обратить внимание на необходимость ускоренной подготовки нормативной базы для регулирования туристической деятельности. Безобразие в отрасли продолжается, несмотря на целый ряд решений, которые принимались. Наверное, это накопленный эффект. Тем не менее нужно там всё расчистить. Я новых поручений не даю, просто нужно отследить и максимально быстро подготовить документы как по линии Роспотребнадзора, так и по линии Министерства культуры и Правительства Российской Федерации.
О.Голодец: Да, хорошо.
Д.Медведев: Договорились. Если говорить о международных делах, Алексей Валентинович Улюкаев проводил консультации с нашими европейскими и украинскими коллегами в связи с известными процессами, связанными с ассоциацией между Украиной и Евросоюзом, соответственно, в контексте влияния этой ситуации на экономику Российской Федерации. Расскажите коротко, к каким результатам удалось прийти и что мы планируем делать.
А.Улюкаев: Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги! Мы руководствовались указанием Президента, которое было получено накануне трёхсторонней министерской встречи в Брюсселе, – о максимальном поиске компромисса. 12-го числа во время длительных, непростых переговоров, в которых приняли участие еврокомиссар по торговле Карел де Гюхт, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и я… Результатом этого компромисса, изложенного в соответствующем совместном документе, является следующее. Первое…
Д.Медведев: А что это за документ?
А.Улюкаев: Это совместное заявление.
Д.Медведев: Но оно письменное у нас?
А.Улюкаев: Это письменное заявление, конечно. Стороны его согласовали и завизировали. Договорились о следующем.
Первое. После ратификации Украиной соглашения об ассоциации применение имплементации соглашения не наступает в течение ближайших 15 месяцев, до 31 декабря 2015 года по меньшей мере.
Второе. В этот период будут действовать односторонние преференциальные меры, которые Европейский союз относительно Украины уже применяет.
Третье. В этот период продолжает действие преференциальный режим торговли между Украиной и Российской Федерацией в рамках зоны свободной торговли СНГ, то есть сохраняется тот статус-кво, который есть на сегодняшний день.
Четвёртое. Стороны продолжат поиск путей снятия... Признаётся обоснованность беспокойства Российской Федерации по ряду направлений. Я напомню, что мы говорим о пяти позициях – о самом режиме тарифной либерализации, о техническом урегулировании, о санитарном и фитосанитарном контроле, о таможенном администрировании и об энергетике.
Признается обоснованность этих беспокойств, и стороны принимают на себя обязательства продолжить в этот период поиск ответов на эти беспокойства в рамках этого трёхстороннего механизма.
Для того чтобы, может быть, уточнить правовые и технические позиции и последствия, я после телефонного разговора с Вами и Президентом подготовил письмо для моих коллег – еврокомиссара по торговле и министра иностранных дел Украины, в котором уточняется следующее.
Первое. Мы считаем необходимым соответствующее юридическое оформление этих договорённостей на уровне решения Совета министров европейского сообщества и акта Верховной рады Украины, который должен сопровождать процедуру ратификации. Второе. Мы обращаем внимание наших коллег, что так называемая ползучая имплементация, то есть фактическое принятие решения, которое формально не означало бы имплементацию, но фактически в ту или иную её стадию вводило, будет рассматриваться нами как нарушение соглашения, и мы оставляем за собой право вернуться к снятию механизма преференциального торгового режима с Украиной, а также к иным действиям в случае этих нарушений. И третье. Мы подтверждаем готовность и намерение работать в рамках трёхстороннего механизма с целью поиска ответов на эти вопросы и корректировки соглашения. Мы предлагаем, Дмитрий Анатольевич, создать такую специальную группу по мониторингу законодательства Украины и фактических действий украинской стороны…
Д.Медведев: Создать где?
А.Улюкаев: У нас здесь, в рамках Министерства экономического развития с привлечением коллег, которые с нами уже работают вместе. Это Минпромторг, Минсельхоз, Россельхознадзор, Федеральная таможенная служба, при необходимости иные федеральные органы исполнительной власти, для того чтобы максимально серьёзно к этому отнестись и не пропустить паче чаяния той возможности ползучего внедрения того, что мы договорились не внедрять.
Д.Медведев: Идею рабочей группы я полностью поддерживаю. Давайте, для того чтобы это всё выглядело солидно, я дам поручение всем ведомствам во главе с Минэкономразвития такую работу организовать.
Игорь Иванович (обращаясь к И.Шувалову), вас тоже как куратора темы, я попросил бы следить за реальной ситуацией.
И.Шувалов: Сделаем.
Д.Медведев: Очевидно, что определённые аргументы наши коллеги по переговорам услышали. Это важно. И, естественно, мы готовы соблюдать эти договорённости в случае их надлежащей фиксации, о чём только что сказал Алексей Валентинович, потому что здесь, в данном случае, в данной ситуации просто письменного заявления недостаточно. Надо всё-таки, чтобы это каким-то образом создавало обязательства для участников этих отношений.
В то же время очевидно, что в отсутствие так называемого временного применения и сохранения режима зоны свободной торговли, то есть преференциального режима по торговле с Украиной, мы будем отслеживать максимально внимательно, что происходит, тем более что наши европейские партнёры дают им односторонние льготы. Это их право. Но мы должны смотреть за тем, чтобы не происходила, по сути, та самая скрытая имплементация, то есть скрытое применение этих самых правил, допустим, без отдельного акта, который будет направлен на эту тему, то есть путём фактических действий. Если действительно мы это увидим, то нам придётся выпустить тот документ, который сейчас у нас размещён на сайте для всеобщего обозрения, по переходу в торговле с Украиной с режима преференциального, то есть особого режима в рамках зоны свободной торговли, к обычному режиму в рамках существующих правил о наиболее благоприятствуемой нации, то есть так, как мы торгуем со всеми остальными участниками, не входящими в зону свободной торговли, что, естественно, будет означать совершенно другой характер торговых отношений с Украиной.
Так что просил бы все ведомства, которые за это отвечают, следить за ситуацией и при появлении каких-либо признаков такого рода действий докладывать мне. И мы будем с вами определяться, как поступить в этой ситуации. Спасибо!
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


























